Вера Заведеева Быть может…
Вместо предисловия
В октябре 1971 года на экраны вышел легендарный и памятный для меня фильм «Офицеры», в котором рефреном звучала песня с такими пронзительными словами:
От героев былых времен
Не осталось порой имен…
Что же говорить о людях простых, коим выпала обычная трудовая и не самая легкая жизнь, но именно на них-то, на их общем багаже, все и держится до сих пор. Неужели в недалеком будущем от них не останется и следа, а пришедшие им на смену новые люди даже не заметят, что и до них кто-то точно так же ходил по этой Земле, с трепетом встречал весну и наслаждался умиротворением «бабьего лета», любил и страдал, мечтал о счастье и мучился сомнениями, добирался до своего «пика» и скатывался вниз, оглушенный злобной завистью, несправедливостью или жестокостью, растил детей, лелея в них свои несбывшиеся надежды, и терял самых дорогих на свете?
Как быстро тают тени прошлого и забывается вскоре, через каких-то тридцать-пятьдесят лет, даже сам образ жизни тех времен, включая бытовые мелочи, которые потом становятся достоянием историков и коллекционеров. И не вспомнят новые люди, что все в этой жизни повторяется. Подобно круговороту воды в природе. Как больно и обидно порой слышать сегодня насмешливо-снисходительные скороспелые суждения о людях родом из «совка», переживших столько за свой век, и о недавних «примитивных» временах от тех, кто им и в подметки-то не годится.
Человек жив, пока его помнят таким, каким он был на самом деле. Вот и герои моих рассказов останутся жить на страницах этой книги такими, какими я их помню и люблю.
Москва, август, 2016 г.О любви
Истории любви
С любимыми не расставайтесь! С любимыми не расставайтесь! Всей кровью прорастайте в них — И каждый раз навек прощайтесь, Когда уходите на миг! Александр Кочетков. «Баллада о прокуренном вагоне»Как известно, Бог любит Троицу.
Вот и историй о любви тоже оказалось три.
История первая. Предатель
Случилась эта история в середине прошлого века на Южном Урале. За окном, закрытым на ночь ставнями, еще темно, только яркие лучики из-под печной дверцы слабо освещают пол кухни. Четырехлетняя Верка, зябко поеживаясь, сползла с печной лежанки, где спала вместе с вредной прабабкой, хрюкающей и лягающейся во сне. Они с ней частенько дрались, и та, ябеда-корябеда, плаксиво жаловалась, шамкая беззубым ртом, своей невестке Дусе, Веркиной бабушке, или Маме-старой, как ее звала внучка. Мама-стара, не выясняя, кто прав, кто виноват, строго указывала малой на висевший у входной двери красный ремешок («Твой друг и учитель», – объяснял Верке его назначение дядя Миша). А старенькой свекрови, которой было уже за девяносто, с упреком бросала:
– Вы бы, мамаша, поменьше цеплялись к робенку, она все ж таки сиротка… при живых-то родителях.
– А че она дерется? – верещала старушонка.
Но Маме-старой не до них. На ней весь дом, хозяйство – огород, скотина, младшие дети-школьники, пятнадцатилетний сын Михаил и десятилетняя дочка Людмила, да еще эти две скандалистки навязались на ее голову. Старшие три девки Мамы-старой – Мария, Зинаида и Полина – давно уже разъехались кто куда: первую после института направили работать в область, в город Еманжелинск, вторая (Веркина мать) уехала учиться во Львов, там вскоре вышла замуж за возвращавшегося с войны юного лейтенанта и оказалась в Подмосковье, а третью муж-военный увез из Челябинска аж на Чукотку. Старший сын Илья служил сверхсрочную в Белоруссии.
Кормильцем был один дед, Василий Иванович, который в ту пору работал на бойне, в вечно промозглой, пропитанной кровью животных, вонючей бетонной постройке рядом с цинковым заводом с его ядовитыми оранжевыми дымами. Мама-стара, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, ходила с Веркой по домам их поселка Першино продавать молоко. Кудрявая хорошенькая девчонка умиляла покупательниц, и торговля у них шла успешно. Вот только самим-то молока доставалось мало… К приходу деда Маме-старой нужно было успеть управиться со скотиной, еще раз натопить печь, нагреть воды и наварить супу. Дед долго мылся в тазу за занавеской на кухне, потом ел и ложился поспать. Верке приходилось тихо себя вести целый час, не носиться по дому как угорелой и не хлопать дверьми. Его она побаивалась, хотя он ни разу ее даже не шлепнул, и звала папкой, как все в семье. Своего собственного папку Верка не знала и не печалилась из-за этого. Дед просыпался ровно через час, пил чай из блюдца с кусковым сахаром «вприкуску», приглашая за компанию Верку, и шел в сарай, где что-то стругал и пилил до самой ночи. Семья большая, и деду пришлось за свою жизнь построить не один дом.
Верка прошлепала босиком к маленькому стульчику с дыркой посередине. «Стульчик-дристунчик», как называл это приспособление дед, смастеривший его для Верки – своей первой внучки, стоял в углу кухни у лавки. Под лавкой что-то шебуршало. Мышь! Верка замерла от страха. Но любопытство пересилило. Под лавкой лежала Мурка, а рядом с ней копошились серые осклизлые комочки. Котята?! Вот Мурке попадет от Мамы-старой! Она не велела кошке больше приносить котят с огорода, где, как знала Верка, они вырастают вроде картошки. Муркины дети и так уже расселились по всему Першино, а ее подросшие сыновья часто навещали свою маму, после чего кошка опять притаскивала с огорода новеньких слепых детенышей. Этих Мама-стара точно утопит! Надо спасти хоть одного, пока та доит Беляну. Верка схватила ближайшего заморыша и метнулась обратно на печку. Когда Мама-стара позвала ее зав тракать, котят уже и след простыл, только Мурка металась из угла в угол, надеясь отыскать своих детей.
* * *
Верка долго прятала котенка на печке и поила его молоком из старой соски. Постепенно этот заморыш превратился в пушистый дымчато-черный клубочек с белой мордочкой и почувствовал себя баловнем судьбы. Верка преданно служила ему, охраняя от его же злобной царапучей мамаши, угрюмой овчарки Найды, сидевшей у ворот на цепи, и бесцеремонных кур, так и норовивших клюнуть любознательного котенка в глаз. А если бы он попал под ноги Беляне, равнодушной ко всему, кроме ведра с картофельным пойлом? Или к свиньям в стайку? Страшно подумать, что с ним могло тогда стать! Поэтому она все больше таскала его за пазухой.
Но беда, как известно, приходит тогда, когда меньше всего ее ждешь. Их соседке вдруг понадобилась кошка, чтобы приструнить не в меру расхрабрившихся мышей в подполе. И приглянулся ей дымчато-черный котенок с белой мордочкой, в котором она наметанным глазом разглядела будущего свирепого котяру. Соседка приметила его, когда Верка играла с ним в огороде. Почуяв надвигающуюся опасность, они с котенком спрятались на печке, укрывшись за занавеской и почти не дыша. Но не тут-то было.
– Верка, окаяшшая девка, ты куда котенка дела? – послышался грозный голос Мамы-старой.
Рядом с ней лицемерно вздыхала соседка, тетка Тина, будто она здесь ни при чем.
– Не отдам! – уперлась внучка, прижимая к груди котенка.
Расправа была короткой. Соседка с котенком в руках убралась восвояси. Верка не плакала. Она будто застыла в своем первом непереносимом горе. До самого вечера просидела она на печке и не спустилась даже тогда, когда дед позвал ее в сарай собирать блестящие стружки, из которых получались красивые бусы.
Дня три сторожила Верка котенка у забора напротив соседского крыльца. Наконец из-за приоткрытой двери высунулась белая мордочка.
– Кыс-кыс-кыс, – обрадовалась Верка, пытаясь просунуть руку через штакетину.
Котенок навострил ушки и засеменил к забору.
– Узнал! Узнал свою маму! Я же тебя спасла! – всхлипывала счастливая Верка.
Они спрятались за сараем и целый день играли там, скрытые высокими огуречными грядками. Котенок, разрезвившись, норовил сбить лапками гороховые стручки и бегал по грядкам. Верка – за ним. Их веселые догонялки заметила прабабка со своего наблюдательного поста на крыльце и тут же наябедничала Маме-старой:
– А твоя Верка носится как угорелая и топчет грядки! Вот, полюбуйся-ка, – хихикала зловредная бабка-Ежка.
– Верка! Опять котенка уташшила? Ну, я тебе сейчас! – рассердилась Мама-стара.
Одной рукой она схватила Верку за шкирку, другой – котенка и потащила верещащую команду к дому. А там… Там поджидал красный ремешок у двери.
Котенка вновь вернули соседке. Но Верка не сдалась. Целыми днями она высматривала его на соседском крыльце, но того, видно, из дома не выпускали. Она уже и не надеялась его больше увидеть. А вдруг соседка отвезла его своей белобрысой и вечно сопливой внучке, и та теперь играет с ее, Веркиным, котенком?! Но однажды за забором мелькнул знакомый дымчатый хвостик. Сердце у Верки будто задохнулось.
– Кыс-кыс-кыс! Миленький, хорошенький мой, подойди к забору! – молила Верка.
Но котенок, как-то сразу потолстевший, лениво прошествовал вдоль забора, скользнув по Верке равнодушным взглядом, и направился к своей миске с молоком у крыльца. Такого предательства она от него не ожидала. За что? Почему он ее забыл так быстро? Ведь она его любила больше всех на свете! Не ведала еще тогда Верка, что эти неразрешимые вопросы веками терзают сердца женщин по всему миру…
В ту ночь Верке снились страшные сны: Баба-яга, очень похожая на ее прабабку, грозилась поднять котенка в своей ступе в темное небо и сбросить его оттуда на землю. Верка в ужасе проснулась и заплакала:
– Мама-стара-а-а, я бою-ю-сь, хочу к тебе-е-е…
Веркина кроватка (прабабка теперь барствовала на печке одна) стояла впритык к большой никелированной кровати с блестящими шишечками, на которой спали дедушка и бабушка. Мама-стара протянула руку сквозь прутья кроватей и погладила Верку по голове:
– Спи, милка, спи. Не бойся, я с тобой.
Верка вцепилась в руку Мамы-старой как в единственное свое спасение. Дед что-то раздраженно проворчал. Невдомек еще было маленькой Верке, что у дедушки с бабушкой по ночам могут оказаться и другие хлопоты. Им тогда лишь чуть-чуть перевалило за сорок пять…
* * *
С той поры котята перестали существовать для Верки, даже самые хорошенькие и забавные.
История вторая. Коварная соперница
Прошло тридцать лет. Как-то сотрудница Верки, которую уже называли Верой Юрьевной, принесла на работу двухмесячного котенка. Эта женщина, Елена Николаевна, заядлая лошадница, кошатница и собачница, из тех, кто относится к животным значительно лучше, чем к людям, так нахваливала своего питомца, что Вера поневоле прислушалась: и к туалету-то он приучен, и «в подоле не принесет», и ест-то он мало, и ничего в доме не портит – одна благодать от него исходит.
«Да, – задумалась Вера. – Сын подрастает, хорошо еще собаку не просит… Может, взять ему котенка?» Елена Николаевна, будто подслушав ее размышления, взялась за Веру, проявив железную хватку дельца:
– Возьмите, не пожалеете, еще сто раз «спасибо» скажете… – совала она котенка.
– Да я не знаю, право, – мямлила Вера, не умевшая давать отпор настырным людям.
Котенок, черный как смоль, без единого пятнышка, с ярко-зелеными глазищами, успешно пережил дорогу до дома с тремя пересадками. Вера впустила нового жильца в квартиру и налила ему в блюдечко молока. «Вот еще задача, – размышляла она. – Кормить ведь надо животину. А в доме еще два мужика, которым только успевай метать на стол… как уголь в паровозную топку».
Сын обрадовался появлению нового товарища и пообещал сделать из котенка настоящего вратаря, а играть они будут теннисным мячом, благо коридор у них в квартире длинный. Так потом и случилось (бедные соседи с нижнего этажа!). Муж, придя с работы и увидев новое приобретение (до этого были еще ежик из парка и тройка суточных цыплят по пять копеек штука, один из них стал настоящим петухом, а остальные пали смертью храбрых в младенчестве), устроил Вере форменный разнос:
– Животное – это тебе не игрушка! Его кормить нужно, и не жареной картошкой, как меня, и с обратным процессом могут быть проблемы, и вообще-то блохи у них бывают. И когти они чешут обо что попало. Будешь сама вечно в драных колготках ходить!
Он еще долго пугал ее разными страшилками. Муж в детстве и сам был кошатником, все знал про их повадки и даже умел с ними «разговаривать». Он быстро определил, что котенок – дама (как же это сотрудница опростоволосилась?), и проблем с котятами не избежать. На всякий случай решили котенка изолировать от любых его собратьев. Сын предложил назвать котенка Лесей (раз уж досталась нам девица) в честь своей первой любви в средней группе детского сада.
* * *
Итак, стали они жить вчетвером: папа, мама, сын и кошка Леся. Вскоре у кошки проявились симпатии и антипатии к своим сожителям: Леся с удовольствием «стояла на воротах» (сын в ту пору занимался в футбольной секции), ловила в прыжке мяч и лазила за ним под мебель. Светильник в коридоре пришлось убрать. Вера кормила Лесю антрекотами, отрывая от себя (надо худеть!), и убирала за ней их последствия. Леся благосклонно позволяла ей ухаживать за собой, но при этом демонстрировала Вере такое презрение, что той становилось временами не по себе. «Вот зараза неблагодарная!» – думала она. Но Леся, будто читая ее мысли, отвечала на это наглой ухмылкой, глядя на нее, как вздорная барыня на прислугу.
Мужа Веры Леся просто обожала, особенно когда он был в состоянии подпития. В его отсутствие она ласкала его домашние тапочки, обнимая их лапами и катаясь по полу. Она встречала его у двери, подбегая к ней еще тогда, когда ее кумир только загружался в лифт. Она терлась об его ноги и трепетно заглядывала ему в глаза, пребывая в полуобморочном состоянии сбывшегося счастья. Пока он раздевался, умывался и ел, она сидела в сторонке и не сводила с него влюбленных глаз. Потом они вдвоем растягивались на ковре и начинали мурчать дуэтом, доводя друг друга до полнейшего экстаза. После этого Леся заваливалась на спину, задрав лапы и приглашая партнера полюбоваться ее дамскими прелестями. «Ну и шлюха!» – удивлялась Вера.
Дальше – больше. Просыпаясь иногда ночью, Вера обнаруживала, что в супружеской постели их трое.
– Брысь! Пошла отсюда! – гнала ее Вера.
Но Леся, не теряя чувства собственного достоинства, медленно поднималась, нехотя спрыгивала на пол со своей наглющей ухмылкой и садилась в сторонке, ожидая, когда эта дура-хозяйка угомонится на своей половине постели.
Однажды Вера, видно, чем-то обидела кошку, которая не терпела никаких гонений на своего кумира. Возможно, она подслушивала, как жена за что-то выговаривала мужу. Среди ночи Вера внезапно проснулась от какой-то неясной тревоги. Их супружеское ложе – раскладной диван – было втиснуто между двумя высокими секционными шкафами из полированной древесно-стружечной плиты (из модной в ту пору немецкой «стенки»). Приоткрыв глаза, она заметила два ярко-зеленых огонька, блеснувших под потолком. В тот же миг оттуда вниз метнулась тень. Вера едва успела прикрыть руками лицо (спасибо спортивной практике юности!). Руки будто огнем ожгло. Вера вскочила на постели и завопила:
– Брысь, проклятина!
– Ты что, очумела? – проснулся муж.
– Эта гадина…, – захлебывалась Вера слезами от боли и обиды, – чуть меня не убила!
– Чуть не считается, – проворчал муж, поворачиваясь на другой бок.
– Ах ты… Ну и спи сам тут со своей тварью!
– Тварь-то ты в дом притащила, – напомнил муж.
Ответить было нечем. Вера перелезла через мужа, не щадя его рассупоненных чресл, и отправилась спать в комнату сына. Свернувшись клубочком у него в ногах и накрывшись халатом, она попыталась уснуть. Но страшные картины изувеченного лица, не успей она его закрыть, сменяли одна другую. Ее трясло, как в лихорадке. А руки? Как она пойдет на работу с такими изодранными руками? Куда их летом спрячешь? А больно-то как… Вера жалобно заскулила. Слезы принесли облегчение, и она задремала. Проснувшись рано утром, она застала в своей комнате эффектное зрелище: кошка разлеглась на Вериной подушке, сложив лапы на волосатую грудь предмета своего обожания, а тот, подлый, изогнулся так, будто охранял священный сон ангела. Оба блаженно улыбались во сне.
Вечером Леся вела себя тише воды ниже травы. Она свернулась клубочком у вешалки в прихожей в ожидании любимого, стараясь быть незаметной. Когда он пришел, они удалились в укромный уголок в третьей комнате, в которой планировалось когда-нибудь устроить спальню, если накопятся деньги на гарнитур. А пока там стояли раскладушка, на которой спал Верин муж в дни неумеренных возлияний и душевного раздрая, да старая табуретка. Комната находилась рядом с кухней, и Вера подслушивала их без особых усилий и угрызений совести.
– Ты, Леська, дура, – выговаривал кошке муж. – Конечно, стоило ее маленько поучить, чтобы перестала меня вечно обнюхивать: «Что, опять пил?!», но зачем же когти распускать? Как я с ней… такой расцарапанной..?
Леся, заглаживая свою вину, облизывала его со всех сторон, жарко дыша в ухо и преданно заглядывая в глаза.
Так они и уснули там оба, излив друг другу душу и забыв про ужин.
Жизнь в те годы была однотонной и у большинства одинаковой: женщин заботило «где достать пожрать и как похудеть», а мужчин – как дотянуть семью до получки и не забыть себя, любимого. Муж говорил про Веру, что она не злопамятна: не помнит ни плохого, ни… хорошего. Действительно, ночная история потихоньку забылась, и все пошло своим чередом.
* * *
В августе Вера собралась в отпуск на море с сыном. Мужу на это же время дали путевку в санаторий. Аквариум с рыбками они отдадут на воспитание племяннице. А кошку куда? Пришлось просить свекровь приютить животину. Лучше бы Вера этого не делала: отношения в результате напряглись до звона натянутой струны. Дело в том, что Леся, протестуя против произвола с переселением и лишения ее законного ежевечернего антрекота, так нагадила на новеньком линолеуме в квартире свекрови, что с него слезла вся краска на самом видном месте.
Осень и зима пролетели незаметно. Вера свыклась со своей своенравной жиличкой и даже начала испытывать к ней зачатки родственных чувств (родню ведь не выбирают?). Март уже вовсю звенел капелью, птичий гомон заглушал даже грохот дороги, а солнце припекало совсем по-весеннему. Лесю тоже радовали перемены. Она повадилась забираться на форточку в комнате сына, откуда завороженно следила за птицами на крыше соседнего балкона, которая буквально дрожала от слоновьего топота голубей, ворон и галок. Туда же слетались погреться на солнышке тучи воробьев. Птицы, конечно, не упустили возможности подразнить Лесю, которой никак было до них не дотянуться.
И самоуверенная кошка рискнула. Ее подвел обледеневший скользкий край крыши балкона – не спасли натренированные «вратарские» прыжки и острые когти, да еще птицы подтолкнули своего извечного врага – кошку, отправив ее в незапланированный полет с двенадцатого этажа. Деревья у дома, достигшие уже седьмого этажа, вполне могли принять ее в свои корявые объятья и уберечь от неминуемого, как и высокий снежный сугроб внизу. Ведь кошки такие ловкие и всегда приземляются на все четыре лапы! Но что-то пошло не так. Леся упала прямо на бетонную отмостку. Ей еще хватило сил отползти на снег, истекая кровью. Тут ее и заметил сын, гулявший во дворе с ребятами.
Вернувшаяся вскоре с работы Вера открыла ключом входную дверь и грохнула на пол в прихожей сумки с продуктами. Навстречу ей выбежал зареванный сын с воплем:
– Мамочка! Спаси ее скорее! Спаси! Она же умрет! – молил сын, свято веря во всемогущество своей мамы, которая всегда спасала его самого от всяких болей и напастей.
– Господи, что случилось?! – у Веры подкосились ноги: вдруг кто-то из близких?
– Леся разбилась, – объяснил подошедший муж, сорвалась с форточки. Я положил ее в коробку, там, в туалете… Вряд ли она выживет…
Бедняга была вся в крови и часто дышала. Вера отодвинула своих растерявшихся мужчин и принялась за дело. Откуда что взялось, будто она каждый день спасала израненных животных. Но Леся потеряла много крови. В ее тускнеющем взоре Вера впервые увидела признательность, будто Леся говорила: «Прости меня, так уж получилось… эти птицы-нахалки… очень хотелось их проучить…».
– Леська, держись! – всей силой своей души призывала ее Вера. – Мы, бабы, народ живучий! Ты же кошка, которая должна всегда падать на все четыре лапы!
Но, видно, не судьба. Муж упаковал трупик в коробку из-под обуви, и они с сыном отправились в парк «Братцево» хоронить кошку. Вера с ними не пошла – нужно отмыть забрызганный кровью туалет и убраться в квартире. На душе было смуро.
* * *
В доме сделалось как-то пусто. Семья пребывала в унынии. Даже рыбки в аквариуме словно застыли – некому стало держать их в тонусе, гоняя по кругу. У мужа поминки по Лесе затянулись: «Никто меня так не понимал, как она, никто в жизни так не любил меня, как она», – причитал он сквозь пьяные слезы.
«А вдруг это какая-то неземная любовь, которая не разделяет своих избранников на людей и кошек? Так ли уж случайно Леська оказалась в их доме? – размышляла с грустью Вера. – Все мы, в конечном счете, “…Из праха вышли и в прах обратимся…” Может, та, которой суждено было родиться кошкой, и есть его единственная, именно Его Женщина? И только с ней он смог бы достичь небывалых высот в науке, не говоря уже о том, чтобы ради нее отказаться от возлияний? А ей, Вере, надо признать, это не удалось…»
Хватит, больше никаких животных в доме не будет, молчаливо решили все. Гуляя по парку, они часто навещали могилку Леси на высоком берегу Братовки – речки-переплюйки, вспоминая ее проказы. А ободранные обои и подпорченная мебель – все это такая ерунда!
История третья. Елизавета II
Прошли годы. Скоропостижно скончался СССР. Началось очередное в истории страны Смутное время. Вера ушла из ненавистного Минсельхоза, где прослужила шесть лет, обретя разносторонний полезный опыт и поездив в командировки по новым для нее местам. Ей, бывшей туристке, это было интереснее, чем сидеть в душном огромном кабинете вместе с десятком сотрудников, одновременно орущих по телефону в попытке перекричать шум Садового Кольца. В министерстве ей удалось добиться разрешения (даже в ЦК КПСС!) на создание издательств при крупных вузах их ведомства.
В одно из них она и ушла весной 1989-го работать главным редактором.
Четыре трудных, но счастливых года плавания в творческом «потоке» на пике профессиональной карьеры закончились, к неописуемому ее страданию, поражением. Неожиданно большая прибыль издательства, деятельность которого долго и старательно налаживала Вера, оказалась соблазном для его директора. Не видя смысла в затяжной и небезопасной для ее жизни борьбе, она, по настоятельному совету своего бывшего министерского начальника, ушла в недавно созданный под эгидой Европейского Совета «Агроконсалт».
* * *
Как-то в конце мая, уже приступив к работе в «Агроконсалте», она возвращалась из Косино, где ее стараниями обустраивалась типография, в Москву. Томясь в ожидании автобуса, Вера рассеянно смотрела по сторонам. Удивительно, как такой деревенский уголок с его загадочными озерами уцелел под самым боком грохочущей МКАД? Рядом кто-то тяжело вздыхал. Около нее стоял мальчик лет девяти с низко опущенной головой, держа в руке корзинку с чем-то, прикрытым тряпкой. Вера всегда сочувствовала детям и старикам: первым нелегко входить в эту жизнь, а вторым – выходить из нее.
– У тебя что-то случилось? – спросила она мальчика. – Не переживай, все в конце концов образуется, – как могла, утешала она его.
– Ничего не образуется, – всхлипнул он горестно. – Она… она сказала, – чуть не рыдал он, – чтобы я убирался, куда хочу…
Это Вере оказалось знакомо: ее детство никак нельзя было назвать счастливым. «Господи, чем же помочь?!» – судорожно соображала она.
– Куда же ты сейчас собрался? – спросила Вера.
– В Выхино, на рынок, – ответил он, кивая на корзинку.
– Что же ты там будешь делать? – испугалась она, представляя, как мальчишку волокут в милицию за какое-нибудь паршивое яблоко, утащенное им с прилавка.
Подошел автобус. «Дать ему денег, что ли?» – соображала Вера. Народу набилось полно. Они стояли рядышком у окна.
Вера разглядывала котят, высунувшихся из-под тряпки. Один был очень красивый – пушистый, разноцветный, к тому же довольно энергичный. В душе Веры что-то шевельнулось: «Вот бы такого…». Второй – бледная немочь, какой-то мокро-облезлый крысеныш, вжимался в корзинку, не смея поднять глаз.
Сидевшие напротив тетки вдруг стали с любопытством глазеть на Веру. «Чего им надо? Может, на мне что-то не так?» – забеспокоилась она. Но одета она вроде бы прилично: летнее симпатичное платье из валютной «Березки», поверх которого накинут на плечи белый кружевной вязки кардиган. Может, косметика потекла? Тетки уже откровенно хихикали.
– Все, милая, теперь не отвертишься, – смеясь, сказала одна, показывая куда-то за Веру. – Раз она сама тебя выбрала, значит, придется, хочешь, не хочешь, ее принять.
Вера проследила за теткиным взглядом: по рукаву ее кардигана медленно ползла бледная немочь. «Как я когда-то на Эльбрус…», – почему-то вспомнилось Вере. Мальчик, увидев это, испугался, что Вера рассердится, но сделать ничего не мог – в автобусе не пошевелиться.
Вот и Выхино, нужно выходить. Котенок вцепился в Верин кардиган мертвой хваткой. «Что же делать? – запаниковала она. – Тетки сказали – судьба…» Вера дала мальчику немного денег, хотя тот и отказывался, попрощалась с ним и побрела на станцию метро с котенком на плече. Как она поедет с ним в министерство отвозить срочные бумаги? Надо хоть газету купить, чтобы засунуть котенка в полиэтиленовый пакет (единственный!) и при этом не помять документы. Газетная продавщица на платформе брезгливо взглянула на Веру с котенком и вынесла свой вердикт:
– На кой хрен тебе такой заморыш? Смотри-ка, кофту-то, да такую богатую, он тебе уже обоссал, а пока доедешь, и обосрет все!
Вот стерва. Как в воду смотрела. Даже многостраничная «Литературка» не помогла. В министерстве, пряча от вахтера свой пакет, Вера первым делом понеслась в туалет. Кое-как обтерев обгадившегося котенка, она обернула его в какую-то тряпку, забытую уборщицей, и тщательно вымыла руки. «Хорошо, что хоть бумаги не пострадали», – обрадовалась она. Оставив котенка в пакете на подоконнике в туалете, она побежала в секретариат. Навстречу ей шел бывший ее сотрудник из управления, где она раньше работала.
– Саша! Саша! Погоди! Помоги, пожалуйста, – схватила она за рукав своего прежнего коллегу, с которым была на «ты» в их строго-чопорном учреждении. – Мне нужно передать проекты писем по поводу нашего комплекса… Закинь, пожалуйста, Тамаре в секретариат. Я ей потом позвоню и все объясню…
Он недовольно поморщился, но отказать постеснялся. Из недавнего смешливого выпускника, каким он был пять лет назад, Саша превратился в самодовольного чиновника (благодаря шишке-тестю) средней руки. Однако не все еще в нем закостенело. Кто его учил всему, когда он пришел к ним в управление? Вера, конечно. И он этого, видно, не забыл.
– Ладно, ладно, не волнуйся. Сам все передам, кому надо, и замолвлю словечко. Тебя здесь часто вспоминают, особенно твои подопечные из вузов. Ну, как твоя новая затея с издательско-полиграфическим комплексом? Скоро миллионершей станешь? Не забудь тогда нас, грешных. Управление-то наше грозятся разогнать, да и само министерство штормит, – вздохнул он. – Куда бежать? Ты молодец, вовремя отсюда удрала.
Вера нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, будто не чаяла добежать до туалета. Они попрощались, и она заспешила за пакетом с котенком. В туалете был легкий переполох: пакет катался по подоконнику и издавал странные звуки. К тому же от него исходил пренеприятный запах. Расфуфыренные министерские дамы боялись к нему притронуться, выдвигая разные версии – одну другой страшнее (по Москве уже вовсю ползли слухи про всякие взрывные устройства). Вера схватила пакет, обдав на прощанье женщин мерзкой вонью, и выскочила в коридор. «Так, на лифте нельзя, – соображала она. – Народ не вынесет». Она ринулась к лестнице и спустилась на следующий этаж, моля судьбу, чтобы в том туалете никого не было. Ведь ей до дома добираться на метро, да еще на автобусе. Кто ее пустит с такой ношей? Нужно срочно хоть как-то «поменять пеленки».
В туалете никого не оказалось. Вера молниеносно обтерла котенка и направилась к выходу. «Только бы не орал, паршивец», – думала она, выходя на грохочущее Садовое Кольцо.
Котенок молчал и не шевелился, обессилев от переживаний. «А вдруг подох? Я с ним уже часа три мотаюсь по жаре, – испугалась Вера, но не рискнула заглянуть в пакет. – Ладно, будь, что будет. Как-нибудь доедем».
* * *
Как ни странно, в дороге обошлось без сюрпризов. Дома никого еще не было. Первым делом Вера, быстренько переодевшись, потащила котенка в ванную и хорошенько его вымыла с мылом. Тот сопротивлялся из последних силенок. После экзекуции Вера обсушила его полотенцем и покосилась на фен, но решила, что это будет уж слишком. Котенок, мокрый, жалкий крысеныш, дрожал и икал. Вера завернула его в старенькое мягкое полотенце и сунула себе за пазуху. Малыш сразу успокоился и, расположившись удобнее на просторной Вериной груди, уснул сладким сном. Не смея нарушить его покой, Вера прикорнула с ним на диване и тоже задремала.
Когда она открыла глаза, перед ней стоял муж и с укором смотрел на свою «мать-героиню».
– Ну что? Опять потянуло на подвиги? – устало спросил он.
– Он сам меня выбрал… Не могла же я бросить его на улице, – оправдывалась Вера.
Котенку устроили уютную лежанку на кухне и оборудовали горшок в туалете. Из еды он предпочитал молоко и вареные яйца. И, конечно же, это опять оказалась девица. Сын предложил назвать ее Елизаветой II в честь королевы Великобритании, замечательной благотворительницы, давшей Вериному сыну, обычному московскому парню, стипендию на обучение в Шотландском университете (Россия в 90-е была «в моде» за рубежом). Конечно, огромной заслуги самого сына, сумевшего этого добиться и сдать прилично соответствующий экзамен вопреки отчаянному сопротивлению «членов приемной комиссии» с российской стороны – высших комсомольских деятелей, у которых на это были свои виды, никто не отрицает. Да и британцы помогли, предпочтя выбрать толкового парня «из народа», а не блатного отпрыска «элиты».
Белобрысая Лиза (как стали называть ее домашние) обычно сидела у Веры на плече и спускалась вниз только к обеду. Когда все в доме укладывались спать, она незаметно пробиралась к Вере под одеяло, а затем оборачивала собой ее шею. Той было жарко в таком меховом «воротнике», она отпихивала Лизу во сне, но кошка снова устраивалась спать у нее на шее. Откуда было тогда Вере знать, что этот заморыш «лечил» ей уже надвигающийся шейный остеохондроз, который так жестоко обойдется с ней спустя несколько лет. Муж не раз выдворял непрошеную гостью из спальни, но Лиза так горько плакала под дверью, что у Веры сдавали нервы, и она продолжала терпеть такое «соседство».
Из всей семьи Лиза выделяла только Веру, жестоко ревнуя к ней окружающих. Когда Вера уходила на работу, разыгрывались душераздирающие сцены расставания: кошка цеплялась за Веру, не давая ей закрыть дверь, и орала, будто ее резали. Сын, поучившись после окончания института на разных новомодных программах в Европе, работал в японском «Панасонике» и домой приходил поздно. Но даже в те редкие минуты, когда они с Верой живо обсуждали свои дела, Лиза не находила себе мес та. К сыну она ее ревновала больше, чем к другим. Вечерами Вера с мужем обычно выходили прогуляться в парк «Братцево». Теперь пришлось брать с собой и Лизу. Она путешествовала на плече у Веры, гордо поглядывая на удивленных прохожих.
Спустя годы Вера как-то признается себе: «Да, так, как Лизка и сын, пока не повзрослел, меня больше никто не любил…».
* * *
Однажды к Вере пришел Саша, друг сына, с которым она сотрудничала. Вера к той поре уже работала «сама на себя» – брала заказы на издание книг от редактирования рукописи до выпуска тиража. Ее «Агроконсалт» завершил свою программу. Выделенные Европейским Советом деньги – «гуманитарная помощь России» – по большей части в Европе и остались, а то, что перепало «Агроконсалту», успешно «освоили» те, кто оказался «у корыта». Типография с добытым в Германии оборудованием оказалась в руках ее директора. Вера, опять оставшись ни с чем, пустилась в самостоятельное плавание.
Она все делала сама, благо опыта было предостаточно: искала заказы, составляла калькуляции, вела всю свою бухгалтерию, таскалась с крупными суммами денег в старой сумке по Москве, рискуя быть ограбленной, если не хуже, готовила рукописи, делала эскизы для обложек, закупала бумагу и буквально не вылезала из типографии, пока там печатали ее тираж. Но вот верстать на компьютере так и не научилась. В этом-то ей и помогал Саша. Он учился в дневной аспирантуре и до защиты кандидатской вынужден был подрабатывать, где придется. Версткой он занялся с подачи Веры, которая на практике обучала его техническому редактированию. Вскоре у них стало что-то получаться.
Саша вошел в квартиру, снял обувь и направился в комнату, где стояли компьютер и принтер. Увидев возлежавшую на принтере Лизу, которая использовала его как оттоманку для дневного сна, он улыбнулся ей и попросил освободить рабочее место. Они с Верой устроились у компьютера и приступили к делу, не обращая на Лизу внимания. Через какое-то время из гостиной донеслось какое-то утробное мяуканье. Вера решила взглянуть, что там. Лиза стояла у двери и отчаянно мяукала. Глаза ее были полны слез. А на диване, на бархатистом покрывале…
– Лиза! Ты что, с ума сошла?! Теперь придется выбрасывать покрывало вместе с диваном?!
Такое в их доме случилось впервые. Прибежал Саша и помог Вере убрать этот кошмар. Хорошо, что хоть диван не испачкан. Вера застелила его стареньким пикейным покрывалом и вернулась к компьютеру. Минут через десять-пятнадцать все повторилось вновь.
Вера не знала, что и думать. Ну почему это случилось опять на том же месте? Тайну приоткрыл Саша:
– Вера Юрьевна, не ругайте кошку, она просто приревновала вас ко мне и так выразила свой протест. Она очень страдает, бедняжка. Я, пожалуй, пойду.
– Как же мы теперь доделаем работу? – расстроилась Вера.
– Ничего, я дома все поправлю и сам где-нибудь распечатаю, – обнадежил парень.
Вера убрала «новый сюрприз», накормила Лизку и, посадив ее на колени, стала ей внушать:
– Лиза, нельзя быть такой капризной. Ты же мечтаешь о «Вискасе»? А как я тебе его куплю, если не сдам работу в срок и не получу денег? Ты знаешь, что в моем деле самое трудное? Получить деньги у заказчика, причем желательно все.
Лизка уткнулась Вере в живот и тихо плакала, шевеля ушками.
– Лизонька, я тебя тоже очень люблю, – утешала Вера кошку и себя заодно.
Ей иногда становилось не по себе: за что Лизка любит ее до исступления? Она смотрит на нее, как на божество, ловит каждый ее взгляд, каждое движение, облизывает с ног до головы и… продолжает спать у нее на шее, что создает Вериному мужу дополнительные препятствия на пути к законному телу.
* * *
Из заморенного крысеныша Лиза вскоре превратилась в белоснежную красавицу с черным носиком и черным пятнышком на мордочке. И, конечно же, она чувствовала себя в своем доме и впрямь Елизаветой II, элегантной и гордой. Она уже не боялась выходить на кухонный балкон и даже ходить по перилам, а свой «горшок» перенесла под стоявший там старый стол, под которым скопилась земля из цветочных ящиков. Увидев, как Лиза изящно гарцует по перилам, Вера аккуратно сняла ее оттуда:
– Лизка, ты что, дура? – тыкала Вера ее носом за перила. – Видишь там – бух! От тебя только мокрое место останется!
Лиза цеплялась когтями за Верин халат и «бух!» не хотела.
В разговоре с водителем, возившим ее тиражи, Вера упомянула о Лизкиных походах на балкон.
– Все, теперь точно сорвется с балкона. Вы ее не удержите, – заметил он.
Однажды Вера услышала мяуканье за окном гостиной, где тоже был балкон. Как кошка очутилась там? Не могли же ее случайно закрыть, если двери и форточку в этот день (да и в предыдущий тоже) не открывали? Неужели она пробралась туда с кухонного балкона, миновав еще два подоконника (в их квартире все окна выходили на одну сторону)? Вера поежилась от этой мысли и решила не пускать ее больше на балкон. К форточкам прикололи марлю, помня о Лесиных «подвигах».
* * *
Как-то сын пригласил в гости своего японского начальника, который усиленно этого добивался: хотелось посмотреть, как живет его подчиненный и заодно проверить, не ворует ли тот бытовую технику их фирмы «Панасоник», продвигая ее на СНГовском рынке (сын работал там мерчендайзером). Такое у них в России уже случалось, и фирма несла огромные убытки из-за наших хитроумных воришек.
Ямамото увидел обычную московскую трехкомнатную квартиру на последнем этаже блочной башни в «спально-промышленном» районе Москвы: гостиная с недорогой немецкой мебелью и непременным ковром над диваном, маленькая комната сына с книжными полками, «заслуженным» огромным письменным столом (на нем в муках родились два вузовских диплома – мамы и сына и одна кандидатская – папы). Там стоял и не менее почетный диван – его нынешний хозяин на нем же и был зачат четверть века назад, правда, в другой квартире. В спальне мебель была новее – куплена всего лет десять назад после полугодового стояния в очереди, когда приходилось каждую неделю отмечаться в списках. В те времена записывались на все – на мебель, на собрания сочинений, на ковры, на обои и на прочие признаки семейного достатка. Кухня довольствовалась старым польским гарнитуром (очередь – два года!) – одним из первых приобретений хозяев в их совместной жизни.
Ямамото явно был разочарован: башкирский холодильник «Юрюзань» конца 60-х (работает до сих пор), маленький музыкальный центр, купленный сыну на восемнадцатилетие. Ко времени его приобретения страховых взносов, которые Вера выплачивала полтора десятка лет, хватило только на это «чудо техники», которое теперь пылится на даче. Стиральной машины, микроволновки, современной аудиотехники или еще каких-то нужных, по мнению японца, вещей не было и в помине. Указав на гордость семьи – почтенную «Радугу» за 560 рублей (тех еще, советских), Ямамото спросил:
– А это у вас что?
– Аквариум особой конструкции, – отшутился сын.
Японец недоверчиво покачал головой, но больше уже не рыскал глазами по квартире в поисках компромата. Он с удовольствием сосредоточился на угощении. «Эти чертовы русские умудряются так принимать гостей, что можно лопнуть, и это притом, что в магазинах у них – шаром покати…», – говорили его глаза. Разомлевший от еды и пития Ямамото заулыбался и почувствовал себя свободнее настолько, что даже попытался подпевать смешному музыкальному центру, суча ножками под столом в такт мелодии.
Внезапно оттуда донеслось отчаянное мяуканье. Японец обмер от страха: Лизу-то он не заметил при инспектировании квартиры и теперь не мог понять, что произошло. Бедная кошка, пострадавшая от приплясываний японца, выбралась из-под стола и метнула на Ямамото мстительный взгляд. Все посмеялись, и праздник продолжался. Японец оказался парнем с юмором.
Однако домой гостю пришлось возвращаться в новых французских туфлях сына, добытых Верой с превеликим трудом, которые были на четыре размера больше его собственных. А чудо японской обувной промышленности пришлось выкинуть на помойку – Лиза обид не прощала. Несмотря на такой конфуз, сыну вскоре предложили более высокую должность с обучением в Японии, но он, к удивлению многих, отказался, предпочтя студенческую жизнь в Шотландском университете.
* * *
В конце августа 1995-го предстоял отъезд сына на учебу в Великобританию. Почти на полтора года. У Веры было тяжело на душе. Друзья и знакомые удивлялись: «Радоваться должна – сын едет за границу учиться! Здесь же сплошной бардак, да и армия еще висит, как Дамоклов меч». Но Веру мучили сомнения: «Так-то оно так, но сейчас у сына хорошая денежная, по ее понятиям, работа, к тому же пора и о личной жизни подумать, друзья-то все переженились, пока он повсюду ездил. Недавно вот с девушкой хорошей познакомился на свадьбе друга…».
А самой Вере без него и вовсе жизни нет: муж – без работы, того и гляди совсем сопьется; деньги, накопленные сыну на «приданое», пропали; у самой стабильного заработка тоже нет, да и занятие «серым бизнесом» далеко не безопасное; в стране все катится незнамо куда. Давит ощущение бессмысленности существования. Одна надежда – сын выучится, вернется (только бы вернулся!), снимет с нее неимоверную ответственность за их семью и поддержит ее в надвигающейся старости… Да, она во что бы то ни стало должна удержаться на плаву, чтобы не подохнуть и не сорвать его с учебы. Ему на чужбине тоже ведь будет несладко… Только бы он там не остался насовсем – заведет семью, и внуки, совсем чужие, будут лопотать по-английски…
С такими невеселыми мыслями она готовила, жарила, парила, пекла – сын пригласил друзей на прощальную вечеринку. Они с мужем бегали по квартире, накрывали столы, «наращивали» сиденья, гремели посудой, раскладывали раздобытую снедь. Вскоре начали собираться гости. Молодежь веселилась в гостиной и в комнате сына, а родители с удвоенной скоростью носились туда-сюда с тарелками.
Лиза в этом урагане не участвовала, благоразумно стараясь не покидать кухни. Но дверь на балкон приходилось без конца открывать и закрывать, занося очередные блюда. В промежутках между мытьем посуды Вера еще принималась за мелкие постирушки. Послезавтра сын улетал. Лиза все время вертелась под ногами. В суматохе никто не заметил, как она проскользнула на балкон вслед за мужем, выносившим кастрюлю с салатом. В какой-то момент он услышал скрип когтей о железные перила балкона, но когда обернулся, то ничего не увидел. Поискав ее на балконе, муж вернулся на кухню, просмотрел там все углы и заглянул в ванную:
– Ты Лизку не видела? – спросил он у Веры, склонившейся над тазом.
– Да тут где-то вертелась.
Но Лизы нигде не было. Вспомнив странный скрип, муж вернулся на балкон и посмотрел вниз. Он не сразу разглядел в сгущавшихся сумерках белое пятнышко на земле. Вера вопросительно посмотрела на его растерянное лицо:
– Что?! – спросила она, уже наперед зная ответ.
– Да, я только что слышал скрежет… Я лишь на секунду открыл дверь и тут же закрыл ее… Может, это не она, там внизу, я плохо вижу… Может, она где-то в квартире прячется?
Но Вера поняла, что искать не стоит.
«Господи, ну за что? И именно сейчас, когда я чувствую себя такой несчастной, и сын уезжает! Почему она ушла от меня именно сейчас, когда я так нуждаюсь в ее любви? – она опустилась на стул и закрыла лицо руками. – Господи, ну за что?»
Этот горький возглас вырывается у миллионов людей в минуты отчаяния, но готового ответа еще никто не получил. Думайте сами. Притихшие, они сидели с мужем рядышком на кухне и молча горевали – каждый о своем, а в гостиной бренчала гитара и горланила песни молодежь. Сыну сказали о гибели кошки на следующий день. Он, конечно, огорчился, но мыслями уже был не здесь. Лизу похоронили тоже в «Братцеве», чуть дальше, чем Лесю.
* * *
Вера с мужем как-то враз осиротели – сын уехал, Лиза погибла. Жили они, как и вся страна в те годы, трудно, но со временем стало полегче. Достроили, наконец, дачу, а к началу нового века осилили капитальный ремонт в квартире и обновили ее содержимое. Кошек в доме больше не было: жалко стало портить вылизанную квартиру с новой мебелью, а скорее всего – их просто никто уже не захотел «выбирать».
И все же иногда мелькнет мысль: может, еще появятся кошки в их доме? Как знать…
Белоруссия, июль 2014 г.Бронзовый пупс в овальной рамке
За окном электрички, везущей ее на дачу, мелькает удручающий пейзаж: вместо желанной загородной картины – развороченная подмосковная глина, горы песка и гравия, снующие повсюду дорожно-строительные машины. Уже совсем ничего не осталось от «зеленого пояса» Москвы. Кольцевая автомобильная дорога с внешней стороны словно слилась со сплошной грандиозной стройкой – возвышающиеся гипер– и супермаркеты, громадные строительные рынки, запруженные машинами подъезды к ним. Там, где еще недавно на ближайших подмосковных станциях прятались в зелени садов уютные дачки, среди остатков облезлых елок и сосен высятся многоэтажные башни и заводские корпуса иностранных фирм вперемежку с тесно стоящими дорогими особняками «под Испанию».
А вдоль железной дороги чего только не увидишь – бивуаки бомжей, изуродованные граффити опоры мостов и всевозможные заборы каких-то хозяйств, задворки промышленных зон, ряды кособоких гаражей, крытых ржавым железом, остовы автомобилей и прочая дрянь. На заборах и стенах построек красуются бесконечные призывы кого-то бить – жидов, хачей, азиатов, буржуев, бандитов, а заодно и правителей всех мастей. Повсюду красуются фашистские знаки, пятиконечные звезды и, конечно, узколобая безграмотная матерщина. От этого вида на душе делается тошно. Господи, ну почему мы живем в таком дерьме? Ведь железная дорога – это ворота в столицу огромной страны! Неужели нельзя хотя бы их привести в порядок?
Как же раньше она этого не замечала? А раньше она в дороге работала – правила рукописи, и ей некогда было зевать по сторонам. Хоровод тоскливых мыслей царапает сердце. Кап-кап-кап – закапало почему-то лишь из одного глаза, второй привычно держит оборону. Вообще-то она не плакса, и свою выдержку считает достоинством, хотя, как утверждает наука, это, скорее, недостаток. Оказывается, лучше выплескивать злобу наружу, чем укрощать ее в себе: не найдя выхода, она начинает пожирать своего хозяина изнутри.
И все же, что случилось? Нет любимой работы? Но это уже давно переживается. Задевает временами агрессивно-психопатное поведение мужа? Так за столько лет уже должен бы выработаться стойкий иммунитет, хотя иногда и накатывает волна протеста и отчаяния (за что?), переливаясь через край. Да она и сама не сахар. Уходят родные, друзья и знакомые – одни в свою скорлупу, а другие на тот свет? Уже каждый год обязательно кто-то умирает, оставляя вопрос, кто следующий? Так это жизнь, никуда не денешься, и твоя очередь подойдет… Дефицит общения для любящего жизнь человека? Да, пенсия есть пенсия, даже для людей вполне еще активных, поскольку окружающие (особенно руководители) видят в них отработанный материал.
Так что же? Внук. Последняя безрассудная любовь, долгожданный малыш, потеснивший в ее сердце единственного сына, с которым она связана духовной пуповиной. Обожаемый внук, которому осенью предстоит пойти в первый класс, вдруг после Нового года без видимой причины резко охладел к бабушке и дедушке. Раньше звонил им на дню не один раз, просился в гости каждую неделю и с удовольствием оставался с ними сколько угодно времени. Они были его лучшими друзьями, отдавая ему неизрасходованное сердечное тепло, и никогда не отказывались с ним играть, не отговаривались усталостью, посвящая ему все свободное время и балуя в меру своих возможностей.
Что же случилось? Переходный возраст? Мальчик стал капризным и плаксивым, не хотел с ними гулять и разговаривать по телефону, не то что сходить в театр или еще куда-нибудь. Конечно, она все понимала: ребенок вырос и почуял зов «стаи» – появились друзья, с которыми ему стало интереснее. Он ощутил себя своим среди ровесников, а раньше боялся показаться малышом в их глазах. Так ведь нередко и у взрослых бывает, когда резко меняются дружеские «приоритеты». Но свекровкин голос подзуживал: «Наверное, мать ревнует к нам. Самой же ведь хуже – никуда без него не вырвется. И сына жалко, ему бы отоспаться в выходные, пока ребенок у деда с бабушкой». Однако голос разума все же пересилил – вряд ли мальчика настраивают так, это нерационально: бабушка и дедушка в воспитательном процессе элементы небесполезные.
Она прикрыла глаза, полные слез, и погрузилась в воспоминания под мерный стук колес.
Бублик
Впервые она увидела малыша во сне в ночь на 5 декабря 2006 года, почти за семь месяцев до его появления на свет. Бронзовый пупс в белой овальной рамке, почти такой же, как на снимке УЗИ, сделанном через пару месяцев после этого цветного сновидения. Во сне изображение казалось более четким и ярким: и личико с вздернутым носиком, и пухлые ручки-ножки, и причинное место – все было продемонстрировано в лучшем виде. Чем-то он напомнил ей поджаристый мягкий бублик. Такие выпекали в 60-е в крохотной кофейне на углу улицы Чехова (ныне Большая Дмитровка) и Садового Кольца, где она перекусывала по дороге в вечерний институт. Так она и стала называть его про себя – Бублик. Позже призналась своим, что видела во сне малыша, но на вопрос, какого он пола, лишь хитро улыбнулась: «Не скажу».
Забирать Бублика из роддома отправились в полном составе: молодой папаша и они с мужем, ставшие, наконец, бабушкой и дедушкой. Наряженный в летний комбинезон младенец встретил новоявленных родственников весьма сурово. Никаких блуждающих молочно-голубых глазок – на окружающих в упор смотрели абсолютно черные глаза утомленного жизнью взрослого мужчины… в столь крохотном тельце. Под его несколько осуждающим взглядом бабушка и дедушка немного оторопели, перестав сюсюкать. Младенец вежливо терпел поцелуи папаши, а бабушка обмирала от страха, как бы тот своей железной щетиной не поранил дите. После короткой фотосессии все уселись в машину и отправились домой. В дом Бублика вносила мама.
В молодой семье началась новая жизнь. Через месяц они, уставшие и замотанные в душной Москве, приехали на дачу. Мама, разморенная, с лихорадочным блеском в глазах, выйдя из машины, молча протянула ей Бублика. Казалось, что женщина вот-вот упадет. Конечно! Высокая температура и грудь как камень! Начались сумасшедшие, но и счастливые деньки. Она бегала с этажа на этаж, укачивала орущего на всю деревню Бублика, мчалась на кухню, готовила, стирала, убирала, забросив свой огородишко… и радовалась жизни. Она опять была в «потоке», чувствуя себя совсем молодой, от нее опять многое зависело, она сама быстро решала все проблемы, сглаживая «острые углы» и предотвращая мелкие конфликты (что поделаешь, невестка невзлюбила ее мужа, а скорее всего, ее саму). Она была всем так нужна! В конце августа вернулись в Москву. Бублик заметно подрос и окреп на свежем воздухе.
* * *
В ее расписании теперь появились трехчасовые прогулки с коляской в любую погоду, которые они совершали поочередно с мужем. Работу приходилось как-то увязывать с этим важным делом. Бублик рос на радость всем и не особенно страдал от болезней. Незаметно прошла зима. В мае мама решила ребенка окрестить в ближайшей церкви в старинном парке «Покровское-Стрешнево». Но, к сожалению, в тот выходной день от наплыва желающих крестить детей в маленькой церкви случилось столпотворение.
Малыши верещали на все голоса, батюшка, какой-то слишком продвинутый, разучивал хором с родственниками младенцев слова, которыми им следовало сопровождать обряд крещения, и еле сдерживался, чтобы не обматерить их за бестолковость, зрители щелкали камерами (что запрещалось), кругом царила суета. Крестные родители, Юля и Саша, по очереди держали надрывающегося от крика Бублика. Наконец служители притащили ведро горячей воды и стали ее заливать в купель, разбавляя холодной. Дверь без конца открывалась и закрывалась. Ведь еще май на дворе! Простудят ребенка! Наконец Бублика окунули в купель (хорошо, что он был в очереди первым, еще заразу бы какую подцепил от других детишек!), и батюшка понес его вокруг алтаря, произнося молитву. Внезапно Бублик перестал орать и заулыбался, с любопытством разглядывая сопливую барышню в бантах за спиной батюшки, которая сидела на руках у своей мамы в ожидании обряда и строила ему глазки. Роман, не успев начаться, быстро закончился – Бублика передали родителям, но он продолжал озираться в поисках заветных бантов.
В начале июня Бублик с мамой прибыли на дачу. Дедушке и бабушке пришлось в срочном порядке все там подготовить, чтобы обеспечить безопасность человеку одиннадцати месяцев от роду. Ребенок уже лихо ползал, спать днем не желал и требовал неусыпного внимания. Дед соорудил ему качели, и это стало единственным местом, где на Бублика снисходило умиротворение, позволяя его нянькам немного расслабиться. В конце июня всей семьей отметили день рождения Бублика – он задул на торте свою первую свечку и в тот же день… пошел! Что тут началось! Вся наличная родня бегала за ним с грацией горилл, едва поспевая перехватывать его шаловливые ручки у дверцы горящей печки или водопроводной пластиковой трубы, которую ему очень нравилось выдергивать из переходника. А входная дверь и по сей день стоит без уплотнителя, который Бублик с завидным упорством отрывал всякий раз, как только дед его приклеивал. Даже в кровати его нельзя было теперь оставить ни на минуту: он быстро научился преодолевать этот «забор» и тихо подкрадываться сзади, заставая взрослых врасплох.
И опять она целыми днями бегала с этажа на этаж, укачивала, кормила, готовила, убирала, «сглаживала углы»… Все это время ребенок спал с ней рядом на первом этаже, и каждую ночь ей приходилось вскакивать, вынимать его из кроватки, приучая писать в горшок, а не в постель, или укрывать, или просто укачивать на руках. В середине августа мама Бублика уехала в Москву собираться в отпуск. Они планировали отдохнуть пару недель в Испании, поручив Бублика бабушке, с чем та и согласилась (как сыну откажешь?). Отъезд намечался на последние дни августа. Не очень удобное время для нее: муж выходит на работу, и все тяготы достанутся ей одной. Но сыну дали отпуск в это время… что поделаешь.
Болезнь
Но как всегда: где тонко, там и рвется. Три ударных месяца на даче не прошли для нее даром: 29 августа вечером у нее случилось сильнейшее головокружение. В этот день муж «взял» на себя Бублика, дав ей возможность поваляться днем перед телевизором. Казалось бы, она отдохнула, поговорила с сыном, позвонившим из Испании, сказала ему, что у них все в порядке. Но вечером вдруг почувствовала головокружение, такое, какое бывало в молодости после не в меру дружеских застолий, когда потолок буквально плясал над головой. А сейчас-то что? Может, душно стало от жарко натопленной печки? Она поднялась на второй этаж и прилегла на диван. Становилось все хуже. Внезапно ее охватил какой-то страх, прежде неведомый. Никогда раньше она даже не помышляла о вызове скорой помощи, тем более на даче. Она спустилась вниз и попросила мужа:
– Все. Беги к Елене Ивановне, со мной что-то не то…
– Ты что? Уже почти ночь на дворе, – удивился он, но, взглянув на нее, замолчал и, отдав ей ребенка, ушел.
Вскоре он вернулся с их дачной подругой, заместителем главного врача местной больницы. Елена Ивановна принесла с собой лекарства и, измерив давление, сделала неутешительный вывод:
– Все очень серьезно, давление 160х100 (никогда еще такого не было!) слишком для вас высокое, вертебро-базиллярная недостаточность на фоне обострения шейного остеохондроза, слабые сосуды, угроза инсульта… Срочно в больницу.
Она дала ей выпить какие-то таблетки, написала на бумажке, что и в какой последовательности принимать. Бублик разрывался от рева в руках деда, который в ужасе не знал, что делать. Ребенок брыкался на руках и у Елены Ивановны, пытавшейся его успокоить, визжал и просился к бабушке. У нее под боком он, бедняга, заплаканный, голодный и немытый, вскоре уснул. Елена Ивановна, понимая, что в больницу ее отправлять нельзя (ребенка-то куда девать, деду надо на работу), велела звонить в любое время дня и ночи и докладывать обстановку. В крайнем случае, Бублика возьмет ее дочь, у которой такой же ребенок. Где один, там и два. Вскоре подействовали лекарства, и она задремала.
На следующий день ей вроде стало легче, но оставались жуткая слабость и нежелание двигаться. Она не стала больше пить таблетки – и к вечеру ей опять сделалось худо. Мужу нужно ехать в Москву – заседание кафедры перед началом учебного года. Но причина не только в этом: ему срочно надо «снять стресс», иначе «поедет крыша». Они с Бубликом остались одни. Завтра обещала приехать сводная сестра на три дня помочь. Но этот день и ночь и еще полдня надо как-то пережить. Бублик перебрался спать в коляску – ей так было легче его укачивать и вывозить на веранду. Хорошо, что хоть еда была еще вчера приготовлена, оставалось только разогреть. Сознательный ребенок вел себя тихо, не скандалил и не брыкался. На руки она старалась его не брать – боялась уронить. Сильно болела голова и подташнивало. Держалась на ногах только страшным усилием воли.
После работы забежала Елена Ивановна, измерила давление, принесла еще лекарства и посоветовала срочно вызвать сына.
– Вы даже себе не представляете, как рискуете, – вздыхала она. – Я-то их вижу каждый день в больнице… – продолжала Елена Ивановна, старательно избегая слова «инсульт». – Иногда думаешь, уж лучше бы сразу… Ну, поплачут немного близкие, зато избегут неизвестно скольких лет мучений…
И все же врач в ней взял верх:
– Так. Не раскисать, все образуется. Как только у вас заберут ребенка, немедленно ко мне в больницу, будем выхаживать. Помирать нам с вами нельзя – еще внуков надо до их пенсии дотянуть, – пошутила подруга.
Вечером, можешь не можешь, надо хоть как-то искупать ребенка. Обычно они ставили ванночку на кухонный стол – так было удобнее, не нужно сильно наклоняться. Но сегодня она на это не решилась. Поставила ее на пол, налила согретой в чайнике воды, раздела ребенка и, стоя на коленях, стала его мыть. Самое главное – подняться потом на ноги и вытащить из ванночки довольно увесистого Бублика так, чтобы от напряжения не потерять сознание. Она специально кусала губы, думая, что пока чувствует боль, ничего не случится. Дорогу до постели они с Бубликом благополучно одолели. Переодев ребенка, она побрела на кухню все убрать и приготовить ему еду. Теперь – пережить бы ночь. Умереть никак нельзя – беспомощный ребенок останется один. Днем все же Елена Ивановна всполошится, не дозвонившись, и пришлет кого-нибудь проведать, да и сестра к вечеру обещала приехать. А ночью… Они спали вместе, бабушка и внук – так, в случае чего, ребенок не сразу напугается.
Приехала сестра, и она сразу ослабела. Не было сил подняться с постели, не хотелось есть. Но кормить и купать Бублика она старалась все же сама. Три дня пролетели. Легче ей не становилось. Давление не унималось, и лекарства уже не помогали. Приехал, наконец, муж и отпустил сестру. Сообщил, что дозвонился до сына (хотя она просила его этого не делать), но приехать так сразу они не могут – нет билетов. За день до возвращения сына с невесткой муж опять уехал в Москву – начались занятия. Часто звонила и заходила Елена Ивановна, поддерживая ее всеми силами. Наконец днем позвонили из Москвы прилетевшие поздно ночью молодые, сообщив, что приедут завтра, так как надо все убрать, подготовить, закупить продукты. Она не поверила своим ушам и не знала, что ответить. Ведь сын уже знал, в каком она состоянии, одна с его ребенком на руках! С самого утра они сидели с Бубликом на диване в ожидании его родителей, ее била мелкая дрожь, сил не было даже встать и дойти до веранды. Она буквально считала часы, которые еще надо как-то продержаться до их приезда.
– Мама, мы все тут быстренько сделаем и завтра, не позднее обеда, приедем на машине, – увещевал ее сын.
– Мне очень плохо, да дело и не во мне – ребенок же…
– Ну, хочешь, приедет жена сегодня, а я завтра? – настаивал сын под аккомпанемент жужжащих в телефоне подсказок.
От боли и обиды у нее захолонуло сердце. Твердость характера и жизнестойкость, спасавшие ее во все времена, поддержали и сейчас:
– Никого не нужно. Приезжай прямо сейчас. Ты понял меня?! – произнесла она каменным голосом.
Через два часа у ворот дачи просигналила машина. Она даже не могла выйти навстречу. Ноги были ватные, пот вперемешку со слезами застилал глаза. Так они и остались сидеть с Бубликом на диване, прижавшись друг к другу, как два воробья – старый потрепанный и малыш.
Вошли молодые – загорелые, отдохнувшие.
– Ой, у вас нет никакого инсульта, – прощебетала невестка.
Она знала, о чем говорит, ее отец пострадал от этого недуга.
– Что ж, тебе виднее… – ответила она.
Вскоре они уехали. На следующий день сын вернулся за приготовленными ею за лето соками и компотами и отвез ее в больницу к Елене Ивановне, которая о чем-то с ним говорила у себя в кабинете. Прощаясь с сыном, она заплакала, страшась неизвестности. В больнице ее продержали две недели – капельницы, уколы, таблетки, обследования, неясный до конца диагноз. Подозрения опытной Елены Ивановны были не напрасными, как оказалось в дальнейшем.
Она восстанавливалась, как могла, больше рассчитывая на свои внутренние резервы бывшей спортсменки, чем на врачей, но менее чем через год все же вновь попала в ту же больницу после общения с местной властью при оформлении документов на дачный участок. Так началась ее борьба с болячками, которые посыпались с этого времени, как из рога изобилия. Самое ужасное последствие этого – у нее появился страх, что в любой момент все может опять повториться, она стала бояться ездить куда-то одна, даже по Москве и на дачу, не говоря уже о когда-то любимых путешествиях.
Жизнь продолжается
Бублик, увидев ее после возвращения из больницы, не проявил никаких признаков узнавания. «Как же так, – огорчилась она, – неужели забыл за какие-то полмесяца?» Постепенно все наладилось. Она опять начала гулять понемногу с Бубликом во дворе. Он часто бывал и у них дома. Но на следующее лето (когда она вновь загремела в больницу) его уже на дачу не привозили. Бублик рос, пытался говорить, но у него не очень получалось, и он этого стеснялся. Слова складывал по собственному усмотрению: деда он звал дебой, не без основания считая его неотъемлемой частью бабы. А когда немного подрос, то стал всех называть просто по именам. Его игрушки поселились в обеих квартирах и на даче.
Все шло своим чередом: у нее было много работы, муж учил студентов, сын, как обычно, мотался по командировкам, Бублик сидел с мамой дома. Почти каждые выходные он отправлялся к бабушке и дедушке со своим «выездным» чемоданом. Летом приезжал на дачу. В четыре года у него проснулся интерес к сельскому хозяйству, и он с удовольствием катал свою тележку, поливал из игрушечной лейки грядки и закалялся холодной водой Москвы-реки.
Начались и первые выходы «в свет» – в театры, зоопарк и так далее. Зимой он осваивал местные горки рядом с домом бабушки и дедушки, а весной и осенью ходил с ними в парк «Покровское-Стрешнево» недалеко от их дома, в парк «Братцево», где «рос» его папа в компании таких же голопопых друзей-соседей, и в парк «Северное Тушино», обустроенный в последние годы, где даже отважился посетить музейную подводную лодку. Правда, экскурсия завершилась очень быстро – рев Бублика, решившего, что лодка сейчас поплывет в открытое море, заглушал рассказ гида. Пришлось оттуда срочно ретироваться.
Бабушка пыталась учить с ним буквы, но дальше дело продвигалось с трудом. Бублик на все развивающие предложения отвечал одно:
– Игъять! Пойдем игъять!
Играть надо было часами, придумывая каждый раз новые сценарии. У деда не всегда хватало сил довести игру до конца и при этом не заснуть (особенно после обеда), но бабушка не сдавалась. У внука с бабушкой были доверительные отношения: только ее одну он приглашал с собой в туалет для задушевных бесед во время его посещения. Обычно та присаживалась напротив на край ванны в их совмещенном санузле и отвечала внуку на самые неожиданные вопросы. Как-то за разговором они одновременно взглянули в зеркало над раковиной:
– Какая ты некъясивая, – со вздохом произнес внук.
Бабушке сделалось не по себе: «Да, конечно, устами младенца, как говорится… Но ведь я и раньше никогда себя красавицей не считала, а тем более теперь, – утешала она свое самолюбие. – И все же, нелегко это слышать от мужчины, пусть и четырехлетнего.
– Какая же ты некъясивая! Лохматая какая! – упорствовал внук. – Пъямо стъяшная какая!
Повисло тягостное молчание. Ответить ей было нечего.
– Вот я, – продолжал малыш, сидя на унитазе и любуясь собой в зеркале, – какой къясивый мальчик! Постъиженный в паикмахтерской! А ты что же?
В пять лет Бублик, отстаивая свое право на дачную вольницу, отказывался выезжать с родителями на отдых за границу:
– Не хочу я в вашу Испанию! Хочу на дачу!! – скандалил он в аэропорту.
Приехав после пребывания на море на дачу, он первым делом побежал смотреть, что выросло в огороде, проверять, где какие непорядки на участке, и ворчал, что трава не скошена и дорожки рассыпались без него:
– Мы тут с дедой хозяины, а баба – хозяин на кухне, – объяснял он приезжавшим в гости родителям.
Больше месяца провел он с дедушкой и бабушкой, ходил с ними на речку, где у него уже появились знакомцы, учился плавать и преодолевать страх перед водой:
– Давай только «Баба сеяла горох», – соглашался он, с опаской входя в воду и тут же забираясь бабушке на руки.
– Что же ты такой трусишка? – поддразнивала его она, но внук твердо знал, что забираться глубже в воду не стоит.
На пятилетие бабушка с дедушкой подарили ему велосипед – двухколесный с приставными колесиками. Учить ребенка кататься пришлось бабушке:
– Садись! – командовала она, – крути педали! Да не заваливайся на бок, сиди прямо, крепко держи руль и смотри на дорогу! – кричала она на всю улицу так, что шарахались встречные машины.
Бублик хныкал и всячески пытался увильнуть от учения. Но бабушка была непреклонна:
– Ты что, мужик или мокрая курица? – позорила она Бублика на всю округу.
– Не курица я…, – жалобно блеял внук, – я упаду-у-у…
– Эка невидаль! Упадешь – поднимем!
Конечно, были и падения, и сбитые коленки, и укусы слепней, и знакомство с крапивой… А следующим летом шестилетний Бублик уже вовсю гонял на велосипеде на речку, в которую прыгал с разбегу и не хотел из нее вылезать, и весело смеялся, когда она ему рассказывала, что еще недавно он совсем не умел кататься. На даче он провел с ними почти два месяца. На речке они с дедом устраивали показательные выступления: кувырки с переворотом. Получалось очень лихо, и Бублик горделиво оглядывался вокруг, ловя восхищенные взгляды пляжной малолетней публики. Вечерами дед с внуком катались на велосипедах вдоль реки, а бабушка поджидала их у калитки. Бублик учился пилить доски, помогая деду делать ограждения для грядок, попадать молотком по гвоздям, а не по пальцам, поливать из лейки грядки, делать цементный раствор для латания щелей в бетонных дорожках, разводить костер и многое другое. Все его «подвиги» бабушка фиксировала на фотопленку – она собирала фотографии в отдельный альбом, который завела сразу после рождения ребенка.
А с осени у Бублика начались занятия сразу в двух «школах» – нужно готовиться к поступлению в первый класс. Записали его еще и в секцию тейквандо. Свободного времени у малыша оказалось совсем мало – даже в субботу занятия. К бабушке с дедушкой он стал приезжать все реже.
Зима выдалась малоснежной, и подаренные внуку лыжи так и простояли нераспакованными. После Нового года Бублик вместе с бабушкой и дедушкой впервые отправился в цирк на проспекте Вернадского. Раньше ему совсем туда не хотелось:
– Не поедем туда, – отвечал он уговаривавшей его бабушке. – Я там уже был.
Оказалось, что он имел в виду церковь, куда действительно ходил как-то с мамой. В цирке ему очень понравилось, особенно тигры, сотрясавшие ненадежную на вид сетку ограждения, и огромная новогодняя елка.
Бублик все реже звонил бабушке и дедушке и перестал у них оставаться на ночь, требуя возвращения домой.
* * *
– Осторожно! Двери закрываются, – прогундело где-то сзади. – Следующая станция – Тучково, – механический голос заставил ее стряхнуть с себя воспоминания и вернуться к дачной действительности.
Теперь не до мерехлюндий: быстренько подняться на мост, пересечь «контрольно-пропускной пункт» на станции, забежать на рынок и успеть поймать такси. Пешком до дачи с тяжелыми сумками уже не по силам. Приезд на дачу весной всегда приятен – еще много энтузиазма и всяких идей, но уже можно полюбоваться плодами своего труда, пережившими зиму, неспешно погулять по участку и отдохнуть с дороги за чашкой чая. А потом начинается садово-огородный зуд: надо сделать это и это, а еще бы кое-что пересадить. И хорошо бы распланировать так, как в журнале… если появятся вдруг случайные деньги… И посадить хвойники, и разбить новые цветники… А впереди – целое лето и столько задумок!
Несмотря на хлопоты с весенней посевной, она старалась чаще общаться с внуком, делая вид, что не замечает его охлаждения. Как только они с ним оказывались вдвоем, все становилось на свои места – никакого отчуждения как не бывало. В конце мая она решила сводить его в планетарий, после которого они направились в ее любимое кафе напротив зоопарка обсуждать космические впечатления. Кафе – это святое, только с этим условием он согласился поехать в неизвестное ему место. Они славно провели время и остались довольны друг другом.
Вскоре Бублик с мамой отбыли на отдых в Турцию, а у них с мужем началась сенокосная пора вперемежку с полевыми работами. Ко дню рождения Бублика курортники вернулись домой. Грандиозную дату – семилетие – отпраздновали всей семьей. Внук был рад встрече с дедушкой и бабушкой, но от предложения завтра же отправиться на дачу уклонился, несмотря на уговоры всех заинтересованных сторон.
– Ну, что ж, – вздохнула огорченно бабушка, – будешь тут сидеть в душной Москве, а мы уедем одни на дачу.
На следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру она позвонила ему с дачи:
– Бублик! Здесь так хорошо! Мы тебе сделали маленькую тепличку, как ты просил, и там уже появился крохотный перчик! Представляешь, как он расстроился, узнав, что ты не приехал?
Через полчаса запиликал мобильник:
– Мама, мы с Бубликом приедем ближайшей электричкой. Предать перчик он не смог и потребовал срочно отвезти его на дачу.
Она отправилась на станцию встречать внука. Идти надо было в гору, которая в последние годы стала какой-то неподдающейся (стыд и позор бывшей горной туристке!). Время еще есть, можно не спешить, чтобы не задыхаться. Как-то Бублик себя поведет? Не запросится завтра же обратно? Как себя с ним вести в этом случае? Как вернуть прежнюю теплоту и радость отношений? Вот и станция, она вошла в здание и присела на лавочку в ожидании поезда. Подошедшая вскоре электричка, выплюнув на платформу распаренную в духоте вагонов толпу людей, возвращавшихся домой из столицы, умчалась дальше в Бородино. Среди них по лестнице спускались и ее гости. Бублик чувствовал себя неловко и прятал глаза. Но как только она, улыбаясь, протянула к нему руки, он бросился к ней на шею и засмеялся. От неловкости не осталось и следа. Это был прежний Бублик – веселый и ласковый. Его папе надо было завтра на работу, и они решили сразу же отправить его обратно.
У калитки их поджидал дед. И снова они, три татушки (название их тройственного союза, образованное от припевки «тритатушки-тритата»), – дед, баба и Бублик – зажили, как и прежде, на даче. Днем ходили на речку, читали по очереди с Бубликом вслух, вечером катались на велосипеде, поливали грядки, жгли костры и любовались ярким звездным небом, какого в Москве никогда не увидишь. И многое обсуждали – мальчик-то повзрослел, с ним стало еще интереснее.
Тяжелый камень будто спал с ее души. Ничего, даже если Бублик, взрослея, постепенно отдалится от дедушки и бабушки, они все равно останутся жить в его памяти светлыми воспоминаниями беззаботного детства. И уже ради одного этого им стоит жить!
* * *
Первого сентября Бублик пошел в школу – в гимназию. Все, детство кончилось. В строгом темно-синем костюме, белой рубашке и в галстуке стоял он, держа в руках букет, среди таких же сразу повзрослевших малышей. Как когда-то стоял с букетом его папа, растерянно оглядываясь по сторонам. Слезы брызнули у нее в самый неподходящий момент: детей повели в класс, а ей никак не удавалось усмирить дрожавший в руках фотоаппарат, чтобы снять такой исторический момент.
– Удачи тебе, Бублик! – помахала она ему рукой и прошептала: «Пусть тебе повезет на этом тернистом пути».
Москва, сентябрь 2014 г.Не сотвори себе кумира
Ура! В Москву! К маме! Еще вчера она, подравшись с девчонками на улице, горько плакала, спрятавшись за высокой огуречной грядкой, а сегодня бабушка сказала, что ее правда скоро отправят к матери с тетей Полиной. Выбежав за ворота, она крикнула своим обидчицам, игравшим за дорогой:
– А я завтра в Москву уезжаю! Вот вам! Там на Красной площади всякие красивые камушки и сверкающие цветные стеклышки есть! Вы таких и не видели никогда! Я из них новый секретик сделаю, еще лучше того, который вы, куры треклятые, вчера у меня сломали!
Причем здесь куры, она не знала. Но так ругался их сосед, когда пьяный гонял по двору жену и дочь: «Куда, курвы треклятые, спрятали?! Найду – убью!».
– Катись в свою Москву разгонять тоску! – смеялись девчонки, швыряя в нее мелкой щебенкой с дороги.
Им было не до нее. Они сгрудились около вечно сопливой «богатой» Любки в ожидании ее милостей: Любка вышла гулять с куском хлеба, намазанным невиданным лакомством – вареньем, и важно поглядывала по сторонам, раздумывая, кому бы дать откусить от него. Девчонки, затаив дыхание, глядели на нее преданными собачьими глазами.
Вечером бабушка посадила ее в корыто с горячей водой и стала мыть ей голову, пытаясь распутать хоть немного колтун из кудрявых непослушных волос. Она визжала и кусалась, пытаясь вырваться из корявых цепких рук.
– Дак у вас тут что, поросенка режут? – пошутил дед, входя на кухню. – Ты, девка, давай не брыкайся, сиди смирно. Кто тебя такую лохматую да немытую в Москву-то пустит? Распугаш там весь народ!
Вечером бабушка пекла «подорожники» – толстенькие печенья. Дорога неблизкая, почти трое суток на поезде. «Сколь времени робенок-то голодный будет, хоть погрызет-нито», – горевала она у печи, украдкой смахивая слезы. Утром всей семьей отправились на вокзал. Бабушка с дедушкой вздыхали, а она, радостная, еле сдерживалась, чтобы не прыгать от счастья. К маме! Она едет к маме! Ей совсем не жаль расставаться здесь со всеми!
Мама у нее такая красивая, что даже глазам больно. Как Василиса Прекрасная из сказки. Вся в каком-то сиянье, будто в искрящемся облаке. Она ее просто обожала и часто ей открывала во сне – самой доброй, самой ласковой и самой справедливой во всем свете – свои обидки. Мама, нарядная, как артистка, ее утешала, нежно улыбаясь ей издалека. Она не могла бы сказать, какие у мамы глаза, волосы, какие у нее платья, как та смотрит или смеется. Она этого просто не помнила. И все же любила свою маму до исступленья.
Вот и поезд. Страшный пыхтящий паровоз с черной трубой и зелеными вагонами. Стали прощаться. Плачущая бабушка, прижимая ее к себе, просила не забывать их с дедом, но внучка была уже в мыслях далеко-далеко. Ее все тискали, целовали на прощанье, а она ничего вокруг не замечала, улыбаясь себе самой. Дед чмокнул ее в лоб и подсадил в вагон. Они долго махали ей, пока поезд медленно проползал платформу, и потихоньку исчезали – сначала сами, а потом и их машущие руки. За окном замелькали поля, леса и бескрайние степи, над которыми возвышались огромные газовые факелы, словно огнедышащие пасти Змея Горыныча. «Смотрите, смотрите! Полосатый столб! Азия – Европа!» Паровоз надрывно загудел, окутывая границу двух континентов черным дымом.
Вот и Москва. Выбравшись на платформу, она ахнула:
– Это Кремль?!
– Нет, это Казанский вокзал. Кремль далеко, отсюда его не видно. Давай-ка бери вот маленькую сумку и держись за мой подол. Отстанешь – потеряешься. Здесь тебе не поселок Першино, – проворчала тетя Полина, тащившая свой тяжелый чемодан и ее маленький. – Даже не встретила, паразитка, – прошипела она, косясь на племянницу.
Они перебрались на другую платформу и вошли в вагон поезда. «Наверное, поедем обратно в Челябинск, раз нас никто не встретил», – решила она, опасаясь спрашивать сердитую тетю. За окном мелькали огромные дома, мосты и дороги с несущимися по ним машинами. Все гудело и громыхало. Вагон был «сидячий» – одни деревянные лавки в два ряда. «Как же мы спать-то на них будем?» – забеспокоилась маленькая путешественница.
– Ты чего надулась как мышь на крупу? – спросила тетя Полина. – Небось, есть хочешь? Погоди, скоро уже приедем.
– А мы разве не обратно в Челябинск?
– Нет, – рассмеялась та. – Мы едем на дачном поезде в Ильинку, это недалеко от Москвы. Там живут твои дедушка и бабушка. И мама там… и папа… кажется.
«Тетя Полина решила, наверное, над ней подшутить: ведь бабушка и дедушка остались в Челябинске. Как они могут здесь оказаться – в какой-то неведомой Ильинке? И какой еще папа? Она деда Васю звала папкой, как все остальные, а больше у нее никаких пап и нет», – раздумывала девочка.
– А ты не помнишь их? Ну да, ты же совсем маленькая тогда была.
Они вышли на небольшой станции. Кругом высоченные сосны, а среди них красивые бревенчатые дома. Таких в Першине не было, разве что в «купеческих» Каслях, как говорила бабушка, у двоюродного брата Олежки.
– Мы скоро придем? – робко спросила она запыхавшуюся тетю.
– Да вот уж и пришли, только за угол завернем.
За невысоким забором из металлической сетки среди сосен стоял большой двухэтажный дом из темных бревен с балконом, белыми колоннами и башенкой, как на картинке в ее любимой затрепанной книжке сказок. Высокое крыльцо вело на веранду со стеклянной дверью. Калитка не заперта. Они нерешительно потоптались и вошли. Вдруг послышалось заливистое тявканье, и на дорожке показалась маленькая беленькая собачонка.
– Пушка, Пушка! – выглянула из-за дверей невысокая пожилая женщина. – Вы к кому? – спросила она вошедших.
– Мы к Зине, я ее сестра Полина, проездом тут. Она нас не встретила почему-то. Я ведь телеграмму-то посылала.
– А она уехала отдыхать, по-моему, или еще куда-то… Но, наверное, скоро будет. Да вы проходите. Какая у вас дочка хорошенькая, просто прелесть!
– Это не дочка моя, – поперхнулась от неожиданности тетя Полина. Это ваша внучка Верочка. Ей в этом году в школу, вот я ее и привезла…
Потом они пили чай за большим круглым столом на веранде. Ей дали «бутерброд» – тоненький кусочек мягкого белого батона, густо намазанного сливочным маслом. Такого она еще никогда не пробовала. Ломоть серого «кирпичика», политый подсолнечным маслом и посыпанный сахарным песком, – был верхом ее мечтаний, но бабушка не разрешала ей бегать по улице с кусками, а дома заставляла есть суп с картошкой. «Бутерброд» растаял во рту мгновенно, и она не могла оторвать глаз от хлебницы и разукрашенной фарфоровой чашечки – масленки.
– Какой у ребенка прекрасный аппетит! – пропела ее «новая» бабушка Таня, протягивая ей хлеб с маслом. – Обычно дети так плохо кушают, что их приходится уговаривать.
– Нашу долго уговаривать не надо, – усмехнулась тетя Полина. – Только дай…
Послышались тяжелые шаги, и на веранду поднялся огромный старик с длинным носом и торчащими вперед, как у кролика, зубами. За ним вошел щуплый молодой дяденька, держа за руку красивую в черных локонах женщину в ярком платье.
– Да у нас гости! – воскликнул старик.
– Вот, родственники из Челябы, Зинина сестра и… – засуетилась бабушка Таня.
Все как-то смутились, но дед продолжал:
– Ну что ж. Давайте знакомиться. Я – Борис Юрьевич, отец вот этого молодого человека, а рядом с ним – Лиля, его приятельница. А тебя как зовут?
– Меня… Вера… – прошептала девочка. – Мне шесть лет, я в школу скоро пойду.
– Значит, я твой дедушка, а это – твой папа.
Какой еще папа? Этот противный дядька с круглыми холодными глазами? Не знает она никакого папы! Где же мама? Почему ее до сих пор нет? Только бы не разреветься… Чего они к ней пристали?
– А кого ты больше любишь? Маму Зину или папу Юру? – засюсюкала вдруг бабушка Таня.
«Как можно выбрать – кого больше, кого меньше? Ведь кому-то обидно будет. Как эта бабка не понимает? Да и этого “папу” она видит впервые, а, может, и маму не узнает…»
– Больше всех – маму-стару… – прошептала она.
– Кого-кого? – переспросила бабушка Таня.
– Это она бабушку Дусю так зовет, – пришла ей на помощь тетя Полина.
На следующий день тетя Полина уезжала. Прощаясь с племянницей, она вдруг заплакала:
– Ты уж потерпи тут маленько, не озоруй, мать-то скоро приедет.
Целыми днями она слонялась как неприкаянная по саду или качалась в гамаке, а злобная собачонка норовила цапнуть ее за ноги. Никто ее не замечал. И только Лиля, когда приезжала, читала ей книжки, играла с ней и водила на ближний пруд. Однажды Лиля повезла ее в Москву. Они ехали на поезде, потом на метро и еще шли пешком. Огромный, прямо как вокзал, магазин «Детский мир» поразил ее в самое сердце: она даже не представляла себе, сколько может быть всяких игрушек на свете. Лиля купила ей красивую куклу, красное платье в белый горошек и красные ленточки.
Лиля жила рядом с метро «Кропоткинская» в огромной квартире с длинным мрачным коридором, где хлопало множество дверей. По стенам – вешалки с одеждой, тазы, корыта, велосипеды, лыжи и всякая рухлядь. Там была диковинная сидячая ванна, в которой Лиля ее мыла, туалет с ржавым бачком под потолком и ручкой на длинной цепи, а в глубине – просторная кухня с топившейся дровами плитой, облезлой раковиной с гудевшим краном, кучей столов, табуреток и полок. Противно воняли керосинки и керогазы. На веревках раскачивалось разноцветное тряпье.
– Ты что, дочку себе нашла? А мужа-то все никак? – спрашивали Лилю любопытные соседки.
– Не ваше собачье дело! – отвечала красавица Лиля, помешивая в кастрюльке манную кашу.
Потом они вернулись в Ильинку, и она слышала, как Лиля уговаривала «папу» Юру забрать какого-то ребенка и удочерить. «Папа» обозвал Лилю дурой и проводил на станцию.
Вскоре приехала мама. Она и вправду оказалась очень красивой и нарядной, но к ней как-то страшно было даже подойти. Они с мамой перебрались в другой дом, совсем простой, деревенский, в конце улицы, и стали там жить «на квартире».
Маме надо было выходить на работу, и она привела ее к Александре Федоровне, которая жила напротив бабушки Тани. Муж Александры Федоровны, важный генерал Тимошенко, ездил на работу на серой «Победе» и часто подвозил свою дочку Таню в университет. Их двухэтажный красивый дом с большим садом, утопающим в цветах, тоже выходил на Октябрьскую улицу, как и бабушкин. Александре Федоровне заниматься хозяйством помогали девушка-горничная в белом крахмальном передничке и садовник, так что шестилетний ребенок, сказала она, на несколько часов в день ей будет не в тягость.
Похожая на строгую воспитательницу Александра Федоровна пообещала сделать из нее приличного ребенка: заставляла мыть руки перед едой, пользоваться носовым платком и культурно вести себя за столом. Обедали в столовой: круглый стол с белоснежной крахмальной скатертью, массивные ножи-вилки-ложки, кольца с шуршащими салфетками, красивые сервизные тарелки с картинками – для первого одни, для второго другие, а вместо закопченного огромного чугунка, как в Челябинске, супница с витыми золочеными ручками. Полагалось и третье – сладкий компот или клюквенный кисель в хрупкой небесно-голубой чашке с блюдцем, к которым было страшно прикоснуться.
После обеда ее учили читать, писать и рисовать цветными карандашами. В доме было много больших книг на немецком языке с картинками, переложенными прозрачными листочками, но их можно было смотреть только из рук Александры Федоровны. Ей очень хотелось прикоснуться к клавишам стоявшего в углу черного блестящего пианино, но это строго запрещалось: оно безраздельно принадлежало симпатичной надменной Тане, которая приезжала из Москвы, из своего университета, на выходной, а иногда и в будни. Таня по вечерам играла на пианино и была страшной задавакой, делая вид, что вовсе не замечает появления в их доме «чужого ребенка». «Что поделаешь, – вздыхала Таня, ни к кому не обращаясь, – наша мамочка с ее дворянским воспитанием готова опекать всех несчастненьких…» Нельзя было лазить по заборам и яблоням, есть немытые ягоды, трогать цветы и наступать на клумбы – только гулять по саду или тихонько играть во что-нибудь. И ни одной грядки! Как же они тут живут? Непонятно.
Первого сентября она в форме – коричневом платьице с белым фартуком и с белыми бантиками в косичках – отправилась в школу с дедом Борей: он нес ее портфель, а она, держась за его толстый мизинец, несла перед собой букетик астр из Тимошенковского сада. Двухэтажная деревянная школа, потемневшая от времени и невзгод, находилась на соседней улице, по пути на станцию. Там учились с первого по четвертый класс – девочки и мальчики вместе. Пожилой учитель Андрей Иванович посадил ее на первую парту в крайнем ряду у окна. В школе ей понравилось, только в туалет приходилось бегать на улицу.
Училась она легко, Андрей Иванович ставил ей пятерки и редко спрашивал, несмотря на вечно поднятую руку. Однажды ей понадобилось срочно выйти из класса, но учитель будто не замечал этого. Когда случилась катастрофа, Андрей Иванович озадаченно заглянул под парту и огорченно вздохнул. «Скажу, что разлила чай, если заругает». Хотя чай-то она в школу и не носила, как другие дети, которым давали с собой бутерброды и бутылочку с чаем или молоком. Ей никто такой «завтрак» не готовил. В обиду она себя не давала никому, да и драться-то в школе особенно не с кем было, а на улицу ее одну не пускали.
Пообедав у Александры Федоровны и сделав под ее надзором уроки, она гуляла в саду, а ближе к вечеру возвращалась домой «на квартиру» и ждала маму с работы. Семья, у которой они снимали комнату с террасой, была большая и крикливая, но хозяйка ее жалела и звала с ними ужинать, когда мама задерживалась. Как и в Челябинске – большая сковорода с жареной картошкой посреди стола, и все со своими ложками: кто успел, тот и съел.
Мама приносила с собой волнующие, незабываемые запахи «Красной Москвы». Она крутилась возле нее, пока та что-то готовила на электрической плитке, и старалась потихоньку дотронуться до ее платья или шелковых чулок, или нечаянно прикоснуться к рукам с ярким маникюром. Перед сном ей разрешалось забираться к маме в постель. И пока та читала ей «Федорино горе», она прижималась к ней и замирала от невыносимого счастья. Услышав: «Все, киска, пора спать!» – она с трудом отрывала руки от мамы и плелась на свою раскладушку.
Как-то зимой мама простудилась в своих легких резиновых ботиках на каблуках, которые надевались на модельные туфли, в коричневом «всесезонном» модном пальто и крошечной шапочке-«менингитке». У нее поднялась температура, и пришлось вызывать врача. Она прибегала из школы, минуя дом Александры Федоровны, кипятила молоко и варила сосиски, больше ничего не умела. Когда мама стала поправляться, она попросила дочку вымыть пол и объясняла ей, лежа в постели, как это надо делать. С той поры это стало ее, первоклассницы, обязанностью, как и мелкие постирушки в маленьком тазу.
В середине учебного года Вера и сама тяжело заболела корью. Долго держалась температура. Она металась и бредила. Окна мама завесила темными покрывалами, чтобы свет не резал ребенку глаза. Бюллетень дали только на три дня, а потом маме пришлось пойти на работу. Она целыми днями лежала одна в темной комнате и ничего не ела. Было страшно, а от еды просто мутило. Мама оставляла ей шоколадки, но их забирала хозяйкина дочка, которая соглашалась посидеть с ней, но быстро убегала, заполучив очередную порцию. Наконец пришел старенький доктор, послушал ее трубочкой и сказал, что скоро можно вставать, все обошлось. Ноги были ватные и качались во все стороны, но надо идти в школу: она и так пропустила почти половину четверти.
Незаметно прошла зима. По воскресеньям они ходили с мамой на пруд или в парк кататься на карусели. Как-то к ним присоединился мамин знакомый дядя Леша, большой сильный человек с добрым веселым лицом. Они с ним быстро подружились: он сажал ее себе на плечи, и они все вместе играли в салки. Дядя Леша приходил теперь каждое воскресенье. Она, не избалованная отцовским вниманием (деду Васе некогда было с ней играть), висела на нем, не желая делить его даже со своей любимой мамой.
Первого мая 1954 года они с мамой и дядей Лешей пошли на демонстрацию, на Красную площадь. Он тащил ее, уже довольно тяжелую, на плечах, чтобы она смогла увидеть трибуну мавзолея. Повсюду развевались красные полотнища, качались в воздухе транспаранты и портреты вождей, люди с бумажными цветами в руках кричали «Ура!», пели песни, гремела музыка, и было вокруг волнующе торжественно. На трибуне стояли мужчины в черных шляпах и военные, блестя наградами на солнце. «Смотрите! Вон Жуков! А вот Микоян и Буденный с Ворошиловым!», – выкрикивали рядом, но на нее трибуна не произвела никакого впечатления.
После демонстрации они гуляли в Александровском саду, потом пошли в Кремль смотреть Царь-пушку и Царь-колокол, а затем дядя Леша предложил сходить в мавзолей, где она еще никогда не была. У входа в красно-черный мраморный мавзолей с надписью «ЛЕНИН. СТАЛИН» стояли навытяжку постовые с ружьями и даже не моргали. Они спустились вниз по лестнице и оказались в небольшом полутемном зале, где на постаментах стояли рядом два открытых стеклянных гроба – Ленина и Сталина. Ленин, конечно, не такой, как на картинках, но все же похож. А вот Сталин поразил ее в самое сердце: вместо статного черноволосого, черноусого, с орлиным взглядом вождя, каким он только что плыл на портретах по Красной площади, здесь лежал неказистый седовато-рыжий старик с изрытым оспой лицом и прокуренными усами во френче болотного цвета. (Через тридцать лет в музее небольшого городка на границе с Китаем, неподалеку от озера Иссык-Куль, она заметит поразительное сходство изображенного на старой картине знаменитого путешественника, красавца Н. М. Пржевальского, с известными портретами «отца народов». По легенде, он бывал в Гори в доме семьи Джугашвили.)
В один из дней, спустя неделю после демонстрации, мама долго не возвращалась с работы. Вера уже и поужинала с хозяйкиной семьей, и книжку почитала, а мамы все нет и нет. Вдруг выключился свет. Стало совсем темно и страшно. За окном зловеще поскрипывали сосны. Она почему-то не переоделась, так и сидела в школьной форме на своей раскладушке, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. И как-то нечаянно уснула. Разбудил ее неясный шорох и чей-то шепот. Приоткрыв глаза, она с увидела огромные тени, которые, извиваясь, плавали по комнате. «Это, наверное, цыгане пришли меня украсть», – мелькнула у нее страшная мысль. Бабушка часто пугала ее цыганами: грязные, горластые, с голыми младенцами на руках, они бродили толпами по улицам и норовили что-нибудь стащить со двора. Говорили, что они воруют детей и заставляют их просить милостыню.
Тени хихикали, взвизгивали и что-то передвигали. «Вот они уже подбираются ближе… Надо скорее вскочить и юркнуть на хозяйскую половину, – лихорадочно соображала она. – Или закричать?» Но дверь, которую она оставляла с вечера открытой, была заперта. Дикий страх от этой безысходности лишил ее последних силенок, и она впала в забытье. Открыв утром глаза, она обнаружила в маминой постели дядю Лешу. Вкусно пахло кофе. Мама жарила яичницу на веранде и что-то весело мурлыкала. Не особенно раздумывая над тем, почему вдруг он здесь оказался, Вера принялась его тормошить и стаскивать с него одеяло. Дядя Леша попросил пощады и позвал на помощь маму. «Не приставай, дай человеку спокойно одеться», – засмеялась та, выталкивая ее на веранду.
Двадцатого мая занятия в школе заканчивались. Ей дали «Похвальный лист» за отличную учебу и примерное поведение, а также табель с пятерками, где было написано, что она переведена во второй класс. Начинались летние каникулы. В субботу мама, придя с работы, велела ей скоренько собираться: завтра она едет на все лето в Челябинск, а то ее некуда девать на целых три с лишним месяца. Все вокруг как-то сразу померкло и потерялось. Ничего не радовало: ни подаренная мамой кукла, ни новое нарядное платье, ни дяди Лешино обещание сводить ее в цирк. Совсем ничего. И дядя Леша почему-то не шел…
В воскресенье они с мамой, взяв маленький чемодан, с которым она приехала в Москву год назад, отправились на Казанский вокзал. В огромном разукрашенном зале ожидания было неуютно, и они вышли на платформу. Поезда еще не было. Томясь в ожидании состава, они уселись на чемоданчик, прижавшись друг к другу. Вера словно окаменела и как будто даже состарилась, равнодушно наблюдая за своими совершенно взрослыми горестными мыслями: «Все. Детство кончилось, а с ним – и все хорошее в ее жизни. И уже никогда не будут они сидеть вот так рядышком с мамой, прижавшись друг к другу, никогда она уже не назовет ее ласково киской и не возьмет в свою сияющую жизнь».
И вдруг мама нарушила пронзительное молчание, немного смущенно отведя глаза: «Если тебя будут спрашивать, там, в Челябинске, кто такой дядя Леша, скажи, что это теперь твой папа». Чей папа? Зачем? В одно мгновение хороший, веселый друг дядя Леша стал ей недругом. Почему он забрал у нее маму, о которой она так долго мечтала? И вот теперь она маме больше не нужна… Ее отправляют в Челябинск, как живую посылку, чтобы она не мешалась им под ногами…
К платформе с шипением и свистом подползал паровоз. Нужный им плацкартный вагон был где-то в середине состава. Мама засуетилась, схватила чемодан и потащила ее за руку к вагону. Пожилая проводница в черной форме взяла у мамы билет и не сразу поняла, что повезет только одну малолетнюю пассажирку. Они прошли в вагон, нашли место и убрали под лавку чемодан. У окна за столиком сидели две женщины и старик. «Присмотрите, пожалуйста, за девочкой в дороге. В Челябинске ее встретят», – попросила мама. «А билет-то у нее есть?» – усмехнулась одна из пассажирок, подозрительно взглянув на маму. «Есть, есть, я и проводницу предупредила».
В проходе забегал народ, услышав, что поезд скоро отправляется. Мама, торопливо чмокнув ее в щеку, направилась к выходу, велев ей подойти к окну, чтобы помахать друг другу на прощанье. Вдруг вагон дернулся, заскрипел, и платформа плавно поплыла вместе с мамой куда-то в сторону. Она, застыв, как во сне, смотрела мимо мамы, не в силах даже шевельнуть рукой. Та ей что-то кричала и сморкалась, но ее это уже не трогало. Лишь две слезинки разом скатились на нарядное платье и тут же истаяли.
Предчувствие ее не обмануло: горестные мысли оказались вещими. Кончилось лето, и осенью она пошла во второй класс челябинской семилетки.
Москва, март 2015 г.Миг счастья
Солнце смеялось в прозрачной луже, разлившейся на весь тротуар, из дворовых глубин доносился нежный запах сирени, напоминая о буйстве былых садов, некогда опоясывающих древнюю столицу, а в скверике рядом с бывшим мамонтовским особняком даже зачирикали пташки. Весна!!
В старом двухэтажном здании грязного песочного цвета трудно было заподозрить знаменитый в конце XIX века дом легендарной личности, богатея-мецената, бескорыстно служившего русскому искусству, – приют художников и музыкантов, писателей и актеров. Но однажды его арестовали по ложному обвинению, и опечатанный особняк пришел в запустение вместе со своей уникальной коллекцией произведений искусства, которая впоследствии рассеялась по музеям, но в основном по чужим рукам. Неузнаваемо перестроенный и опрощенный, он стал в 1930 году пристанищем высшего учебного заведения, и на его фасаде появилась выпуклая, будто конгревное тиснение, надпись: «Полиграфический институт». От былой красоты остался лишь необычный флигель с затейливым орнаментом – единственное архитектурное детище члена Московского художественного кружка, обитавшего в этом доме, Михаила Врубеля.
Конец мая 1968 года. Скрипучая «парадная» дверь этого самого института, прощально взвизгнув, выпустила на волю стайку отмучившихся страдальцев. Темноволосая девушка с рыжим портфельчиком с изумлением оглянулась на дверь – неужели она не увидит ее целых три месяца, до самого сентября? Не будет после работы сидеть здесь допоздна на лекциях, писать-сдавать нескончаемые контрольные, а по выходным пропадать в Историчке, вместо того чтобы предаваться радостям жизни?
В ее кудрявой головенке привычно запрыгали «стихоплетки»:
Натужный гул Садового Кольца Мне не испортит настроенья, Я сессию добила до конца — И в этом нет уже сомненья!Все, четвертый курс позади. Осталось «еще немного, еще чуть-чуть», но с каждым разом все труднее заставлять себя подходить к этой двери, когда тянет домой, к молодому мужу, когда на лестнице, ведущей на второй этаж, к «ее» аудитории, обосновавшейся в бывшем большом кабинете Саввы Ивановича, приходится чуть ли не руками переставлять упирающиеся ноги, вынуждая их двигаться вперед.
Девушка шла к станции метро «Лермонтовская», в народе именуемой, как и прежде, «Красными Воротами», и размышляла о том, как хорошо, что с этой стороны дороги тоже можно попасть на нее: через широченное Садовое, где всего два светофора на целый километр – один у Склифа, а второй как раз у метро, не очень-то перебежишь. Правда, ей не раз доводилось наблюдать попытки нетерпеливых, и многие из них заканчивались плачевно. Недавно на фонарном столбе у самого несчастливого перекрестка появился небольшой плакатик с воззванием: «На этом месте погибли двенадцать человек. Не спеши стать тринадцатым».
Она торопилась на свидание к мужу, с которым договорилась встретиться у метро «Аэропорт», чтобы наконец-то съездить туда, где строится их будущий дом. Раньше не получалось – в мыслях были одни экзамены и зачеты. Народу в вагоне метро оказалось немного, и можно было спокойно кокетничать с собой в темных окнах. Хорошо бы причесаться и подкрасить ресницы (на экзамены она ходила скорбной монахиней, чтобы не раздражать преподавательниц, коих было большинство), но здесь это делать неприлично.
Муж поджидал ее на улице у самой дороги, где выстроилась длинная вереница людей, на которых она не обратила особого внимания: «Ну стоят и стоят, мало ли зачем».
– Пойдем? Куда нам – в метро или на троллейбус? – улыбнулась она мужу, предвкушая приятное путешествие.
– На автобус, вот, уже очередь занял…
– А почему не на метро? Ты же говорил, что это где-то за «Соколом». Проедем одну остановку на метро, а там пешком прогуляемся, – предложила она.
– Нет. Нам на автобус. Вон там останавливается, – кивнул он куда-то вдаль, почти напротив МАДИ.
Простояв минут сорок, они с трудом влезли в третий автобус. Стиснутая со всех сторон, она повисла на руке мужа, не доставая ногами до пола. Раздраженные, потные, взъерошенные люди пыхтели и царапались авоськами, набитыми продуктами. Автобус, игнорируя остановки, давно миновал «Сокол» и МАИ, где работал муж, вот и мост через окружную железную дорогу проехал… Кажется, здесь еще недавно заканчивалась Москва… Куда мы едем?! Вдоль шоссе – высоченные сосны, а между ними мелькают редкие двухэтажные деревянные домишки. Впереди показался туннель, а над ним… дымящая труба пароходика. Это же канал! Она была здесь когда-то давно – в пятом классе в поход ходили!
Но за ним же начинается подмосковный городок Тушино с его знаменитым Чкаловским аэродромом! Хотя, кажется, в 60-е он уже стал Новой Москвой. Автобус повернул направо. Типичная подмосковная улица послевоенной застройки с рядами лип, как в Химках или каких-нибудь Люберцах. Наконец автобус остановился, выпустив всего лишь тройку потрепанных граждан. Свободнее в салоне от этого не стало. Она уже не смотрела с надеждой в окно: может, где-то здесь? Хотелось просто поскорее отсюда выбраться и глотнуть свежего воздуха. Кажется, закончилась и «Новая Москва»: слева заскрипел трамвай № 6, поворачивая на круг к конечной остановке. Дальше – длиннющий бетонный забор с колючей проволокой какого-то предприятия.
– Кажется, это знаменитый «500-й», – доверительно шепнул муж.
Но ей было все равно – хоть «1000-й». Вдруг справа из-за соснового леска вынырнули аккуратные финские домики с палисадниками.
– А это – коттеджи летчиков полярной авиации, – продолжал развлекать ее муж. – Здесь же их аэродром был раньше. Прямо отсюда знаменитые летчики отправлялись покорять…
– Коттеджи, аэродром… – перебила она раздраженно. – Зачем нам какая-то полярная авиация? Мы же хотели посмотреть, как строится наш дом… там… за «Соколом», как ты говорил? В Москве, а не где-то под Волоколамском!
– Потерпи немного, скоро приедем. Ну да, немного дальше, чем за «Соколом». Ну и что? Мне как раз удобно на работу будет ездить – всего-то на одном транспорте.
– А мне?! Отсюда в мой чертов НИИ на Электродную как раз к концу рабочего дня и приедешь! А из института поздно вечером как я буду сюда добираться?
– Да ерунда все это! Здесь «почтовых ящиков» с отделами информации – пруд пруди. Поменяешь свое графитовое шило на тушинское мыло, – попытался отшутиться муж, боясь взглянуть в глаза своей юной супруге, в которых застыл тихий ужас.
Вскоре их взорам предстал жуткий пейзаж, как после варварской бомбежки: огромное выпуклое поле с развороченным глиняным нутром. По краям его, будто гигантские ребра, – угадывались будущие длинные пятиэтажки, которые позже обзовут лежачими высотками. «Прямо какие-то бараки», – подумалось ей. Асфальт кончился, тормознув обессилевший старенький автобус около серой кирпичной пятиэтажки с надписью «Продукты» – как потом выяснилось, единственного на всю округу магазина. Конечная. Так и значилось на фанерке, прибитой к столбу: «Автобус № 160. Конечная».
Дальше вела пыльная разбитая бетонка: прямо пойдешь – через пару километров в лес попадешь, налево свернешь, к деревне Петрово выйдешь, а за ней – к видневшемуся на горизонте парку. Неужели это Братцево с бывшей усадьбой Строгановых-Юсуповых? Где-то там, под горой должна быть их домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы XVII века, насколько она помнила из курса «Истории русского искусства». Вокруг – деревни. А дальше – новая кольцевая автомобильная дорога. От новостройки до нее – чуть больше полутора километров.
Справа от деревни Петрово, повернувшейся к «новой жизни» задом – разномастными заборами своих огородов, еле теп лилась стройка: парами, на значительном удалении друг от друга, стояли будущие «дома-близнецы» из бетонных блоков – где-то два с половиной этажа, где-то три, где-то один, а где-то – лишь огромные котлованы. Казалось, будто коварная Баба-Яга оскалила свой вонючий рот: вот торчит кривой зуб, а рядом – гнилые обломки в зияющей черноте…
Им надо было свернуть налево. По дороге сновали пятитонки, разбрызгивая на ухабах жидкий бетон. Пыль стояла столбом. На зубах скрипело. В ее «шпильках» здесь делать было нечего. В сторонке от дороги прощались с жизнью чахлые былинки только недавно пробившейся травки. Заметив дыру на английской капроновой «паутинке», целых пять рублей за пару, она бросила на землю рыжий портфельчик, села на него и горько заплакала. Разве об этом она так долго мечтала, отказывая себе во всем? Муж угрюмо молчал, стоя в сторонке.
– Эй, парень! – услышала она. – Ты чо это девчонку обижаешь?
– Это не девчонка. Это моя жена…
– А, ну тогда другое дело, – усмехнулся ее непрошеный защитник в рабочей робе и заляпанных глиной резиновых сапогах. – Вы, ребята, наверное, на дом свой хотели взглянуть? Так пока смотреть не на что, приезжайте ближе к зиме, авось, до морозов успеем! Все равно по такой грязище не пройдете. А ты, красавица, не плачь: новая квартира у тебя будет – это ж какое счастье!
Осенью дом подвели под крышу и начали отделочные работы. Впереди волнительное мероприятие – жеребьевка квартир. Ее муж «вытянул» четвертый этаж, правда, без балкона на кухне. Да это не беда – вполне хватит и длинной лоджии. Жеребьевка не обошлась без «маленьких трагедий» – рыдали те, кому достался первый этаж, а около них увивались и ворковали те, кто был бы рад и такому варианту.
Постепенно она привыкла к мысли о том, что ее собственный долгожданный угол будет где-то «под Волоколамском». Все лучше, чем ютиться за занавеской на старенькой тахте в двухкомнатной квартире под придирчивым взглядом многочисленной родни мужа. Вторая поездка «на дом», хотя и была утомительной, но все же обошлась без рыданий. Молодой председатель их кооператива открыл ключом дверь подъезда и потащил будущих новоселов на крышу дома (пешком на двенадцатый этаж!) полюбоваться захватывающими видами Москвы, едва различимой в легкой дымке, и помечтать о том, как они разобьют здесь сад для совместного отдыха, посадят деревья вокруг дома и станут тут жить припеваючи одной большой дружной семьей. Потом они спустились на четвертый этаж и заглянули в «свою» маленькую квартирку – бетонную коробку с низким потолком, оклеенную незатейливыми дешевенькими обоями.
Под вечер 31 декабря, после работы, они отправились «принимать» свое новое жилье: в этот день должны были включить электричество и пустить воду, правда, только холодную. Кое-где в доме на самом деле горел свет: голые слабосильные «лампочки Ильича» рисовали причудливые тени в необжитых квартирах. Лифт в ожидании лучших для себя времен, когда новоселы, наконец, перетащат свои пожитки сами на себе, бездействовал.
Казалось, что пахнущие краской стены этого дома еще не ощутили дыхания жизни, но и здесь уже царила предновогодняя суета: по этажам деловито сновали счастливые новоселы с кастрюльками, тарелками-вилками, чашками-плошками, стаканами-рюмками, авоськами с нехитрой снедью и шампанским. По лестнице тащили свежесрубленную елку. Самые отчаянные готовились встречать здесь Новый год, несмотря на еле теплившиеся батареи и неработающие газовые плиты.
Они поднялись на четвертый этаж и открыли свою квартиру только что выданным комендантом ключом – точно таким же, каким открывались все остальные двери в доме. Прихваченная с собой лампочка оказалась нелишней: в квартире их не оказалось вовсе, впрочем, как и других положенных мелочей. Вспыхнул свет – и вот она, сбывшаяся, наконец-то, заветная мечта! «…Московских окон негасимый свет» – это теперь и про них… Пусть далеко, пусть бездорожье, пусть холодно и пусто – зато все свое, зато они будут здесь одни! И уже не придется обмирать от страха, боясь лишний раз побеспокоить чуткий сон домашних нечаянным скрипом старой тахты или шумом воды в ванной среди ночи, или поздним возвращением домой.
Какое это счастье – провожать Старый год, сидя на полу собственной кухни около старенькой электроплитки, как у костра, а вместо вина – горячий чай из термоса! Конечно, оно не может быть вечным – только миг… Но такой миг счастья память хранит всю жизнь.
Москва, ноябрь 2015 г.Женские портреты
Кия
Светлой памяти Евдокии Александровны Поповой – великой женщины и моей бабушки посвящаю
Вечернее солнце скользнуло по оголенному, осиротевшему полю и скрылось за частоколом угрюмых елей. Заискрились, засверкали в его лучах зеленые иголки. Вспыхнули – и погасли.
– Эге-гей! – донеслось с поля, – сестренка, уезжаем!
– Счас-счас! – откликнулся девичий голосок с ближней полянки.
Густые заросли лесной клубники не отпускали. Ну как оторваться от такого нечаянного богатства? Лесная клубника – бледно-зеленоватая крупная ягода с застенчивым румянцем – нечасто попадается в этих местах. Сладкая, сочная, душистая, она просто тает во рту. А какое из нее варенье получается! «Хоть бы еще немного набрать для малышни, вот радость-то им!» – вспомнила она о своих голопузых братишках.
Услышав скрип колес, девчонка метнулась к убранному полю, где ее поджидала молодая норовистая кобылка, запряженная в телегу. Уложенные на ней пшеничные снопы возвышались небольшой горкой. Остальное забрали братья, которые с раннего утра перевозили готовые снопы с поля на гумно, чтобы успеть до проливных дождей.
Н-но! Пошла! – скомандовала она кобылке, причмокивая губами, как это делал ее отец.
Над лесной дорогой сгустились сумерки. Подводы братьев уже едва виднелись. Надо торопиться. Девчонка хлестнула вожжами кобылку, и телега веселее затарахтела по дороге. Вдруг лошадь испуганно рванулась в сторону, раздался противный скрежет – и девчонка вместе со снопами оказалась на земле. Сверху на нее посыпались душистые ягоды вперемежку с трухой.
Плачь, не плачь, а выбираться как-то надо. Братья не скоро ее хватятся. Да и не помчатся они за ней на груженых-то подводах. Заднее колесо телеги прочно застряло в старом пне. Как ни настегивала она кобылку, той не удавалось высвободить телегу «из плена». Промучившись с колесом, девчонка бессильно опустилась на землю. Уже почти стемнело, и отовсюду ей мерещились желтые волчьи глаза. Конечно, в эту пору лесные разбойники сыты и на людей еще не бросаются, но кто их, окаянных, знает… Так не хочется помирать… в шестнадцать-то лет… Она вспомнила, как недавно отец подарил ей ко дню рождения первые в ее жизни сережки с красными переливчатыми камушками, и горько заплакала: «Даже покрасоваться перед подружками в них не успела. Кому-то они теперь достанутся?».
От этих горестных мыслей ее отвлек какой-то знакомый звук. «Кажется, кто-то едет на лошади, – догадалась она. – А вдруг какой лихой человек? Тут рядом сплошь башкирские деревни…». Послышался мерный лошадиный шаг. «Нет, лихие башкиры скачут обычно верхами, а тут – телега. Наверное, деревенский, пусть и башкир, только бы не оставаться одной среди леса…»
– Эй, кто тут? – раздался молодой ломкий басок. – Что случилось? Помочь-то надо, что ль?
Над девчонкой склонилось знакомое лицо. У нее радостно забилось сердце. Свой! Из их села, Колька-гармонист.
– Кияшка!? – узнал ее парнишка. – Ты чего тут сидишь?
Вообще-то она никакая не Кияшка, а Евдокия, Кия, как она сама себя назвала в детстве. А когда ее хотят позлить, то обзывают Дуськой. Да, вот что значит мужичок, хоть и не доросший еще: поднатужился, приподнял плечом край телеги и высвободил колесо.
– Давай снопы собирай, а я буду укладывать их на телегу, – распорядился он.
Принимая у нее последний сноп, он нечаянно коснулся ее руки – и как будто током ударило. Он смотрел на знакомую с детства девчонку с длинной косой и не узнавал ее: белое, будто светящееся в сумерках, лицо в кружеве черных завитков, стрельчатые черные брови, зеленовато-карие с поволокой глаза в пушистых ресницах, румяные щечки с лукавыми ямочками и алые, влажные губы, к которым так и притягивала неведомая сила. Колька словно одеревенел, с ним что-то происходило, но что именно, он не мог понять. Наконец парень просипел:
– Последний, вроде. Ехать надо…
Они вместе уложили сноп, привязали его лошадь к телеге со снопами и уселись рядышком. Забирая у нее вожжи, он почувствовал что-то упруго-округлое, трепещущее и тотчас отдернул руку, как от раскаленной сковороды. Его будто всего кипятком обдало. Хорошо, ей не видно в темноте, какой он стал красный, как вареный рак. Они неспешно ехали по лесной дороге, касаясь плечами друг друга, и тихо надеялись, что это волшебство под колдовским звездным небом не скоро кончится.
Впереди посветлело. Вот и село.
– Тпру! – натянул парнишка вожжи. – Дальше ты поедешь одна. Дом-то твой уже виднеется, вон и ворота распахнуты. А я сторонкой к себе… – вздохнул он.
Она удивленно взглянула на него, все еще не веря, что волшебная сказка так внезапно закончилась.
– Да твои братья… – глухо ответил он на ее немой вопрос. – Известно, какие они кулачные бойцы…
– Эх, ты! – радостно засмеялась девчонка, добивая его своими лукавыми ямочками, и повернула лошадь к дому.
Колька, проклиная себя за трусость, поехал дальше.
Они долго не виделись. Уже и лесистые холмы вокруг села покрылись багрянцем. Люди копали картошку, убирали огороды, солили бочками капусту и прочий овощ. Готовились к суровой и долгой уральской зиме. Вечерами Колька, сделав уроки и убрав в стайке у коровы, чтобы мать не ворчала, потихоньку выскальзывал со двора и брел к ее дому – самому красивому в их селе.
Двухэтажный шестистенок с резными затейливыми наличниками и петушком-флюгером на коньке крыши гордо возвышался на высоком берегу реки, делившей село на две половины. Массивные тесовые ворота скрывали широкое подворье с амбарами, конюшней, коровником, свинарником, курятником и прочими хозяйственными постройками. К дому примыкали просторные сени: сверху – сеновал, внизу сельскохозяйственный инвентарь, клети для бочек с соленьями и продуктовых запасов. За домом – большая баня, огромный огород с колодцем и крытое гумно. У ворот гремит цепью зубастая овчарка.
Крепкое хозяйство у Шадриных. Да и семья-то немаленькая: одних детей десять человек – семеро парней да три девки. Старшие ребята – статные, чернобровые, сильные и работящие – в отца. Девки красивые, а все же средняя, Кия, лучше всех. На нее уже и взрослые парни поглядывали на гуляньях.
Колька надеялся хоть мельком увидеть ее – в окошке ли, в огороде ли, на речке ли, где она любила рыбачить, или встретить, вроде случайно, у ворот. Но это ему никак не удавалось, сколько он ни заглядывал во все щели. Раньше она хоть в школу ходила, но после третьего класса ей пришлось нянчиться с младшими и помогать матери управляться по дому.
– Ты чего здесь околачиваешься? – загремело над ним. – Ишь, женишок выискался! Мал еще да соплив девок-то доглядывать! Проваливай скорее, а то по шее получишь. Или вот отцу твоему скажу… Уж он-то тебе всыплет!
Увидев старшего брата Кии, Колька вмиг очутился на другой стороне улицы.
Скоро праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Обычно в праздники сельские парнишки и девчонки собирались на посиделки у Варвары, подружки Кии. Девки приходили с рукодельем, приносили с собой угощенье к чаю – баранки, пряники, сахарные «подушечки» с вареньем, мед. Позже подтягивались ребята с гармошкой или балалайкой, толпились в дверях, подпирая притолоку. Лузгали семечки и задирали друг дружку, как молодые бычки. Кольку, пятнадцатилетнего малолетку, принимали в компанию только за гармошку: лучше него в селе никто не играл, даже взрослые. Да и пел он голосисто, сочиняя песни прямо на ходу. А уж какие частушки выдумывал – все со смеху покатывались. Девки очень даже привечали кудрявого веселого Кольку.
На праздник к Колькиным родителям приехала родня из-под Питера, навезла всяких гостинцев. Семейное застолье только разгоралось. Гости рассказывали про то, как в столице свергали царя, совершались революции и начиналась Гражданская война, про то, что нет теперь никакого порядка, заводы стоят и продуктов совсем мало, а на базаре все дорого. Колька не стал дожидаться, пока взрослые наговорятся «про политику» и затянут песни, заставляя его подыгрывать и подпевать им. «Ничего, отец достанет свой баян, который привез с войны из самой Германии».
Рассовав по карманам стащенное со стола угощение и прихватив гармошку, он отправился на посиделки к Варваре, зная, что там будет и Кия. Варвара жила с матерью и двумя младшими братишками в ладном, просторном доме. Отец поставил его перед самой войной, в 1913-м, но пожить в нем не успел – погиб в Германии. Вдове помогали всем миром. Варварина мать, еще молодая и крепкая, не пала духом и руки не опустила. Вместе со своей бойкой шестнадцатилетней дочерью она поддерживала в исправности свое хозяйство, чтобы не доводить семью до нищеты и убожества. Молодежь она привечала: «Пусть лучше будут на глазах, чем где-то по углам. Опять же и самой веселей и не так давит вдовство». А братишки Варварины еще больше радовались ребятам: сколько гостинцев-то им доставалось!
Колька постучал в окошко. Варвара в нарядном полушалке открыла дверь, впуская гостя.
– Ой, проходи скорее, уже почти все собрались. Сейчас в «фанты» будем играть…
Девки чинно сидели в горнице на лавке, а ребята сгрудились напротив, время от времени постреливая глазами на своих «любушек». Парни встретили Кольку вполне миролюбиво: какой он им соперник, мал еще. Зато на гармошке здорово играет. В горницу вошла Кия, неся самовар. Она тут, видно, частая гостья и знает, что где. Вместо того чтобы поздороваться, Колька опустил голову и отвернулся, скрывая волнение: «Ох, засмеют ведь, как увидят, что я краснею…».
Как они потом оказались вдвоем на Варварином сеновале, Колька и сам не мог понять. Он видел, как Кия вышла зачем-то во двор, и тут же шмыгнул за ней следом… Они лежали на пахучем сене не дыша. Ее коса щекотала ему щеку. Кольку всего трясло от близости девушки, но что нужно делать в этих случаях, он еще не знал. Кия опомнилась первой.
– Ой, нас ведь сейчас хватятся! – бросилась она вниз.
Проводить ее он не посмел. Грустно кивнув Кольке на прощанье, она ушла с соседским парнем Митькой Крыловым, который вечно возле нее крутился. Колька по-прежнему вечерами бродил у ее дома. Однажды Кия вышла за ворота и направилась к соседке.
– Подожди… – выдохнул Колька.
– Что, уже не боишься братьев-то? – озорно рассмеялась она. – А вдруг выйдут да уши тебе надерут?
– Пусть дерут… Только ты… это… не уходи…
Они спустились к замерзшей реке и пошли берегом в сторону мельницы. У Кии заиндевели колечки волос, выбившиеся из-под платка, и ресницы. Колька тоже напоминал старика в седой лохматой шапке и с седыми бровями. Они молчали, не чувствуя ни мороза, ни времени, ни пространства, боясь разрушить в себе что-то хрупкое и радостное.
– Мне домой надо, а то заругают, – вздохнула Кия.
Колька медленно брел по берегу, блаженно улыбаясь неизвестно чему. Эх, запеть бы сейчас во всю глотку, чтобы снег осыпался с елей и звезды с неба попадали! Как это раньше он не замечал, какие они яркие и манящие? И село их посреди вековых лесов, вольготно раскинувшееся по обоим берегам реки, и озеро, и мельницы – все это он увидел, будто впервые, так ярко и так пронзительно, что защипало глаза.
Питерские гости приезжали не зря: уговорили они все-таки Колькиного отца отдать парня на следующий год в техническое училище. Конечно, он и сам хотел бы учиться, но боязно как-то из дома уезжать… из родного села. А как же Кия? Ну да ладно, время до осени еще есть. В сентябре Кольку, которому с мая пошел семнадцатый год, провожали в Златоуст. В Питер отправить побоялись – там было неспокойно. Да и на Урале тоже громыхало.
В сумерках Колька побежал прощаться с Кией. Она уже давно выглядывала его в окошко, зная об отъезде. Они пробирались к реке через кустарник, подальше от любопытных глаз, выбирая местечко, где можно присесть, и боясь, что их кто-нибудь заметит. Их несмышленые руки от нечаянных прикосновений леденели, а сердца норовили выскочить из груди. И – как вспышка молнии – первый робкий поцелуй.
– Ты не забудешь меня?
– Ты что! Я вернусь скоро, только выучусь, и зашлю к тебе сватов… Наши отцы-то смолоду дружат, разрешат нам пожениться… И мы будем всегда, всю жизнь вместе… А ты пока приданое готовь и на других парней не заглядывайся, особенно на Митьку, – улыбнулся он сквозь слезы.
Вернулся Колька только через два года. Время было тяжелое: Гражданская война – то белые наступают, забирая с собой весь молодняк, то красные гонят их обратно… Голод, холод, тяжелая работа на заводе после училища… В их разоренном революциями и войной селе тоже бурлило, хоть и не так, как в городе. Соседи воевали против своих соседей, а иногда и брат против брата… Рушились старые связи. Насмерть рассорились и бывшие закадычные друзья – Александр и Яков, отцы Кии и Кольки. Какие уж тут сваты!
Кие с августа пошел уже двадцатый годок. «Как бы в девках красавица-то наша не засиделась! – забеспокоились родители. – Парней-то вон сколько война разметала». А тут как раз и жених объявился – парень из их села, живший на другом берегу реки. Отец долго не раздумывал, хоть парень почти на год был моложе невесты, а Кию особо и не спрашивали. Она мало знала Василия и никогда о нем не думала, но против родительской воли не посмела пойти. «Стерпится – слюбится», как говорили старики. Поплакала-поплакала, да и согласилась. Кольки-то ей все равно не видать – не разрешит отец.
Колька уже неделю, как приехал на побывку, а все никак не мог встретиться с Кией. Старшая сестра Сина его отговаривала: «Подожди да подожди. Еще родня на тебя не нагляделась…». А чего ждать-то? Наконец сестра проговорилась: «Не ходи, у нее свадьба завтра». Колька рванулся к двери. Во дворе его встретил отец: «Не будь дураком, не лезь, прибьют. Все равно не быть вам вместе. Ничего, молодой еще, другую найдешь».
– Кто? – глухо спросил Колька.
– Да Васька, Ивана Попова средний сын.
– Васька?! Вот это дружок так дружок! Увел девку-то, пока меня не было!
На следующий день он не стерпел, пошел-таки посмотреть, как его школьный друг повезет к венцу несостоявшуюся Колькину невесту. Ворота у Шадриных распахнуты настежь, во дворе запряженная тройка, украшенная лентами, тут же толпится родня, а на улице собрались соседи. Лишь на какое-то мгновение показалась Кия и, махнув подолом алого свадебного сарафана, спряталась в повозке.
Ошеломленный Колька, без шапки, в распахнутой душегрейке, стоял, не в силах двинуться с места, будто получил обухом по голове. В глазах его стыли слезы. Ему не было так больно даже тогда, под Златоустом, когда его в лесу поймали белогвардейцы и исполосовали до полусмерти нагайками, приняв за красного лазутчика. Хмурое ноябрьское небо и промозглый ветер рвали душу так, что хотелось волком выть. Кольке вспомнились обрывки песни – своей или чужой – все равно:
Но нагрянула непогодь снова, Низко гнулась под ветром ветла. Вышла замуж она за другого И по жизни с ним дальше пошла. Под веселое гиканье дружек Скрылся свадебный поезд во мгле, Только эхо кружило, кружило По глухим переулкам в селе.* * *
Весной 1976 года Николай Яковлевич, взяв отпуск на своем предприятии, где работал после выхода на пенсию «ночным директором», отправился на родину в Новый Белокатай. Давно собирался. Погостил у родни, проведал старых знакомых, побродил по селу, которое больше чем за полвека превратилось в большой райцентр, потеснив частную застройку, надышался воздухом детства и юности. Пора бы и домой, в Первоуральск. Да еще хорошо бы тетку престарелую навестить по дороге. Он шел по улице, где когда-то жил, и пытался представить ее прежней.
– Здравствуйте, – прошелестело рядом.
– Варвара?! Ты… Вы?!
– Я, Коль, я, – не признал?
– Да нет, вот сейчас вижу, что это ты, – взволнованно произнес он, с трудом отыскивая в морщинистом лице седовласой женщины знакомые черты бойкой соседской девчонки. – Вот время-то что с нами делает! Как ты живешь-можешь?
– Да помаленьку… Как все… Правнука уже скоро жду от старшенькой внучки. Муж помер давно, дети разъехались кто куда, только младший здесь же, в Новом Белокатае. Да что это я? Пойдем-ка ко мне, хоть чаем угощу самолучшего гармониста! – рассмеялась она и вновь стала прежней Варварой…
Вспомнили детство, юность, тревожную молодость и невыносимо тяжелую военную годину. Кто из знакомых и родных репрессирован, кто погиб, а кто и сгинул неизвестно где и как. Нет ни одной семьи, которую бы беда обошла стороной. И после войны ломили, как лошади, в колхозе, да на шахтах и заводах. А теперь что ж? Пенсия, какая-никакая, огород опять же, а у кого и скотина есть… Жить можно. Было бы все у детей ладно, а нам-то уже немного надо.
– Ты дружка-то своего помнишь? Васю-то Попова? Приезжал лет пять-шесть назад брата старшего проведать. А как уехал, так вскоре Михаил-то Иванович помер. Да… А Вася с семьей в Челябинске, дом свой, хозяйство. Детей шестеро, внуки уж взрослые. Я изредка переписывалась с ними, но давно уж от них ничего нет.
– Ты адрес-то мне дашь? Тоже напишу хоть на праздник на какой, – смущенно попросил Николай Яковлевич. – Я их уж лет тридцать не видал. Как уехали из Нового Белокатая насовсем, так и след простыл.
– Конечно, дам, – лукаво улыбнулась Варвара. – Пиши, пиши, она-то, поди, рада будет…
«Ну что тут раздумывать, – уговаривал себя Николай Яковлевич, – когда еще доведется повидаться-то. Годы-то наши немалые. Заеду к ним, пожалуй, на денек и двинусь дальше к тетке».
Челябинск после войны сильно разросся. Пригородный поселок Першино, где жили Поповы, оказался зажатым между старым городом и соцгородом, построенным в сороковые годы для рабочих металлургического завода. Вот и нужная ему улица с одноэтажными типовыми «финскими» домиками вперемежку с разномастными постройками со странным для холодного Урала названием: Кавказская. Каменный белый дом с палисадником на две половины. Глухие ворота с врезанной в них калиткой, закрытой на щеколду. Николай Яковлевич нерешительно постучался. В ответ – ни звука. Внезапно калитка открылась.
– Кого вам? – сурово спросила пожилая грузная женщина в платке и галошах.
– Я вот тут по адресу… – засуетился Николай Яковлевич, – Поповых ищу… Василья Ивановича… Земляков из Нового Белокатая…
– Мы… Поповы… – выдохнула женщина, – а ты… не признаю что-то…
– Николай я, Колька-гармонист, помните меня… Кия?
– Ох, – всплеснула руками женщина, застеснявшись своего вида, – вот, в стайке убиралась… Ты в дом-то проходи, я сейчас…
Николай Яковлевич прошел через сени, разделявшие застекленную веранду, в дом. Справа кухня с печкой, слева прихожая, прямо – проходная комнатка с маленькой боковушкой без окон, дальше «зал» со смежной бывшей «девичьей».
– Где ж дружок-то мой Вася? Как он – жив, здоров?
– Дак нету Васи-то… Помер он полтора года назад, осенью. Тепло еще было… Болел долго, последний-то год все больше лежал. Лет шестнадцать назад простудился сильно: пошел поросенка забить после работы, а хозяин вместо денег иль мяса-сала самогонкой заплатил, да они ее тут же с ним и выхлестали. Василий-то голодный был целый день… До дома-то кое-как добрел, да под воротами и упал… Снегом быстро замело… Не видно его… Под утро уж я его нашла… Крупозное воспаление легких… Чуть не помер тогда. Выходили все ж. Курить махорку запретили врачи. Он уж и не курил больше, а все ж астма-то привязалась. Кашлял так, что все нутро выворачивало, и задыхался. Здоровье-то еще в войну, в трудлагере, подорвал. Да всю жизнь робил так тяжело… Врачи-то еще за год до его смерти сказали, что ему недели жить осталось. Съехались дети и внуки, а Вася-то посмеивается: «Что, хоронить меня приехали? А я вот раздумал помирать! Еще маленько поживу!». Дети-то так радовались, что повидаться довелось. А хоронили уж через год.
– Вот не знал-то… – растерялся гость.
– Что ж теперь, все там будем, когда-никогда. Ты садись, я счас на стол соберу… Ребята мои все по своим хатам, которые здесь, в Челябинске, которые разъехались… Одна теперь осталась. Вот квартирантку пустила, чтобы не так боязно было одной-то в доме. Она скоро придет с работы, хорошая женщина. А, может, кто и из наших заглянет. Старший сын в соцгороде живет, здесь у меня поросят держит, так вот приходит их проведать, да мне распоряженья дать, – пошутила хозяйка, накрывая на стол в «зале». – Старшая дочь директором в училище механизации в соцгороде, средняя в Москве, другая на Севере, а младшая тут, в старом городе, живет. Сын младший тоже в городе. Да я уже прабабушка: старшие внуки выросли и своими детьми обзавелись. Тоже далеко живут. А младшие-то прибегают…
– Мама! Что у тебя сенки-то раскрыты?
– Ну вот, легки на помине, – улыбнулась женщина и тотчас обернулась той прежней Кией с лукавыми ямочками на щеках. – Младшая с мужем приехала проведать.
– Да у тебя гости? Здравствуйте, я – Людмила, а это мой муж Виктор. Мама, мы ненадолго, привезли вот тебе кое-что.
– Ладно, садитесь за стол, земляка потчевать будем, вот и вино осталось с праздника.
Понемногу разговорились, вспоминая Новый Белокатай, родню и общих знакомых. Николай Яковлевич рассказывал, как изменилось их село, узнать трудно. Люди тоже стали какие-то другие – не отличишь от городских, не то что раньше: ходили в том, что было, не обращая на это никакого внимания. Дети были – кровь с молоком, а нынешние все больше бледно-зеленые…
Дочка заторопилась домой – дети одни, завтра рабочий день, пора ехать. Николай Яковлевич всполошился:
– Ой, загостился я у вас, мне ведь на поезд бы поспеть…
– Да куда вы поедете на ночь глядя? Переночуете, а завтра утром отправитесь, – хором уговаривали хозяева.
Николай Яковлевич решился: «А, была не была, мы ведь с Кией-то и не поговорили толком». Вскоре пришла квартирантка, посидела с ними за чаем немного и отправилась к себе. Пора было укладываться на ночь. Кия постелила ему в проходной комнатке, а сама ушла в боковушку. Николай Яковлевич долго ворочался и никак не мог уснуть.
– Кия, – позвал он тихонько, – ты не спишь?
– Нет, – прошептала хозяйка, нету сна ни в одном глазу.
– А помнишь, как мы тогда на Варварином сеновале? Лежали с тобой рядышком и боялись дышать. Глупой я был, мальчишка совсем, не смел даже дотронуться до тебя… А ты домой с Митькой ушла… А потом на Масленице на горке, ты уж за Васей была, помнишь, на санках на меня налетела и кубарем в снег… Тогда-то я не растерялся… Теперь вот опять лежим… в разных комнатах… через пятьдесят шесть-то лет… А я ведь уже тогда сильно любил тебя, Кия, хоть и малой еще был. И всю жизнь тебя помнил… Долго я куролесил после твоей свадьбы – сегодня одна, завтра другая… Потом женился назло всем… А вскоре уехал из села, чтобы сердце себе не рвать. Махал кайлом в Первоуральске. Дети пошли. Свыкся. Хорошо хоть жена покладистая попалась, а все одно меня к тебе ревновала до самой старости. Что ж ты меня не дождалась, Кия? Уломали бы как-нибудь родителей, а нет, так и уехали бы без их благословения куда-нито на стройку. Все бы вместе были…
– Отец сказал: «Замуж» – и все, никаких разговоров. Ты уехал, вернешься, нет ли, кто знает… Может, другая уже на уме… Как отца-то родного ослушаться? Семьища большая, время страшное, того и гляди всех вышлют… Вася-то хоть из нашего села, не чужак какой…
– Как жили-то вы с ним? Ладно ли? Не обижал он тебя? Ведь шибко задиристый был парнишка.
– Всяко жили, время-то какое было! Страсть такая. Пока молодые да бедные были – хорошо, дружно жили. Дети посыпались, как горох: только одного с рук на пол спустишь, а уж тут другой стучится, – тихонько засмеялась она. – Дети-то нас крепко держали. Девятерых родила, почти как мамка, да выжили только шестеро.
– Да, ребята у тебя видные, красивые, все в люди вышли. Такие только от любви получаются.
– Наверное, – застеснялась она. – Дома-то своего долго у нас не было. Сначала у него жили. Потом у дальней родни на заимке скрывались, когда Вася с комбедчиком подрался. Ты, наверное, это помнишь. Хорошо, Митька ночью прибежал сказать, что за Васей утром придут. Запрягли корову, покидали барахлишко и поехали. У меня уже дочка была и второй ходила… Когда затихло все, вернулись. В Ункурде жили сколько-то, в Верхнем Уфалее, в Златоусте, да где только не были… Вася лесником работал, а как забрали его в трудлагерь в войну, так я пошла на его место. Трудно было, конечно. В лесу лихоимцев полно стало, а у меня защитников – только старая берданка да два волкодава. Сколь мужиков-то война забрала, в колхозе одни бабы да ребятишки ворочали. Тогда эвакуированных из Ленинграда ко всем подселяли. Свои ребята не доедали, а что поделаешь, ведь кусок-то в горло не полезет, когда рядом с тобой голодный человек, хоть и чужой.
– Мне тоже досталось. Работал на шахте, там все на соплях держалось, авария за аварией. Чуть что – орут: «Вредительство!». Сколь людей-то сгубили понапрасну. На смену идешь, а вернешься ли домой, не знаешь… Домишко был засыпной, холодный, с земляным полом, потом уж, после войны, построились. На фронт не взяли. Я уже тогда на заводе танки делал. В цеху всю войну и спали. Жена почтальонкой работала… дети маленькие… хлеба, молока не достанешь, огород только и спасал. Думали, после полегчает, так голод разразился в сорок шестом… Ничего, выдюжили… Меня как в петлю-то бывало потянет от этой жизни, так я баян отцовский (сохранил!) достану, уйду куда подале да и пою, что сам сочиню, а то и пореву в голос под музыку… Которые вот пили до беспамятства, а меня баян спасал… и ты… во сне.
– В Челябинск приехали всем семейством, уж и первая внучка народилась. Жили по квартирам сначала, у родных и знакомых… Вася металлургический комбинат строил. Там и сосланные со всей страны были, и заключенные, и разный деревенский люд – всем одинаково доставалось… Потом сами построились, полегче стало… Вася на бойню пошел работать. Тут недалеко, у Цинкового… Я ходила туда кишки мыть – их вываривала, это и ели. Когда и кости дадут… О мясе нельзя было и подумать: за разделкой туши следили НКВДшники в кожаных регланах. Тут же стояли, расставив ноги, прям как фрицы какие… Дети вырастали и разлетались в разные стороны… Об них душа-то болела сильно…
– Ты, Кия, когда хоть вспоминала обо мне?
– Дак детство-то и юность вспоминала, как не вспоминать… И тебя, конечно. Самолучшее время у меня… А как с Васей-то начались нелады, так все чаще. Стали его люди звать скотину забить, мастер-то он хороший был. Да и напаивали потом, голодного. Так и приучился. Раньше у него такого и в заводе не было. А тут началось. Деньги появились… и жизнь наша дружная на этом и кончилась. Уж сильно за сорок нам было, начал к соседке Тинке ночами-то через забор наведываться… Матькаться стал на меня, замахиваться… Да сын младший не давал ему развоеваться… А как астма-то его скрутила, так совсем у него характер тяжелый сделался… На пенсию пошел, начались нехватки, стал меня попрекать, что, мол, не заработала пенсию-то себе… А документы те сгорели, хлопотать надо было, ездить везде, где работала… Ну куда я от дома? Хозяйство, скотина, дети младшие, внуки… Так и осталась без пенсии, зато медаль «Мать-героиня» вон в буфете валяется… Пока корову держали, молоко продавала. А как Хрущев-то приказал частникам сдать всю скотину на мясо государству да налоги сильно поднял на сады, так и началась здесь у нас голодуха. Мяса в магазинах сколь лет не было, сады вырубили…
– Что ж дети-то, не помогают?
– Дак им самим нелегко. Помогают, конечно, помаленьку… кто чем может. Внучка вот старшая бандероли к праздникам присылает из Москвы, а кто и деньги иногда. Дочери, которые здесь, продукты носят.
– Нам тоже не больно-то шлют. Но мы не обижаемся. Было бы им хорошо, правда?
Уже светало, а они так и не сомкнули глаз. Все говорили-говорили, а главного так и не посмели сказать: жизнь прошла, и прожили они ее вдали друг от друга. Ну почему так, почему упустили свое счастье? Нет ответа.
Утром Николай Яковлевич, попив чаю, стал прощаться. Надо ехать. У калитки они неловко обнялись. Слезы общим ручейком стекали по морщинистым лицам. Два старика тихо оплакивали свое несостоявшееся счастье.
– Я тебе напишу, можно? Прощай, моя Кия, дай Бог нам еще встретиться когда-нибудь здесь… или там. Дай-ка я тебя поцелую напоследок!
Она вышла проводить его за ворота и долго махала ему вслед. А вскоре от него пришло письмо. Потом еще и еще…
* * *
Самолет прилетел в полночь. Поздняя осень 1986 года здесь, в Челябинске, казалась уже настоящей зимой. Сорокалетняя сотрудница министерства, прибывшая в командировку, поблагодарила встречающих и, отказавшись от гостиницы, направилась к автобусу. Зачем ей гостиница? Это ее родной город, хоть и появилась на свет она не тут, да и большую часть жизни прожила в Москве. Все равно родной, пока здесь живет ее бабушка, и еще не все родственники разъехались, считавшие ее «своей». От автобусной остановки до бабушкиного дома не очень далеко, но в кромешной темноте, с чемоданом и в сапогах на высоких каблуках, привыкших к московскому асфальту, нелегко.
Вот и дом. В окнах темно, ворота и калитка закрыты. Постучавшись, она прислушалась: ни звука в ответ. «Неужели придется лезть через палисадник и ломиться в окно? Наверное, бабушка не слышит». Наконец удалось справиться с калиткой, вспомнив ее хитрые секреты. Дверь в дом закрыта изнутри. На стук никто не отзывается. «Вот дела! Вдруг она уехала к кому-то? – ужаснулась гостья. – Куда я среди ночи, да еще почти что зимой?» Вдруг дверь бесшумно распахнулась, будто сама собой. На пороге стояла бабушка и хмуро смотрела на свою старшую внучку.
– Ты не хочешь меня впускать? Не рада, что я приехала? – опешила та.
– Дак уж ждала-ждала, и все жданки кончились. Думала, ты у девок в городу осталась… Там удобства… А у меня-то что… Побрезгуешь еще… Вон какая модная-то стала…
– Бабушка! Я с таким трудом эту командировку у начальника из горла выдрала, чтобы с тобой повидаться, гостинцы тебе везла, а ты меня и на порог пускать не хочешь! – рассмеялась внучка. – Самолет опоздал на три часа, вот и приехала ночью. Ну что, простила?
Они так и стояли в сенях, обнимаясь и плача.
– Ой, да что это я, дура старая, – засмущалась бабушка. – Давай в дом заходи, холодно ведь! Сейчас вот чайник поставлю, чайку попьем с вареньем. Малина хорошая уродилась в этом году.
– Да мы с тобой чего-нибудь и покрепче тяпнем. Я привезла коньяк, твой любимый, армянский. Вот тебе еще конфеты в коробке, консервы всякие и индийский чай со слоном. На работе в заказе давали.
Они сидели на кухне, пили чай с коньяком и говорили обо всем и сразу… Бабушка заметно постарела – уже восемьдесят три – и рассталась с последними зубами. Когда-то ей сделали новые, блестящие, как у соседки, но они не оправдали ее надежд и лежали теперь без дела в дальнем углу буфета.
– Спать-то где тебе стелить? Я на зиму перебираюсь в дедову каморку, там теплее.
Дедова каморка, где он когда-то спал, – боковушка без окон у печки – была любимым местом внучки в детстве. Там, укрывшись от всех, можно было поплакать, помечтать или покопаться в заветном бабушкином кованом сундуке, где благоухали неистребимым нафталином все ее богатства: венчальный наряд – алый сарафан и бледно-розовая рубаха, крепдешиновый новый платок, из которого внучка мечтала как-нибудь скроить воздушную блузку, бостоновая юбка, пара-тройка платьев «на выход», шерстяная кофта, новая пуховая «оренбургская» шаль, в которую можно было закутаться с головой, и отрезы всяких тканей. А на дне лежало самое интересное – незатейливые бусы, серебряные сережки с красными камешками и всякая мелкая всячина, в том числе потертая коробочка с медалью «Мать-героиня» и женские часы «Звезда» – предел мечтаний для девчонки.
– Я с тобой, веселее будет. Хоть поговорим еще немного, а то мне завтра на работу… Как еще там все пойдет…
Она забралась на приготовленную бабушкой постель у теплой еще печки и достала из пакета новую индийскую ночнушку из тонкой фланельки.
– Какая у тебя рубаха-то красивая, да мягонькая такая, – проявила бабушка чисто женский интерес.
– Вот мы на тебя ее сейчас и примерим, а где тесновато будет – распустим, – решительно объявила внучка.
Долго упрашивать старушку не пришлось. Она торопливо разделась, путаясь в своих одежках, и потянулась за рубашкой.
– Бабушка! – ахнула внучка. – Как ты умудрилась сохранить такое добро?
В полумраке комнаты мерцала белым мрамором самая настоящая статуя девятнадцатого века… если убрать изрезанное глубокими морщинами темное лицо, седой кренделек из жиденьких косок, искореженные тяжелой работой кисти рук крестьянки и растоптанные, в подагрических шишках ступни. Белоснежные покатые плечи, как на картинах старых мастеров, высокая полная грудь, вскормившая столько детей и не павшая духом, высокие крутые бедра с длинными стройными ногами и вполне еще бодрый «тыл».
– Вот это да! – озадаченно протянула внучка, невольно переводя взгляд на свои слегка поникшие «прелести». – Что же это мне-то от тебя ничего не досталось, кроме ранней седины? Ты, наверное, где-то не там родилась. Тебе бы в декольтированных платьях и брильянтовых ожерельях на балах блистать, а не в зипуне за скотиной ходить!
– Да будет тебе насмешничать-то. Какая я барыня? Крестьянка самая настоящая и есть.
– Бабушка, расскажи про свою юность. Ты ведь красивая была, многим парням голову кружила? Наверное, они и дрались из-за тебя?
– Да многие заглядывались, вот дед-то ваш и дрался, никого не подпускал. Мы ведь в строгости росли, за кого родители скажут идти замуж, за того и пойдешь…
– А ты до него любила кого?
– Нравился мне парнишка один, да родители наши разругались и нарушили дружбу-то нашу. Уехал он учиться, а меня замуж выдали. Не посмела я против воли родительской пойти. Не дождалась его… Нашел он меня десять лет назад и стал потом письма писать, да все больше стихами. Ночами дежурит в директорском кабинете на своем заводе, делать нечего, вот и пишет, – усмехнулась она.
– Нет, бабушка, от нечего делать письма в стихах столько лет не пишут, да еще в таком почтенном возрасте, – возразила внучка.
– Хочешь, покажу?
– Конечно!
Она принесла коробку из-под конфет, в которой лежали завернутые в обрывок старой косынки письма и открытки – пятьдесят пять писем и семнадцать открыток. Конверты сильно потертые, на них бабушкиным корявым почерком написано, когда получены.
– Можно прочитать? – взяла внучка первый попавшийся затрепанный конверт.
– Читай, что уж тут. Смеяться-то не станешь?
Новогоднее размышление – Кие посвящаю
… Когда-то мы с тобой встречались, Была ты, Киенька, моя, Но судьба не разрешила По одной тропе идти. Почему же так случилось? Трудно все это понять. Я любил тебя тогда уж, Глупый я, не мог сказать… Ты меня не дождалася, Не дала весточку ты мне… Времена были другие, Вспомни, Киенька моя. Старшие скажут: “Время замуж Отдать, доченька, тебя”. Ты не смела им перечить, Что идешь ты, не любя. Была скромной, не сказала, Что ты любишь-то меня. Запоздалое признанье В нашей искренней любви, Спасибо, что вспоминаешь Любовь первую в жизни ты. Жаль, что так у нас случилось, Розно жить пришлося нам… Быстро, Киенька, стареем, Как на санках под уклон. Когда скатились – целовались На катушке за прудом. Ты была уже за Васей, Я еще был холостой На Семенковой катушке Долго ждал тебя душой. И мы встретились нежданно, Ты красивою была Розовели твои щечки, Как от выпитого вина. Было, было это, Кия! Но прошли десятки лет. Вроде сон нам с тобой снился Про картину этих лет.Стихи в письмах были и свои самодельные, и чужие, и вперемешку. И во всех – такие яркие, пронзительные воспоминания о первой любви – красавице Кие.
Воспоминание
Я все тот, каким ты знала Десятки лет тому назад, Когда мы были молодыми И очень робкими в тот раз. Когда впервые повстречались, Угадай, где мы с тобой В глаза друг другу посмотрели И что-то вдруг ожгло волной… Тогда тобою любовался, В душе гордился, что моя Такая девушка красива — И полюбила вдруг меня. Хотя не часто мы встречались, Но встреча жаркая была, И мы любовью загорались… Прошла та юная пора…Чернобровка
Я вспомнил юную девчонку Шестьдесят годов назад. Чернобровку звали Кия, В другом конце жила от нас. Я в то время был мальчонком Лет шестнадцать с небольшим, Но любовь уж зарождалась В раннем возрасте моем. Она была меня постарше Вроде годиком одним. Была стройною, красивой Не чета каким другим. Я ее еще не сватал Был молоденьким тогда. О женитьбе не мечтал я, Но любовь пришла сама. Бередила наши души, Трепетало сердце в нас. Ах, куда все это делось? Неужели был тот час? Вспомни, Кия, дорогая, Ведь была у нас любовь, А целоваться мы стеснялись, И не настигла с тобой ночь…А вот и одно из последних, от 3 мая 1986 года:
Старушке Кие посвящаю
Ты все еще жива, старушка И скучаешь все одна. Вспоминаешь наше детство, Как любовь у нас была. Все ты думала, мечтала Замуж выйти за меня, Но не сбылись те мечты — За другого вышла ты. Ты сама уже не помнишь, Как случилось, почему Мы рассталися с тобою, Я и сам уж не пойму. Но все ж мы изредка видались Через пять иль десять лет. Ты детями обложилась, Песни некогда нам петь. А там война все покрушила, Пришлось работать день и ночь, А жизнь все шла, и ты трудилась, Чтобы детей поднять одной…Дочитав письмо, внучка уронила руки на колени и вдруг горько заплакала.
– Ты чего это, девка?
– Бабушка-а-а, мне уже сорок лет, а мне никто таких писем никогда не писал… и уже никогда не напишет, – рыдала внучка.
– Да ты что? Такая молодая, красивая-то какая стала! У тебя семья, муж, сын, хата своя, работа важная. Чего еще надо? Только вот как ты с ним целуешься-то, с таким бородатым? – вспомнила она внучкиного мужа. – Усы-то не мешают?
– Нет, не мешают, – рассмеялась внучка сквозь слезы. – Только про любовь никогда не говорит, а стихи всего один раз написал, да и то от тоски зеленой в санатории.
– Что ж, любовь-то первая, как детство счастливое, не забывается, светит потом всю жизнь. Поди, и сама знаешь. Я ведь помню, как ты тут слезы-то у меня лила, в седьмом-то классе… И потом, когда приезжала уж девушкой взрослой, тоже с ним виделась… с этим, который с коньками-то тебя провожал. Не знаешь, где он теперь?
– Нет, не знаю. Ушел в армию, потом написал мне, что будет возвращаться через Москву. А я уже переехала на другую квартиру и вскоре вышла замуж. Письмо прочитала только через два месяца и отвечать не стала. Так все и кончилось.
– Я вот о чем попросить тебя, девка, хотела. Ты ведь хоронить-то меня приедешь?
– Ну а как же, вот на пенсию выйду лет через пятнадцать и приеду с тобой прощаться, – пошутила внучка. – Прабабушка Евфимья до девяноста дожила, а ты уж постарайся чуть побольше.
– Да я серьезно. Ты забери потом эти письма. Не хочу, чтобы после надо мной девки да ребята мои смеялись. Скажут, вот старая дура, любовь у нее на уме была… А ты, знаю, девка чувствительная, душевная, не осудишь свою маму-стару, как ты меня маленькой звала…
* * *
Потом внучке удалось еще раз вырваться в Челябинск и навестить бабушку, которой пошел уже восемьдесят пятый. Она плохо себя чувствовала, но держалась. На зиму собиралась переехать к младшей дочери, пока у той сын в армии. Прощаясь, бабушка спросила:
– Ты помнишь про письма? Заберешь их? Не бросишь сразу в печку?
– Не волнуйся, заберу и сохраню как память о тебе.
Через полгода, теплым майским днем, бабушки не стало. Буйным цветом распустилась ее любимая яблоня рядом с домом, но уже не могла порадовать свою хозяйку. Проснувшийся огород застыл в ожидании новых посевов. В существование смерти верить никак не хотелось.
После поминок бабушкины дочери разбирали ее нехитрый скарб, откладывая себе что-то на память. Предложили и старшей внучке что-нибудь взять из оставшегося.
– Мне ничего не нужно. Но я обещала бабушке забрать коробку, там в шкафу, на верхней полке, – показала она.
Женщины переглянулись и попросили подождать… за закрытой дверью. Потом ей вынесли коробку с письмами, которые, конечно же, все перетрясли, и старенький алый сарафан. Тот самый, свадебный, который когда-то хранился в кованом сундуке и чуть было не стал половой тряпкой в равнодушных руках.
В коробке отдельно от остальных лежало последнее письмо Николая Яковлевича, отправленное еще в апреле 1987 года. Он просил что-нибудь сообщить о Кие, которая перестала ему писать. Видимо, в последний год жизни бабушке стало уже совсем не до писем. Внучка написала ему о смерти своей бабушки и попросила переслать ей ее письма, если они у него сохранились, но ответа так и не получила.
Вскоре бабушкин дом продали, и ниточка, связывавшая ее детей и внуков, как-то сразу оборвалась.
Москва, сентябрь 2014 г. – февраль 2015 г.Роскошная Коша
Серое мартовское утро угрюмо заглядывает в мутноватое после зимы окно. Еще и не весна, но уже и не зима, хотя и зимы-то настоящей не было – ни снега, ни бодрящего морозца. Лыжи так и простояли на балконе. Завтра уже 8-е Марта. Как быстро бежит время, особенно тогда, когда уже «возвращаешься с ярмарки»!
А сегодня, в предпраздничный день, принаряженные, заметно похорошевшие, довольные собой женщины – и молодые и «очень взрослые» – возвращаются с работы с цветами, которые красноречиво говорят о том, сколь щедры их работодатели. Жаль, что такое случается только раз в году. Почему бы не радовать женщин чаще? Ведь, в сущности, такая мелочь – букет цветов… Может, и стало бы поменьше замотанных, издерганных, несчастных, неухоженных особей неопределенного пола? И ушла бы из нашего обихода поговорка: «Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик»? Так размышляла Кира, сидя в вагоне метро и с грустной завистью поглядывая на горделивых женщин с букетами. Она уже выпала из общего потока трудящихся масс, хотя когда-то не мыслила себя вне коллектива. Теперь Кира – «свободный художник», а коллектив ей заменил верный «коллега», домашний компьютер.
Придя домой и помня о том, что не всем сегодня достанутся цветы с поздравлениями, она надумала кое-кому позвонить. Среди ее знакомых и близких были уже и вдовы и просто одинокие. Как не поддержать человека? Листая записную книжку, Кира решила начать с родни, которая заметно поредела в последние годы. Итак, кого надо поздравить в первую очередь? Вот – нечто среднее между родней и знакомой. Людмила Андреевна. Милочка. Роскошная Коша, изящная, золотоволосая, длинноногая красавица с блестящими глазами-васильками в пушистых ресницах. Так звал ее немолодой муж, писатель, один из тех, чьи произведения о войне обычно именовали «лейтенантской прозой». Именно так – Роскошной Кошей, а не какой-нибудь тривиальной Кисой-Мурысой.
На Киру нахлынули воспоминания, и свои, и своих близких, такие яркие, будто все происходило вчера, а не десятки лет назад.
* * *
Писатель этот приходился Кире отцом. Обычная история для того времени: после Победы их часть оказалась во Львове, где юный лейтенант 21 года от роду встретился с румяной пышнотелой барышней – студенткой экономического вуза, приехавшей с Южного Урала. Девушка заметно выделялась среди худосочных после войны местных паненок. Вообще-то она, как-то обнаружив у себя талант певицы (нечто вроде колоратурного сопрано, правда, при полнейшем отсутствии слуха), ехала поступать в консерваторию в Москву, но туда в 1944 году еще не пускали никого, кроме москвичей. Так 18-летняя девушка застряла во Львове, куда таких же, как она, направили для заселения опустошенных войной территорий, но вскоре все же случилось так, что она отбыла с молодым мужем к нему на родину в Подмосковье.
Этот «учебно-тренировочный» брак, по выражению поэта Сергея Михалкова, просуществовал недолго – не могла еврейская мама демобилизованного лейтенантика, единственного ее ребенка, по которому она обмирала целых четыре года, смириться с этим выбором. Она, жена высокопоставленного военного, бывшего работника дипмиссии в Иране, воспитанная в буржуазной среде, не понимала, что нашел ее сын в этой русской девушке из рабоче-крестьянской семьи, живущей в какой-то неизвестной ей Башкирии. У нее были совсем другие планы на его счет. Их соседи пошучивали: «Он женился на ней для улучшения вашей породы», что было, конечно, очень неприятно слышать бедной маме, Татьяне Даниловне. Дело в том, что сын пошел в нее, женщину типа Веры Холодной с ножкой 33-го размера, а не в отца – высокого и представительного, с пышной шевелюрой, орлиным профилем и пронзительными НКВД-шными глазами. Ее мальчик получился низкорослым и узкоплечим, но все же довольно милым, однако рядом со своей статной, красивой женой с жемчужными зубами смотрелся не очень. Вскоре у молодых появился ребенок – в общем-то, никому особо не нужный – ни молодому папаше, ни его родителям, ни, как оказалось, и юной матери. Это и была Кира. Растили ее в основном уральские многодетные дедушка и бабушка, которым к моменту ее рождения едва перевалило за 40.
* * *
Писатель приглядел Роскошную Кошу в заочном редакционно-издательском техникуме в Старопанском переулке, где та училась (как прежде и вторая законная его жена), а он подрабатывал преподаванием истории (на одни журналистские и писательские гонорары не разгуляешься). Как-то он с приятелем зашел в шашлычную на Красной Пресне и заметил там Роскошную Кошу в компании молодых людей. Особенно усердствовал около нее упитанный сопляк одесского разлива, норовя потискать ее при любом удобном случае. Оказалось, что этот галантерейный лупоглазый сосунок считался женихом девушки и планировал ее вскорости отвезти на смотрины к маме в Одессу.
– Видишь эту красотку? – спросил писатель приятеля. – Будет моей, вот посмотришь!
– Да ладно! – ответил прожженный журналюга, бросив захмелевший взгляд на компанию. – Зачем тебе этот детсад?
– Сказал, будет моей, значит будет!
Писатель постарался сделать так, чтобы одессита и след простыл, описав Роскошной Коше душераздирающую сцену их поединка. Сопляк позорно бежал, отказавшись от невесты. Девушка не смогла устоять перед колдовскими чарами писателя и его невероятным обаянием. Невидный мужичок, каким его считала повзрослевшая Кира, производил на женщин неотразимое впечатление, стоило ему только открыть рот… Голос, как у Левитана, ну и опять же писатель, знаток человеческих душ…
Роскошная Коша подарила себя писателю в 20 лет, когда тот почти что в день своего 40-летия вновь сделался отцом в очередном браке. Как всегда, помогли друзья, приютив у себя отчаянных любовников. Однако когда законная жена, молодая мать с новорожденной дочкой, вернулась домой, мужа она там не обнаружила. Она позвонила Кире на работу (у них были хорошие отношения, да и разница в возрасте всего-то семь лет) узнать, не уехал ли тот срочно в командировку. Простодушная Кира, ничего не подозревая, назвала ей телефонный номер, который отец оставил «на всякий случай», если он ей срочно понадобится. Жена быстро догадалась, чей это телефон: в этой квартире ей частенько самой приходилось бывать в период их жениховства. Скоропостижный развод и склоки с патриархальным еврейским семейством своей жены не остудили любовного пыла писателя. Ему это было не впервой. Он лишился недавно прикупленной кооперативной крыши над головой у Киевского вокзала и прочего имущества, но тотчас обрел обязанность выплачивать очередные алименты. В тот год он как раз заканчивал платить их своей первой дочери, Кире. Вскоре любовники расписались и сняли халупу без всяких удобств в Сокольниках. Летом жили у родителей писателя в старинном дачном поселке – в Ильинке.
Через какое-то время Роскошная Коша, которую писатель устроил монтажером в Комитет кинематографии СССР, получила там комнату в коммуналке у метро «Сокол» (больше претендентов среди сотрудников не оказалось). Первый этаж их дома занимал известный магазин «Рыба». Потом писатель выхлопотал себе двухкомнатную квартиру на Малой Грузинской и бросил все свои творческие силы на удовлетворение все возрастающих потребностей любимой. Ей было в чем показаться и в Доме литераторов, и в прочих Домах… Она быстро освоила шоферские премудрости, и стареющему щеголю льстило, что его иномаркой, редкой еще в ту пору в Москве, управляет красавица-жена. Писатель был счастлив в этом браке, его много печатали, он много ездил с выступлениями, работал в секретариате Союза писателей… Жизнь, наконец-то, воздала ему должное за опаленную войной юность. Одна из первых его книжек так и называется «Опаленная юность» – об одноклассниках, ушедших после окончания 9-го класса на фронт вместе со своим учителем. Вернулись из них в 1945-м только четверо, в том числе писатель, израненный, но все же с руками-ногами.
* * *
Однажды Кира, будучи уже мамой двухлетнего малыша, поехала с подругой и ее сыном в подмосковный дом отдыха. Мужья отправили их в эти пушкинские места на все лето, а сами приезжали к ним на выходные. Жили они тогда все более чем скромно, поэтому женщины решили сделать запасы на зиму, прокрутив желе из красной смородины, купленной на местном базарчике. Благо ягоды в деревне были дешевые. Расстелив на полу листы «Литературной газеты», прихваченной из Москвы, Кира рассыпала на них ягоды. Вдруг взгляд ее упал на «подвал»: мелькнула знакомая фамилия – Ильинский (псевдоним отца). Статья рассказывала о медиках – плохих и хороших – на примерах его близких. Плохие – выписали его отца из больницы, довезли до дома, на пороге которого он и скончался от повторного инфаркта (было это в 1965 году), а хорошие – боролись за жизнь его новорожденного сына, но не смогли его спасти (в 1966 году).
Так Кира узнала о том, что у нее был сводный брат, не проживший и месяца. С отцом после своего замужества в 1967 году Кира лишь изредка говорила по телефону. Он всячески избегал общения и даже при случайной встрече на улице (Кира в ту пору уже жила в Тушино и на Соколе, рядом с домом отца, пересаживалась на автобус) мог просто трусливо убежать, заметив свою дочь.
Спустя много лет, Роскошная Коша расскажет Кире, как споткнулась о корни сосны в Ильинке, упала, начались преждевременные роды, жуткий роддом в Раменском, грубые няньки, оравшие, что нечего ей слезы лить, родит еще не одного, молодая да здоровая. Писатель отчаянно бился за жизнь ребенка, привозил профессоров из Москвы, но все оказалось напрасно. Ребенок погиб. После этого Роскошная Коша поклялась больше не рожать и слово свое сдержала. Кира знала, что у отца и в предыдущем браке погиб новорожденный сын. Жена упала на лестнице – и та же история. Через пару лет она родила девочку… но муж ушел к Роскошной Коше. После развода с писателем она всем говорила, что он ее подтолкнул в подъезде специально. Но зачем было заводить второго ребенка? За что Бог лишил отца наследников, наградив двумя девчонками, которые были ему совсем не нужны, Кира так и не поняла. Прервалась традиция его клана – называть сына в честь деда.
* * *
Очнувшись от нелегких воспоминаний, Кира набрала номер телефона Роскошной Коши. Разница в возрасте у «падчерицы» Киры и «мачехи» Людмилы была всего три с половиной года, поэтому они давно были на «ты».
– Алло, Людмила, привет! Поздравляю тебя с наступающим нашим праздником и желаю всего-всего!
– Спасибо, Кирочка! Рада тебя слышать, – ответила та, но вместо переливчатых колокольчиков в ее голосе (у всех известных Кире жен и любимых женщин ее отца, с которыми он ее все же знакомил, в голосе звенели колокольчики), прозвучало нечто такое, что обычно свойственно «женщине из советской очереди», по определению мужа Киры.
– Людмила, у тебя что-то случилось? – забеспокоилась Кира.
– Да… знаешь, эта сволочь…
– Какая сволочь?!
– Да муж мой. Представляешь, бабу себе завел. Из провинции. Лахудра такая, я ее как-то видела. Спрашиваю его: «Что ты в ней нашел? Она же тупая, как пробка». А он отвечает: «Зато тело какое!». Теперь они выгонят меня из собственного дома и будут тут жить!
– Людочка, никто тебя никуда не выгонит, успокойся, – уговаривала ее оторопевшая Кира.
– Ну как же я стану здесь жить в своей комнате, а они там, за стенкой, будут при мне… трахаться? И на кухню не выйти, и в моей ванной будет мыться эта… блин… И почему он от меня ушел? – рыдала она. – Мы же так хорошо жили! Каждый год ездили за границу, ходили в рестораны, на приемы… Двадцать… или тридцать лет, не помню…
– Людочка, не плачь, зачем он этой девке, ведь он же такой старый! – пыталась как-то образумить ее Кира, у которой от услышанного застучали молоточки в висках.
– Никакой он не старый! Он очень хорошо выглядит! – вдруг возмутилась Людмила.
– Людмила, как бы он хорошо не выглядел, все же ему скоро 90 лет… зачем он молодой женщине? – Кира не теряла надежды как-то вернуть ее к суровой действительности.
– Нет, ты не понимаешь, он ушел от меня, сволочь такая! Потаскун! Всю жизнь он не пропускал ни одной юбки! Что мне теперь делать?
– Людочка, дорогая, конечно, он ушел, да… и ушел навсегда, от всех ушел… на тот свет… 16 лет назад, в марте… А это все тебе просто приснилось! – убеждала ее потрясенная Кира. – Просто такая у тебя случилась ассоциация перед 8-м Марта. Помнишь, ты говорила, что он заранее принес тебе цветы… Он ходил в издательство за корректурой и купил цветы, чтобы не бегать за ними в праздник. К тебе пришла соседка, с которой вы о чем-то болтали под рюмашку. Он заглянул к вам поздороваться и ушел в свою комнатушку. Вдруг вы услышали какие-то непонятные звуки, но решили не обращать на это внимания. Опомнились, когда он забился на полу… А через две недели его не стало…
Кире еще не приходилось с таким сталкиваться в жизни. Она слышала, что подобное случается с пожилыми… Но Людмиле еще только 70! В трубке повисло долгое молчание. Наконец, Людмила хрипло произнесла:
– Господи, какой-то туман в голове. Вот теперь он немного рассеялся. Кира, спасибо тебе, ты раскрыла мне глаза! – горячо прошептала она. – Да, наверное, мне это приснилось. Мне теперь часто что-то снится, а когда просыпаюсь, то не узнаю свою комнату.
– Людочка, давай мы с тобой в июне, в день его 90-летия, поедем в Ильинку к нему на кладбище, и ты перестанешь видеть такие ужасные сны, – предложила Кира.
– Да-да, – благодарно согласилась Людмила, – но сейчас я займусь тут своими делами, а потом мы поедем… До свидания, звони мне, – попрощалась она.
Кира положила на рычаг телефонную трубку и устало опустилась на диван. Что же теперь делать? У Людмилы никого нет. Родители давно похоронены, детей она не хотела после неудачных родов, окончившихся гибелью новорожденного сына, муж умер, другой не завелся, хотя она и считала себя богатой и красивой невестой (Кира это подтверждает), а пожилым двоюродным братьям и племянникам не до нее. Подруги живут в Ильинке, но после продажи дачи, построенной в 30-е годы прошлого столетия по проекту известного архитектора Кириным дедом Борисом Юрьевичем, Людмила не могла туда уехать, как бывало прежде, на все лето. Взять ее к себе, хотя бы на дачу, Кира не могла – уже не по силам ухаживать за фактически чужим человеком, к тому же капризным и избалованным прежней жизнью, да и семья, конечно, против. В любом случае надо бы к ней съездить и звонить чаще.
Через два дня раздался звонок мобильного, причем в самый неподходящий момент: Кира была в парикмахерской. Из трубки рвался Людмилин вопль:
– Кирочка! Спаси меня! У меня пропали ключи, и я сижу взаперти, не могу выйти на улицу! Я голодная и куда-то все деньги делись! Этот идиот, мой, ну скажем, любовник, схватил ключи, запер меня и стоит теперь под дверью, смеется надо мной и не открывает… или под окном стоит? Не помню…
Кира побежала домой за ключами, которые лет 10 лежали у них на полке в прихожей. Когда-то Людмила, которую Кира с мужем провожали в санаторий, дала ей эти ключи, попросив раз в неделю поливать у нее цветы. С тех пор они так и остались в качестве запасных на всякий случай. И этот случай наступил. Собрав кое-что из еды и взяв ключи, Кира отправилась на Малую Грузинскую. Через час она топталась перед закрытым подъездом, замок в котором уже сменили, в ожидании кого-нибудь из соседей. Поднявшись на восьмой этаж, она с облегчением увидела открытую дверь в холл (ключ тоже устарел) – в подъезде шел ремонт. Звонок у Людмилы почему-то не работал. Кира постучала и, услышав голос Людмилы, вставила ключ в замок. Когда дверь открылась, Кира чуть не рухнула на пол. На нее смотрела нечесаная, худая старая карга, лишь отдаленно напоминающая прежнюю Людмилу. Они виделись всего лишь год назад, когда приезжала из Америки Кирина сводная сестра по отцу (есть еще сводная по матери) Ирина. Кира принимала их у себя дома.
Войдя в квартиру, Кира прикрыла за собой дверь и прошла вслед за Людмилой в большую комнату. Дышать там было нечем. Солнце било сквозь штору, обнажая несусветную грязь и пылищу вокруг. Чем-то невыносимо воняло. Поняв, что долго не выдержит, Кира спросила у хозяйки, не испортились ли у нее какие-нибудь продукты, и предложила положить принесенную с собой еду в холодильник. В холодильнике с отключенной морозильной камерой лежал только кусок сырой курицы, уже почти сгнивший, а рядом… новенький паспорт и какие-то документы.
Кира быстро выбросила этот источник вони в мусоропровод и взглянула на хозяйку, безмятежно жующую принесенный ею батон. Бедная женщина! Неухоженные волосы патлами свисали с плеч. Застарелый запах давно не мытого тела, исходивший от нее, вызывал у Киры с ее слишком чувствительным обонянием тошноту. На журнальном столике в беспорядке валялись квитанции, лекарства, безделушки и среди них – отцовское удостоверение члена Союза писателей СССР. Небольшой сейф, стоящий на полке мебельной «стенки», открыт и абсолютно пуст. В ванной никаких следов шампуней, мыла и прочих мелочей, указывающих на присутствие в доме женщины. На кухне тоже пустовато – ни картошки, ни лука, ни капусты. Какие-то пакеты с престарелыми рожками и все. Нет даже хлеба. Одна грязная посуда. Что происходит? Как в этом бедламе можно жить? Но хозяйка выглядит вполне довольной и не видит ничего ужасного в этом. Просто ей ничего не хочется делать, даже еду, какую-никакую, готовить себе. А пол она подметет. Потом. Когда-нибудь.
Кира осторожно стала расспрашивать про паспорт и документы, оказавшиеся в холодильнике. Людмила поведала ей страшную историю. Якобы она шла по улице, и на нее напали, отобрали сумку с ключами, документами, записной книжкой и деньгами. Приехала из Ильинки подруга Лиля, пошла с ней в полицию, где ей оформили новый паспорт. А потом нашелся старый (Кира видела на тумбочке этот старый паспорт), а новый она решила спрятать в холодильник вместе с документами о собственности на квартиру. Вот только деньги куда-то опять делись. Много денег. Сначала нашлись и вдруг снова потерялись. Наверное, где-то засунуты в книги – у нее такая привычка: рассовывать деньги в книги.
– Людмила, какие деньги? Тебе переводят пенсию на сберкнижку, да и деньги за проданную дачу, ты говорила, у тебя лежат на книжке?
– Ты не знаешь, это мой муж, гад. Он всегда прятал от меня деньги в книги. Вот они и выпали, а потом опять пропали. Наверное, кто-то украл…
Кира поспешила переменить тему.
– Людмила, давай я оплачу твои квитанции за квартиру, телефон, свет и газ. Отключат ведь! – предложила она.
– А их нет.
– Как нет? Ты же мне по телефону сказала, что все подготовила?
– Вот так и нет. Пока ты ко мне ехала, их украли вместе с деньгами. Дверь в квартиру была приоткрыта, кто-то влетел, схватил и убежал. Я выскочила на лестницу, а его и след простыл.
Кира не стала спорить и выяснять, как она могла выбежать из запертой квартиры. И так все ясно.
– Людмила, ты же соседке отдавала запасные ключи. Давай у нее обратно попросим, и у тебя будет две пары – те, что я привезла, и еще одни. Все же не сразу потеряешь?
– Нет, я с ней давно не общаюсь, она у меня все тут обшарила как-то, и теперь я ей не доверяю.
– Тогда пойдем вместе в мастерскую, чтобы при нас сделали запасные, заодно и прогуляемся, – предложила Кира.
– Хорошо, – неуверенно согласилась Людмила.
Вдруг раздался телефонный звонок. Людмила взяла трубку:
– Да, Лиля, все, уже ничего не надо. Меня уже открыли… Ну так и открыли! Все в порядке, нет, ничего не надо. Это моя подруга, – бросила она Кире.
Кира попросила у нее трубку.
– Здравствуйте, я – Кира, дочь…
– Да, я знаю, – затараторила женщина. – Хорошо, что вы приехали, дайте мне ваш телефон, будем как-то вместе ей помогать. Я вам домой позвоню, и мы все обсудим.
Кира сходила с Людмилой в мастерскую, затем в магазин за продуктами и проводила ее до дома. Пора было уезжать. Они тепло попрощались и договорились ежедневно перезваниваться.
После смерти отца Кира несколько лет просила Людмилу отдать ей фотографии дедушки и бабушки, но та упорно уходила от ответа. Когда-то, на заре их отношений, Людмила, чувствуя свою вину перед Кирой за то, что утаила от нее (как, впрочем, и от второй дочери Ирины) смерть отца – просто не отвечала на ее телефонные звонки и скрывалась у знакомых ровно полгода, предложила ей унаследовать их квартиру. Кира тогда рассмеялась, напомнив Людмиле о столь незначительной разнице в их возрасте, сказав, что еще неизвестно, кто кого переживет.
Она предложила только разобрать рукописи отца, перевести их в электронный вид и подготовить к печати, а может, что-то опубликовать, пока у нее есть такая возможность. Людмила живо навострила ушки и поспешно отказалась, заметив, что все авторские права принадлежат только ей одной. «Кому они нужны? – думала Кира. – Кто сейчас будет читать про ту войну, когда в стране и так то тут, то там что-то загорается?» Ей просто больно было думать о том, что живые мысли ее отца, как бы она к нему ни относилась, угаснут на ближайшей помойке, как, впрочем, брошенные на проданной даче остатки тиражей его книг вместе со старинной мебелью.
А благородный «квартирный порыв» закончился у Людмилы прежде, чем Кира успела доехать в тот день до дома. «Уже два раза звонила. Что, не наговорились? – съехидничал Кирин муж, открывая ей дверь.
– Кирочка, – услышала она в трубке Людмилины «колокольчики». – Вопрос с квартирой преждевременный, мы будем общаться, дружить, разбирать рукописи… потом, все потом.
Но потом ничего не случилось. Под любыми предлогами Людмила отказывалась разбирать рукописи («Сделай это сама, если не доверяешь», – предлагала Кира) – то высоко лезть и тяжело снимать их с верхней полки, то там пыль, то некогда (она не работала уже лет 25).
Вечером ей позвонила Лиля и много чего порассказала. Да, она давно замечала за Людмилой такое. Вот в прошлом году они собрались с ней поехать в Крым (у Лили там свой домик прикуплен). Лиля приехала к Людмиле, привезла билет на поезд, помогла собраться. Завтра рано утром они уезжали. Не успела она перешагнуть порог дома, как позвонила Людмила.
– Если ты, стерва, не вернешь мой паспорт и деньги, я заявлю на тебя в полицию! – орала в трубку Людмила.
Лиля не растерялась, приказав той грозным голосом поискать все это у нее на журнальном столе. Вскоре Людмила ворковала по телефону:
– Лилечка, прости, дорогая, я их не заметила, все в порядке, еще раз прости меня, дуру бестолковую.
В тот раз все обошлось. Но осадок у Лили остался. Ей жалко было никчемную Людмилу, все же они были дружны уже лет 40. Особенно они сошлись после смерти мужей. Несмотря на то, что Людмила рассорила ее с другой давней подругой из Ильинки (обе женщины занимались продажей Людмилиной дачи), она переживала за нее, боясь, как бы ее не прихватили какие-нибудь «черные риэлторы». Да мало ли что грозит человеку, внезапно теряющему память, в нашей неспокойной жизни? Они хорошо отдохнули в Крыму и договорились поехать туда весной следующего года. Однако в этом году Лиля не рискнула взять ее с собой и отправилась туда одна, попросив Киру на время ее отсутствия постоянно держать Людмилу в поле зрения.
Кира добросовестно звонила Людмиле через день и пару раз ее навестила. Та казалась вполне адекватной, утверждая, что никакие врачи ей не нужны, что с ней все в порядке, хотя без конца твердила о том, что кто-то влетел к ней в квартиру, схватил квитанции и деньги (иногда это были ключи) и убежал. В квартире оставалось все по-прежнему, да и выглядела она не лучше. Входная дверь зияла пустыми глазницами вывороченных замков. Но один все же оставался.
В «старый» День печати, 5 мая, который чтили все Кирины однокашники и коллеги, игнорируя новую навязанную дату, Людмиле исполнялся 71 год. Надо бы что-то ей подарить и как-то это событие отметить. Но телефон Людмилы молчал, причем не первый день. Вспомнилась Лиля. Может, она знает, куда та подевалась?
– Да, Кира, да, она у меня в Ильинке! Мы готовимся праздновать ее день рождения! Она сейчас подойдет.
– Людочка, поздравляю тебя с наступающим днем рождения и желаю тебе всего самого-самого! – сказала Кира, облегченно вздохнув (не потерялась и хорошо).
– Спасибо, Кира! А я тебя поздравляю с Новым годом! – ответила она под недоуменный шепот Лили.
Кира попрощалась и со спокойной душой отбыла на дачу.
После майских праздников ей позвонила взволнованная Лиля:
– Кира, тут такое опять! Звонит мне Людмила, плачет, говорит, что ее заперли, ключи украли, она не может выйти из квартиры… Я сразу поехала к ней, нашла слесаря, взломали дверь, потом меняли замки… Я оплатила телефон за два месяца, предложила заплатить за квартиру и прочее, но она денег не отдает ни за замки, ни за телефон… Все их прячет куда-то. Поздно вечером я уехала домой. А вчера мне позвонил участковый и попросил приехать в отделение на Малой Грузинской, сказав, что на меня поступило заявление, в котором я обвиняюсь в краже денег и документов и в том, что я насильно заперла человека в его квартире и утащила ключи. Я сейчас туда еду разбираться. Вы подтвердите, если понадобится, что я не виновата? Хотя и соседи видели, когда я приходила вскрывать дверь, и обещали все подтвердить!
– Конечно! – не волнуйтесь, успокоила ее Кира, не решившись предложить свою помощь Лиле под строгим взглядом мужа, убеждавшего ее не связываться с Людмилой. Он считал ее самовлюбленной попрыгуньей-стрекозой, которая «все лето пела», а теперь пусть попляшет. «Почему ты должна о ней заботиться? Она много о тебе думала? Давай, трать на нее остатки здоровья, она сядет тебе на шею и ножки свесит. Могла бы хоть что-то и хоть кому-то дать в этой жизни! Нет, все только себе любимой. А вы, дуры, черная кость, ублажаете ее!» – ворчал он и в чем-то был прав. «Но у нее же с головкой того… Что может быть ужаснее?» – слабо возражала Кира.
Вечером Лиля перезвонила и передала свой разговор с участковым. Он не стал ее долго допрашивать, сказав, что ему и так все ясно. Оказалось, что Людмила позвонила своей второй подруге из Ильинки Тамаре и умоляла ее спасти от этой мерзавки Лильки, которая заперла ее в квартире, обворовала, забрала документы на квартиру и обрекла на голодную смерть. Тут же примчался сын Тамары, который теперь рассекает по Ильинке на Людмилиной иномарке, взломал все двери (бедные соседи по общему холлу!), вызвал участкового и составил от имени «потерпевшей» заявление, а затем отвез ее к своей матери в Ильинку.
– Больше я одна к ней не поеду. Но страшно подумать, что ее ждет. Кира, пожалуйста, звоните ей и навещайте ее, она к вам хорошо относится, ведь пропадет же! Эта Тамара, она давно подбивала Людмилу подписать квартиру на ее сына (Кира тоже слышала об этом от Людмилы, когда та еще была в здравом уме). Ну, теперь-то они ее обработают! У Тамары невестка риэлтор. Позвоните ее сыну, вы же знаете его телефон, Людмила сама вам его дала. Если она у них, и с ней все хорошо, пусть будет, как будет. Лишь бы на улицу не выкинули… Я звонила туда, но Тамарин сын сказал, что Людмила не желает со мной разговаривать.
Кира обещала. Голос в трубке был молодой и не враждебный. Кира назвала себя, ни словом не обмолвившись о том, что знает о случившемся. Олег (сын Тамары) сказал, что Людмила у них, и сейчас он передаст ей трубку.
– Кирочка, у меня все в порядке, я у друзей в Ильинке. Не звонила тебе, ты же знаешь, у меня украли записную книжку со всеми телефонами… Да, я еще побуду здесь немного, а потом поеду домой и сразу тебе позвоню. Продиктуй мне свой номер.
Кира машинально назвала ей номера своих телефонов, записки с которыми висели у Людмилы по всей квартире. Хорошо, что она под присмотром. Пусть бы они забрали ее квартиру, приютив в своей весьма просторной даче, все лучше, чем в сумасшедший дом. Не успела она додумать эту мысль, как загудел мобильник. Незнакомый женский голос сбивчиво зашептал:
– Я жена Олега. Хорошо, что вы позвонили, она у нас уже вторую неделю… Я говорила мужу, надо сообщить родственникам… У нее «не все дома»… Надо что-то делать!
– Она не хочет общаться со своими двоюродными братьями, к тому же они сами старые и больные. Зачем им еще такая обуза. А больше у нее никого нет. Я, сами знаете, ей никто.
– Мы завтра отвозим ее домой, вдруг нас обвинят в том, что мы ее специально забрали к себе? Мало ли что ей взбредет в голову! Кажется, с этой Лилей она тоже что-то придумала. Эту женщину здесь все давно знают. Во всяком случае, будем как-то с вами на связи. До свидания.
Кира задумалась. За что наказывает судьба так жестоко бедную женщину, пусть даже «попрыгунью-стрекозу»? За что лишила материнства, а к старости – светлой головы при полном одиночестве? Может, за то, что увела мужа у жены и лишила отца двухнедельного младенца? Так не они первые и не они последние. За то, что наслаждалась праздником жизни, полагая, что так будет всегда? Конечно, она же по знаку зодиака «Телец».
Как-то Людмила обмолвилась в разговоре с Кирой по поводу ее отца: «Он подарил тебе жизнь. Разве этого мало?». Да, конечно, спасибо ему за это. И за оставленную в «наследство» Роскошную Кошу как проверку… на что?
Сначала «сломалась» Тамара: после убытия Людмилы восвояси у нее случился обширный инсульт. Потом Лиля слегла с давлением. А что же Людмила? Она у себя дома, веселая и довольная собой… Правда, опять кто-то влетел в квартиру, схватил ключи с деньгами и убежал, топая по лестнице. А, плевать, решила она. Не плакать же из-за этого? А к врачу она не пойдет ни за что! И таблетки есть не будет!
Кира понимает, что нельзя приближаться к краю этой бездны, хотя бы из чувства самосохранения, – затянет. И все же безучастно смотреть на это растворение личности невыносимо тяжело.
«Прости меня, отец, за то, что не смогла помочь твоей любимой – Роскошной Коше удержаться на плаву. Эта ниточка полтора десятка лет незримо связывала тебя со мной, твоей первой, совсем чужой тебе дочери».
Кира с грустью смотрела на могильный камень на кладбище в Ильинке, на котором было выбито: «Деницкие». А потом шли столбиком имена и даты: дед Борис Юрьевич (1965 г.), бабушка Татьяна Даниловна (1983 г.), отец Юрий Борисович (1998 г.). Сегодня писателю, чье имя чтит местная школа № 25, где он учился и где теперь хранятся (хранятся ли?) его боевые награды, исполнилось бы 90 лет. Одна из его книг – «Опаленная юность», которую он посвятил своим одноклассникам, ушедшим на фронт, продолжает жить в названии улицы поселка, бывшей Кооперативной. Там в 1967 году был установлен памятник этим ребятам.
Москва, июнь 2014 г.Елена Ивановна
Удивительно, с какой быстротой замелькали страницы жизни! Не успеваешь и глазом моргнуть, не то что спокойно обозреть происходящее «с высоты птичьего полета» и отделить «зерна от плевел». Как все это потом воспримут наши повзрослевшие внуки и что им наврут разные политиканы с невежественными «историками» об этих днях, одному Богу известно. Изумляет то, с какой легкостью сегодня обрушиваются на головы обывателей всевозможные «откровения» о событиях 20–30-летней давности, не говоря уже о более ранних временах.
«Да не так все было!» – возмущаются те, для кого эти события – не предмет холодно-равнодушного препарирования, а сама жизнь, которая испытывала их на прочность. «Времена не выбирают. В них живут и умирают».
Сегодня их именуют «русским миром». Людей, которые с распадом СССР оказались изгоями в национальных республиках. За что? За то, что строили, учили, лечили, поднимали целинные и залежные земли, превращали пустыни в плодородные оазисы и несли великую культуру в эти полуфеодальные края? Одни ехали сюда по комсомольским путевкам на Всесоюзные стройки, других направляли по распределению после окончания учебы, третьи были здесь вечными командировочными – иногда годами, пока возводился объект, с краткосрочными отлучками домой. А сколько еще оставалось эвакуированных во время войны, да и сосланных? И люди оседали там, заводили семьи, пуская корни на новой родине. Как ни странно, государство пеклось о национальных окраинах гораздо больше, чем об исконно русских землях. И оборудование, и газ, и продовольствие, и прочие товары – все сначала туда, а что останется, можно и в Вологду, так и быть. Россия подождет. Даже реки хотели повернуть вспять – из Сибири в Среднюю Азию. Вот и получили…
Шел 1991 год. По Москве ползли тревожные слухи о том, что где-то там, на окраинах огромной империи, происходит что-то ужасное. В город хлынули беженцы. Оказавшиеся на голодном пайке москвичи, потеряв всякую надежду на продовольственную поддержку власти и вспомнив о своих глубоких крестьянских корнях, ринулись приобретать садово-огородные участки. Моей семье тоже достался участок в Подмосковье, где мы с энтузиазмом принялись сажать картошку на неподъемной глине. Там-то мы и познакомились с беженцами из Таджикистана.
Как это часто бывает, все началось с мелкого конфликта «на меже». Наш дачный участок граничил с их картофельным полем, какие выделяли местным жителям. Заборов еще не было. Маленький трактор «Беларусь» с прицепом, груженым навозом, решил «срезать» путь и махнул к нашему владению прямо через их уже засаженное картошкой поле. Воинственный, с изборожденным морщинами загорелым лицом худощавый старик в старой соломенной шляпе наседал на моего мужа нехилой комплекции и недвусмысленно размахивал клюкой. Муж не стал отговариваться бесшабашностью тракториста и, взяв лопату, быстро устранил «потраву». Мир был восстановлен.
Старик часто навещал свое картофельное хозяйство, прихватывая с собой семилетнюю внучку – неугомонную стрекозу с огромными бантами в льняных волосенках. Иногда с ними приходила симпатичная статная женщина, похожая на ту, чей портрет украшает сыр «Viola». Мы приглашали соседей посидеть-отдохнуть на наших бревнах и поболтать. Так и подружились, став почти за четверть века людьми близкими. Оказалось, что мы с этой женщиной родились в один день, только она тремя годами позже. И это тоже было неким знаком.
Ее удивительная судьба подтверждает, сколь хрупок этот мир, который в одночасье может разломиться надвое. До – и после.
* * *
Яркое утреннее солнце еще не обжигало, как днем. На прозрачно-голубом небе – ни облачка. Елена Ивановна вышла из госпиталя, огромного серого здания в стиле «сталинский ампир» в центре Душанбе, и всей грудью вдохнула напоенный ароматом предгорий пьянящий воздух. Дежурство выдалось очень тяжелым – всю ночь возили раненых, только успевали принимать. Днем нельзя – народ «не поймет». Наш «ограниченный» контингент в Афганистане в середине 80-х нес серьезные потери, но это приказано было скрывать всеми силами. Врачи давали подписку о «неразглашении государственной тайны». А какая же это тайна, когда по всему СССР развозили «груз 200»?
Особенно много было ребят из республик Средней Азии – без рук, без ног, обожженных. Считалось, что для мировой (да и своей затурканной советской) общественности они сойдут внешне за афганцев, воюющих друг с другом не без участия США. Так две ядерные державы – СССР и США – сводили друг с другом счеты на территории нищей страны.
Загнанные в угол афганцы умело отбивались не только «стингерами» и «калашами». У них оказалось и более грозное оружие – наркотики. На их скудной земле, малопригодной для земледелия, буйствовали лишь заросли марихуаны. Сами афганцы были привычны к ней с малолетства и спокойно покуривали «травку», которая придавала им сил. А вот для изнеженных европейцев, и даже для своих единоверцев из советской Средней Азии, она оказалась губительной. Вот так Афганистан и победил своих «завоевателей-освободителей», втянув их в наркотическую зависимость. И по сей день эта зараза продолжает расползаться по всему миру.
Елена Ивановна, далекая от всякой политики, все же смутно догадывалась, что вскоре работы прибавится не только хирургам, но и психиатрам (а где их взять после многолетних гонений на науку, узурпированную КГБ?).
– Стоп, – сказала она себе, вспомнив наставления своего научного руководителя из мединститута: «Оставь за порогом больничные проблемы, не тащи их в свой дом – иначе свихнешься».
А дома ее ждут заботливый, любящий муж, трехлетняя долгожданная дочка и пожилые, но вполне еще крепкие родители, которые живут рядышком. Есть еще и брат Саша, и племянники, и много другой родни. У Елены Ивановны – прекрасная, хорошо обставленная квартира в центре города. Так что и на работу, и в театр, и в гости – все пешком в нарядных туфельках по красивым ухоженным улицам, которые без конца метут незаметные таджики огромными метлами из какого-то растения. По выходным – поездки с друзьями в горы на собственной машине, где у ее мужа, охотоведа, были на примете живописные уголки.
Елена Ивановна с ее украинской (по мужу) фамилией считается русской, как и вся ее семья, а русские чувствуют себя здесь людьми высшего порядка – они образованнее, толковее и работают на самых ответственных и сложных участках. Поэтому лечиться и учиться таджики норовят только у русских, да и спокон веку они видели в них «начальство». И все же «Восток – дело тонкое»: все партийно-хозяйственные руководители – национальные кадры, а их первые заместители (и первые за все ответчики) русские.
На самом-то деле у Елены Ивановны финские корни. Ее отец, Иван Михайлович, – финн – после Финской зимней кампании 1939–40 годов оказался жителем Карело-Финской ССР (впоследствии ставшей Карельской АССР), как и его односельчане, чья деревня отошла к СССР. В 1941 году после нападения Германии на страну всех «инородцев» депортировали кого куда: Ивану Михайловичу выпал Таджикистан. Но это было потом, а сначала он оказался в трудовом лагере на строительстве Челябинского металлургического завода. С той поры любое застолье он начинал с тоста: «За великого Сталина!», поясняя, что если бы не «вождь всех народов», сгнил бы он уже давно где-нибудь на полях сражений, а так все же повезло остаться в живых, детей поднять, внуков дождаться.
Занятая этими мыслями, Елена Ивановна подошла к фруктовому ларьку. Выбрав пару персиков и душистую грушу, она направилась к дому. Это – ее обед. Дочка – у дедушки с бабушкой, муж в горах, приедет поздно, так что готовить не нужно, а ей самой полезно посидеть на фруктах. После тяжелых родов у нее нарушился гормональный фон, и она располнела.
* * *
Прошло три года. Со страной что-то творилось, особенно на ее окраинах. В 1988-м вспыхнули беспорядки на национальной почве в Алма-Ате и Минске. А в конце года в буквальном смысле затрясло армянский город Спитак – небывалой силы землетрясение за считаные минуты стерло город с лица Земли вместе с большей частью его населения. С этой страшной трагедии посыпались на огромную страну, как из рога изобилия, несчастья. Забурлило на Кавказе – кровавый Сумгаит, Тбилиси и яблоко раздора для армян и азербайджанцев Нагорный Карабах. А потом и Прибалтика встала в позу. Да и в российских республиках было неспокойно.
Генерал Громов 15 февраля 1989 года торжественно вывел последние войска из Афганистана, из Москвы доносились отголоски «нового мышления», а бывшие воины-«афганцы» пытались хоть как-то приспособиться к новым веяниям мирной жизни и не «упасть на дно колодца», как пел Владимир Высоцкий. Многие им помогали, чем могли, но не все. Особенно усердствовали те, кого называют власть имущими. Это они бросали сквозь зубы искалеченным физически и морально парням: «Я вас туда не посылал!».
И вот докатилось до Таджикистана. Пустячный повод – отмена концерта – обернулся, в конце концов, двухлетней гражданской войной. Обкуренные подростки горланили на улицах, размахивая прутами арматуры, врывались в автобусы, избивая пассажиров, крушили витрины магазинов, поджигали машины и винили во всех своих бедах ненавистных русских. «Долой русских!» – неслось отовсюду. Милицию эти бесчинства будто и не касались – самим бы уцелеть. Со всего Таджикистана потянулись в Душанбе толпы безработных и озлобленных страшной нищетой людей, которые вознамерились поселиться в столичных «дворцах», выкинув оттуда их законных владельцев.
Великолепные цветники с благоухающими розами, которыми всегда славился Душанбе, вскоре превратились в огороды, а балконы величественных зданий в центре города запестрели вывешенными на всеобщее обозрение подштанниками. Местная власть запаниковала. Привычные коммунистические мантры не действовали. Народ бунтовал. Москва с его КГБ ему теперь – не указ.
На русских, к которым таджики всегда относились с почтением как к старшим, теперь стали косо поглядывать. Родные и друзья Елены Ивановны забеспокоились. Что делать? В Душанбе родились они сами и их дети. Как бросить все нажитое и отправиться в неизвестность?
– Не переживай, – уговаривал Елену Ивановну муж Володя. – Все как-нибудь образуется. Куда мы поедем? У нас маленький ребенок и старые больные родители. А семья твоего брата? Тоже с собой заберешь? Конечно, ты – врач, работу, может, и найдешь. А кому нужен охотовед не первой молодости?
Как-то Елена Ивановна зашла к родителям за дочкой, которая всеми правдами и неправдами старалась увильнуть от детсадовской поденщины.
– Мама, мама! А бабушка не дает мне сделать деду обезболивающий укол! Я ей показывала, как ты меня учила делать уколы в подушку, а она не слушает, – возмущалась дочка.
– Ну, Аленка, ты же знаешь, после подушки надо еще потренироваться на плюшевом мишке, а потом уже колоть людей, – поддержала их обычную игру Елена Ивановна, улыбаясь и еще не чуя беды.
Войдя в родительскую спальню, куда ее тащила дочка, она остолбенела: на кровати лежал окровавленный отец, а мать, смахивая слезы, обрабатывала ему раны. Его темные жилистые руки, натруженные тяжелой работой, были в кровоподтеках и ссадинах, лицо распухло, на спине и боках – синие полосы.
– Главное, папа, – быстро взяла себя в руки Елена Ивановна, – кости целы. А остальное быстро заживет.
– Ты, дочка, не беспокойся, я двужильный. Ну, побили маленько… В трудлагере еще и не такое бывало… Выжил ведь…
– Кто тебя так и за что?
– Да пацаны какие-то нездешние… Среди бела дня… У магазина… Хорошо хоть, Аленку с собой не взял. А люди, знаешь, отворачивались, и никто не подумал заступиться, – заплакал старик.
Потрясенная Елена Ивановна не могла понять, кому помешал ее пожилой отец-работяга. И это сделали таджики, у которых почитание старших в крови! Все! Больше здесь оставаться нельзя. На работе шептались, что в городе появились снайперы: то там, то тут кто-нибудь неожиданно падал на тротуар, оставляя на нем кровавые сгустки. Обычно целились в голову. Елена Ивановна и сама не раз ощущала в затылке ледяной холод, торопливо перебегая открытое пространство.
– Надо срочно уезжать отсюда, хоть куда-нибудь, – прошептала она.
– Дочка, вы молодые, бегите, спасайте себя и своего ребенка, а мы со старухой как-нибудь тут… Убьют – так убьют, от судьбы не уйдешь, – вздохнул отец. – Мы не будем висеть камнем у тебя на шее. Правда, мать? – взглянул он на испуганную жену.
Та только махнула рукой и заплакала.
Вечером Елена Ивановна насела на мужа:
– Володя, надо что-то решать. Если мы сейчас не соберемся, то к июню, после окончания учебного года, начнется повальное бегство из города, и мы не сможем добыть контейнер для перевозки вещей. Я завтра же возьму отпуск и улечу в Москву, к своей институтской подруге. Она обещала помочь мне подыскать работу. А ты продавай квартиру и готовься к переезду.
* * *
С этого момента вся их жизнь круто изменилась. Спокойствие и благополучие – простое человеческое счастье, которое воспринимается обычно как нечто само собой разумеющееся, – все рассыпалось в прах в одно мгновение.
* * *
В Москве таких, как Елена Ивановна, оказалось немало. И никто из властей не рвался им помочь. «Историческая» родина не спешила распахнуть им навстречу свои объятия. Сама после своих «переворотов» держалась на ногах еле-еле. Помогали только старые друзья и такие же бедолаги, бежавшие из разных «революционных» республик, которым уже как-то удалось зацепиться, да еще простые москвичи – кто словом, кто делом.
В столице для нее работы с жильем не нашлось. Но в небольшом подмосковном городке на западе области ей предложили место врача в маленькой больнице и «жилье» – восьмиметровую комнатушку в рабочем общежитии. Делать нечего, пришлось соглашаться. Но как она перевезет сюда семью? «Ладно, буду снимать для них комнату в частном секторе», – решила она.
Вскоре муж перевез их со всем скарбом, а сам вернулся в Душанбе, где оставались его нетранспортабельные родители. Увидеться ему со своей семьей довелось лишь через десять лет… на выпускном вечере повзрослевшей без него дочки, которая тосковала по нему все эти годы.
* * *
Работящая Елена Ивановна, опытный, знающий врач, человек порядочный и надежный, быстро поладила с местными коллегами, поэтому вскоре к ее мнению стали прислушиваться. На работе у нее все складывалось. Но вот с жильем… Ее соседи по общежитию, в основном работяги, приехавшие из разоренной российской глубинки, причем сильно пьющие, никак не хотели смириться с тем, что она не желала разделить с ними компанию. Частенько они, разгоряченные самогонкой, ломились к ней по ночам. Однажды она, устав от этой бесполезной борьбы, внезапно открыла дверь. «Боец», оказавшийся на «переднем крае», ввалился к ней в комнату, едва удержавшись на ногах. Она быстро захлопнула дверь перед носом менее удачливых ухажеров и крикнула им:
– А вы можете убираться ко всем чертям! Я буду только с ним!
Приободренный ее выбором, кавалер прорычал своим собутыльникам:
– Катитесь к … матери! Она – моя!
Елена Ивановна указала ему на единственный в комнате колченогий стул.
– Да ладно, че ты? Давай уж сразу… А то, может, я за бутылкой сбегаю? Веселей пойдет!
– Ты знаешь, кто я? – спросила она торопыгу, загадочно улыбаясь.
– Дак это… Врачиха вроде? – оторопел мужик.
– Вот именно, врачиха. А тебе известно, сколько я училась, чтобы ею стать? Лет двадцать в общей сложности.
– И на кой хрен тебе, такой смазливой аппетитной бабешке, было столько себя мучить?
– А это чтобы не только лечить больных, но и постоять за себя, если на пути встретится такой вот придурок, как ты. Я очень хорошо училась и знаю, где надо легонько нажать на твоей бычьей шее, чтобы ты сразу окочурился. И никто ничего не докажет. Давай потренируемся? – потянулась она к нему.
Побелевший мужик дико сверкнул вытаращенными глазами и пулей вылетел из комнаты, едва не сорвав дверь с петель.
Больше ее никто не беспокоил.
Однажды Елену Ивановну вызвали в местный райздрав. Оказалось, что в поселке в получасе езды от их городка, завершается многолетний долгострой – новая областная многопрофильная больница.
– Во-первых, это будет современная клиника с новейшим оборудованием, – увещевала хозяйка кабинета Елену Ивановну, – если, конечно, устранят все недоделки и не урежут финансирование, – скороговоркой произнесла она. – Во-вторых, там есть железнодорожная станция, удобнее добираться до Москвы. И, в-третьих, на территории больницы заканчивается строительство небольшого общежития для иногороднего медперсонала. А вскоре рядом с больницей вырастут коттеджи для врачей. Так что, может, вам удастся там получить квартиру. Ведь у вас большая семья, да еще и отец репрессированный, – продемонстрировала чиновница свою осведомленность.
– Да, мы сейчас снимаем комнату, и у меня есть место в общежитии.
– Советую вам быстрее решать, такими предложениями не разбрасываются. С вашим опытом и молодой энергией вы можете на новом месте многого добиться… как утверждает ваш покровитель, – ехидно добавила она.
«Кто мог замолвить за меня словечко?» – гадала Елена Ивановна. Скорее всего, Петр Сергеевич, ее недавний пациент, которого она буквально вытащила с того света. Он же какое-то начальство в их городке. Но она ведь при нем даже не заикалась о своих бедах. Как он узнал?
Так начался новый период в ее жизни.
* * *
Больнице-новостройке еще только предстояло стать таковой в полном смысле этого слова. Елена Ивановна приходила к себе в общежитие только ночевать. Родители с дочкой все еще оставались на квартире, а муж никак не мог уговорить своих родителей переехать в Россию. Да и куда переезжать? Повесить их на шею своей жене вместе с собой, безработным, в придачу? И все же он надеялся как-то выкрутиться, обещая Елене Ивановне вскоре все решить и приехать.
Не выкрутился. Жизнь впроголодь, безденежье, захлестнувшая Таджикистан гражданская война, враждебное окружение – все это опустошило немолодого мужчину. «Убьют, так убьют, – писал он Елене Ивановне, передавая ей весточки с редкой оказией. – Сегодня цел – и ладно. А что будет завтра – наплевать. Все мы тут живем одним днем… Тоскую без вас, но сил ни на что уже нет, да и денег на дорогу тоже нет. Зачем я тебе такой?»
Так и стала Елена Ивановна ни вдовой, ни мужней женой, а дочка ее лишилась любимого отца.
Наконец им дали квартиру в коттеджном поселке, который строили солдаты, как умели. Надо было жить дальше. На маленьком участке разбили грядки, устроили парники и посадили яблони перед домом, который пришлось доделывать и переделывать еще не один год. Какие из солдат-срочников строители? К весне сотрудникам больницы отдали под огороды ближайший пустырь, где доктора, в основном горожане, осваивали новые орудия труда – лопату и грабли и учились сажать картошку.
* * *
Нелегко им пришлось в первые годы – ни привычных овощей и фруктов, ни теплой одежды, слякоть, холод, осенью и зимой темно, освещение слабое, дорога в горку, к железнодорожному поселку, разбитая, никого знакомых… Денег не хватало, едва сводили концы с концами. После столичного Душанбе здесь – почти что глухая деревня в окружении высоченных хмурых елей, от скрипа которых по ночам тревожно сжималось сердце. Но ведь не стреляют? Не убивают твоих близких? И слава Богу!
Елена Ивановна работала с раннего утра и до позднего вечера. Ее привычные к трудностям родители – жизнь их и прежде не очень-то баловала – вели хозяйство и занимались внучкой. Вскоре их небольшая квартирка в насквозь продуваемом кое-как сляпанном коттедже превратилась в «перевалочный пункт» – со всех сторон потянулись в гостеприимный дом, где делились последним, родственники, друзья и знакомые: бежали из Таджикистана и из других мест кто куда. Кто-то оставался на несколько дней, кто-то задерживался на месяц и дольше, а кто-то поселялся на годы. Народу у них обычно толпилось много, и не всегда Елене Ивановне удавалось найти тихий уголок, чтобы немного отдохнуть после работы.
Ее брату с семьей предложили поехать в Орловскую область, в деревню, как и другим их родичам. Земли там оказалось немерено, только успевай обрабатывать, дом он с отцовской помощью со временем отстроил хороший, только работы нет. Да и детей учить негде.
Сначала у Елены Ивановны обосновалась его старшая дочка от первого брака, поступившая в московский институт, затем приехала младшая, школьница, от второго брака. Пришлось их и кормить, и лечить, и одевать, и воспитывать, отрывая от себя и своего ребенка, а потом, после учебы, еще и пристраивать на работу. Через какое-то время к старшей племяннице приехал из Таджикистана жених и как-то незаметно прижился у них, но на работу устраиваться не спешил. Отец Елены Ивановны, Иван Михайлович, строгий глава семейства, напрасно пытавшийся его усовестить, жаловался:
– Вот ведь работать этот здоровый бугай никак не хочет на заводе или на стройке. Лежал бы целыми днями на койке, да полеживал. Говорит, что не такой он дурак, ищет, где денег больше, да делать меньше. А жрет-то каждый день за двоих, не стесняется, – сокрушался старик.
После армии приехал их навестить и сын брата, да так и остался. Считалось, что всех их приютили дедушка с бабушкой, ну а Елена Ивановна со своей Аленкой вроде как при них состоят. Только о том, как их всех прокормить, приходилось думать ей одной.
Два десятка лет тащила она, выбиваясь из сил, на себе всю свою родню – ближнюю и дальнюю. Наконец все выучились, обустроились с ее помощью и выпорхнули из ее дома, куда теперь нечасто заглядывают. Уже ушли в мир иной ее родители. Иван Михайлович был очень горд собой: он смог отпраздновать свой 90-летний юбилей и протянуть еще годик. Вслед за ним ушла и его жена, Роза Семеновна, с которой они прожили более 60 лет. Брат, которого ей удалось устроить на хорошую работу в подмосковном санатории, погиб, разбившись на автомобиле. Сердечный приступ. И опять все хлопоты легли на плечи Елены Ивановны. Его жена и дети присутствовали на похоронах и поминках как люди приглашенные.
Так получилось, что мы с Еленой Ивановной не только родились в один день, но и внуков умудрились дождаться в один год, с разницей в полтора месяца. У меня – внук, у нее – внучка. А спустя шесть лет она обзавелась еще и второй. Уже много лет она – заместитель главного врача больницы. Права оказалась та чиновница из райздрава, напророчив ей высокий пост. Да и не только это. Была Елена Ивановна и депутатом, и членом всевозможных общественных комиссий, и «старожилом» Доски почета всего района. Она достаточно известный и уважаемый там человек. Казалось бы, все хорошо…
Но жизнь все еще продолжает испытывать ее на прочность, не делая скидок на болячки и возраст. И она, человек мужественный и сильный духом, продолжает «нести свой крест», не жалуясь на судьбу. А как, наверное, хотелось бы ей вновь почувствовать себя слабой женщиной, той, из прошлой жизни, защищенной от разных невзгод сильными молодыми руками тех, кому она столько отдала за последние годы! И отдохнуть от всего, хотя бы немного…
Тучково, август 2014 г.Быть может…
Они, стародавние подруги, уговорились пересечься в метро и немного пообщаться. В последние годы это стало чуть ли не роскошью: скорости нарастают, а времени и сил все меньше. Грохот поездов, ежеминутно выплевывающих на платформу серо-черную массу обитателей «спальных» районов, подгоняет к эскалатору. Наверх, на волю, поскорее вырваться из неласковых объятий угрюмых сограждан!
– Прогуляемся по парку? Все лучше, чем сидеть в прокуренной кафешке, – предложила Ира.
– Да стремно как-то… Уже и темнеет…
– Ты что? Опасаешься за свою девичью честь? Так мы сядем на лавочку, прикинемся ветошью – и никто не пристанет к двум юным пенсионеркам. А свои фальшивые брильянты завесь волосенками.
– Почему это фальшивые? – вскинулась Лиза. Ну ладно. Смотри, дадут нам чем-нибудь по башке, всю жизнь потом будем счастливо улыбаться, пуская слюни, – пробурчала она.
Лиза, не растерявшая еще на пороге своего шестидесятилетия ни остатков былой красоты, ни сексуального задора, сегодня казалась какой-то серой, замученной и пожухлой. И опять сильно располнела. Даже ее любимые разнокалиберные серебряные цепи-кольца-серьги как-то угасли.
– Что с тобой? – участливо спросила Ира. – Ты на себя не похожа. Где боевой раскрас и погибельный для мужиков блеск глаз нестареющей «бабушки-блудницы»?
– Знаешь, все так надоело – и дома, и на работе, и стимула никакого нет… Ни в чем нет просвета. Я чувствую себя загнанной лошадью, которая вот-вот упадет в одночасье. Тут и Бог не поможет, хотя я всю жизнь ему служу и почитаю его.
* * *
С Лизой они познакомились еще будучи студентками, хотя и учились на разных факультетах. На третьем курсе они оказались вместе на производственной практике в «Детской книге», где совсем недавно Лиза зарабатывала стаж для поступления в вуз, а Ира нередко бывала там по своим рабочим делам. Девушки быстренько состряпали совместный отчет по практике и были таковы, обеспечив себе две недели полной свободы. Остальные их сокурсники, имевшие о полиграфии весьма смутное представление, завязли там надолго.
Спустя несколько лет они, уже окончив институт, случайно встретились в детской поликлинике – в очереди к районному педиатру. Оказалось, что обе живут в новостройке на берегу Химкинского водохранилища, даже в одинаковых квартирках. У Лизы был уже «взрослый», почти годовалый, сын, а Ирин еще не вырос из пеленок. Совместные многочасовые марши с колясками, беготня по очереди на молочную кухню, в магазин или аптеку, более чем скромный семейный достаток сблизили сначала их, ровесниц, а потом и их мужей. Вскоре к их дружной компании примкнули такие же молодые родители с маленькими детьми, чьи бабушки и дедушки не горели желанием взваливать на себя такую обузу. Теперь они встречались не только на «колясочной» тропе – крепко привязанные к дому и лишенные возможности хоть на часок удрать от детей, они быстро нашли выход: день отдаем детям (мужья – работе), а ночь вся наша. Малышню-то можно и в одной квартире спать уложить с «дежурным», а утром разобрать по домам.
Ребятне в такой большой «семейке» тоже было хорошо – весело, интересно, сытно и ухоженно. В прибрежных зарослях водохранилища среди старых яблоневых садов и малинников, где местами еще сохранились под вековыми липами остатки окраинных деревень с коровами и курами, ребятам было раздолье – и поиграть в догонялки, и мяч погонять, и на «тарзанках» покачаться – детские площадки во дворах еще не скоро появятся… Дикие песчаные пляжи залива с его теплой чистой водой… Теперь там уже не искупаешься. Зимой прямо от дома на лыжах-санках – и в лес, а летом – походы шумной компанией «по родному краю» с кострами и шалашами.
Как-то незаметно дети выросли, пошли в детский сад, а потом и в школу. Друзья разъехались, и веселая компания постепенно сократилась до трех пар, а затем, с резким повышением благосостояния и собственной значимости одной из пар – до двух. Лиза с семьей переехала в новую квартиру на другом берегу водохранилища. И стало, как в песне: «Мы с тобой два берега у одной реки». Теперь они семьями встречались только в редкие выходные или по праздникам.
Жизнь шла своим чередом: дети взрослели, а родители все больше увлекались работой и добыванием «хлеба насущного». В «застойно-застольные» восьмидесятые, с их ежегодной сменой кремлевских сидельцев, а потом и «новым мышлением», понятным только его автору, это становилось все актуальнее. Наступили девяностые с их бурными событиями. В одночасье, неожиданно для большинства, рухнул Союз. Ветер свободы, закруживший не искушенные в словоблудии головы; бесконечная депутатская говорильня; «реформаторские» преобразования с опустевшими прилавками магазинов и моментальным обнищанием народа; открытый мир, куда рванулись из страны те, у кого было на что бежать; финансовые пирамиды с ваучерами в «стране непуганых идиотов»; экстрасенсы-предсказатели с «психотерапевтами», которые дурили отчаявшийся народ, каркая из телевизоров; «хватай – сколько унесешь!» – какое раздолье для бандитов со всего света! И первые жертвы, в основном интеллигенция, не обладающая железной хваткой рвача. Многие отцы семейств, сбитые с ног кто безработицей, кто более чем смешной зарплатой, не в силах найти выход, совсем пали духом. Женщины привычно «взялись за гуж».
В эти-то «лихие девяностые», в сорок с приличным хвостиком, Лиза стала бабушкой. Семейный воз в эти годы ей пришлось везти чуть ли не единолично. А тут еще дачное поветрие, захватившее оголодавших москвичей: народ решил спасать себя сам на своих шести сотках. И вечное: «Мама-баба! Ням-ням!»… в малогабаритной кухне. И одеть бы всех поприличнее… И старенькие родители, ветераны войны… И младший братец, пожилой уже добрый молодец «без руля и без ветрил»… Да еще муж, архитектор, потративший жизнь на создание «города-сада из прекрасного будущего», а теперь выбитый из колеи новыми веяниями и технологиями, совсем потерялся в стране нарождающегося капитализма со звериным оскалом. И бесконечные счета, которые копились на тумбочке.
Выручали Лизу – специалиста по древнерусскому искусству – аккордные музейные заказы, экспертизы и выставки, да еще возрождение православных храмов после десятилетий запустения и гонений на бескрайних просторах необъятной родины. Командировки приносили деньги, отвлекали от семейных невзгод, позволяя элементарно отоспаться в единоличной гостиничной кровати вместо тесного брачного ложа в их девятиметровке, а самое главное – погружали в состояние творческого «потока»: только любимое дело и никаких проблем. Но об искусствоведении и готовой к защите диссертации пришлось забыть. Не до того стало.
На работе, в авторитетном художественном НИИ, – смешная зарплата за нелегкий и вредный для здоровья труд, возвращающий стране великие шедевры ценой в миллионы твердой валюты. Но Лиза не представляла себя без этой работы и никогда не помышляла о скороспелой карьере «челнока», втянувшей в свою пучину значительную часть наивной творческо-инженерно-технической интеллигенции, которая осталась после «революции» у разбитого корыта. Как говорит Жванецкий, не жили хорошо – и нечего начинать.
– Знаешь, родители к старости стали такие смешные – то яростно ссорятся по пустякам, то рыдают в три ручья и навек прощаются, если кто-нибудь из них завалится. Боюсь за них. У матери – онкология. Отец еле ходит, а на собственном юбилее не отставал за столом от нас – не одну рюмашку коньяка махнул, да еще обиделся на меня, когда я попыталась его угомонить: «Сама не пей много, женский алкоголизм не лечится».
– Ты за них не бойся. Они у тебя бравые ребята, долгожители. Да и что им какие-то болячки? Они фашиста сломали, всю войну прошли! – успокаивала ее Ира. – Тебе бы впору немного о себе подумать, здоровье-то не железное, хоть и хорохоришься всю жизнь.
– Какое там «о себе»! Мужа жалко, опять без работы, а ведь самый талантливый на курсе был! Ты же видишь, как теперь в Москве проектируют-строят: какой-нибудь «денежный мешок» из нефтяных заправил ткнет пальцем в заповедном центре: «Хочу тут и вот так!» – и все, никакой генплан ему не указ, а тем более законы архитектуры… Шальные деньги последние мозги вышибают из «властей». Только бы не спился… На даче все сам строит, этим и держится, чувствуя себя там хозяином, а дома лишний раз из комнаты не выйдет, чтобы ребятам не мешать… в нашей-то теснотище. Только его деликатность никто не ценит. И писать совсем перестал. Мольберт давно в стенном шкафу пылится.
– Чем ты поможешь? Ему бы работу по душе найти, да кому мы теперь нужны, когда полно молодых неустроенных? К тому же сейчас все на компьютере делается, а он не владеет этими новыми заморочками. Найди ему какие-нибудь компьютерные курсы для художников. Друзья-то его как-то устраиваются, пусть помогут. Не портреты же рисовать на Арбате в таком возрасте или особняки проектировать для «новых русских» с их «вкусами» и запросами? Нет, это не для него…
– Да, тут еще мне отец по секрету сообщил, что меня разыскивает какой-то мужик. Говорит, сорок лет уже ищет. Телефон оставил. Отец ему допрос учинил с пристрастием: кто да что, как телефон узнал? А зачем я буду ему звонить? Что скажу? Да и вряд ли вспомню его через столько лет.
– Позвони-позвони. Интересно же. Хоть немного развеешься. Ты помнишь духи нашей юности «Быть может…»? Вот и его вспомнишь… если, конечно, захочешь, – подзадорила ее Ира.
Они поболтали еще немного, пожаловались друг другу на своих мужей, посетовали на неслухов-сыновей, перемыли косточки невесткам и общим друзьям, посудачили о тряпках и, насытившись общением, с облегченной душой отправились по домам.
Лиза позвонила. Оказалось, что с отцом разговаривал ее бывший одноклассник, который когда-то бывал в доме ее родителей, а теперь решил созвать народ отметить сорокалетие окончания школы, которое случилось два года назад. Неужели это тот мальчишка, ее первая любовь? Они учились вместе с первого класса, а в восьмом их внезапно накрыло какое-то неведомое им чувство и понесло, будто снежной лавиной.
* * *
Весна 1961 года. Дурманящий запах проклюнувшейся листвы, прозрачный пьянящий воздух и птичий гомон в окрестностях Красной Пресни с ее брусчатой мостовой и улочками-переулочками в старых неказистых домишках, над которыми нависала громадина высотки; с тремя узкими деревянными четырехэтажками бордового цвета, пиками торчавшими у Площади 1905 года, на них в майские праздники полоскались на ветру огромные транспаранты «Мир. Труд. Май»; с загадочным Ваганьковским кладбищем, куда молодежь ходила поклониться Сергею Есенину; с известным своей шпаной и танцульками Краснопресненским парком; с уютным кинотеатром «Баррикады» и, конечно, с зеленым островком разноголосого, любимого с детства зоопарка – все это открывалось заново юным неискушенным душам и будоражило их.
А еще был планетарий, где в полумраке зала они зачарованно смотрели на такие волнующе близкие звезды, надеясь разглядеть летящий в космосе маленький искусственный спутник Земли. После уроков они подолгу гуляли по Москве: спускались от площади Восстания, минуя посольские особнячки, к Пушкинской и дальше по улице Горького к Красной площади, а потом уходили в Замоскворечье, еще не покореженное бездумной реконструкцией… И говорили-говорили, и никак не могли расстаться.
После восьмого класса Лизе пришлось перевестись в вечернюю школу и пойти работать. Клянчить у родителей карманные деньги становилось неловко. Он пошел в девятый класс. Как-то вечером, гуляя по улице Горького, они подошли к Маяковке, где у памятника поэту кучковался не избалованный такими зрелищами народ: свои стихи, которые отваживался публиковать только журнал «Юность», да и то выборочно, читали Андрей Вознесенский и его поэтический соперник Евгений Евтушенко. Но их обоих затмевала шикарная Белла – и немыслимой красотой, и заграничными нарядами, и проникновенным голосом, и необычными виршами.
Мнения у них разделились: Лиза была в восторге от услышанного, а ее кавалер мало что понял. Так на почве новой поэзии они и поссорились. И неожиданно расстались, тая обиду друг на друга. Однако ей все же казалось, что это понарошку: вот выглянет он из-за угла ее дома – и они бросятся навстречу друг другу, как раньше. Но время шло, он не приходил. У Лизы между тем появилось много новых знакомых, и не каких-то там школяров…
Она уже училась в институте, когда однажды около нее, поджидавшей на остановке трамвай, с визгом затормозил мотоцикл, окутав ее облаком пыли. Лиза приготовилась достойно отбрить нахала, как вдруг из-под шлема на нее глянули смеющиеся глаза. Такие знакомые, такие родные! И в то же мгновение все вернулось, вспыхнув так, что они потеряли головы. Лиза-то была еще не замужем, а вот он…
Вскоре после одиннадцатого класса его призвали в армию. В хмельном угаре прощания со свободой он и не заметил, как его крепко прибрали к рукам. Узнав, что скоро станет отцом, он без лишних слов женился: любовь-нелюбовь, а дети не должны страдать. Из армии его уже поджидали жена с сыном. И вот теперь, после нечаянной встречи, они с Лизой, ослепленные страстью повзрослевшей первой любви, уже не могли совладать с доводами разума. И все же чувство долга перед ребенком оказалось у него сильнее любви.
Они опять расставались с Лизой. Навсегда. Будто резали по живому… Оправившись от потрясения, Лиза приказала себе немедленно выкинуть его из головы.
* * *
Они договорились встретиться на прежнем месте – рядом с метро «Улица 1905 года». Лиза, убедившись в том, что надеть, как всегда, нечего, ринулась по магазинам. Барахла теперь было повсюду много, но именно барахла. Она купила белые брюки и подобрала дома к ним «верх» из обнаруженных в шкафу нарядов. Повесила на свою роскошную грудь привычный килограмм серебра, взбодрила модную прическу с обманчивым мелированием и, набросав слегка черты лица, отправилась на встречу, благоухая ароматом «Givenchy». Не бог весть какое свидание, чтобы лезть из кожи вон, наряжаясь.
Она его узнала сразу и расхохоталась прямо ему в лицо. Излишним тактом по отношению к мужчинам привыкшая к их поклонению Лиза себя не обременяла. Перед ней стоял лысоватый пузастый мужичок с золотой печаткой на пальце и растерянно улыбался. «Завгар какой-то», – усмехнулась про себя Лиза. – Неужели я в него когда-то была влюблена до полоумия?»
– Пойдем, посидим в ресторанчике, – предложил он, чтобы сгладить неловкость первых минут.
– Ну, давай. А деньги-то у тебя есть? Я ведь не хожу по забегаловкам, – обозначила Лиза свой статус, смеясь в душе.
– Обижаешь, я человек обеспеченный, начальник цеха на ТИЗПРИБОРе, там же, где и начинал работать у отца слесарем-сборщиком, помнишь? Ну на Садовом, недалеко от Маяковки. У меня квартира здесь неподалеку, дом в Архангельском, считай, в заповеднике, маленький, но свой: от стариков достался участочек с деревенской развалюхой. Я, вообще-то, свои две семьи вполне прилично содержу, да еще сын с невесткой и внуком на мне, и мать тоже. Жена не работает давно. Всем хватает, – самодовольно заметил он.
– Ты про две семьи-то подробней, пожалуйста, – поддела его Лиза.
– Да ладно тебе, – засмущался он, кляня себя за свой длинный язык. – На работе у меня женщина была. Многолетний «служебный» роман. Я ей помог детей поднять, они меня за отца почитают. А жену не мог бросить, хоть и не любил никогда. Сначала из-за маленького сына, потом деньги копил: себе дом строил с подворьем, сыну возводил хоромы. Жалко было все бросать. Я ведь домашний. У меня в Архангельском все по уму сделано: и дом, и сад, и баня, и даже водоем соорудил. С работы приезжаю и плаваю в нем… Я с семи утра на работе, а в пять уже дома. Вот и колочусь помаленьку.
– Да-а, все у тебя как складно, – протянула Лиза, разглядывая его: «Вот и деньги у мужика есть, и доволен всем до соплей, а одет черт знает как».
– Ну, а ты как? Семья, дети, работа? – спросил он и, осмелев, добавил: – Дай-ка я посмотрю, какая ты на самом деле: подними-ка челочку-то крашеную повыше! А девушка-то седенькая оказывается! – съехидничал он. – Но все равно такая же красивая и такая же самоуверенная.
Встречу одноклассников устроили у него в Архангельском: приехали даже «ребята» из параллельного и их классный руководитель, который тогда, выпускник пединститута, был не намного старше своих питомцев. Сначала приглядывались друг к другу, силясь вспомнить хотя бы имя и внутренне содрогаясь от мысли: «Неужели и я так старо выгляжу?». Потом последовали тосты – один за другим, и сразу стало безалаберно-весело, будто и не минуло столько лет. Праздник удался. Гости расхваливали, с оттенком легкой зависти, хозяина за «умелые руки», восхищаясь его «поместьем», и благодарили за гостеприимство его седовласую жену, которая зорко поглядывала на «одноклассниц», нередко останавливая свой цепкий взгляд на Лизе. Прощаясь, все обменялись номерами телефонов и клялись друг другу в вечной дружбе, еле держась на ногах.
Он позвонил ей через день.
– Как ты добралась? Все нормально? Ты с коньячком-то не переборщила? Мне показалось…
– Я тренированный боец, – перебила она его. – Спасибо за заботу. Ты бы еще через месяц позвонил.
– Да я хотел сам тебя проводить, но… Слушай, а давай встретимся, я тебе фотки передам. Классные получились.
* * *
И понеслось… «Любви все возрасты покорны…» Почему-то всегда в таких случаях вспоминают только арию из оперы, а у Пушкина-то в «Евгении Онегине» все гораздо серьезнее:
Любви все возрасты покорны; Но юным, девственным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури вешние полям; В дожде страстей они свежеют, И обновляются, и зреют — И жизнь могущая дает И пышный цвет и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мертвой след: Так бури осени холодной В болото обращают луг И обнажают лес вокруг.А как же всепожирающая страсть, внезапно вспыхивающая в зрелом, состоявшемся в этой жизни человеке, какая «юным, девственным сердцам» и не снилась? От нее, бывает, теряют голову, пытаясь вырваться из омута привычно-тусклого существования, и очень «взрослые» люди, вызывая удивление, а порой и злую насмешку зависти окружающих. И разрывают они в одно мгновение десятилетиями свиваемый семейный кокон. Может, это прощальный дар ушедшей молодости самым достойным любви? Любовь выбирает не каждого… неважно, первая она или последняя. Поздняя любовь, трагичная по сути своей, обречена: у нее нет будущего. Но какое это ликование души – улетать от повседневной рутины и бесчисленных «должен!» вдвоем с любимым человеком, совсем забывая о том, что уже давно «возвращаешься с ярмарки» жизни! Это потом все может обратиться «в болото», а пока… хоть день – да мой!
* * *
Они вновь превратились в тех прежних восьмиклассников, совершенно забыв о возрасте, и опять гуляли по Москве, вспоминая заповедные уголки своей юности, ходили в ресторанчики, коих развелось видимо-невидимо, ездили на его «японке» за город и все говорили-говорили, с трудом отрываясь друг от друга. Вскоре она была в курсе всех его дел-забот, познакомилась с его заводскими друзьями, которые поглядывали на нее маслеными глазками, и помогла ему «прилично» одеться.
Она таскала его по выставкам, рассказывала о своей необыкновенной работе и загранпоездках, а он зачарованно смотрел ей в рот, боясь чего-нибудь не то ляпнуть или оскорбить ее тонкую организацию цыканьем сквозь зубы. Такой женщины – совсем из другого, неведомого ему мира – у него никогда не было. И он вцепился в нее мертвой хваткой: все его окружение постоянно требовало от него чего-то материального – денег, золотишка, домов-квартир, обещаний жениться, выгодных заказов или выпивки. Он всем почему-то был должен всю жизнь. И только Лиза ничего от него не требовала и не покушалась на его свободу, но при этом открыла ему глаза: заботясь всю жизнь о благе других, он сильно задолжал самому себе – годами без нормального отпуска в своей заводской нервотрепке с похмельным контингентом и вороватым начальством, без настоящего ухода, тепла, заботы и бескорыстной любви. Все сам – и на работе, и дома.
Через полгода Лиза «растаяла» на пятнадцать килограммов, сменила вечные брюки на узкую юбчонку выше колен и молодежные шорты, накупила новых тряпок, сапог на высоких каблуках и модных туфель (ножки оказались еще вполне приличными). Она вся как-то встряхнулась и снова заискрила глазами. Это заметили все. И даже муж, в горькие минуты нежелательного прозрения. Началась обычная в таких случаях суета: бесконечное шушуканье по мобильнику, якобы с подругами, муки совести, проницательные, понимающе-ехидненькие взгляды невестки и недоумение сына. Даже старенькие родители – и те заподозрили что-то неладное. Строгий Лизин отец стал посматривать на нее укоризненно.
В том стане тоже забеспокоились: человек, всю жизнь обходившийся малым, вдруг стал наряжаться, как молодой, поменял машину, перебрался в отдельную комнату, начал благоухать заморской туалетной водой и даже заявил о своем намерении впервые в жизни отправиться на отдых за границу в гордом одиночестве. Жене были известны симптомы этой «болезни», которая случалась с ним и раньше, правда, не в такой запущенной форме: «Пьяница проспится, кобель – никогда». Она, больше переживая из-за оскудения семейной кубышки, чем из-за явной неверности мужа, лишь донимала его язвительными замечаниями, справедливо полагая, что никуда от нее, а пуще того – от своего дома, он, старый хрен, не денется. А сыну было не до отца-донжуана: у него самого случился «переходный возраст».
Лиза часто звонила Ире, посвящая ее в некоторые детали своего бурного романа, но без интимных подробностей (между ними это было не принято). Они дружили семьями много лет, вместе отмечали праздники, ездили отдыхать или друг к другу на дачу, поэтому такое Лизино преображение не могло не вызвать некоторого подозрения у ближнего круга. Лизин муж, конечно, догадывался о главном, как и о том, что остальные догадываются тоже, но не хотел никаких «революций». Он был однолюб: «Что поделаешь, может, и надо было давно уж уйти, но я ее до сих пор люблю. Только ее одну». В какой-то момент Лиза заикнулась о разводе и даже попыталась подыскать небольшую квартирку в ближайшем районе, но все же не решилась, да и денег не хватило бы даже на однушку не первой свежести.
Дважды в год, весной и осенью, они вместе ездили отдыхать за границу, и вскоре протрезвевшая Лиза уже благодарила себя и Бога за то, что повременила с устройством «новой» семьи. Все-таки они были очень разными людьми, с разными взглядами и представлениями о жизни. Даже распорядок дня был у них абсолютно разный: он, «жаворонок», в шесть утра отправлялся на завод и в девять вечера уже укладывался спать, а она в это время только возвращалась с работы или шла в гости, или в ресторан на деловую встречу с заказчиком. К тому же довольно часто уезжала в длительные творческие командировки с коллегами разного пола.
Он – типичный домострой, пролетарий с кулацким уклоном, у которого все разложено по полочкам: когда пить-есть, когда спать-вставать, когда работать, когда садом-огородом заниматься, что надо делать, а чего не надо ни за что и никогда; она – натура художественная, темпераментная, свободолюбивая и сильно самостоятельная, что мужчины-собственники обычно переносят с трудом. К тому же очень красивая и сексуальная. Конечно, такая «правильная» жизнь ее напрягала, особенно на отдыхе – обилие вкусной еды, подавляющей волю к сохранению пристойной фигуры, ленивое валянье на пляже и отход ко сну еще засветло… строго по часам, а не тогда, когда хочется. И никаких гулек. С одной стороны, это было какой-то передышкой в ее напряженной жизни. Но с другой… довольно утомительно.
И все же она сильно привязалась к нему. Он сам решал все житейские вопросы: когда, куда, что, сколько и зачем, а она этим не была избалована, скорее, наоборот. Действительно, никто больше так о ней не пекся, как он: как она себя чувствует, успела ли как следует поесть, тепло ли оделась, не засиделась ли где с друзьями, не надоела ли ей старая шубейка, не пора ли сменить цацки или духи, не надо ли чего ее внуку или помочь на даче. Конечно, это подкупает и вызывает чувство благодарности, но… постоянное нахождение «на связи» с подробными докладами о прошедшем дне и своих домашних надоедает тоже. А он без нее вообще жизни не мыслил: «Если ты меня бросишь, я сразу умру».
Но первым умер Лизин муж, который жил с весны до осени на даче и приезжал в Москву только с первой порошей. В последние годы он сильно похудел, весь ушел в себя, стал угрюмым и раздражительным до истерии, много пил и не поддавался на уговоры родных показаться врачу. «Отстаньте от меня. Это вы все вечно стонете, а у меня ничего не болит, и лекарствами вашими сами травитесь», – упрямился он. Лиза, недавно схоронившая отца, металась между работой, старенькой больной матерью и мужем, моля Бога, чтобы самой не свалиться. С весны начиналось бесконечное мотание на дачу с продуктами. Она готовила на электроплитке мужу еду на неделю, сажала-косила-полола и мчалась обратно. Хорошо, что научилась водить машину, – не надо никого просить отвезти-привезти.
В последний раз Лиза с сыном привезли его с дачи совсем разбитым. Возвращаться домой он никак не хотел, несмотря на промозглую осеннюю слякоть. Ни на что не жаловался, но ночами метался и уже не мог сдержать стоны. Лиза почти не спала, в их заставленной комнатенке и прикорнуть-то негде было. Беспокоить молодежь она не решалась. «Скорые» приезжали и уезжали. Муж злился и не мог толком объяснить врачам, что болит: болело все. Наконец врач очередной неотложки сгреб его без всяких разговоров в охапку, пригрозив, что если тот начнет брыкаться, то тут же и умрет. Состояние оказалось тяжелым, врачи боялись за исход операции. И все же решились. Сложная операция прошла благополучно, но у ослабленного пациента уже не осталось никаких силенок, чтобы выкарабкаться. Через месяц после возвращения с дачи его не стало.
Лиза полгода не могла отойти от этого несчастья, казнила себя за то, что вовремя не спохватилась и не заставила его лечиться, за то, что часто уезжала, мало уделяла ему внимания… и отправлялась отдыхать без него. Лишь совсем ослабевшая мать заставляла ее держаться: Лиза ездила к ней до работы и после – готовила, кормила, убирала, стирала… и ничего не говорила о скончавшемся муже, а старушка, как назло, без конца о нем спрашивала: «Что же он у вас какой-то заброшенный стал? Болеет, что ль? Или не кормишь его совсем?». Мать сделалась капризной, плаксивой и обидчивой, требуя к себе неусыпного внимания. Все уже забывала, прятала свои «ценности» в газетные обрывки, которые потом безуспешно искала, и донимала дочь одними и теми же вопросами.
Ира постоянно звонила Лизе, не зная, как и чем помочь, чтобы хоть немного облегчить ей существование в эту тяжелую пору.
– Ты, наверное, меня осуждаешь? – с горечью спросила ее Лиза в очередной раз.
– Ну что ты! «Не суди, да не судим будешь». Осуждать может только тот, кому не довелось в жизни «из болота тащить бегемота», кто не знает, как это страшно, больно и обидно за свое бессилие, когда на твоих глазах родной человек кубарем катится на «дно колодца», как пел Высоцкий, и постепенно превращается в Маугли. И ничего нельзя поделать, хоть убейся, пока он сам не захочет выплыть. Хотя бы попытаться. И немудрено, что ты так увлеклась, тем более что первая любовь светит нам всю жизнь. Скорее всего, это просто защитная реакция твоего потрепанного организма. Не казни себя. Любой женщине, даже такой сильной, как ты, нужно как-то удержаться на плаву. Даже самой независимой и гордой.
Лизина мама пережила зятя почти на год. Потом начался дачный сезон. Первый сезон без мужа. Как включить воду? Почему нет света? Где все инструменты? Пойди, разберись… Она позвала работяг обшить сайдингом сразу поникший домик и вывезти весь оставшийся материал (некому теперь строить), засеяла травой грядки и вырубила все лишнее, чтобы садик стал «прозрачным». Обилие цветов, высаженных по всем правилам садового дизайна, грело душу.
Сын предлагал продать участок, куда сам приезжал лишь по великой надобности отвезти-привезти, но Лиза хотела сохранить дачу в память о муже, где все было сделано его мастеровыми руками, где они оба чувствовали себя дома, поскольку соорудили его «под себя», именно так, как им самим хотелось, а не кому-то еще. Здесь, в тишине и покое, они примирялись друг с другом и бережно охраняли то, что когда-то их, родственные художественные души, соединило. Муж спешил достроить мастерскую, чтобы вновь начать творить… хотя бы для себя, но не успел. В конце концов, говорила Лиза, эта дача – единственное место, где она могла вволю повыть по-бабьи в голос, оплакивая своих покойников.
Шли годы. Лизина жизнь постепенно входила в привычную колею: работа, командировки, семейная и дачная суета, иногда поездки вдвоем в Питер, а весной и осенью – на море за границу. Лиза немного пришла в себя. Он был чутким, внимательным и не особенно навязывал ей свое присутствие в тягостные минуты. Но что-то было уже не то. Получалась какая-то обязаловка, причем строго по расписанию, ведь прошло почти десять лет с той памятной встречи с одноклассниками… А люди не могут так долго демонстрировать только одну, парадную, сторону своей «медали».
– Я опять стала нянькой-психотерапевтом: он вываливает на меня все свои рабочие и домашние проблемы, чтобы я их разрешила. А мне это надо – советовать, как с его алкашами на работе ладить и директора приструнить, как обустроить коттедж его внуку, какие там занавески повесить, какой телевизор купить или где подарок его невесте найти? – жаловалась Лиза. – Иногда даже говорить не хочется, и я стала срываться. Ты бы знала, как мне не хватает мужа, – заплакала она неожиданно. – Этому до него, как до луны.
– Не реви. Подумай, сможешь ты без него обойтись или нет, а тогда уж и разбрасывайся. Что он тебе плохого сделал? Заботится о тебе, поддерживает в меру сил. Он-то чем виноват, что надоел тебе? Для него ведь это станет катастрофой, если ты его бортанешь. Мужик только свет увидел, а ты его мордой об стол… Бросить его всегда успеешь.
– Да, пожалуй, – согласилась Лиза.
Накануне своего шестьдесят девятого дня рождения Лиза вернулась из длительной командировки и сразу позвонила Ире. После обычных «Ты как? А ты как?» они завели разговор на целый час обо всем и сразу.
– Мне нужно срочно сделать зубы до отъезда на море. Как думаешь, успею за месяц? В середине апреля улетаю. Не знаю, как выдержу там две недели с ним. Он стал такой зануда… и проку от него уже немного… То сердце, то печень, то давление… – смеялась Лиза.
– Ты сама-то поосторожнее… Не увлекайся. Излишества вредны, и те самые тоже.
– Быть может… быть может… – пропела Лиза, – «Быть может…» – какие памятные духи, и с каким смыслом! Быть может, поменять стимул-то, пока не поздно? Ведь на будущий год – ужас какой! – семьдесят стукнет! Не все ж старичье одно дряхлое вокруг вертится. Как ты думаешь?
– Флаг тебе в руки! – расхохоталась Ира, поняв, что с подругой теперь все в порядке, и за нее можно не волноваться.
Москва, март 2015 г.Содержательный разговор
Хлопья снега в медленном вальсе опускались на землю, скрывая коварство обледенелой тропинки. Каждый шажок – как первый в жизни, того и гляди растянешься. Держать равновесие помогали пакеты с продуктами, оттягивающие руки. Вдруг в сумочке, мерно раскачивающейся на шее, зажужжало. Как всегда, не вовремя! Пакеты, почуяв земное притяжение, плавно заскользили вниз по накатанной мальчишками дорожке. Телефон, конечно, залег где-то на дне, вечно не найти…
– Слушаю вас!
– Ты кто?!
– Как это «кто»? Вы кому звоните?
– Где мой сын?! Это номер моего сына! Немедленно позовите моего сына!
– Это мой телефон… И сын ваш мне ни к чему… У меня свой есть.
– Ах, так ты еще и с довеском? – гремела трубка. – Так я и знала! Окрутила моего дурачка!
«Ничего себе довесочек, – вспомнила хозяйка телефона своего седеющего отпрыска. – На сто шестнадцать килограммов».
– Если ты вешаешься моему сыну на шею, это не значит, что можешь хватать его телефон, когда ему мать звонит!
– Смею вас заверить, что давно уже не вешаюсь на шею чужим сыновьям. Как-то, знаете ли, со временем сильно поубавилось охотников подставлять ее мне…
– Значит, решила на моем мальчике отыграться напоследок?! Он же еще совсем ребенок!
– Девушка, – взмолилась «коварная соблазнительница малолетних», пытаясь затормозить непослушные пакеты. – Вы, наверное, ошиблись. Попробуйте еще раз набрать…
– Я что, по-твоему, не знаю номера телефона собственного сына?! Позови его сейчас же!
– Вы понимаете, такое иногда случается… путаются номера… Вот у нас в Тушино однажды…
– Где это такое? У какого черта на рогах? Передай моему сыну, чтобы он тотчас отправлялся домой! Уже одиннадцатый час! На чем он из этой вашей дыры доберется?
– Ну, во-первых, это никакая не «дыра», как вы изволили выразиться, у нас вполне обжитой, приличный, хоть и «спальный», район среднего возраста, – обиделась тушинская старожилка, – а во-вторых, у вас часы сильно спешат: сейчас еще только девятый час. Что вы волнуетесь? Метро-то работает до половины первого ночи, доедет ваш мальчик спокойно.
– Какое еще метро?! Что ты несешь? Его у нас построят лет через сто!
– Господи, да откуда же вы звоните и почему именно мне? Я уже околела на морозе, с вами разговаривая. Перезвоните минут через десять, я хоть до дома доберусь…
– Я звоню своему сыну, а не тебе! Ой… тут темно… кажется, я не на то нажала… Я что, в Москву попала? Ха-ха-ха! Это ты, что ли? Ха-ха-ха! Привет тебе, дорогая, от двоюродной сестры с Урала! Извини, никак младшего не могу отловить. Ну, как у тебя дела?
Экран телефона погас. Замерз, наверное, или деньги закончились.
Москва, ноябрь 2015 г.Царица Тамара
В один из ненастных осенних дней в середине 1980-х на пятом этаже известного министерского здания эпохи позднего конструктивизма на Садовом ощущалась гнетущая атмосфера. Служащие главка, ведающего образовательными заведениями отрасли, притаились в своих кабинетах, прислушиваясь к тому, что происходит за их дверями. С сегодняшнего дня у них будет новый начальник. Чего им ждать? Нового сокращения штата или еще каких бед? Кто он – периферийный самодур, дорвавшийся наконец до столичного кресла, или вовремя подсуетившийся глашатай «нового мышления»?
Вообще-то за последнее время консервативный министерский народ уже привык к бесконечной организационной чехарде: министры, их замы, начальники главков и управлений менялись чуть ли не каждый год, внося сумбур в процесс управления, и без того-то неповоротливый и бестолковый, огромной и в прямом смысле жизненно важной отраслью. Министров и их замов назначал ЦК КПСС по собственному, одному ему ведомому сиюминутному усмотрению, а те – «своих» будущих подчиненных.
Обычно после назначения очередного чиновника начинался «устроительный» период: иногородние новые бонзы сначала выбирали себе квартиры, хлопотали насчет собственной дачи и «трудоустраивали» членов семьи на «теплые местечки». Спустя полгода-год, они, наконец-то, приступали к выполнению своих обязанностей в заново отремонтированном кабинете, обустроенном по вкусу нынешнего хозяина. А через непродолжительное время их вытесняли другие… И все начиналось сызнова. Перманентный ремонт в здании министерства грозил никогда не закончиться – то на одном этаже, то на другом что-то перестраивалось.
Оказалось, что новый начальник главка уже не первый год обитал в Москве и успел обзавестись «всем необходимым» еще на прежнем, более престижном месте. Этого видного мужчину, с барскими замашками и неуловимым европейским лоском, «спустили» к ним в главк с дипломатических «небес». Вероятно, он не собирался здесь надолго задерживаться, поэтому удовольствовался косметическим ремонтом самого лучшего на этаже кабинета и заменой массивной «сталинской» мебели новой, более современной. Не было у него и обычной в таких случаях привезенной с собой «свиты» – только одна личная секретарша, которая, как потом выяснилось, давно уже украшала его карьеру.
Он не стал увольнять прежнюю хозяйку канцелярии, пожилую женщину, которая работала в министерстве с незапамятных времен и «съела всех собак» в вопросах делопроизводства. Она знала столько – обо всем и обо всех, что увольнять ее было небезопасно.
Новая секретарша, напоминающая польскую актрису Барбару Брыльску в Рязановском фильме «Ирония судьбы…», стала «лицом» главка, а старая – «головой и руками» канцелярии. Надо сказать, что «лицо» это никого не оставляло равнодушным. Даже сотрудницы главка, соперничающие между собой за внимание коллег-мужчин, вынуждены были признать, что молодая женщина – с пышной белокурой гривой, сероглазая, с правильными чертами лица – настоящая русская красавица, какие теперь редко встречаются в Москве. К тому же она стройна, со вкусом одета, обаятельна, деликатна, приятна в общении и довольно умна.
Мужчины – и работники главка, и посетители всех рангов и возрастов – в ее присутствии становились подтянутыми и галантными, с орлиным взором, а женщины заискивали перед ней, стараясь набиться в «лучшие подруги». Она была одинаково приветлива и доброжелательна со всеми и особо никого не выделяла. И умело, с обезоруживающей улыбкой, «держала оборону» на своем посту, оберегая шефа от набегов не всегда адекватных жалобщиков и просителей, особенно бесцеремонных представителей южных республик, толпами бродивших у кабинета начальника главка в период вступительных экзаменов в подведомственных учебных заведениях. Стоит ли упоминать о том, что и сама атмосфера в приемной начальника совершенно изменилась?
Вскоре в главке ее стали называть за глаза «царицей Тамарой». Она была замужем за вдовым журналистом и воспитывала его дочку. Своих детей, видно, Бог не дал… Или не очень хотелось заводить. В те времена сплошного дефицита и убожества отечественного ширпотреба женщине стоило больших трудов выглядеть «прилично». Тамара, как и многие советские гражданки, обшивала себя и своих домашних сама. Но, в отличие от многих, ее наряды, в духе времени, всегда казались «импортными».
Прошло два года. Тамара стала полновластной хозяйкой приемной начальника и уже не робела перед «высокими чинами», посещавшими ее шефа. В главке ее все любили, кроме отдельных завистниц, да и поводов для злобно-ехидных пересудов она не давала. Казалось, что красавица Тамара – заботливая жена и мать, причем любимая, прекрасная хозяйка – вполне счастлива в браке.
И вот – как гром среди ясного неба: Тамара уходит от мужа, бросает престижную работу и своего многолетнего шефа, ошеломленного ее решением, и уезжает из столицы к молодому симпатичному проректору подведомственного вуза в Саратов, который ради нее оставил жену с малолетним ребенком. И никто в главке даже не заметил, как развивался их бурный роман! Министерские сплетницы были обескуражены: надо же, на виду у всех – и никаких подробностей! Сам шеф – и тот узнал чуть ли не последним.
В Саратове Тамару ждал новый двухэтажный коттедж в пригороде на берегу Волги и бежевый «жигуленок», полученный проректором по разнарядке министерства благодаря ее стараниям. Когда-то в юности Тамара окончила педучилище и немного поработала воспитательницей в детском саду в своей родной подмосковной Рузе, и вот теперь это образование пригодилось.
Но местные власти не решились предложить московской «госпоже министерше» столь низкую должность. Пришлось сделать ее заведующей детским садом.
Сорокалетняя Тамара была на седьмом небе от счастья – она неожиданно забеременела, вопреки давнему приговору врачей. С небывалым воодушевлением она, великая рукодельница, принялась «вить гнездо» на новом месте, превращая бетонный куб под крышей в сказочный дворец. Ее молодой супруг утопал в волнах нерастраченной, запоздалой женской страсти, поражаясь тому, что ему выпал такой дар судьбы. Его беззаветно любили и трепетно ухаживали за ним, ничего не требуя взамен… Как когда-то мама в далеком детстве… Скоро у них будет сын… наследник… Правда, врачи были против, считая, что это для нее небезопасно. Но Тамара была непреклонна: «Буду рожать!!».
Она довольно легко переносила беременность и верила в благополучный исход:
– Моя мама пятерых нас произвела на свет, а бабушка вообще чуть ли не до пятидесяти лет рожала – и ничего, – убеждала она мужа и себя.
До родов оставался месяц. Тамара немного беспокоилась, но не хотела волновать мужа, отправлявшегося в недолгую загран командировку. Он так ждал эту поездку! Конечно, здесь у нее нет ни родных, ни близких, ни старых друзей, кого можно было бы попросить побыть с ней это время. В детском саду, где она немного поработала до декретного отпуска, на нее посматривали косо, как на столичную «штучку» и коварную разлучницу, отнявшую отца у малого ребенка. Поговаривали даже, что прежняя жена ее любимого что-то затевает… Не зря же в роду у нее были цыгане…
Муж называл эти слухи бабьими сплетнями, говоря, что никому не даст ее в обиду. Тамара и сама не верила всяким сказкам про порчу, сглаз, колдовство и прочую несусветную чушь. Не Средние же века, в самом деле! Решив положить конец всем этим несуразностям, она втайне от мужа встретилась с его бывшей женой.
Они хорошо поговорили, даже всплакнули вместе, и Тамара ее убедила, что не собирается лишать ребенка отца. Конечно же, он будет им помогать и всячески их поддерживать, а когда появится Тамарин малыш, они позволят детям общаться как родным. Расстались женщины по-доброму, а недавно «соперница» прислала Тамаре в знак примирения гостинец – аппетитное деревенское сало с чесночком и перчиком. Такая вкуснятина!
Вечером муж, увидев в холодильнике сало, пожурил Тамару за то, что она одна поехала на рынок. Пришлось сознаться.
– Надеюсь, ты его еще не попробовала? – спросил муж, силясь улыбнуться. – Подождала меня с ужином?
– Знаешь, мне так захотелось сразу же съесть кусочек, аж слюнки потекли. Я и не удержалась, – засмеялась Тамара, – а потом остановиться не могла, как будто век ничего не ела!
– Ты все же не ешь его больше, тебе это вредно, наверное. И очень тебя прошу – не бери пока ничьих гостинцев больше… Мало ли что, – произнес он задумчиво.
Сало из холодильника исчезло.
«Ну что может случиться за какую-то неделю?» – думала Тамара, собирая мужа в дорогу. Но – случилось. Как-то ночью она проснулась от сильной боли и обнаружила себя в луже крови. Скорая приехала довольно быстро и увезла ее в ближайший роддом. Ребенка спасти не удалось. Он умер еще в утробе матери. Тамара металась в горячке, путая сон с явью, а когда приходила немного в себя, требовала принести ей сына.
Через пару недель почерневший от такого несчастья муж забрал ее домой. Тамара лежала на кровати, уставившись в потолок, ничего не ела, отказывалась принимать лекарства и… молчала. Муж метался между работой и домом. Магазины, рынки, поликлиники, аптеки, готовка, уборка и стирка – все это на него свалилось впервые в жизни, как и уход за больным человеком.
Изредка Тамара поднималась с постели и бродила по дому как сомнамбула. Непричесанная, неумытая, в ночной рубашке… Вскоре стало опасно оставлять ее дома одну: Тамара постоянно забывала выключать газ и электроприборы, закрывать кран в ванне и на кухне. Она не могла вспомнить, как пользоваться унитазом и душем или открыть входную дверь, зачем нужны ножи и вилки, куда ведет лестница и где ее кровать. Каждый день, придя с работы, муж принимался устранять очередное наводнение, выметать битую посуду, менять белье и готовить еду.
Тамаре становилось все хуже, и местные врачи терялись в догадках, не зная, как ее лечить. Отчаявшийся муж, решив, что родные стены быстрее ей помогут, отвез жену в Рузу к матери – в деревенский дом послевоенной постройки без особых удобств. Тамарины сестры всеми силами старались поднять ее на ноги: доставали дефицитные лекарства, привозили столичных профессоров, сами делали уколы и дежурили около нее по очереди. Но профессора, именитые и не очень, только глубокомысленно качали головами и давали неутешительные прогнозы: «Мозговые явления… такой стресс… остается только надеяться… организм-то еще молодой…». Тамарина старенькая мама, сердцем почуяв неминучую беду, все ночи напролет молилась в углу под образами. «Пора, наверное, звать знакомого священника из звенигородского монастыря соборовать дочку», – вздыхала она.
И вдруг Тамаре стало лучше. Она сидела на кровати, порозовевшая, улыбающаяся и какая-то просветленная. Попросила дать ей зеркальце и расческу.
– Мама, а почему ко мне подружки мои не приходят? Мне же скучно одной-то… Ты позови их, пожалуйста, пусть навестят меня…
Старушка тут же бросилась к соседке:
– Помоги девок-то собрать, хоть тех, какие тут, а не в Москве… Уж больно просила она подружек-то позвать. Вдруг да пойдет на поправку? Как думаешь? – с надеждой взглянула она на свою ровесницу.
– Дак всяко бывает! Ты, главно, духом-то не падай! Вспомни, как в войну-то бедовали под немцем. Ничо, пережили… Ты иди к ней, скажи, что к вечеру, мол, придут, после работы, а я счас побегу их созову…
Сентябрьское солнце в бездонной синеве неба клонилось к закату, щедро отдавая всему живому свое ласковое прощальное тепло бабьего лета. Гости собрались в саду, где под старой яблоней притулился стол, сколоченный чуть ли не полвека назад. На крылечке показалась Тамара – исхудавшая, бледная, но улыбающаяся. Подруги детства, глотая слезы и пряча глаза, тотчас подхватили ее и усадили в старенькое плетеное кресло, укрыв пледом. От пронзительно-пьянящего воздуха у Тамары закружилась голова, но она не сдавалась:
– Мама, принеси нам чего-нибудь… угостить надо… девочки же с работы…
Старушка побежала на кухню, метнулась в погреб – и вот уже на столе, покрытом чистой клеенкой, появились шаньги, соленые грибы, рассыпчатая белоснежная картошка в укропе, огурцы-помидоры и прочие деревенские разносолы. Над всем этим великолепием возвышался запотевший кувшин с яблочным сидром.
– Гуляйте, девки! – пригласила гостей к столу старушка. – И ты, дочка, поешь да выпей с ними за компанию, глядишь, и легче станет.
«Девки» дружно принялись за угощение, нахваливая хозяйку, хотя в каждом доме заготовлено на зиму то же самое, да в гостях-то всегда вкуснее! Выпили, вспомнили свои детские и юные годы, учителей и прежних кавалеров. И как-то забыли, что пришли к тяжело больной подружке… Тамара смеялась вместе со всеми и тоже рассказывала что-то забавное из своей московской жизни. О новом муже и сгубивших ее родах – ни слова, да никто и не расспрашивал. Самая голосистая из них потихоньку затянула:
Что стоишь качаясь
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына…
Женщины пели, заглушая рвущиеся из горла рыдания. Понимали – в последний раз.
Провожая их, Тамара с грустной улыбкой попросила:
– Девочки, вы не забывайте меня, ладно? Приходите ко мне… на могилку… Споете, а я послушаю…
* * *
Через три дня Тамары не стало. На похороны приехал саратовский муж, а прежний московский ограничился лишь телеграммой. Ее бывший начальник прислал деньги с министерской машинисткой Татьяной, строгой хранительницей Тамариных секретов и поверенной в ее делах. Пришли соседи, знакомые, собрались и подружки – ближние и дальние. На поминках муж, по-детски вытирая кулаком пьяные слезы, все причитал:
– Никто меня уже не будет так любить, как она… Никто! И все это из-за нее! Будь проклята эта ведьма с ее салом! – грозил он неведомо кому.
Его утешали, беспокоясь, не повредился ли мужик головой от такого горя. А в саду под старой яблоней Тамарины подруги, оплакивая ее судьбу, тихонько пели про одинокую тонкую рябину… Нежные, чистые звуки, подхваченные вечерним туманом, разносили по всей округе печальную весть – нет больше на этой Земле «царицы Тамары»! Нигде нет!
Москва, ноябрь 2015 г.Привет из юности
Перевертыши
В каждом столетии, что в прошлом, что в будущем, встречаются два необычных года – «перевертыши»: как их ни поверни – все едино. И только двадцатому веку выпало целых три – 1919, 1961 и 1991 (да и новое тысячелетие тоже началось с «перевертыша» – с 2002 года). К чему бы это? Возможно, наука нумерология давно все разложила по полочкам, все причинно-следственные связи, но почему же именно эти годы так врезались в память? Да потому, что они действительно перевернули наше сознание.
Год 1919-й
Разгар Гражданской войны, перевернувшей судьбы всех, кому довелось жить в «ту пору прекрасную». Мои юные дедушки и бабушки оказались в гуще тех событий, и все же сумели выжить и оставить потомство. Иначе не было бы меня.
Год 1961-й
Весна. Московский издательско-полиграфический техникум. Солнечный лучик пробился сквозь мутное стекло и настиг замшелую зеленую муху, дремавшую всю зиму в закоулках облезлого подоконника. Муха встряхнулась, покачалась на неверных лапках и поползла навстречу новой жизни. В гнетущей тишине кабинета математики слышались лишь ее растревоженное жужжание, да нерешительный скрип мела у доски.
– Ну! – раздался громовой голос Медузы Горгоны, который приводил в трепет не одно поколение ее учеников. – Долго ты еще будешь там сопеть над уравнением, бестолочь несчастная?
Впавшая в ступор жертва математики уставилась на свои испачканные мелом пальцы и отказывалась что-либо соображать.
– Та-ак! Кто подскажет решение? – буравила взглядом трусивших первокурсников Медуза Горгона. – Давай, Овсянкина. Единственная светлая голова на тридцать пустых глиняных горшков!
Медуза Горгона – плотная коротконожка неопределенного возраста с «корзинкой» из смоляных косиц, воинственно торчащим животом, причиной многолетних кривотолков среди любопытствующих, и коровьими глазами, в которых плескалось нескрываемое презрение к роду человеческому, – вызывала нервную дрожь у всех обитателей техникума. Ее обжигающего взгляда и беспощадного языка побаивались даже преподаватели. Навечно упакованная в темный суконный сарафан, невзрачную блузку с жалким бантиком, фильдеперсовые чулки и старорежимные туфли на «школьном» каблуке, без малейших намеков на духи-пудру-помаду, она терпеть не могла нынешних девчонок, особенно симпатичных модниц, спускавших свою тощую стипендию неподалеку – в польском магазине «Ванда» на Петровке.
Как назло, в их издательской группе девчонками были почти все: три Аллы, две Гали, две Иры, три Ларисы, три Лены, две Лиды, две Любы, две Сони и четыре Тани. А еще Валя, Вера, Люда, Надя, Саша и Эмма (после первой сессии из четверых ребят остался только один Валера). И среди этих малолеток – немало симпатичных, сразу обративших на себя внимание старшекурсников-механиков.
В поисках очередной жертвы Медуза Горгона остановила свой немигающий взгляд на Алле. Это была из всех Алл Алла – высокая, золотоволосая, с чуть вздернутым носиком и точеными ножками, знавшими себе цену.
– Ты опять себе башню на голове строила, вместо того чтобы задачи решать? Я всех предупреждала: ко мне на занятия с «бабеттами» не ходить! Что ты засунула в это воронье гнездо – консервную банку или драные чулки?
– Да па-жа-л-ста-а-а, – томно протянула из всех Алл Алла, изящным движением касаясь головы.
И в следующее мгновенье золотой водопад обрушился ей на горделивые плечи, заискрив на солнце. Изумленное «Ах!» пронеслось по кабинету и растаяло. Но Медуза Горгона, не моргнув глазом, назидательно заметила:
– Ну вот, заплети косу и…
«И завяжи бантики! Хи-хи-хи!» – закончил кто-то за нее из дальнего угла.
– Это кто у меня так развеселился? Скоро экзамены – вот тогда и посмеемся!
Медуза Горгона склонилась над журналом успеваемости и заскребла по нему пальцем, не знавшим маникюра. Народ вжался в столы. Хитренькие умишки заметались в поисках спасения, умоляя звонок прозвенеть поскорее. В мертвой тишине слышалось только какое-то мерное поскрипывание. Вдруг раздался страшный грохот. Все радостно обернулись назад – только что сидевшая за последним столом одна из Ир внезапно исчезла.
– Голышева, ты что это разлеглась на полу в неприличной позе? – невозмутимо поинтересовалась Медуза Горгона. – Все коленки свои демонстрировала соседу? Даже стул не выдержал такого безобразия! Конечно, зачем тебе математика с такими коленками. Так! Тихо! Урок еще не закончен! – попыталась она унять развеселившийся молодняк.
Но было уже поздно: вовсю заливался звонок на перемену. Девчонок в одно мгновенье как ветром сдуло. Единственный парень в группе, в больших роговых очках, со строптивым ежиком на голове и вечно насупленный, степенно выходил из кабинета, церемонно раскланиваясь с Медузой Горгоной.
Следующий урок – история с милейшим Яковом Соломоновичем, разобранным его обожателями на цитаты. Особенно он не церемонился с ребятами-старшекурсниками, которых иначе как «брандахлыстами» не называл. Историк требовал знания назубок точных дат важных событий, начиная со времен царя Гороха, и признавал только две отметки – «пять» и «кол», обычно вызывая отвечать «с места». И тут – как повезет: угадаешь ответ на его вопрос – «пять», замешкаешься с ответом – «кол». Добрый был человек и незлопамятный.
– Когда Наполеон вошел в Москву? – гремел его зычный голос на весь этаж.
– Э-э… в тысяча… девятьсот… двенадцатом, кажется…
– Садись! «Кол»! Тупица! Кто знает когда? – выглядывал он из-под мохнатых бровей.
– В восемьсот…
– Молодец! Садись! «Пять»! – не давал он договорить выскочке.
Вдруг дверь с противным скрипом приоткрылась, что было неслыханным злодеянием во время урока истории. Возмущенный Яков Соломонович грузно повернулся на скрип. В дверной щели показался длинный нос колченогого человечка, служившего в техникуме комендантом, сторожем, привратником, а по совместительству – соглядатаем. Народ между собой звал его Моськой. Он жил тут же, в каморке под лестницей, и ведал не только ключами от всех дверей и прочим техникумовским хозяйством, но и всеми секретами этого маленького учебного заведения. Кто с кем, куда и откуда, когда и сколько. Все и про всех знал – и про учащихся, и про преподавателей, и про рабочих учебной типографии, и даже про директора Попова, не говоря уже о прочих сотрудниках. Знал, но молчал. За это его и ценили.
Моисей Давыдович, нелепо жестикулируя, что-то зашептал на ухо историку, у которого брови постепенно вставали дыбом.
– Как? Когда? – крикнул он в спину убегавшему коменданту.
И тотчас прозвенел звонок. Не рановато ли? Все выскочили в коридор и помчались на первый этаж в буфет за жареными пирожками с капустой-картошкой-повидлом по пять копеек штука. Внизу около стола коменданта сгрудился народ, прислушиваясь к голосу из маленького репродуктора: «Первый человек в космосе! На космическом корабле “Восток”…», – еле-еле, сквозь шум и треск пробивался торжествующий голос Левитана. Кто? Откуда? В Америке, что ли?
– Да наш это, наш! Летчик! Юрий Гагарин! Совершил полет в космос! Сегодня! – вдохновенно объяснял сияющий Моська непонятливым, важничая оттого, что первым узнал эту новость и сообщил ее родному учебному заведению.
Старшекурсники рванулись к входной двери. Моська поспешил туда с ключами – вынесут ведь ее вместе с рамой одним махом, лбы здоровенные! Надо сказать, что дверь эта, по злой воле учебной части, отчаянно боровшейся с прогулами, запиралась с первым звонком и до конца занятий оставалась в безраздельной власти Моськи. Первокурсницы потянулись было за ними, но их классная, физичка Берта Соломоновна, уже неслась им наперерез: «Куда! Куда! – квохтала она. – У вас еще русский с литературой, а потом собрание! Но ее мало кто услышал. Самые примерные, неразлучные подружки «две косы – белая и черная», покорно побрели за пирожками, а остальные уже мчались по Петровке, расталкивая глазеющих по сторонам приезжих, которые неспешно брели с набитыми котомками известным всей стране маршрутом: ГУМ, ЦУМ, Петровский пассаж, Детский мир – далее к родне-знакомым на постой.
Быстрее! Быстрее! За угол к Большому, через сквер с фонтаном, мимо станции метро «Площадь Свердлова», к проспекту Маркса, привычно именуемому Охотным Рядом, вдоль серого Госплана СССР прямиком к улице Горького, быстрее! А там творится невиданное! По самой главной улице столицы, не обращая внимания на беспомощные гудки машин, ручейками и реками стекались к Красной площади взбудораженные граждане – студенты и преподаватели, служащие, удравшие из своих министерств и прочих контор, местные жители, «вольные художники», продавцы ближайших магазинов и постояльцы гостиниц, рабочие, чинившие что-то неподалеку, и даже труженики секретных «почтовых ящиков», сумевшие вырваться на волю. Но впереди, как всегда, – вездесущие мальчишки. Справа эту народную массу подпирала широкая лавина с Манежной во главе с университетской братией. С балконов «Националя» и «Москвы» свешивались пораженные иностранцы, подмигивая этой стихии вспышками фотоаппаратов.
А что творилось на крышах! Даже на Исторический и музей Ленина сумели забраться! Повсюду в окнах полоскались на ветру самодельные флаги. Декоративные балконы именитых зданий на улице Горького грозили обвалиться под натиском любопытных. Разноголосое «Ура!!» неслось со всех сторон. Над головами колыхались сделанные наспех плакаты из старых чертежей и рулонов обоев «Мы – первые в космосе!!», да и просто листочки из тетрадок с одним словом: «Гагарин!». И никто не пытался людей останавливать. Милиционеры-постовые растерянно улыбались, стараясь хоть как-то отрегулировать движение.
Такое всенародное ликование не снилось ни одной послевоенной демонстрации с их вечными разнарядками и навязшими в зубах транспарантами-портретами. Вот наконец и Красная площадь. Казалось, будто и сама она, и Кремль, и Мавзолей Ленина, осиротевший без Сталина, и «Василий Блаженный» – все весело кружились в этом броуновском движении вместе с массой людей, хлынувших сюда со всех сторон, несмотря на нудный дождик и хмуро-серое небо. Только почетный караул у мавзолея стоял, не шелохнувшись и выпучив глаза. Незнакомые люди целовались, обнимались и поздравляли друг друга с таким небывалым событием. И очень гордились своей страной: «Мы – покорители космоса!». Эхо ликующего «Ура!» еще долго носилось под «стенами древнего Кремля», о которых дружно пели счастливые москвичи.
Встречали Гагарина в Москве через день, четырнадцатого апреля. От Внукова до Красной площади первого в мире космонавта радостно приветствовали восхищенные горожане с цветами и его портретами. В то, что этот молодой улыбчивый лейтенант облетел земной шар на космическом корабле и самое главное – вернулся живым и невредимым, все еще верилось с трудом. И люди были ему безмерно благодарны за его подвиг, за то, что они чувствовали себя гражданами великой державы, сразу забыв про «временные» трудности, которые так и не переводились с самой войны.
На Красной площади состоялся краткий митинг, на который суждено было попасть только избранным: все проходы на площадь были перекрыты солдатами. На трибуне мавзолея самодовольный, сияющий Хрущев вручил Гагарину Золотую звезду Героя Советского Союза и присвоил ему звание «Летчик-космонавт СССР», а затем самолично предоставил ему слово для выступления. Когда митинг уже подходил к концу, оцепление вокруг площади не выдержало напора жаждущих увидеть космонавта. Демонстранты, прорвав хилую оборону, ринулась на площадь. Утомленный непривычным вниманием Гагарин, оглушенный внезапно свалившейся на него всенародной, всемирной славой, еще не один час приветствовал своих соотечественников, которые искренне восхищались его мужеством.
Так началась новая эра – эра освоения космоса, во многом изменившая человеческое сознание во всем мире.
Потом были другие полеты и другие встречи. Героев-космонавтов так же торжественно встречали и награждали, горевали, как по своим близким, если они погибали, но постепенно к этому привыкли. Уже и не представляли себе, что могло быть иначе. Полеты в космос стали профессией, опасной и не каждому по силам, но все же профессией. Первых космонавтов узнавали в лицо, но со временем их стало очень много, в том числе и иностранных. Всех не запомнишь.
Такого стихийного всенародного торжества духа, вызванного полетом Гагарина, уже больше никогда не было. Менялись правители, менялась сама жизнь, становясь в чем-то легче, а в чем-то сложнее. Но самое главное – лживее: в головах одно, на словах другое, а на деле третье. Так прошло тридцать лет. Давно уже нет в Дмитровском переулке техникума, перебравшегося на Ярославское шоссе. Как нет и многих из тех, кто там когда-то работал и учился. Одни ушли из жизни, исчерпав свой естественный ресурс, другие погибли – причин для этого было более чем достаточно за эти годы.
Легенда техникума Моська, Моисей Давыдович, имел неосторожность попасть под троллейбус номер три на Петровке, в двух шагах от своего жилища, году в 1965 или 1966. Когда стали разбирать его каморку под лестницей, то обратили внимание на засаленную подушку, подозрительно увесистую. В ней оказались несметные богатства – золотишко, драгоценные камешки, царские монеты и прочий антиквариат. Вспомнили и про его амурные отношения с приезжавшими на сессию заочницами, которых он «опекал». Но это скорее домыслы. Руководству техникума все же крепко досталось от соседей с Петровки, 38 за этот «клад».
Самая ужасная потеря тех лет – это гибель первого космонавта в расцвете сил. Космос одолел, а обычный тренировочный полет на военном самолете – нет. Виноватых, как всегда, не нашлось. «Медные трубы» оказались коварнее невесомости.
Год 1991-й
Год 1991, подогретый Горбачевской пятилеткой с его глубокомысленными малопонятными речами, «новым мышлением» и непременным оплевыванием своих предшественников, начался с Вильнюсского кровопролития – прямо в новогодние праздники. Не успели осознать ввод войск в Литву, как началась чехарда с 50– и 100-рублевками. Накануне людям выдали зарплату, и почему-то в основном 50– и 100-рублевыми купюрами. А на следующий день объявили, что они изымаются из обращения, и их нужно срочно обменять в сберкассе, причем в ограниченном количестве, иначе пропадут. Номер удался: у многих эти денежки, поднакопленные праведным и неправедным путем, действительно пропали.
Подковерная борьба Горбачева с Ельциным за власть и право «засесть в Кремле» выплеснулась на телеэкраны. В стране началось брожение умов: бесконечные депутатские дебаты люди слушали по радио день и ночь, но понять, кто за «белых», кто за «красных», простому обывателю было нелегко. Почуяв удобный момент, первой из СССР побежала высокомерная Прибалтика. И все же три четверти советских граждан не желали крушения своей огромной страны, о чем недвусмысленно заявили на всесоюзном референдуме.
В День смеха распался Варшавский договор. Но смеяться все еще продолжали и на следующий день, правда, истерически: вышел указ о повышении цен. По всей стране гремел парад суверенитетов: каждому петуху захотелось стать единоличным хозяином в своем курятнике со всеми полагающимися атрибутами власти. Еще недавно клявшиеся в верности делу партии коммунисты прилюдно сжигали свои партбилеты, объявляя себя без малейшего стеснения самыми идейными демократами. Запад, взирая на плоды своих титанических усилий по развалу ненавистного СССР, подлил масла в огонь, вручив Горбачеву, от которого в тот момент отшатнулся собственный народ, Нобелевскую премию мира. И на этой волне всего через неделю первым президентом России стал его противник Ельцин, которого в иной ситуации, может, еще сто раз бы подумали, прежде чем избирать.
Москвичи и «понаехавшие» отовсюду «гости столицы» без конца митинговали – и на площадях, и в подземных переходах, и в транспорте, и в магазинах, и везде, где скапливалось больше трех человек, доказывая с пеной у рта, а иногда и кулаками, свою правоту друг другу. Наконец-то люди могли говорить вслух все что угодно – открылись шлюзы, сдерживающие напор десятилетиями копившегося возмущения. Говорили-говорили-говорили – а слушать и слышать друг друга так и не научились.
Особенно усердствовала творческая интеллигенция. Писатели-художники-артисты сочиняли воззвания к народу, историки объясняли по-новому отечественную историю, научные сотрудники пробивались во власть, рабочие, матерясь, продолжали вкалывать, пока хоть какую-никакую зарплату платили, да было на что выпить, а колхозники и в былые-то времена уповали только на собственное подсобное хозяйство. Из подполья вышли «цеховики», присматриваясь к тому, что плохо лежит. Ну а те, кто толпился вокруг общего государева «пирога», с небывалой прытью растаскивали его по своим карманам. Комсомольские «орлята» от шутливой просьбы: «Партия! Дай порулить!» перешли к делу, не упустив своего шанса.
Жаркий июль немного снизил градус страстей: массы отправились в отпуск – кто на дачу, кто на курорт, кто в поход, а те, кто при всякой власти жил, как «в коммунизме», – даже за рубеж. Но кипящий котел продолжал потихоньку бурлить. И в шесть утра 19 августа страна узнала о введении чрезвычайного положения в некоторых ее районах. «Правая рука» Горбачева, вице-президент Янаев, сообщил по радио народу, что его шеф, собравшийся отдохнуть на море пару недель, внезапно заболел в Форосе, да так серьезно, что не в силах управлять страной, а посему этим займется только что сформированный Государственный комитет по чрезвычайному положению. По приказу ГКЧП десантный батальон генерала Александра Лебедя окружил Верховный Совет РСФСР – Белый дом, встав на защиту путчистов.
* * *
Бывшая жертва математики тридцатилетней давности собиралась на работу. Надо бы пораньше вернуться домой, чтобы успеть приготовить что-нибудь вкусненькое: сегодня, 19 августа, наконец-то прилетает сын с Чукотки, где он проработал на стройке все каникулы. Его сокурсники обычно рвутся летом отдохнуть, а он, любитель-географ, каждый год уезжает со стройотрядом МАИ то на Сахалин, то на Камчатку, то в Магадан, а в этом году – аж на Чукотку. «На свою стипендию я туда не съезжу, а так хоть побываю там, посмотрю те места», – убеждал маму выросший ребенок.
Телефонный звонок настиг ее у входной двери:
– Сиди дома. Не выходи. Поняла?! – рявкнул муж каким-то чужим голосом.
– Да не могу я, у меня в десять редсовет начинается! – возмутилась жена.
– Я сказал – сиди дома, значит, сиди! – раздраженно повторил муж, и почти шепотом: – Танки идут по Волоколамке… все равно не доедешь…
– Ой, а прямо на меня летят военные вертолеты, огромные такие, зеленые, гудят ужасно… Только что из-за дома напротив вынырнули – сейчас в окно влетят!!
Внезапно связь оборвалась. Телефон не работал. Что делать? Может, на работу чуть позже поехать? Да ведь и в магазин надо сходить… Теперь эти походы превратились в настоящую охоту за всем подряд – что ухватишь… Хорошо хоть консервы есть – натуральный обмен со знакомыми продавцами: небольшое издательство, где она работала главным редактором, поставляло им дефицитные книжки, а они – консервы, мыло-шампунь, бумагу туалетную, простыни с наволочками и прочее, что давно уже смели с прилавков ушлые сограждане. Молодая картошка, мелочь, но своя – вся страна кинулась осваивать земельные участки, не надеясь прокормиться с помощью государства. Но в универсам все равно придется идти. В длинной очереди за молоком стоявшая перед ней женщина шепотом спросила:
– Как вы думаете, что теперь будет?
– Наверное, как в Чили… помните?
– Господи! Спаси и помилуй! – охнула та, испуганно оглядываясь по сторонам.
В памяти поколений все еще были свежи воспоминания о сталинских и хрущевских временах, когда человек мог жестоко поплатиться всего лишь за неосторожное слово, даже в магазинной очереди, поэтому люди быстро вникали в ситуацию.
В телевизоре – по всем каналам «Лебединое озеро». В Москве объявлено чрезвычайное положение, с 10 вечера до 6 часов утра – комендантский час. Как быть? Ведь сын должен приехать как раз вечером, часов в 9–10! Знает ли он, что творится в Москве? Придется встречать его прямо в метро. Арестуют – так всей семьей.
Вечером, в половине десятого, сын, угрюмый, измученный длительным перелетом в транспортнике, обросший, с рюкзаком, из которого торчали забинтованные оленьи рога, вышел из вагона метро и направился к эскалатору. Вид у него был явно не московский. Родители подхватили его с обеих сторон, наспех поцеловали и без лишних слов потащили к выходу. Отец забрал у него рюкзак, пропахший соленой рыбой, а мама шепотом объясняла, что нужно как можно спокойнее пройти мимо вооруженных автоматами милицейских патрулей на выходе и поспешить к троллейбусной остановке. Сын ничего не понимал, но так устал и хотел спать, что ему было не до этаких чудачеств. Дома, добредя до ванны, он кое-как ополоснулся и рухнул на свой диван, даже не прикоснувшись к маминому угощенью.
* * *
На следующий день Ельцин, стоя на танке у Белого дома, зачитывал обращение «К гражданам России», назвав действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Его поддержал генерал Лебедь со своими десантниками, переметнувшийся на сторону восставших. Вокруг здания Верховного Совета РСФСР на Краснопресненской набережной начали сооружать баррикады. На противоположной стороне, на горке, на все это взирали толпы зевак как на театральное действо под открытым небом. По телевизору показывали пресс-конференцию новоявленных «спасителей страны» с бегающими глазками во главе с Янаевым, у которого сильно тряслись руки.
В Москву отовсюду стягивался народ – и истинные защитники демократии, и их противники, и авантюристы, и просто любопытствующие. В обеих столицах и других крупных городах митинговали. По центру города с грохотом катили танки. Казалось, что это какой-то невероятный спектакль с не пугаными еще зрителями, пока в ночь на 21 августа в тоннеле у Арбата под танками не распрощались с жизнью трое парнишек.
А утром член ГКЧП боевой генерал Язов, герой Великой Отечественной, принял решение отвести войска от Москвы.
Город, в котором обычно днем и ночью бурлила жизнь, оцепенел. Милиция как сквозь землю провалилась, а полчищ гэбэшников, казалось, и вовсе никогда не водилось. Москвичи боялись ложиться спать. Путч провалился, но народ все еще оставался в неведении. Люди ходили на работу и с тревогой ожидали дальнейшего развития событий. Детей старались попридержать дома.
В академии, которой принадлежало ее издательство, спешно снимали портреты Горбачева и плакаты с его изречениями. Ректор, много лет избиравшийся депутатом Верховного Совета СССР, не скрывал своего злорадства. Риторика бесконечных закрытых заседаний руководства резко изменилась: «Всех бузотеров и “дерьмократов” академии – немедленно к ногтю!».
В издательстве шел обычный рабочий день: горка рукописей на столе главного редактора, ожидающих подписи в печать; вечно где-то бегающий по своим делам директор, увиливающий от решения скоропортящихся вопросов, кроме тех, которые затрагивали его личные интересы; тихий бубнеж в редакторской и корректорской; настырные авторы со своими «нетленками»; художники, чье вдохновение зависело от размера аванса, и вечные проблемы в производственном отделе, воюющем с типографией. А там – то прогулы, то машину сломают, то бумага кончилась, то нечаянно напьются…
– Можно? – заглянула в кабинет главного миловидная женщина, старший редактор. – Я хотела отпроситься, а рукопись домой возьму.
– Что-то с детьми? – участливо спросила хозяйка кабинета у сотрудницы, матери троих детей и жены командированного в неспокойный Афганистан инженера.
– Да нет, вы же знаете, что происходит… Мне передали, что людей зовут на демонстрацию, нельзя же с этим ГКЧП дальше жить… Надо что-то делать… всем миром… Можно, я пойду?
– Можно. Только пойдем все вместе. Конечно, кто захочет. Если вы пойдете одна, то вас завтра же уволят по приказу ректора без разговоров. А если мы пойдем всем издательством, – это будет уже позиция. Всех-то сразу не выгонят? Правда? Ну, если только меня…
Собралась довольно большая команда издателей и несколько человек из типографии, вполне трезвых и сознательных. В центре все улицы запружены народом. Люди несли наспех сделанные плакаты и транспаранты с призывом разогнать ГКЧП и отдать их под суд. Несли свой транспарантик и издатели – на типографском картоне большого формата значилось: «Издательство Академии против ГКЧП!», который умудрился попасть на глаза «органам» среди множества других.
И опять, как в далеком 1961-м, люди слились в едином душевном порыве. Дети Хрущевской «оттепели», чуть-чуть глотнув воздуха свободы и воскресив былые надежды, выступали против возвращения в «стойло» не раз извращенных коммунистических идей с их лживыми, вороватыми «вождями». Все, бесконечное терпение лопнуло.
С улицы Горького человеческая река, скандирующая: «Убийцы! Убийцы!», повернула на Манежную и, обогнув ее, направилась на Охотный, вернувший себе в 1991 году свое историческое название. Входы на Красную площадь были перекрыты танками с расчехленными орудиями. Все колонны постепенно перемешались, и шедшие плечо к плечу незнакомые люди ощущали такую сплоченность, такое братство, что готовы были перевернуть весь мир. Никто не «регулировал» это движение, и при невероятной скученности они не были толпой – слепой, безумной и жестокой.
На площади Дзержинского, где гордо возвышался «Железный Феликс», столько лет простоявший на чужом, царском, постаменте и не ведавший, что уже завтра его скинут, крики проклятья, обращенные к зданию КГБ, заставили его обитателей спешно убраться от окон, откуда они наблюдали за происходящим на площади, захлопнуть все форточки и опустить глухие шторы. У памятника «Героям Плевны» путь к Старой площади был перекрыт танками. Центральный Комитет КПСС, пуще огня боясь своего народа, своевременно забаррикадировался.
Вечером по телевизору показали и стихийную демонстрацию, и то, как вереница черных «членовозов» спешно покидала столицу, направляясь во Внуково. На следующий день из Фороса, как ни в чем не бывало, вернулся слегка смущенный Горбачев, жалуясь, что сидел там «под арестом» и знать ничего не знал, а зачинщиков ГКЧП препроводили в тюрьму. В издательстве шумно обсуждали вчерашнее событие. Пока никого не уволили. Но как только унялись первые страсти, в академию явились разные комиссии: одни интересовались снятыми портретами («Мы решили им лица помыть перед началом учебного года», – оправдывалось руководство), другие – отношением к последним событиям. Все ли «за»? Тут как раз и пригодилось свидетельство «органов», зафиксировавших на кино– или фотопленку участие в стихийной демонстрации издательства академии, которое ожидало своего мстительного часа в ректорском кабинете. Кто его знает, куда все повернет? «Вот! Видите? Академия тоже участвовала в демонстрации! А как же! Мы все “за”!»
Сын всю трехдневную революцию благополучно проспал. Родители ничего ему так и не сказали, радуясь в душе, что в столь тревожное время он спит дома. Выслушав восторженный мамин рассказ о демонстрации, он, досыта насмотревшийся на километры колючей проволоки останков чукотских «ГУЛАГов», изрек:
– Ты же не ребенок. Неужели ты всерьез веришь всем этим крикунам? Просто на смену ожиревшим партийным хрякам придут молодые и ушлые комсомольские волчата. И тут уж держись! Они еще себя покажут!
– Но мы так долго ждали этой свободы! И так радовались, что люди смогут жить, наконец, своим умом, а не по указке сверху, что они сами будут распоряжаться своей судьбой, с удовольствием работать и зарабатывать, сколько смогут, ездить за границу не по милости выживших из ума «ветеранов» из райкома партии, а по своему желанию, читать и слушать то, что хочется, открыто, а не «под одеялом». Сильные, умные и талантливые не должны влачить жалкое существование под градом насмешек тех, кто «умеет жить».
Дальнейшие события подтвердили, что двадцатилетний сын оказался прозорливее и мудрее своей мамы. И все же тот яркий миг единения с людьми, который она пережила на стихийной демонстрации 21 августа, забыть невозможно. Как и то, что именно в такие моменты осознаешь себя не песчинкой в бескрайней пустыне, но народом.
* * *
За каких-то пару недель после этих событий все союзные республики заявили о своей независимости. Даже Чечня, входившая в состав РСФСР, последовала их примеру. Дождливая холодная осень с огромными очередями за стремительно исчезающими продуктами и с непредсказуемыми ценами принесла еще одну беду – «шоковую терапию» под видом экономических реформ. Переход к рыночной экономике пережили не все: многие люди, на глазах которых рушилось то, чему они отдали все свои силы, чувствуя бессмысленность, да и просто невозможность дальнейшего существования, накладывали на себя руки или преждевременно умирали.
Народу платили прежнюю зарплату при повышении цен почти в сто раз, а кому-то вообще перестали ее выдавать. Ведомства безжалостно сокращали штат, чтобы хоть как-то поддержать остальных, многие производства останавливались, вышвыривая людей на улицу. Армию обвинили во всех грехах: появляться в военной форме на улице или в общественном транспорте стало небезопасно. Бедные учителя не знали, как все это объяснить своим недоумевающим ученикам и дальше «сеять разумное, доброе, вечное», а старики вообще не понимали, что происходит.
Люди подались в «челноки» на радость расплодившимся преступникам, которые съехались в Москву со всего света. Грабь – не хочу! Иностранцы гонялись за «халявой», скупая за гроши у воришек из библиотек-музеев-галерей всякие редкости. Даже «почтовые ящики» потрошили, выуживая «секреты», которые доставались их создателям иногда и ценой собственной жизни. На каждом углу появились «комки» – коммерческие лавки, где можно было хоть что-то купить. С Украины и из Белоруссии в голодную Москву везли сало, масло, творог, молоко и сыр, раскладывая все эти яства прямо на асфальте у станций метро. Овощи и соленья доставляли колхозники из ближайших сел и деревень. У кого были деньги, лучше доллары, – покупали.
В начале зимы три правителя – российский, украинский и белорусский – единолично решили судьбу огромной страны в Беловежской Пуще, наплевав на результаты всесоюзного референдума. В последние дни уходящего года СССР официально прекратил свое существование, и Ельцин наконец-то занял кабинет Горбачева в Кремле.
* * *
Так прошел второй год-перевертыш в двадцатом столетии, который пронесся вихрем над шестой частью суши, изменив там все до неузнаваемости. Именно этот год дал старт «лихим девяностым»: с одной стороны – воздух свободы, экзамен на самостоятельность, возрождение духа предпринимательства, радужные перспективы общения со всем миром, а с другой – повальное воровство сверху донизу, красивые западные идеи на пустой желудок, неприкрытый бандитизм, рассекающий в красных пиджаках на ржавеющих иномарках, разномастные «экстрасенсы» с кликушами и толпы нищих бомжей, да бродяжек-детей, как в послевоенные годы.
Новое тысячелетие Год 2002-й
Год 2002-й, все еще не оправившийся от удивления, что переход в третье тысячелетие обошелся без «конца света», которое ему сулили всевозможные предсказатели по всему миру, все же не смог отмежеваться от кровавого наследия недавнего прошлого.
Первой трагедией для всей страны стала авиационная катастрофа в конце апреля, которая унесла жизнь знаменитого генерала, избранного губернатором Красноярского края, Александра Лебедя – яркой личности, чья политическая звезда взошла 19 августа 1991 года у стен Белого дома. Случайной ли была гибель человека, который вполне мог стать президентом? А 9 мая, во время празднования Дня Победы, в такой святой день, «неизвестные» взорвали жилой дом в Каспийске. В июне в Москве, на Манежной площади, распоясались после матча тысячи оголтелых «футбольных болельщиков». И снова пролилась кровь. Вскоре после этих событий там построили нелепый торговый центр, чтобы негде было особо митинговать другим. В конце сентября грузинские боевики попытались прорваться в российскую Ингушетию, погибли наши солдаты, державшие оборону.
Сколько же нас осталось в России после распада СССР? Оказалось, что всего лишь 145 миллионов человек с небольшим, судя по переписи 9 октября, вместо 290 в последний год существования Советского Союза. Ровно половина. Не способствовали повышению рождаемости и чеченские теракты, которые сеяли страх по всей стране: захват заложников, более 800 человек, по большей части детей, в Москве в театральном центре на Дубровке 23 октября погрузил в оцепенение не только столицу. Людей не могли спасти почти трое суток. Многие из них погибли. В канун новогодних праздников чеченские боевики взорвали и собственный Дом правительства.
Так кроваво закончился и этот «перевертыш». Каким-то будет следующий? Что нам всем принесет 2020 год, который уже не за горами? Перерастет ли кошмар на Украине, чьи уроженцы составляют немалую часть населения России, во вселенскую бойню или все как-то постепенно утихомирится, и противники, утолив жажду крови, уползут в разные стороны зализывать раны? Кто знает. Да и мне самой удастся ли еще раз стать свидетелем очередного «перевертыша»? Доживем – увидим.
Москва, апрель 2015 г.Оптическая середина
Станция метро в форме лежащей воронки, уткнувшейся в асфальт, выплюнула юную пассажирку из своего зева, наподдав сзади тяжелой стеклянной дверью на прощанье. Впереди – пустынная площадь с одинокой, неприкаянной фигурой в распахнутой шинели, сжимавшей в руке военную фуражку, на чужом, «буржуйском», постаменте, которая злобно уставилась на Охотный Ряд, так и не пожелавший стать проспектом Маркса. Упитанный, простодушный «Детский мир», казалось, присел на корточки, опасаясь такого соседства.
Так, теперь ей нужно направо, на улицу 25 Октября. А потом налево – в Старопанский переулок, похожий на темное узкое ущелье среди серых громадин домов. Вот и нужная дверь – тяжелая, дубовая, с витой бронзовой ручкой, давно не чищенной, но еще помнившей свои лучшие времена. Стеклянная табличка у двери подтверждает, что она пришла по нужному адресу. Скорее! Кажется, она опаздывает. Цок-цок-цок – и вот уже второй этаж.
– Можно? – пискнула она, заглядывая в аудиторию.
– Опаздываете, барышня, – недовольно буркнула широкая спина в клетчатой сине-красной ковбойке с закатанными рукавами, не переставая шуршать ватманом на столе.
В небольшой комнате с двумя рядами учебных столов и разнокалиберными обтерханными стульями после летней солнечной улицы казалось сумрачно, несмотря на высокие окна в частых переплетах. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых чего только не было – всевозможные кувшины, пострадавшие, наверное, в коммунальных баталиях, скорчившиеся от старости чайники, чашки-плошки (не с помойки ли?), восковые фрукты-овощи, гипсовые бюсты, диковинные орнаменты, гранитные осколки чего-то, безвозвратно погибшего… И все это в седой патине вековечной пыли.
Вот запрокинутая голова мужика с курчавой бородой и разинутым в ярости ртом. Вот змеиная головка на неестественно выгнутой длинной шее и почему-то со стесанным напрочь затылком. Где-то она уже видела и эту кудрявую бороду, и профиль тетки без затылка. Наверное, еще в школе. Их училка по рисованию в Челябинске, блокадница из Ленинграда с неподвижным бледно-голубым лицом, часто показывала своим ученикам всякие интересные картинки «по искусству». А вот на стене прикноплен листок с голым бородатым мужиком, многоруким и многоногим, который катается в обруче.
Подумаешь, она тоже так умеет: у бабушки в огороде валялся ржавый обруч от огромной бочки, в которой солили на зиму огурцы. В августе, в притихшие дни обреченного на скорое угасание лета, бабушка бросала в нее большой раскаленный на костре камень, и он шипел, как Змей Горыныч, когда на него плескали водой. Когда бочке надоели эти ежегодные издевательства, она взяла и рассохлась. В наказание бабушка сожгла ее в печке, а обручи остались. В самом большом из них она и каталась, растопырив руки-ноги, а которые поменьше гонял по улице ее двоюродный братишка, цепляя их кочергой.
– Ты долго будешь там сопеть? – отвлек ее от воспоминаний насмешливый голос. – Иди вон, садись рядом с ней, – показал он на стол у окна, за которым сидела незнакомая девчонка.
Медные косички, короткие, но довольно толстые (прямо как сардельки, подумалось ей) задорно торчали в разные стороны. Охристый «мелкий бес» пружинил над высоким лбом, выражая всеобщий восторг. Причудливо изогнутые брови в компании с большими серыми глазами в золоте мохнатых ресниц словно говорили: «Не бойся, садись рядом, я и сама здесь впервые».
– Итак, барышни, начнем. Вам предстоит сдавать вступительный экзамен по рисунку. Никто, конечно, не ждет, что в ваш техникум валом повалят юные дарования, но основы рисунка знать надо. Это и будут оценивать.
Начнем с формы. О композиции и светотени – потом. Кстати, вам что-нибудь говорят эти понятия?
– Не-а, – хором проблеяли ученицы.
Художник вытолкнул ногой какой-то странно высокий стул, набросил на него тряпку («Драпировка», – пояснил он) и выставил «натуру» – кувшин с отбитым краем.
– Запомните: рисуем на ватмане, мягким карандашом – 2М или 3М – и стираем лишнее мягким светлым ластиком. Магазинный ластик нужно вымочить в керосине, тогда от него будет толк. Как вы думаете, зачем вам еще нужен карандаш?
– Рисовать все-таки, а еще за ухом почесать, – захихикали девчонки.
– Не только рисовать и что-то где-то чесать, – невозмутимо объяснял он. – Прежде всего, с помощью карандаша вы должны определить пропорции предмета рисования и найти его оптическую середину.
Он повернулся к стулу с кувшином и начал показывать, как это делается.
– А что это такое – «оптическая середина?» – полюбопытствовали девчонки. Они о таком слышали впервые.
– Ну, это самое главное, на что падает взгляд человека. И не только в рисунке, но и в жизни. Ну, это… как грудь молодой женщины в прозрачной капроновой блузке в толпе безликих старух, – с мечтательной улыбкой произнес он, но тут же осекся. – Ну, короче, отложите на вертикали сверху одну треть – это и будет оптическая середина. Возьмите книгу и посмотрите, где расположено ее название. То-то. – Итак, взяли карандаш за кончик, – скомандовал он, – вытянули руку вперед, навели карандаш на предмет и прищурились. Отметили большим пальцем на карандаше высоту предмета, зафиксировали размер на ватмане, затем таким же образом сняли все остальные размеры.
– А какую руку…
– Любую, какая еще шевелится! – начал терять терпение наставник.
– А как же размеры – и без линейки? – удивились «медные косички».
– Какая линейка?! Это вам не черчение! Вы должны просто определить пропорции, а общий размер рисунка будете соотносить с форматом листа. Что такое «формат», знаете?
Не дослушав невразумительное мяуканье своих подопечных, он набросал на их листах поля, за которые рисунок не должен вылезать.
– Вот в этих границах и работайте. Начали.
Полтора часа девчонки пыхтели над кувшином, которому и не снилось оставить свой след в искусстве. Деловито щурились, вытягивая руку с карандашом, прикладывали его к ватману, отмечая размеры – высоту, ширину и загадочную «оптическую середину».
– А теперь встаньте. Положите свои работы на пол и оцените собственное творчество как можно критичнее.
– Зачем же на пол-то… такую красоту? – взыграли задетые за живое авторские амбиции.
– Затем, – был непреклонный ответ. «Взгляд с высоты» называется. Сразу видишь собственное ничтожество… Что в искусстве, что в жизни…
Казалось, он что-то доказывает самому себе, когда-то недоспоренное с самим же собой.
– Так вы сразу увидите все свои ошибки, – пояснил он.
И действительно. Как только их «произведения» легли на пол, жестокая правда тотчас бросилась в глаза. Подавленные, они молчали, сознавая, что экзамен по рисунку им, скорее всего, не одолеть.
– Не переживайте, – пожалел их художник. – Говорят, даже обезьяну можно при желании обучить… – но решил дальше не развивать эту мысль. – Жду вас завтра. Не опаздывайте. Дома потренируйтесь. До свидания, – попрощался он, бесцеремонно указывая им на дверь.
Уговаривать девчонок долго не пришлось. На солнечной оживленной улице, в тени еще не потускневшей зелени лип, к ним вновь вернулась щенячья радость жизни.
– Тебе в метро?
– Угу.
– Тебя как зовут? – встрепенулись «медные косички».
– А тебя?
– Ты после седьмого?
– Ага.
– А ты?
– И я после седьмого!
– Тебе когда четырнадцать?
– В сентябре.
– И мне в сентябре!
– У тебя какой любимый предмет?
– Русский с литературой.
– И у меня тоже!
– Обожаешь Мопассана?
– А то!
Откуда-то сверху из открытого окна послышалось шипение заезженной пластинки: «А снег идет, а снег идет! И все вокруг чего-то ждет!» – самозабвенно пела Майя Кристалинская. Зачем она летом поет про снег? Лучше бы про Царевну-несмеяну…
– Ты «Ночи Кабирии» смотрела?
– Конечно, весь фильм плакала, – дрогнули «медные косички».
– А мне больше понравилось кино «Бабетта идет на войну».
– А что такое «полиграфический», как ты думаешь?
– Да черт его знает!
– Ты как насчет мороженого?
– А давай!
Они вдруг громко расхохотались, пугая прохожих. Они смеялись так, как могут смеяться только девчонки – уже не дети, но еще и не томные девицы – заливисто, до слез, до колотья в боку, сгибаясь пополам и раскачиваясь из стороны в сторону. «Смешинка в рот попала» – это про них, когда только палец покажи – и уже смешно. Смех без причины – вовсе не признак дурачины, как утверждает пословица. Это жизнь ликует в них от самого факта своего существования.
* * *
На удивление, экзамен по рисунку – он был первым, «отсеивающим» основную массу абитуриентов, – они сдали на пятерки. Не зря бился с ними художник целый месяц – кое-чему он их все же научил, подтвердив свою мысль про обезьяну. Диктант с устной литературой – тоже на пятерки, а вот математика для одной из них чуть не стала крахом всех надежд. Принимавшая экзамен преподавательница – коротконогая старорежимная тетка с немигающим взглядом испепеляюще-черных глаз, полных презрения к убогости математических бездарей, с тяжелым сердцем, наступив себе на горло, поставила трояк. Остальные-то оценки у тупицы – пятерки… Что скажет приемная комиссия?
* * *
Техникум сразу сделал их «взрослыми» рядом с бывшими одноклассницами. Им даже дали стипендию – 120 рублей старыми, а деньги-то – размером с носовой платок. Девчонки вскоре стали самыми близкими подругами.
В тот год началась знаменитая «оттепель». Где-то там, во взрослой жизни, побеждали на Олимпийских играх в Скво-Велли «наши» конькобежцы Скобликова, Гришин и Косичкин; стучал ботинком на трибуне ООН Хрущев, обещая всем показать «кузькину мать»; летали в космосе Белка и Стрелка; в безбрежном океане 49 суток дрейфовали четверо стройбатовцев, дожевывая последний солдатский сапог; защищали страну доблестные ракетчики, сбившие в праздничный Первомай американский «U-2» с Гарри Пауэрсом, а в столице достраивали огромный бассейн под открытым небом – в котловане взорванного храма. Конечно, они слышали обо всем этом по радио, но их собственная жизнь, наполненная до краев всевозможными событиями, яркими чувствами и девичьими терзаниями, была им важнее: она неслась вперед на всех парусах, обещая впереди безмерное счастье. Где-то там, за горизонтом… Вот еще немного, еще чуть-чуть…
Они познавали мир и себя в этом мире, томились предчувствием первой любви, свято верили в нерушимость крепкой девичьей дружбы, страдали от недовольства собой, своим «экс терьером» в одежонках домашнего «индпошива», и неумения показать себя в выгодном свете, но все же надеялись, что в один прекрасный день… Им, послевоенным первенцам своих родителей – «детям любви», все же повезло стать младшим поколением вольнодумцев-шестидесятников.
Они учились, узнавали, как печатают книги и журналы и как их готовят к этому сложному этапу издатели. Постепенно они расставались с детской безответственностью: для них стало откровением то, что за такую шалость, как швыряние литер из окна наборного цеха на втором этаже в проходящих внизу молодых людей с целью привлечь их внимание, могут и в тюрьму посадить. Враг не дремлет: соберет с асфальта все эти литеры, шпоны и шпации и злобные листовки напечатает… где-нибудь.
* * *
Как-то раз после занятий всех учащихся погнали на общее собрание в библиотеку-читальню. Недовольный народ, грохоча стульями и толкаясь, старался занять места поближе к двери. Впереди, опустив голову, сидела в полном одиночестве неприметная третьекурсница из группы технологов. Комиссия – профком, партком и комитет комсомола – расположилась напротив, старательно пряча глаза. На «председательском» месте – заведующая библиотекой, кругленькая коротышка с глазами навыкате и кудрявым хохолком. Она горестно всплескивала пухлыми ручками, призывая всех к порядку:
– Мы с вами должны принять решение, что делать с одной нашей учащейся, – кивнула она в сторону девочки с опущенной головой, над которой сгущались грозовые тучи.
Когда стаю, хоть волчью, хоть человечью, науськивают на одного слабого, ей, стае, кажется, что она, такая спаянная, такая сильная, вправе решать, кого казнить, а кого миловать. Только покажите, кого клеймить… или загрызть насмерть. Показательные судилища, о которых шептались на коммунальных кухнях взрослые, оказывается, вовсе не канули в Лету, как надеялась молодежь начала шестидесятых. Кому-то, видно, неймется повернуть время вспять, полагая, что без таких «воспитательных мероприятий» не обойтись.
– А чего она такого натворила? Убила кого или ограбила? – полюбопытствовали из зала.
– Она?! Она погрязла в религии, верит в Бога, носит крестик под платьем и ходит в церковь! – колыхалась от возмущения коротышка. – И это в советском учебном заведении! Такое прос то недопустимо! Это же, как его, опиум для незрелого ума! Выяснилось, что она даже не комсомолка! – билась в праведном гневе партийная библиотекарша.
– Подумаешь, не вступила в комсомол! Может, считала себя недостойной, опять же членские взносы платить не надо! – веселился народ.
– Как это «подумаешь»?! Вы зря смеетесь! Это же серьезное дело! Мы с вами должны принять решение об исключении ее из техникума и передать подписанный всеми протокол нашего собрания директору для оформления нужного приказа. Такой человек не должен работать на идеологическом фронте, а типография – это как раз…
– Между прочим, она круглая отличница, поэтому сама может выбирать, где ей работать! И специалист из нее получится хороший, да и девчонка она неплохая. Замкнутая, правда, но не всем же быть вертихвостками! – возмутились ребята из ее группы. – Кому мешает то, что она ходит в церковь?
– Не на панель же! – загоготали в задних рядах.
Коротышка, покрывшись красными пятнами, хлопала глазами и хватала воздух открытым ртом. Такого от учащихся она еще не слышала. Надо как-то выкручиваться. Нельзя давать спуску этим соплякам:
– Ну, хорошо. Если она даст нам слово, что навсегда порвет с религией, мы ее, так и быть, простим. – Давай, говори! – повернулась она к «подсудимой» с торжествующим видом, надеясь увидеть слезы в ее глазах.
Девчонка подняла голову, обвела всех измученным взглядом и тихо, но твердо произнесла:
– Нет. Ничто не заставит меня предать Господа нашего Иисуса Христа, и в церковь я пойду! – звенел срывающийся от волнения голос. – И молится стану, чтобы многие из вас прозрели и очистились от мерзости окружающей… Можете исключать меня, но от веры я не отступлюсь ни за что!
И такая сила духа исходила от нее, такая убежденность звучала в ее словах, что все как-то оробели. Вот ведь, грозятся исключить ее с предпоследнего курса, сломать жизнь, а она стоит на своем, как скала! И никого не боится! Всем бы быть такими смелыми и принципиальными…
– Молодец! – раздался из зала ломкий юношеский басок. – Не бойся, не будем мы подписывать никаких протоколов!
В тот же миг облегченно вздохнули остальные – не всем дано вслух сказать то, что они думают, а совесть все равно замучает. Загрохотали стулья, захлопала дверь, и ребята хлынули в коридор из душного зала, где могло произойти непоправимое… Но не произошло!
Потрясенные этим событием подружки, выйдя из техникума, долго молчали, медленно шагая по Петровке.
– А ты бы смогла так? – с дрожью в голосе спросили «медные косички».
– Не зна-ю. Но, думаю, если человека загоняют в угол: «Ату его, ату!», то у него остается только один выход – самому переходить в наступление. И будь что будет.
* * *
Самые волнующие события – вечера в техникумовском актовом зале, хоть и под бдительным оком преподавателей, озабоченных уровнем нравственности своих питомцев. Учебная часть приглашала «правильных» кавалеров – кремлевских курсантов, благо они обитали тут же, по соседству, в Кремле. Своих-то на всех не хватало. Разве что «механики», где учились одни ребята. Девчонки в пышных юбках «бочонком» и в узконосых лодочках на капроновых ножках, в шикарных модных бусах «под керамику», за ночь спроворенных из лакированного журнала «Америка», трепетали в ожидании танцев. После танцев иногда случались драки в глухом техникумовском дворе: мальчишки бились солдатскими ремнями с медными пряжками, выпендриваясь перед девчонками, «болевшими» за них в сторонке.
Курсанты в форме, строем – и вдоль стен. Важные, надутые, прямо как индюки в своих черно-красных парадных одеждах с разными висюльками. Девчонкам же хотелось оторваться в доморощенном буги-вуги, и непременно на сцене актового зала. Потом, конечно, комсомольское собрание: самые «идейные» под одобрительное кивание педагогов гневно обличали оступившихся, в душе жестоко завидуя их «смелости».
А походы, в которые вдруг стали отправляться всей страной? Их классная, Берта, без конца квохтала: «Только бэз ночевки! В поход – ладно, но только бэз ночевки!!» Как бы не так! В поход и без ночевки? Без ночного костра, без гитарных стенаний, без песен-стихов полузапрещенного Есенина и совсем «подпольных» Окуджавы с Юликом Кимом, без песенной дуэли влюбленных московских студентов из Ленинского педа – Юрия Визбора и Ады Якушевой? Их разносила по всему свету туристическая братия, зачастую и не подозревая, что у этих сочинений есть конкретный автор. Они считались «народно-туристскими». У каждого костра по всей огромной стране пели под гитару о счастье встречи:
Милая моя, солнышко лесное! Где, в каких краях Встретимся с тобою?* * *
Как-то зимой они собрались большой компанией покататься на лыжах на станции «Турист». Но утром на Рижском вокзале их оказалось только трое – подружки и их верный рыцарь Пашка. На занесенной снегом подмосковной платформе ни души. Электричка, вильнув хвостом, скрылась за поворотом. Пашка предупредил, что идти им на лыжах часа полтора до той деревни, за которой начинаются горы. Но, отойдя от станции какую-то сотню метров, он налетел на припорошенный снегом булыжник – и можно было уже никуда не спешить: курносого кончика у одной лыжи как не бывало.
– Да ладно! Пойду пешком по дороге, а вы тут рядышком шустрите. Хоть с горки на чем-нибудь покатаюсь! Не домой же возвращаться…
Но, видно, не судьба была пробежаться всем на лыжах – вскоре одна из подружек побрела за ним следом, волоча за собой лыжи со сломанным креплением. Не домой же возвращаться… из такой замечательной зимней сказки! Снег искрился на солнце, огромные мохнатые ели в белых шубах стояли, как часовые… а по дороге мчались двое с покалеченными лыжами наперевес, соревнуясь с той, которая рассекала на своих уцелевших по глубокому снегу.
На горе было полно народу: кто на лыжах, кто на санках, кто на подручных средствах – дырявых тазах и другом подходящем «снаряжении» с деревенской помойки, а кто и просто кубарем. Поддавшись всеобщему безудержному веселью, они бросили свои лыжи и покатились вниз на оставленных кем-то фанерках с головокружительной быстротой (спустя десятилетие эти места облюбовали горнолыжники). Обманчивое зимнее солнце быстро клонилось к закату. Гора опустела. И сразу стало холодно в заледеневшей одежке. Пашка повел их в деревню погреться у знакомой одинокой бабульки, которая пускала на ночлег туристов, чем и кормилась.
В маленькой избе – сени да небольшая комната с дородной печкой, в которой весело потрескивали полешки, – приятно попахивало дымком, как от костра… От влажной одежды, развешенной на веревках, шел пар. Прямо на полу, ближе к огню, сидела компания ребят и задушевно пела под гитару. В углу на кровати с шишечками расположилась хозяйка, ласково поглядывая на поющих и покачивая в такт головой. Вновь прибывшим, запорошенным снегом с головы до ног, предложили местечко у печки и крепкую заварку в жестяной кружке. Какое это невыразимое наслаждение – прильнуть продрогшим телом к горячим кирпичам и глотнуть из кружки обжигающего чая, пусть и без сахара!
Пашка торопил разомлевших девчонок, которые не прочь были еще попеть песни в тепле и уюте. Усилившийся к вечеру мороз щипал носы и щеки, покрывая инеем выбившиеся из-под шапок волосы, брови и ресницы. Пашка с «седыми» усами шел впереди, «прощупывая» путь. Из-за тучи выплыла полная луна, окрасив синим снежную целину вокруг. Впереди – ни огонька, и даже шума железной дороги не слышно. А вдруг они заблудились?! И только голодные волки прибегут на их отчаянные вопли?! Да нет… Пашка их выведет к электричке, обязательно…
Лыжные ботинки на кожаной подошве, не успевшие как следует просохнуть у печки, отчаянно скользили на обледенелой дороге, спускавшейся под гору. Девчонки, держась друг за друга, без конца падали, не успевая пройти и нескольких шагов. На нервной почве их одолел безудержный смех, как когда-то… Пашка уходил от них все дальше. Не надеясь больше устоять на ногах, они улеглись поперек дороги и покатились кубарем ему вдогонку. Но вот им удалось настичь Пашку и уцепиться за него с обеих сторон. В следующий миг они вместе с ним распластались на дороге и заскользили вниз. Три пары лыж плавно кружились в странном танце, медленно тая в кромешной тьме. Только палки звонко скакали впереди, радуясь невиданной свободе.
Пашка готов был прибить их на месте, но надо было торопиться на электричку. Вдруг послышался дробный перестук колес, и из-за елки блеснул яркий луч.
– Все. Опоздали. Будем теперь сидеть на платформе целый час на таком морозе! Связался я с вами, дурами несчастными… – ворчал он. – Лыжи-то хоть подберите с дороги, да свяжите их толком!
Но им повезло. Перед ними промчался скорый, а минут через двадцать пришла электричка. В полупустой холодный вагон вошли три сосульки и рухнули на ближайшую лавку. Кое-как отогрелись только через час, в метро и, стуча зубами от не проходящего озноба, разъехались по домам.
Удивительно, но никто из них потом даже не чихнул.
* * *
Молоденькая преподавательница графики искрометная Ирина Семеновна без устали таскала своих учеников по картинным галереям и музеям – Третьяковка, Пушкинский, Манеж… Старалась привить им чувство прекрасного, а не отвращение к корпению в аудитории над трехкилограммовой «Историей искусств». И привила… пробудив интерес к древнерусской архитектуре и живописи.
* * *
В конце октября в поход уже не пойдешь – холодновато спать в старой палатке. А почему бы им самим воочию не увидеть ту чудом сохранившуюся до наших дней седую древность – Владимир и Суздаль, – о которой с таким жаром им рассказывала искрометная Ирина? Долго не раздумывали. Позвали с собой Пашку, но его эта идея не захватила. Денег на двоих – три рубля. Вполне хватит на полтора дня, если ехать до Петушков на электричке зайцем. А там, они посмотрели по карте, уже совсем недалеко до Владимира.
Дома сказали, что отправляются в поход со своей группой – с субботы на воскресенье, ну как обычно. На вокзале их поджидал Пашка:
– Зря вы это затеяли. Как вас одних отпускать? Подождали бы немного, потом когда-нибудь вместе бы поехали, – ворчал он.
В ответ они, возбужденные предстоящим путешествием в неведомое, только нервно смеялись, говоря, что сами не маленькие, им уже шестнадцать в сентябре стукнуло. И вообще, как известно, «нечего откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня».
– Если вы, дуры, в понедельник не придете в техникум, я всем расскажу, куда вы отправились!
– Обязательно придем! – помахали они ему на прощанье.
Им повезло – обошлось без контролеров до самых Петушков. В тепле их разморило, и запасенные в дальнюю дорогу бутерброды незаметно истаяли за два часа пути. Вот и конечная. На какое-то мгновение девчонки замешкались: за окном электрички уже темнело, а дальше-то что? Боязно как-то…
– Эй, девки! Куды вам? – гаркнуло у них за спиной.
Девчонки вздрогнули и обернулись. Из-под мохнатых бровей на них смотрели смеющиеся глаза. Синие-синие. Все остальное скрывала клочковатая борода.
– Нам во Владимир, к маме… Мы студентки, вот домой едем… – старательно жалобили они старика.
– Эвон куда! – протянул дед. – Дак вам на шоссейку надо. Ладно, садитесь вон на телегу, подвезу вас, так и быть. Тута вам дожидаться боле нечего.
Оказалось, что до шоссе Москва – Владимир километра два по раскисшей осенней хляби, а там автобус ходит, редко, но все же… Телега тряслась, будто в лихорадке, подбрасывая на ухабах своих легкомысленных пассажирок, а сверху, глядя на них, укоризненно качала головой такая же незрелая, как и они, луна. Ах, как романтично! Все небо усыпано огромными сверкающими звездами, каких в Москве никогда не увидишь, волшебная ночь укрыла все вокруг своим бархатным одеялом, и старая кляча, с трудом вытаскивая ноги из чавкающей грязи, везет их – одних во всей Вселенной – в неведомую даль…
– Все, девки, приехали, – вернул их на землю возница. – Идите вон на шоссейку и дожидайтесь там кого-нито.
– Спасибо вам, дедушка, вот, возьмите пятьдесят копеек…
– Да не надо! Каки с вас деньги… Себя-то хоть поберегите…
По шоссе мчались машины, в основном грузовые. Но в какую сторону им ехать-то? Неподалеку на краю дороги стоял милицейский мотоцикл. «Надо идти к властям!» – решили девчонки.
– Товарищ милиционер! В какую сторону город Владимир?
– А вам зачем? – подозрительно спросил молоденький постовой.
– Нам домой-й-й, к маме-е-е, мы студентки, опоздали на автобус, а теперь не знаем, как добраться… – уже привычно затянули они свою мантру, горестно шмыгая носами для пущей убедительности.
Постовой вышел на дорогу, взмахнул жезлом – и возле него затормозила огромная фура, какие курсируют между городами. Из машины вышел пожилой водитель с документами в руках.
– Ваша колонна идет через Владимир, так? Возьмешь этих девчонок и подбросишь до города.
Водитель, мельком взглянув на замерзших путешественниц, согласился. Хорошо хоть милиционер не стал проверять груз или еще к чему цепляться…
– Садитесь в машину, – махнул девчонкам милиционер, довезут вас… к маме, – улыбнулся он им.
Согревшись в теплой кабине, они нечаянно задремали. Вдруг машина резко затормозила. Неужели приехали? Но за окном кабины темнел лес – и ничего похожего на город или даже деревню не просматривалось. Водитель с кем-то тихо спорил, опустив стекло. Вдруг из-за его головы высунулась ухмыляющаяся морда.
– Все, девки, приехали. Сворачиваем в лес на ночевку. Айда с нами!
– Вы же обещали милиционеру довезти нас до Владимира! – возмутились «медные косички».
– Не… Мы тут, в леске, заночуем. Вот ребята, говорят, устали… – пробормотал пожилой водитель, берясь за баранку.
– Давай с нами, девки, не пожалеете! – скалил зубы молодой, стоя на подножке. – Мы вам…
Но девчонки, пулей выскочив из машины, уже неслись что есть духу по шоссе, не дослушав настойчивого приглашения парня. Фуры свернули в лес, и наступила непроглядная тьма. Вдоль шоссе стояли хмурые ели и нашептывали что-то жутковатое. Наконец глаза освоились в темноте и убедились, что машинных фар – ни встречных, ни поперечных – нигде не видно. Накрапывал мелкий осенний дождик. Ну не стоять же на месте? Совсем околеешь! Девчонки, словно зайцы, поскакали по дороге, пытаясь согреться, и от страха во все горло вопили песни. Часа через полтора добрались до автостанции.
Никакого здания автовокзала, где они намеревались подремать в тепле до утра, на окраине Владимира не оказалось. Только диспетчерская будка. В ней же и касса с окошечком. Вокруг – ни души. Скоро двенадцать. До утра не простоишь на улице, да и страшно. Вон, собаки везде лают… Девчонки забарабанили в окошечко, из которого пробивался свет.
– Чего надо? До утра уже ничего не будет, не стучите!
– Тетенька, пустите, пожалуйста, погреться! Мы замерзли-и-и, – заныли девчонки, готовые разреветься по-настоящему.
– Не положено! – прозвучал грозный ответ.
Девчонки, будто нахохлившиеся воробышки, обреченно прислонились к будке, спасаясь от дождя, и прижались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Вдруг окошко приоткрылось:
– Вы чего тут? Думала, ушли уж. Одни, што ль? Ну, заходите скорее. Ох, промокли-то… Одежку кладите к печке. Я думала, вы с парнями, так боялась пускать… Щас вам кипятку принесу, согреетесь.
Женщина вышла в другую комнатушку и вскоре вернулась с чайником, подушкой и стареньким одеялом.
– Вот, ляжете тут на сундуке, а утром рано я вас выпровожу, пока никто не видит. А то попадет мне – здесь же касса еще.
Так сладко им нигде и никогда не спалось! Рано утром, хлебнув хозяйкиного чая и поблагодарив добросердечную женщину, они отправились в город.
Белокаменный Владимир, основанный Владимиром II Мономахом в 1108 году и ставший через полвека столицей Владимиро-Суздальского княжества, казался ожившей иллюстрацией к древнерусской истории XII века. Соборная площадь, знаменитые Золотые ворота, Успенский собор с сохранившимися фресками Андрея Рублева и Дмитриевский собор поражали воображение своей мощью и красотой линий. На улицах в столь ранний час было пустынно, и никто не мешал девчонкам погружаться в эту седую древность, изумляясь искусству ее создателей. Посетовав на то, что музеи еще не скоро откроются, они отправились дальше.
В село Боголюбово – резиденцию князя Андрея Боголюбского, построенную им в XII веке в память о погибшем сыне Изяславе, они добирались уже освоенным гужевым транспортом. От белокаменного замка после нашествия монголо-татар мало что осталось. Девчонки побродили по округе, осмотрели сохранившиеся земляные валы и рвы, а затем решились заглянуть в собор Рождества Пресвятой Богородицы в монастыре. Там шла служба.
При входе к ним метнулась согбенная старушка в черном одеянии: «Головы покройте и перекреститесь!» – прошипела она. В соборе оказалось довольно много народа. Потрескивали свечи, и пахло чем-то незнакомым. От трубного баса священника забегали мурашки по спине. С огромного иконостаса в глубине собора на путешественниц скорбно смотрели темные плоские лики святых. Но девчонок интересовали фрески Андрея Рублева: как знать, может, они и здесь были? Остатки изображений на стенах древнего храма ответа не давали, а спросить у неласковой старушки они постеснялись.
От Боголюбова до загадочной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, построенной в 1165 году Андреем Боголюбским в честь нового праздника Покрова, было совсем недалеко – километра полтора. Девчонки отправились туда пешком. Еще издали они увидели стоявшую на холме посреди огромного поля одноглавую белокаменную церковь с изящными пропорциями, высокими узкими окнами и вертикальными линиями. Казалось, будто она парит в чуть подрагивающем осеннем воздухе, устремляясь ввысь. Стены церкви украшены резными рельефами, а на фасаде – восседающий на троне царь Давид с псалтырем в руке, благословляющий прихожан двумя перстами.
Девчонки не могли оторвать глаз от такого совершенства, вызывавшего душевный трепет. Как жаль, что нельзя взглянуть на ее внутреннее убранство – на двери огромный замок. Незаметно к ним подошла женщина средних лет с приветливым лицом: «Девочки, интересуетесь нашей церковью? Она самая древняя здесь. Восемь веков стоит, красавица, любуясь собой в водах речки Нерли. Хотите заглянуть в нее? Я тут вроде сторожа и экскурсовода в одном лице. Наших-то туристов мало бывает, в основном студенты-художники приезжают, а вот иностранцы здесь частые гости».
Но внутри ничего не оказалось – только белые каменные стены в неясных разводах. Женщина рассказала, что после революции церковь еще действовала, но в 1923 году ее закрыли. Все разграбили… А потом целых тридцать пять лет – разор и запустение. Но когда в конце 50-х создавался Владимиро-Суздальский заповедник, про нее вспомнили и даже собирались реставрировать. Конечно, немного привели в порядок, что-то даже починили, но до внутренней отделки еще очень далеко. А неделю назад, на великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сюда из Москвы приезжал митрополит со своей свитой. На службу сбежался народ из всех ближних деревень. Слушая священника, люди плакали. Он обещал, что церковь обязательно восстановят.
Впереди их ждал Суздаль. Было в этом слове что-то хрустальное, да и сам городок представлялся им сказочно-игрушечным «пряником». Но первое впечатление оказалось тягостным: замшелая деревня с убогими домишками и раскисшими от непролазной грязи улицами, посреди которых в лужах блаженствовали жирные свиньи. Повсюду копошились куры, мычали коровы, бродили козы… Там и сям – древние деревянные часовенки, щелястые и почерневшие от времени, с выбитыми оконцами и держащимися «на честном слове» дверями, а в них – горы зерна, картошки, капусты и прочего овоща, отвоеванного у непогоды местным колхозом. Эту безрадостную картину иностранным туристам, конечно, не показывали.
Но вот в излучине реки Каменки показались стены кремля, построенного в X веке, и стало ясно, что девчонки добирались сюда не напрасно. Был уже полдень, а шедевров суздальского зодчества оказалось еще вон сколько – смотреть, не пересмотреть: фрески XII века, изразцовые печи, средневековый собор Рождества Богородицы, колокольня с курантами, Архиерейские палаты XVIII века, Крестовая палата, Спасо-Преображенский собор конца XVII века, звонница монастыря, Архимандритский дом XVII века с высокими кровлями, деревянными галереями и крылечками. Родовая усыпальница с князем Пожарским, захороненным в ней в 1642 году. Здесь же был основан в 1207 году Ризположенский женский монастырь – самый древний на Руси. Его знаменитые «Святые ворота»…
Не зря, оказывается, едут иностранцы на экскурсию в такую даль…
Везде – бегом, хотелось посмотреть как можно больше, но осенний день недолог. Стало быстро темнеть. Девчонки призадумались: как-то надо выбираться домой, в Москву. Прямого сообщения со столицей не было. Ни на какой телеге не доедешь… На центральной площади сверкали стеклами шикарные «Интуристы». За ними скромно притулились три московских экскурсионных автобуса.
Девчонкам ничего не оставалось, как проситься «к своим на постой». Даже деньги предлагали водителям – целых полтора рубля. От них отмахивались, как от назойливых мух. Вот уже первые два автобуса двинулись в путь. Стемнело. Девчонки совсем пали духом, продолжая упрашивать водителя последней машины, курившего на подножке. Его пассажиры уже расселись по своим местам и подремывали в полутемном салоне. Водитель, бросив на землю окурок, буркнул сквозь зубы:
– Быстро назад, и чтоб сидели, как мыши, а то выкину прямо на дороге.
Девчонки мигом шмыгнули в конец автобуса и съежились там. Сидевшие поблизости туристы мужского пола заинтересованно оглядывались на них, готовые полюбезничать, а женщины ревниво заворчали. Водитель красноречиво взглянул на девчонок, и те тотчас забились в угол за кресла, пресекая все попытки дорожного знакомства. В автобусе – какое счастье! – было тепло и уютно, а самое главное – их довезут до самой Москвы, и завтра утром они, как ни в чем не бывало, придут в техникум. Влетит, конечно, от родителей, но это ерунда…
* * *
Их тощей стипендии хватало и на кино, и на театры, и на выставки. Любимый «Ударник», а если повезет с билетами, то и «Современник», кукольный Образцова или драмтеатр на Малой Бронной. «Большой» и «Малый», в двух шагах от техникума, почему-то не жаловали: туда и в те годы было не попасть. Загадочный Политехнический, приют интеллектуалов, куда старались пробраться послушать Вознесенского, чью первую тонюсенькую книжку стихов, выпущенную во Владимире, сразу же прихлопнули, и строптивого Евтушенко с убийственно красивой и талантливой Беллой, законодательницей московской моды. Улица Горького, ареал их техникумовского обитания вместе с суматошным Столешниковым и Пушкинской, не изобиловала кафешками и все же это было чуть ли не единственное место в столице, где они попадались.
Напротив бронзового Пушкина в полуподвальной шашлычной с гордым именем «Эльбрус» (уж не знак ли это был им какой?) девчонки как-то «просадили» целую стипендию, правда, не свою, а их верного друга Пашки, который сгоряча пригласил их туда перекусить. Когда настал момент расплаты, они приняли безразличный вид и стали глазеть по сторонам. Пашка попросил официантку принести пустой поднос. Та удивилась, но принесла. Парнишка достал банковский мешочек из портфеля и высыпал на поднос гору мелочи.
– Сдачи не надо, – небрежно бросил он оторопевшей женщине.
Оказалось, что в тот день он получал стипендию самым последним в техникуме. Пришлось взять то, что осталось…
Знаменитое кафе «Молодежное» с аскетическими пластиковыми столиками-стульчиками по моде тех лет было элитарным. Там иногда встречались будущие знаменитости, известные пока лишь узкому кругу «посвященных»; молодые поэты, охрипнув у продуваемого всеми ветрами памятника Маяковскому, читали стихи «из никогда не опубликованного» в тепле и уюте, а начинающие ВИА испытывали на здешних посетителях свои «нетленки».
Но подружки предпочитали «Космос» или «Север», выбирая, где меньше очередь. Как-то, уже после окончания техникума, они там отмечали свое общее семнадцатилетие: кофе, мороженое, сухой кислый «Рислинг» и… сигарета в зубах. С ними за столиком оказались молодые иностранцы. «Демократы», конечно. Посланцы капстран предпочитали рестораны «Националь» и «Метрополь», около которого вечерами дефилировали броские девицы в шикарных шубах (в любое время года), накинутых на голое тело.
Элементарная вежливость требовала поддержания светской пустопорожней беседы за столом.
– Откуда вы приехали в Москву?
– Отгадайте.
– Венгрия? Германия? Польша?
– Вы студентки?
– Да, мы будущие журналистки, – уточнили девчонки.
Скажешь, что «литературные редакторы», еще не поймут. Да и факультет, где одна из них уже училась, а вторая готовилась туда поступать, так и назывался – факультет журналистики.
– Журналисты? – удивились гости столицы. – И о чем же вы будете писать? О том, что есть, – с усмешкой кивнул один из них на видневшуюся за окном башню Кремля, – или станете писать то, что прикажут старшие товарищи?
Расплатившись, они тотчас ушли. Настроение у девчонок испортилось. Вроде бы ничего обидного им не сказали… И все же… задуматься заставили.
* * *
А жизнь неслась все дальше, слегка притормаживая на станциях-полустанках: окончание техникума, первая работа-зарплата, вечерний институт – одна сразу прошла, а другая – лишь на следующий год. Провалившись на сочинении в Полиграфический, она ринулась в МГУ на факультет журналистики, но не прошла по конкурсу: ее соперником в борьбе за место оказался тридцатилетний корреспондент какой-то районной газетки, к тому же член партии. В ожидании окончательного решения приемной комиссии, которая сомневалась в способности великовозрастного абитуриента к обучению, подружки забрели в пустую аудиторию старинного университетского корпуса на Моховой и почему-то разлеглись там на столах, восторженно глядя в высоченный потолок и ощущая дыхание истории: «А вдруг здесь когда-то сиживал сам Ломоносов или еще кто из великих?». Комиссия все же выбрала члена партии…
Потом и замужество подоспело, тоже по очереди, как и последующее рождение детей. Сначала у одной появился сын, а через пару лет у другой – дочь. Пока девчонки были свободными, они ходили вместе по горам – то по Закарпатью, где однажды чуть не рухнули в пропасть, весело катясь кубарем по травяному склону довольно крутой горы, то по Кавказу с его Эльбрусом, навек поселившимся в их душах, а то и по подмосковным лесам чуть ли не каждую неделю с самыми разными группами-компаниями.
Своего верного друга Пашку, безнадежно влюбленного в их изящную однокурсницу, они вдвоем провожали в армию, бегали встречать его, прилетавшего на побывку из какой-то дыры под Хабаровском, на военный аэродром, писали ему письма. Когда он вернулся, одна из них собиралась замуж, но их общей дружбе это совсем не помешало. Они часто встречались, и Пашка, подвыпив, со слезами на глазах рассказывал, как погибали наши ребята на Даманском…
Со временем девчонки обзавелись другими подругами и своими отдельными компаниями, но продолжали дружить, теперь уже больше «на расстоянии». Но, встречаясь «раз в год по обещанию» – с однокурсницами или просто вдвоем, они чувствовали себя так, будто расстались только вчера.
А жизнь все неслась вперед, не давая времени остановиться, отдышаться, оглянуться вокруг… У обеих – любимая, еще в ранней юности удачно угаданная профессия. И слово «полиграфический» уже давно для них родное, как и прочая издательская сфера. У обеих – любимые дети, жаль только, что по одному ребенку.
Прошло время, народились обожаемые, самые замечательные в мире внуки – по мальчику на каждую. Правда, с большим отрывом. Сначала счастливой бабушкой стала та, которая мудро обзавелась дочерью: девушка все сделала вовремя – и выучилась, и вышла замуж, и порадовала внучонком и правнуком своих родных. А сын второй подружки, увлекшись интересной учебой-работой, совсем забыл о продолжении рода, но все же успел «вскочить в последний вагон», в тридцать шесть лет «родив» наследника.
* * *
Со встречи девчонок на Старопанском прошло 55 лет, которые просвистели мимо… и правда, «как пули у виска»… Жизнь в стране очень изменилась. Да и сама страна стала другой, усеченной и физически и морально. И век уже другой, совсем другой… Былые идолы, которых многие не жаловали уже тогда, в шестидесятые, низвергнуты окончательно.
Та неприкаянная фигура в распахнутой шинели, гордо возвышавшаяся посреди пустынной площади, теперь скромно расположилась на зеленой лужайке за Домом художника на Крымском Валу по соседству с безносым генералиссимусом из великолепного полированного мрамора цвета спелой брусники и отвернувшимся от них обоих Горьким, сосланным туда по прихоти новых «градомучителей» с лужайки у Белорусского вокзала. Площадь же так и осталась пустынной, но вернула себе историческое название. Давно снесли и угловое здание с «Эльбрусом» в полуподвале, открыв Пушкину вид на сквер его имени. Ушли в небытие и всякие литеры, шпоны и шпации вместе с высокой печатью, как и многое другое в полиграфии и издательском деле… Нет уже и их верного друга Пашки… А политый русской кровью Даманский под шумок вернули китайцам…
Девчонки, конечно, обе сделались «о-очень взрослыми», но остались все теми же – если пристальнее вглядеться в глаза. Обе никак не могут расстаться с любимой работой, боясь скиснуть от тоски по ней. Обе давно красят волосы, даже «медные косички», которым, казалось, годы нипочем. Обе уже все реже пьют веселящие бесшабашные напитки и все чаще – таблетки от давления. Все ниже каблуки и «спокойнее» наряды. Но в душе – они все те же девчонки из шестидесятых…
Удалось ли им найти в жизни свою «оптическую середину», или точнее, «золотое сечение» – изобретение великого Леонардо да Винчи? Кто знает… Но впереди-то еще больше года до их общего «серьезного» юбилея – 70-летия! Целый год с хвостиком!!
Москва, июнь 2015 г.Приют одиннадцати
Пассажирский поезд «Москва – Нальчик» отправлялся с Казанского вокзала субботним вечером 21 июня. Уже четверть века минуло с той страшной летней ночи, самой короткой в году, но все еще эта дата болезненно-памятна тем, кто родился в военное лихолетье или вскоре после Победы, все еще трепещет в их сознании мольба выживших в том аду – «Только бы не было войны!».
А сегодня у меня все замечательно: светит солнышко, второй курс вечернего института позади, зловредный начальник в последний момент согласился дать мне отпуск, и путевка (целых 65 рублей на 20 дней при моей-то зарплате в 75!) не пропала, и впереди – волнующее долгожданное путешествие. Мы с подружкой отправляемся в горы уже во второй раз, но этот поход на Кавказ будет сложнее закарпатского. Интересно же и понять что-то в себе самой, девятнадцатилетней, и вновь пережить то незабываемое, что происходит с человеком на вершине горы и навек делает его «кавказским пленником», да и не только кавказским…
Плацкартный трудяга-вагон с коричневыми деревянными полками, не успев отдохнуть и помыться после предыдущей поездки, вновь заглатывает гомонящую непритязательную публику с мешками, чемоданами и рюкзаками. Нам повезло – две нижние полки в середине этого человеческого муравейника обещали избавить нас от прелестей соседства с туалетом. Рюкзаки под лавку, чистую газетку на пыльный столик – и подобие некоего уюта обеспечено. Внезапно состав дернулся, что-то заскрипело, и платформа с провожающими медленно поплыла назад. Все: праздник жизни начался.
Вдруг с верхней полки упала рука – кажется, мужская – и закачалась, как маятник, перед самым моим носом. Я метнулась на противоположную лавку к подружке и подняла глаза. Наверху на голом матрасе не первой свежести сладко спал светловолосый парень. А вдруг он, «рассеянный с улицы Бассейной», проспал стоянку в Москве и теперь поехал обратно?
– Билетики приготовьте! – радостно возвестила широкоформатная проводница, загораживая собой проход.
Рука замерла, завозилась под подушкой и протянула билет. Остальное тело продолжало спать. Мы отдали проводнице свои билеты и попросили чаю.
– Не все сразу. Вот белье принесу, а тогда и чай будет, – пропела она и двинулась дальше.
Быстро промелькнули деревянные дачные платформы, затем пошли небольшие подмосковные станции, а за ними поля, леса и перелески. И никакого жилья до самого горизонта, лишь изредка кое-где промелькнут огоньки. Сгустившиеся сумерки с их долгожданной свежестью и обещанием покоя, убаюкивающий перестук колес, мерцающий свет вагонного ночника – все это навевало неясные грезы о чем-то необыкновенном, чему и названия-то нет!
Утром мы познакомились, наконец-то, с попутчиком, который был всего года на три нас старше, но держался бывалым горным туристом. Завязался обычный дорожный разговор: кто, куда, откуда, где учишься-работаешь и прочее.… Парень, на удивление, оказался из их института, но с технического факультета. И тоже вечерник. Мы лукаво ушли от вопроса о том, чем занимаемся сами, решив подшутить над задавакой. Институт этот в те годы был не самым популярным в Москве, и многие даже не знали, что означает его название:
– Полиграфический? А что это такое? – правдиво таращили мы наивные глаза, силясь не хихикать.
– Ну, это вот, учат, как книжки печатать, газеты всякие, – пустился он в пространные объяснения, сомневаясь в способности своих слушательниц понять столь сложный предмет и недоумевая, почему это вызывает у них такой истерический хохот.
Из конца вагона доносилось треньканье гитары, терзаемой неумелыми руками под несмолкаемый гул молодых голосов – там расположилась компания туристов. Время от времени они слонялись туда-сюда, надоедая проводницам: то просили чаю, то выясняли, можно ли на следующей станции раздобыть еды. Мы не обращали на них внимания: у нас тут образовалось свое «общество».
Кто-то, проходя мимо нашего «купе» и гремя пустыми стаканами в алюминиевых подстаканниках, заслонил собой свет от противоположного окна, и я невольно обернулась. И этот «кто-то» обернулся тоже. Наши взгляды встретились – и оказались вне времени и пространства. На меня смотрели большие глаза в длинных «девичьих» ресницах… Зеленые-зеленые… Что-то смутное шевельнулось в моей душе… и… в следующий миг растаяло. Я и лица-то его не запомнила, только глаза. И все же, что бы это значило? Ведь люди редко смотрят прямо друг другу в глаза, особенно незнакомые.
Всесоюзная турбаза в Нальчике – каменная, добротная, принимала туристов со всей страны. В вестибюле около регистратуры скопилась «очередь» из вновь прибывших:
– Приготовьте путевки и паспорта в открытом виде!
Я положила паспорт на стойку и мельком взглянула на лежащий рядом документ: запись в нем была сделана точно таким же почерком, как и у меня. Как такое может быть, да еще за тысячу километров от Москвы? Удивленно обернувшись, я встретилась взглядом с хозяином паспорта: на меня опять смотрели все те же большие глаза в «девичьих» ресницах… Зеленые-зеленые. Но тут администраторша скомандовала: «Следующий!», и я, подхватив свой рюкзак, отправилась с подругой «поселяться». В предвкушении захватывающего горного путешествия я не слишком долго раздумывала над странным совпадением почерка в паспортах. Сколько еще удивительных событий ожидает впереди!
Наш Эльбрусский 46-й горнопешеходный маршрут первой категории сложности, открывавший любителям гор путь к альпинизму, пролегал через Главный Кавказский хребет. Даже в названиях тех мест, куда из Нальчика туристам предстояло добираться, звучало что-то романтическое: поселок Тегенекли, самая высокогорная турбаза в стране «Приют одиннадцати», перевалы Северное и Южное Бечо, селение Шихра где-то под самыми облаками, городки Местиа, Зугдиди и жемчужина Абхазии – Новый Афон на Черном море.
Группа у нас образовалась большая – сорок человек. Здесь же оказались и все наши вагонные попутчики. В первом же тренировочном походе выяснилось, что кому-то из прибывших по бесплатным профсоюзным путевкам такая «прогулка» по горам без штормовки и туристских ботинок, но с тяжелым рюкзаком (все свое несли с собой плюс продукты, а на Приют еще и дрова) оказалась не по силам. Их оставили на турбазе, а потом кружным путем отправили на море. Мы с подружкой, побывавшие в прошлом году на Карпатах, первое испытание выдержали достойно и вместе с остальной группой двинулись дальше на открытых грузовиках к Баксанскому ущелью.
Это испытание не шло ни в какое сравнение с тренировочным походом: 125 километров по горному серпантину в открытом кузове раздолбанной машины с деревянными лавками, на которых особенно не посидишь. Ехали почти все время стоя, смешно подпрыгивая, нелепо приседая и хватаясь за борта или друг за дружку. Говорить опасались, чтобы не прикусить язык от тряски, а по сторонам глазеть – и подавно: справа бездонная пропасть, над которой беспечно парило заднее колесо грузовика при умопомрачительных поворотах, а слева нависали скалы с корявыми деревцами, которые так и норовили своими ветвями хлестнуть по лицу. Наконец добрались до села Тегенекли, расположенного на высоте 1850 метров в долине бурной горной реки Баксан, которая в это время года уже утихомирилась, и лишь значительно усохшее галечное русло давало представление о разгуле ее весенней мощи. Здесь туристам предстояло отдохнуть и набраться сил для похода на Эльбрус.
За живописным селом, вольготно раскинувшимся у самого подножия лесистых гор, повсюду бьют знаменитые нарзанные источники, а около них стоят огромные железные чаны на подставках. Как-то мы, гуляя по окрестностям с новыми друзьями, увидели чан, под которым горел небольшой костер, а над ним возвышалась… голова старика в войлочной шляпе. «Прямо как в сказке Пушкина! – рассмеялись мы. – Наверное, дед решил омолодиться». Оказалось, что такие горячие нарзанные ванны спасают местных жителей от всяких болячек. Польщенный вниманием туристов, особенно девушек, 100-летний аксакал горделиво повел худенькими плечами, широко улыбнулся беззубым ртом и приветливо помахал нам рукой. На его коричневом, разрисованном морщинами лице молодо сверкнули озорные глаза. Того и гляди выберется из чана и закружится в искрометной лезгинке! Его пожилая внучка, которая следила за костром, рассказала, посмеиваясь, что дед пережил не одну войну и не одну жену, а сколько у него пра– и праправнуков, он и сам не знает.
После дня отдыха на турбазе группа отправилась в радиальный поход в ущелье Адыл-Су, где находился базовый альпинистский лагерь. Несколько маленьких домиков, угнездившихся на крутых склонах, небольшая тренировочная площадка и… своеобразное кладбище ребят, погибших в разные годы при штурме Эльбруса. На плитах, камнях или просто на куске дерева масляной краской начертаны их имена, даты и место гибели. Рядом – небольшой стенд с их фотографиями. А вокруг – восхитительная дикая природа, само торжество жизни, но никак не смерти, особенно таких еще молодых людей. Действует отрезвляюще. И все же каждый, невольно останавливаясь здесь в грустном молчании, думает: «Нет, это не про меня. Со мной такое не случится. Никогда-никогда».
Наконец-то завтра начинается поход к Эльбрусу – главной цели нашего путешествия. От горного селения Терскол туристам предстоит десятикилометровый подъем на высоту 3300 метров к 105-му Пикету, где заканчиваются скальные тропы и начинаются ледники и снежники. Уложены рюкзаки, сшиты марлевые маски для лица, приготовлены очки от солнца, закуплена дешевая ярко-красная помада в местном сельпо для защиты губ, которой предстоит на снежнике краситься и мужчинам, переставшим бриться по совету бывалых еще в Нальчике. Все туристы проинструктированы: не пить на подъеме, не отставать, не забегать вперед, шагать след в след за инструктором, опираясь на всю ступню, не распугивать своими криками местную фауну, не срывать цветы, особенно редкие рододендроны, а в конце очередного подъема делать сильный выдох, повернувшись назад. Выходим с рассветом. Последняя коротенькая ночь на турбазе. На кровати с простыней и подушкой. Потом будут только спальники, хорошо еще, если на нарах, а не на земле. Что-то нас ждет впереди?
Поначалу идти было легко и весело – высокое душистое разнотравье, еще влажное от росы, алмазные струи водопадов, бьющие из скал, первые лучи солнца, брызнувшие из-за перевала на величавые горы, вершины которых теряются где-то высоко в облаках… Но вот начинается первый подъем – и рюкзак моментально тяжелеет, норовя опрокинуть своего хозяина навзничь. Карабкаться временами приходится по узкой скользкой тропе, уходящей вверх под углом почти в 45 градусов. Пот (или слезы) разъедает глаза, но страшно оторваться от подвернувшейся под руку опоры – куста или замшелого валуна. А еще надо следить, чтобы ботинок идущего впереди, соскользнув с неверного камешка, не затормозил на твоей голове. Наконец-то привал. Ребята падают на траву там, где застал их этот долгожданный клич.
И снова в путь. Впереди – только огромные вековые сосны и кустарники среди мшистых валунов. Кажется, что у горы этой и вовсе нет никакой вершины – одни сосновые пики до самого неба. Незаметно великаны-сосны сменились приземистым корявым березняком. Вдруг впереди стало как-то светлее. Вот и закончился мрачноватый лес, приоткрыв панораму альпийских лугов. Если и есть рай на земле, то это точно здесь! Какая красота! Так и хочется упасть в эту высокую шелковистую траву и больше не двигаться, боясь нарушить пронзительную тишину, и наблюдать за гордым полетом в прозрачной синеве неба огромных невиданных птиц с устрашающими клювами. А вот и знаменитые рододендроны, которые уже, к сожалению, отцвели. Суровый инструктор разрешил ненадолго остановиться. Дальше пойдут каменистые морены и никакой растительности уже не будет.
После короткого отдыха – вперед и только вперед. К концу дня мы должны дойти до 105-го Пикета, откуда в ясную погоду открывается Эльбрус во всей своей красе: две сахарные головы, искря на солнце, торжественно плывут над Кавказским хребтом, соблазняя обманчивой близостью. Пологая морена обещает легкую прогулку, но идти по ней, увязая в гальке и лавируя между валунами, не так уж легко. И снова подъем, но уже в обнимку с лысой скалой, по расщелинам которой расползлись ледовые языки. Последние неимоверные усилия, почти ползком, – и вот он, долгожданный Пикет, примостившийся на вершине горы. Этот небольшой, но довольно вместительный деревянный домик с двухъярусными нарами был построен на площадке, укрытой со всех сторон от ветра огромными каменными глыбами, еще в тридцатые годы как промежуточный лагерь для строителей Приюта одиннадцати. Вниз смотреть страшно – дна ущелья не видно.
Солнце еще не скрылось за горами, и все кинулись фотографироваться, как будто и не «прощались с жизнью» на последнем крутом подъеме каких-то полчаса назад. Самодельный обед-ужин у походного костра, гитарные стенания и бессмертные «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой…». Вот и все, что нужно для счастья… С последним лучом солнца лагерь будто черным покрывалом накрыло. Пора спать. Завтра в три часа утра они двинутся в путь, пока не подтаял снежный наст, одетые уже в «униформу» – в безразмерные брезентовые комбинезоны и такие же штормовки и обутые в трикони с острыми шипами (некое подобие горнолыжных ботинок). Ноги в них становятся пудовыми, зато не скользят, впиваясь в лед или плотный снег. От Пикета до Приюта одиннадцати всего шесть километров, но каких! Идти придется по снежным и фирновым полям.
В два часа ночи зычный голос инструктора объявляет подъем. Завтрак – чай, хлеб с маслом и все. После теплой палатки прозрачный холодный воздух и ледяная вода в умывальнике моментально выветривают остатки сна. За ночь подморозило. Неправдоподобно огромные яркие звезды, цепляясь за пики скал, загадочно мерцают, вызывая священный трепет. Раздалась команда готовиться к выходу. Прощай, Пикет! Мы идем покорять Приют одиннадцати!
Когда группа построилась, все чуть не попадали от хохота, глядя на окружающих, особенно на девчонок: в бесформенных брезентовых штанах и штормовках поверх собственных курток, в белых марлевых масках, резко контрастирующих с ало-малиновыми губами, а у парней – еще и с выползающей из-под марли разномастной щетиной в яркой помаде, в черных очках и невообразимых головных уборах, в «зубастых» ботинках, с неподъемными рюкзаками, которые можно было надеть только в лежачем положении, и палками (в качестве дров) в руках. Не смеялся только инструктор, бывший погонщик скота, ловко пристраивая на плечах станковый «абалаковский» рюкзак, который возвышался над его головой.
Перед выходом группы на маршрут этот суровый укротитель, недвусмысленно дирижируя ледорубом, еще раз предупреждает о необходимости соблюдения строжайшей дисциплины и осторожности: идя по узкому каменистому серпантину, нужно помнить о тех, кто внизу, потому что даже небольшой камешек, выскочивший из-под чьего-то ботинка, может привести к ужасному камнепаду, как, впрочем, и громкие восклицания не в меру возбужденных туристок. На леднике нужно неустанно смотреть себе под ноги: коварные трещины, припорошенные снежком или затянутые тонким льдом, подтаивая днем, могут не выдержать – и тогда тебя даже искать никто не станет.
Туристы движутся на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Впереди инструктор и несколько крепких ребят с веревками и крючьями, которым придется утаптывать тропу, в середине все девчонки, а замыкающим парням предстоит подгонять отстающих, взваливая на себя и их поклажу. Дышать становится все труднее. Звезды постепенно бледнеют, но небо все еще кажется бархатно-черным на фоне мерцающего льда. И вдруг откуда-то снизу посыпались огненные искры, высеченные на снегу первыми лучами солнца. Группа уже вышла на траверз и двигалась в узком снежном коридоре высотой около метра. Справа медленно начал выползать огромный, докрасна раскаленный диск. Казалось, до него можно дотянуться рукой… А слева все еще оставалась кромешная темень.
Удивительный снег в горах: ярко-белый, крупнозернистый и на вид очень твердый. Совсем не такой, как у нас в Подмосковье – нежно-пушистый. И все равно его нестерпимо хочется лизнуть: пить-то нельзя. Глядя, как группа медленно ползет вверх, преодолевая один снежный «бархан» за другим и норовя нечаянно «забыть» по дороге хотя бы дрова, кажется, что ее покинули последние силенки. А тут еще развеселившееся солнце палит нещадно, расцвечивая горные вершины всеми цветами радуги, и хочется стащить с себя всю тяжеленную амуницию вместе с рюкзаком, намертво впившимся в плечи. Да и ноги бы отрубить вместе с проклятыми триконями. Мы с подружкой начали заметно отставать и плелись почти в самом конце «хвоста», подгоняемые неумолимыми замыкающими. А Приюта все не видно.
«Привал! Привал! Мы уже добрались до Кругозора[1]!» – докатилось откуда-то сверху, и в то же мгновение живая цепочка из качавшихся на ходу голов замерла и исчезла в снежном коридоре. Все попадали, как костяшки домино, на снег, не снимая рюкзаков: потом в них не вставишься. Казалось, что никакие угрозы уже не заставят подняться с этого роскошного ложа. Как хорошо просто так лежать на приросшем к спине рюкзаке, спокойно вдыхать разреженный воздух, смотреть на бездонное ярко-синее без единого облачка небо и ни о чем не думать! «Как славно быть ни в чем не виноватым! Совсем простым солдатом…», – проникновенно звучал в голове голос главного московского барда Окуджавы.
«Хватит нежиться! Быстро встали! Кто отстанет – ждать не будем! Тут и закопаем, если что!» – эхом неслось по цепи обнадеживающее обещание инструктора. Последняя угроза возымела действие: такой и вправду закопает. С трудом поднялись на дрожащие ноги и, согнувшись в три погибели под ненавистным рюкзаком (и зачем в нем столько всякого ненужного барахла?), поплелись, шатаясь, вверх. Вот и осилили очередной подъем.
И наконец – о счастье! Впереди мелькнуло что-то темное, похожее на аэростат времен войны. Ну вот, уже и галлюцинации начались из-за неимоверной усталости и слепящего на солнце снега. «Ура! Приют!» – закричали самые догадливые, все еще не веря своим глазам. Трехэтажное каменное здание необычной округлой формы, обшитое стальными листами, и вправду напоминало чем-то серебристый аэростат. К нему вела пологая тропа среди бескрайней снежной равнины. Вот она, финишная прямая, которая всегда открывает второе дыхание в спорте, бросая в последний прорыв. А в жизни? Нет, об этом думать пока не хочется.
Приют одиннадцати, построенный энтузиастами под руководством тогда еще малоизвестного архитектора в конце тридцатых годов на высоте 4200 метров над уровнем моря, – последний базовый лагерь для альпинистов, штурмующих величайшую вершину Кавказа (5642 метра) Эльбрус, а для горных туристов это предел мечтаний, ну разве что кому-то из них удастся отсюда добраться еще до Скал Пастухова. Во время Великой Отечественной войны Приют защищали солдаты-альпинисты и кавалеристы, сражавшиеся здесь с отрядом немецких горных егерей «Эдельвейс». До сих пор в округе находят гильзы от патронов и искореженное оружие.
Чуть ниже основного здания – каменная дизельная, метеостанция и еще какие-то хозяйственные постройки. На первом этаже – большая кухня с огромной плитой, туалет, душевая, медпункт, на втором – комнаты с двухъярусными деревянными нарами, а на третьем обитель местного персонала. Говорят, что до войны это была почти что шикарная гостиница со всеми доступными по тому времени удобствами (радиосвязь, центральное отопление, водоснабжение и канализация) и научными лабораториями наверху. Теперь уже нет здесь ни дубового паркета, ни деревянных инкрустированных панелей, ни других признаков роскоши. Нет и научной лаборатории с уникальными приборами. Все разорили стоявшие здесь немцы. Но для альпинистов и горных туристов даже сегодня это одна из лучших европейских турбаз на такой высоте.
В лагере был народ – бывалые альпинисты, смотревшие на горных туристов снисходительно (одни из них готовились к выходу на маршрут, другие отдыхали, гордые своим покорением вершины), и… горнолыжники, в основном иностранцы. Горные лыжи были еще диковинкой в Союзе и стоили не меньше легкового автомобиля. Но как эти баре сюда попали? Не тащились же они, как туристы с альпинистами, с такими тяжеленными доспехами от самого подножия горы? Наверное, их закинули сюда на вертолете покататься на лыжах по девственным склонам. Интересно, а как обратно?
На кухне хозяйничали шумные жизнерадостные итальянцы. Запахи от их стряпни, шипевшей на плите, лишали проголодавшихся туристов последних остатков мужества, но от приглашения радушных творцов волшебного блюда разделить с ними трапезу пришлось отказаться – нельзя и все! Почему?! Так вкусно па-а-х-н-е-т… Пришлось довольствоваться своим «дежурным» блюдом – тушенкой с перловкой и анемично-бледным грузинским чаем. Снаружи, с подветренной стороны здания, на лавочках расположились перекусить насупленные немцы, скорее всего западные. Каждый доставал из своего рюкзака сухой паек с термосом и наслаждался «обедом» в одиночестве, стараясь отвернуться от своих же сограждан. Поразительно! Скорее всего, наше туристское понятие «общий котел» им неведомо. Бедные! Лишают себя такого удовольствия… даже если это всего лишь тушенка с перловой кашей.
На широких нарах при желании могли разместиться по два-три человека. Выбрав себе «лежбище», мы с подружкой отправились на кухню помогать дежурным готовить. Самое трудное – уговорить поесть вместе со всеми их мрачного «погонщика»: он ни под каким предлогом не соглашался на тушенку и довольствовался весь путь сухомяткой – такой здоровый дядька! Оказывается, ему, мусульманину, нельзя есть свинину. Ну кто бы мог подумать, что где-то в нашей стране еще существуют подобные религиозные предрассудки! Неизвестно, были ли среди его подопечных туристов мусульмане, но все дружно протягивали свои алюминиевые миски за добавкой этой немудреной похлебки.
Глядя сверху, с площадки Приюта, на раскинувшиеся вокруг до самого горизонта бесконечные горные цепи, ощущаешь щенячью радость от того, что «Кавказ подо мною…», что удалось, преодолев себя, увидеть такое захватывающее зрелище, и в то же время испытываешь необычайное смятение, чувствуя себя мельчайшей крупинкой в этой величественной стране Белого Безмолвия. Как Гулливер на ладони великанши. Вот говорят, что человек – Царь природы. Какой там Царь! Сколько же в нас, таких слабых, смешных в своей заносчивости и столь недолговечных, злобы, зависти, суеты, мелочности и никчемности! Зачем мы стремимся в горы? Испытать себя? Или покорить их? Но горы не прощают самонадеянности «завоевателей». Они, словно космические проводники, помогают честно взглянуть на себя, протерев замыленный «третий глаз», и прикоснуться к Вечности, чтобы очистить свою душу от всего наносного, недостойного человека.
Лучи заходящего солнца начертили на ближних склонах лиловые треугольники теней, и Приют, как сказочный кораблик, будто закачался на пенистых волнах плывущих внизу кудрявых облаков. Стало прохладно. Пошел снег – пушистые мягкие «лапы», как в Подмосковье в феврале, нежно опускались на лицо и таяли на губах. Кто-то из ребят-туристов решил разбудить в себе горнолыжника, выпросив у местного начальства единственную пару. Втискивая свою ногу 43 размера в ботинок 41-го, он твердо решил проверить, что это за удовольствие. Никто из знатоков в этот момент не случился рядом, чтобы показать ему соответствующие движения и предупредить о «коварстве» этих лыж, которые без всякого предупреждения несутся вниз с огромной скоростью, не интересуясь мнением «ездока». Успели только хором крикнуть: «Па-а-дай на бок!!!». В сгустившейся темноте не было видно ни «трассы», ни неприметного ледового карниза под снегом, обещавшего неудачнику вечный покой на дне ущелья.
Вдруг что-то далеко внизу, будто у самой земли, загрохотало со страшной силой. Неужели лавина или камнепад? А вдруг землетрясение? Кажется, Эльбрус был когда-то вулканом? И в то же мгновение где-то под ногами заметались, грозно сверкая, огромные огненные стрелы. Я от страха закрыла глаза и вцепилась в чью-то руку. «Не бойся, смотри, какая красота и мощь! Сверху снегопад, а прямо под нами настоящая гроза! Такое редко увидишь, даже в горах!» Рядом со мной стоял тот широкоплечий парень, который благополучно избежал приземления на дне ущелья, и смотрел на трусиху смеющимися глазами в «девичьих» ресницах. Зелеными-зелеными.
Спускаться вниз на следующий день было, кажется, еще труднее, чем ползти наверх. Немного «отощавший» без продуктов рюкзак толкал безвольное тело вперед, а дрожащие ноги, вгрызаясь триконями в тропу, неумолимо отставали. Голова, клацая зубами, болталась из стороны в сторону, не в силах удержаться на месте. Наконец ледник закончился, но коварная морена не принесла облегчения, засасывая ноги по щиколотку. И все же обратный путь всегда кажется короче. Вот и альпийские луга показались. Хорошо бы лечь поперек и кубарем скатиться… прямо к турбазе! То там то сям стали появляться деревья, готовые принять в свои корявые объятия катящихся на них сверху «восходителей». А вон и крыша турбазы показалась! Там возвращавшуюся из похода группу поджидают с компотом и поздравлениями с удачным возвращением.
Дальше наш путь лежал в Сванетию через снежный перевал Бечо на высоте 3375 метров. Миновав сосновый лес в Баксанском ущелье, мы повернули к реке Юсенги, откуда начинался крутой серпантин в окружении замшелых скал с уцепившимися за них рахитичными березками. Северный приют Бечо, где нам предстояло переночевать перед выходом на перевал, находился в зоне альпийских лугов на высоте 2431 метр. Вдоволь налюбовавшись местными красотами и отдохнув от походных тягот (одни ботинки весили 3 килограмма, рюкзак – не меньше 12, а у ребят все 20), ранним утром мы вновь отправились к леднику. Там-то туристов и поджидал сюрприз – коварная «куриная грудка» из зеркально гладкого льда. Бесконечно падать на него и так-то невесело, а если еще сверху собственный рюкзак придавит… И вот следующий подъем на снежную седловину. Откуда только силы взялись? Вот он, перевал! С одной стороны склона – Кабардино-Балкария, а с другой – грузинская Сванетия, а там, в дымке, кажется, море!? Памятные доски защитникам Кавказа на перевале вновь заставляют задуматься о том, каково им было, если нам, молодым, здоровым и сытым так тяжело просто шагать по этим горам, а не стоять здесь насмерть.
Нелегкий спуск по осыпи, опять ледник и, наконец, зеленые поляны альпийских лугов, а за ними – подвесной мостик через приток реки Бечо. Переправа с железными прутьями в качестве «перил» и редкими дощечками «пола» кажется такой ненадежной, что и ступить-то на нее страшно. Очень хочется преодолеть это препятствие ползком и с закрытыми глазами, чтобы не видеть того, что грохочет внизу. Мостик лихо раскачивается под ногами первых смельчаков, за ними по очереди побрели и остальные. Не оставаться же здесь? Главное – дойти до середины, а дальше уже легче. И снова крутой спуск вдоль берега реки, уходящей в каньон. Ноги дрожат и отказываются подчиняться закону земного притяжения. Но вот, почуяв твердую почву, они сами собой понеслись к мелькнувшей вдали турбазе – Южному приюту Бечо. За ней в синей дымке показалась грозная и неприступная гора Ушба. Забраться на нее по отвесным скалам рискуют немногие.
Спуск к Шихре – маленькому селению почти под облаками – был последним этапом высокогорного маршрута. Неподалеку на широкой выпуклой поляне среди лесистых гор, словно на дне сказочной вазы, раскинулись зеленые шатровые палатки, навес с длинным дощатым столом и лавками, костровище и в сторонке – общий туалет-скворечник. Это и была турбаза, опоясанная проволочным заборчиком высотой до колена, который «защищал» туристов от непрошеных гостей – местных джигитов и кавказских полосатых поджарых поросят, носившихся повсюду наперегонки с собаками. Для ребят из селения приход новой группы был событием, и они скромно прогуливались вдоль незыблемой границы, не покушаясь на территорию турбазы, которой командовал их суровый земляк. Но если кто-то из туристов сам пересекал «черту», его запрет считался уже недействительным.
Молодых людей особенно притягивали тропинки, ведущие от заборчика к туалету и «умывальнику» – тонкой струйке, бьющей из расщелины в ближайшей скале. Пришлось туристам по очереди провожать девчонок из группы к этим «злачным» местам. Местные девушки, кто посмелее, тоже приходили и других посмотреть и себя показать: в черных платьях, в серебряных украшениях, с большими черными «старорежимными» зонтами в руках, вероятно, от солнца, и в блестящих галошах. Они паслись на некотором отдалении, бросая быстрые взгляды на приезжих.
По традиции в Шихре туристы устраивали пир горой с шашлыком и собственными припасами. С самого утра добровольцы отправились в селение за бараном. Вернулись к обеду, еле держась на ногах после дегустации чачи, с тощим испуганным трофеем. Пока разделывали бедное животное, пока готовили шашлык, роняя слюни в предвкушении сказочного блюда, солнце скрылось за горами, и угощались уже в кромешной темноте. На чудный запах сбежались все окрестные собаки, которые норовили забраться на стол и стащить у зазевавшегося долгожданный кусок. Чача, как непременное дополнение к шашлыку, сильно отдавала керосином, но ребята пили, и некоторые даже переусердствовали.
Из-за горы выплыла огромная луна, залив серебром эту сказочную поляну. Звенящая тишина – и вокруг ни души. Казалось, что в этот миг весь мир раскинулся у твоих ног, обещая неземное блаженство. Из всей нашей компании, выбравшейся за «забор» прогуляться после шашлыка, мы вдруг оказались одни – я и тот парень, который после Приюта одиннадцати все время шел рядом. Мы молча сидели на поляне и смотрели на горы, прощаясь с ними. Вдруг раздался гортанный клич и тут же из темноты возник начальник турбазы. Страшные угрозы посыпались на наши головы, особенно на мою, и обещание выгнать нас с маршрута за нарушение дисциплины. Оказывается, удаляться от турбазы даже на полсотни метров здесь небезопасно. Утром при построении группы он ходил туда-сюда вдоль строя, пытаясь вычислить нас, чтобы предать скорому суду. Но не вычислил.
На следующий день мы уезжали на грузовиках в Местию по горной «зубодробительной» дороге. Древние сторожевые башни селения казались декорациями к спектаклю о неведомой нам жизни времен Пушкина-Лермонтова. Экскурсовод из местного краеведческого музея, бородатый рыжий дядька с ярко-голубыми глазами, рассказывал суровую историю этого края и своего маленького гордого и мужественного народа, а заодно с жаром доказывал, что именно его сородичи, сваны, рыжие и голубоглазые, эти великие труженики и воины, живущие высоко в горах, и есть настоящие чистокровные грузины, а не те развращенные «легкой» жизнью бездельники-торгаши с побережья, которые давно уже перемешались с турками и прочими иноземцами.
Потом был уютный мингрельский городок Зугдиди с местными достопримечательностями и портретами Сталина на ветровых стеклах абсолютно всех автомашин, и, наконец, Новый Афон. Вот оно, долгожданное море!! Наша сплоченная группа как-то сразу распалась на компании и компанийки и растворилась на окрестных пляжах. Кто-то уже собирался уезжать домой, кто-то еще оставался. На афонской турбазе было тесно от скученности брезентовых палаток, шумно и суетно от сменявших друг друга групп. После горной свежести и бескрайнего простора – почти курортная толчея при субтропической влажности и жаре, но море замечательное!
Моя подруга уезжала, а у меня еще оставались три дня отпуска, которые так хотелось провести на море вместо пыльной, душной Москвы. «Хочешь, вместе поедем в Сухуми? Меня знакомые приглашали», – предложил парень, который после Приюта всегда оказывался рядом. Немного поколебавшись, я решилась. Когда еще попаду в Сухуми? Три дня пролетели, как одно мгновение: белокаменный по-южному приторно-яркий город в кипарисах, благоухающий розами и неведомыми цветами вперемешку с волнующими запахами моря, знаменитый обезьяний питомник, огромный городской парк и, конечно, «Букет Абхазии» с «Черными глазами» …
Хозяева нашего пристанища – двухэтажного дома с многочисленными дворовыми постройками, смотревшегося настоящим дворцом со всеми удобствами после палаточной жизни, оказались очень милыми людьми: красавица-супруга – само обаяние и материнская забота о гостях, супруг – лысый энергичный колобок, мгновенно высчитывавший в уме возможную, даже самую ничтожную, прибыль от «приглашенных». Он сразу понял по нашим видавшим виды рюкзакам, что нам не по карману ни экскурсия на его казенной «Волге» на озеро Рица, ни другие курортные развлечения. А посему время нашего пребывания в «хоромах» было строго регламентировано: с 10 вечера до 8 утра. До обеда – море, а после, в жару при ужасающей влажности, – дивный парк, где разрешалось ходить по газонам и даже поваляться на них. В последний день моего пребывания в Сухуми, когда уже все достопримечательности были осмотрены и хотелось просто отдохнуть, мы нечаянно задремали на лужайке под раскидистым платаном после сытных чебуреков. Почувствовав чей-то взгляд, я приоткрыла глаза и увидела сидящего рядом на корточках милиционера. Спутник мой сладко спал, безмятежно раскинув руки. Кивнув на него, страж порядка сочувственно сказал: «Вот, стерегу ваш сон, а то часы-то у твоего парня снимут – он даже не почувствует».
Вечером я уезжала в Москву. Мы обменялись номерами телефонов, но я подозревала, что романтические отношения на отдыхе обычно этим и ограничиваются. Потом в городе все как-то быстро трезвеют, раздумывая, стоит ли… И все же, чем объяснить те странные совпадения – и поезд, и одинаковый почерк в наших паспортах, и один и тот же, среди многих других на турбазе, Эльбрусский маршрут, и сказочно-жутковатая ночь на Приюте одиннадцати? Все оказалось просто: наш будущий сын, подбирая себе родителей, предпочел тех, кто жил по соседству, подходил ему по возрасту, экстерьеру, интересам и прочим приметам. Ну не знакомить же их в кинотеатре «Темп», куда они часто ходили (она жила в этом же доме, а он через пару кварталов от него) или в троллейбусе либо трамвае? Это неинтересно.
* * *
Через год мы поженились. Наши друзья-туристы из Эльбрусского похода подарили нам на свадьбу зеленую брезентовую двухместную палатку. Она верой и правдой служила нам в подмосковных походах, «поседев» от дождя и солнца, а теперь ею завладел наш внук, обнаружив такое сокровище на даче.
* * *
Со времени Эльбрусского похода прошли четыре десятилетия и еще один год. Впервые в жизни я решилась поехать в санаторий. В Пятигорск. А там, увидев в легкой дымке далеко на горизонте плывущие по облакам две сахарные головы, я вновь почувствовала «зов гор». Санаторная суета к выходным прекращалась, и «болезный» народ отправлялся на экскурсии. Самые дальние – на весь световой день в горы. Волнение от этих встреч трудно передать словами. Только слезами. Конечно, дальше альпийских лугов мы не забирались… Я побывала, разумеется, на всех, и самое главное – на Эльбрусском направлении.
Государственная граница с Грузией, еще плохо обустроенная, «палаточная», змеей проползла по Кавказскому хребту, вызывая внутренний протест: грубое вмешательство политики, разом обрушившей вековые многонациональные связи, и равнодушного человека в царство девственной природы оставляет после себя незаживающие раны. Вместо легких подвесных мостиков через ущелья – бревенчатые платформы для переправы людей, военных машин и прочего груза. Повсюду понатыканы столбы электропередачи, на ободранных склонах – строительные вагончики, груды каких-то механизмов, бревен и щебня. И пушки. Самые настоящие. Да еще тощие солдатики в мешковатых бушлатах и кирзе, совсем не такие, как в телевизоре… Но ужаснее всего – «лесосека» для канатной дороги. Мне и раньше доводилось видеть последствия снежных лавин в горах, но такого кошмара – никогда. Огромная «выбритая», как на голове у преступника, полоса, многократно превышающая нужную для канатки ширину, уходила под облака. Оказывается, к Эльбрусу теперь можно подобраться на неуклюжих траках и прочих машинах…
Вагончик канатки медленно плыл над горами. Сосновые пики внизу постепенно сменялись скальными выступами. Кое-где замелькали ледовые языки. Заметно похолодало, но я знала, куда направлялась, поэтому запаслась теплой курткой и вязаной шапкой, на которые внизу насмешливо поглядывали мои попутчики в футболках. На станции «Мир», где когда-то был кругозор на высоте 3500 метров над уровнем моря, дул сильный ледяной ветер. На синие носы моих попутчиков было страшно смотреть: температура была почти нулевая. От станции вверх к Приюту одиннадцати тянулась цепочка кресельной дороги, мелькая цветными легкомысленными сиденьицами на фоне сверкающего на солнце снега.
В ожидании кресельного поезда мы решили забраться на ближайшие скалы. Молодежь, помогая друг другу, быстро вскарабкалась на высокий «лоб» скалы, откуда открывался захватывающий вид на белоснежный Эльбрус в сияющем ореоле ярко-синего неба. Мне как-то никто руку не протянул, и я попробовала вскарабкаться наверх сама. Еще немного… вот уже близок «перевал», но тут вдруг поднялся такой ураган, что моя куртка, мгновенно превратившаяся в «парашют», норовила улететь вместе со мной в бездну. Я крепко обняла скалу и стала сползать вниз, стараясь «погасить» безответственную одежду. Почувствовав под ногами твердую опору и стараясь не смотреть вниз, в бездонное скалистое ущелье, я спрыгнула на деревянную платформу станции и решила больше не геройствовать.
Ветер буйствовал все сильнее, раскачивая вагончики и норовя сбросить оробевший народ с платформы станции. Яркое солнце, только что игравшее всеми цветами радуги на снегу, вдруг исчезло, и небо мгновенно сделалось угрожающе-сизым. Где-то страшно загрохотало… Как тогда, на Приюте одиннадцати. Кресельная дорога скрылась в набухших чернотой облаках. О дальнейшем подъеме нечего было даже мечтать. Надо было поскорее спускаться вниз, пока не остановились вагончики канатки. Оказывается, в такую погоду они могут зависнуть где-нибудь над горами и болтаться там на ураганном ветру со своими пассажирами неизвестно сколько времени. Нам повезло. Мы благополучно спустились вниз, где сияло солнышко и было тепло. И все же горечь от «неудачного восхождения» не отпускала. Когда я еще смогу сюда забраться? Ведь мне уже шестьдесят…
Может, это и хорошо, что я не увидела воочию того, что осталось от прежнего Приюта, сгоревшего по милости зарубежного гостя в августе 1998 года и впоследствии разрушенного ураганными ветрами почти до основания. В войну выстоял и прослужил альпинистам и туристам со всего света верой и правдой 59 лет… Не о таком, наверное, мечтал юный швейцарец Лейцингер, променявший свою уютную Швейцарию на дикую природу Кавказа, которой он посвятил всю свою жизнь, став «дедушкой» русского туризма и альпинизма. Еще в 1909 году он организовал первую экспедицию к Эльбрусу. Одиннадцать смельчаков из его отряда добрались до скальной площадки на высоте 4200 метров над уровнем моря, которую защищали с севера и востока огромные валуны, и устроили там хижину для ночевки. Они-то и назвали эту стоянку Приютом одиннадцати, откуда затем двинулись на штурм Эльбруса.
Интернетовские фотографии Приюта последних лет смотреть тяжело, особенно снимки разрушений и «новоделов», в которых нет ни красоты, ни души, ни порядка. Обещанный проект его восстановления не состоялся по низменным причинам. Воруют… «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков…», – пел когда-то Владимир Высоцкий. Может, все же наступит время, когда найдутся вожаки-энтузиасты и бросят клич – и «с миру по нитке…» соберут силы и средства на воссоздание былой легенды альпинизма и туризма? Очень хочется, чтобы нашим внукам-правнукам довелось увидеть новое рождение Приюта одиннадцати и ощутить на себе волшебные чары Эльбруса.
Москва, июнь 2016 г.Испытание человечностью
Переход Суворова через Альпы
Всю неделю в сумеречном небе висело лохматое серое «одеяло», засыпавшее хлопьями снега голую, иззябшую землю. А к выходным ударил мороз под двадцать градусов. И это в конце ноября! Поздним воскресным утром сквозь льдистую пелену пробилось солнце – нечаянная радость в эту гнетущую пору. И сразу заискрились бенгальским огнем искусные узоры на окнах, обещая скорую новогоднюю сказку. Каким-то он будет – этот 1972 год?
Ах, какое это невыразимое наслаждение – поспать лишний часок (спасибо мужу!) и проснуться от ласкового щекотания солнечных зайчиков! Ощутить такое дано лишь кормящим мамочкам, да еще, пожалуй, новобранцам. Все. Подъем! Скоро очередное кормление. Малыш, недавно отметивший свой первый юбилей – месяц от роду, жадно вцепился в сосок и довольно зачмокал. В эти минуты они оба – и малыш, и мама – бывали абсолютно счастливы, безраздельно принадлежа друг другу.
Покормив и перепеленав ребенка, Кира уложила его в кроватку.
– А не сходить ли мне в булочную? – вопросительно взглянула она на мужа. – Хоть немного пройдусь одна. Без коляски…
– А я с ним останусь?! – ужаснулся тот.
– Ну и что? Он еще проспит часа два. Не волнуйся, я быстро – туда и обратно.
Наскоро одевшись, она выскочила из квартиры. Лифт? Да зачем его ждать? Так приятно пробежаться по ступенькам без громоздкого живота, скрывающего собственные ноги, и ощутить непривычную легкость во всем теле! На улице – белым-бело. Белые типовые дома их новостройки «на выселках», которые выжили отсюда аэродром полярной авиации, почти слились с огромными сугробами. Тротуары, проложенные совсем недавно (прежде новоселы лавировали между машинами, шлепая по бетонке), чистить никто не собирался. От соседних домов к ним тянулись цепочки следов «нога в ногу», чтобы всем миром утоптать своими ботинками «народную тропу».
До булочной, центра местной цивилизации, как и до остановки единственного автобуса, связывающего их с «настоящей» Москвой, – десять минут ходу… по хорошей дороге. Народу на улице мало, лишь редкие энтузиасты прокладывают себе лыжню к ближайшему леску прямо от подъезда. На обледенелых ступеньках булочной Кира мельком взглянула на худого старика далеко за восемьдесят, входившего в магазин. В дорогом ратиновом пальто и пыжиковой шапке он странно смотрелся на фоне более чем скромно одетых «аборигенов».
«Такие в булочную не ходят, да и живут обычно не в блочных домах-близнецах вблизи МКАДа, а предпочитают “сталинский ампир” где-нибудь в уютном центре», – подумалось ей.
Очередь за хлебом двигалась довольно шустро, и вскоре она с еще теплым батоном и мягкой половинкой черного направилась в кондитерский отдел, где было совсем мало народу. Полюбовавшись тортами-пирожными и вобрав в себя дурманящие ароматы разнообразных изысков «Красного Октября», она все же решила прикупить что-нибудь к чаю, несмотря на жесткие рамки их семейного бюджета. Отогревшаяся и довольная приобретением, Кира направилась к двери. Выйдя из магазина и обведя глазами ступеньки в поиске наиболее безопасных, она вдруг застыла на месте как вкопанная: внизу на снегу распласталось «ратиновое пальто». Пушистая шапка валялась поодаль, скорбно опустив «уши». Старик загребал снег багровыми от холода руками и сучил ногами, пытаясь подняться хотя бы на колени. Растрепанные седые волосы прикрывали лицо. Кира растерянно оглянулась вокруг – никого. Совсем никого. Нигде. «Куда все подевались? Только что сновали туда-сюда. И вдруг куда-то пропали…», – с трудом соображала она.
Голова – головой, а руки ее уже действовали: сначала надеть на старика шапку, потом поднять самого на ноги и подобрать его авоську с одиноким, окаменевшим уже батоном.
– Поднимайтесь-поднимайтесь, а то еще простудитесь, – торопила она старика. – Вот сейчас отряхнемся и пойдем.
Старику никак не удавалось встать сразу на обе ноги. Резиновые галоши (какая редкость!), надетые на щегольские иноземные туфли, расползались во все стороны.
Вам куда? – спросила Кира. – Вас проводить?
Старик, ухватившись за Киру дрожащими заледенелыми руками, наконец кое-как поднялся.
– Вот… где-то перчатки обронил… И клюшки нет… Сын сломал… об меня… вчера… Пенсию хотел забрать… С клюшкой-то я не падаю… Не подумайте, я не пьяный… Я генерал… майор… в отставке… – прохрипел он и горько заплакал. – Я неделю не выходил из дома… И не ел ничего… Решил… дойти… хоть до булочной…
Ошеломленная Кира не растерялась: сейчас не до охов и ахов, деда надо как-то доставить домой.
– Так вы майор, военный, значит? Вот мы с вами сейчас и совершим «Переход Суворова через Альпы». Помните эту картину Сурикова? В Третьяковке висит, – попыталась она шуткой приободрить его и отвлечь от тягостных мыслей. – Чем не Альпы для нас с вами эти тушинские сугробы?
Им предстояло пересечь широченный бульвар и две дороги, чтобы выбраться к домам на противоположной стороне. Даже издалека было видно, что снегу там намело по пояс, – и никакого намека на тропинки. Ну, что ж. Идти-то все равно надо. Обхватив покрепче шатающегося старика за талию, она сделала первый шаг…
– Разве ваши родные не могут сходить за продуктами, чтобы вы так не мучились, хотя бы сейчас, в такой мороз?
– Жена у меня… умерла… полгода назад… на пятнадцать лет моложе… сердце – и сразу… Раньше она всем управляла… и домом… и детьми. Я ни забот, ни хлопот не знал. Работал. Они мать побаивались, а как только ее не стало, взъелись на меня, готовы со свету сжить… Квартира им моя нужна… кооперативная. Ведь и так мы с женой все отдали – и квартиру в высотке на площади Восстания, и машину, и все, что нажили… Сами перебрались сюда, чтобы не видеть, как они там колобродят. Дочь нашла мужа – лимитчика из глухомани, теперь они собачатся между собой, он хочет отсудить часть четырехкомнатной квартиры, которую я своим горбом зарабатывал. Всю войну прошел, раны долго не заживали, да и потом – как на раскаленной сковороде… Служба такая… Теперь вот нет моей голубушки, и все прахом пошло – у всех. Сын совсем спился, не работает, семью выгнал, жены каждый день новые… С сестрой лаются… до драки.
Старик уже еле-еле волочил ноги, а они еще и половину пути не прошли. Мороз пробирал до костей. В сапоги набился снег и противными ручейками стекал вниз. Силы были на исходе.
«Что же делать? – лихорадочно думала Кира, затравленно озираясь вокруг и осознавая истинный смысл рассказа Джека Лондона "Белое безмолвие": – Если остановимся, то замерзнем, – с каким-то равнодушием отметила она: – И найдут нас… не скоро… ну и пусть… больше не могу, сейчас сама упаду и не встану».
Старик сполз на снег и затих, прижавшись лицом к ее коленям. Жизнь для него потеряла всякий смысл, и бороться за нее ему уже не хотелось.
«А как же ребенок?! Ведь он скоро проснется, захочет есть. Какая же я дура набитая! Связалась с этим дедом, еще грудь застужу, молока не будет», – в голове ее замелькали картины, одна другой страшнее. Но зловредный внутренний голос вкрадчиво прошептал: «И что, перешагнула бы через него и пошла дальше? Все равно бы не смогла этого сделать, поэтому нечего нюни распускать, соображай быстрее, что делать. И соберись, наконец».
Кира оглянулась по сторонам, ни на что особо не надеясь, и вдруг увидела солидную семейную пару, степенно шагающую по тротуару, к которому они со стариком так стремились. Она неуверенно помахала им. Женщина ревниво подхватила мужа под руку и заторопилась пройти мимо. Сделав по инерции несколько шагов, мужчина приостановился и вопросительно взглянул на Киру, у которой слезы текли сами собой, образуя на лице ледяные сосульки. Что-то в ее скорбной фигуре было такое, что он решительно выпростал руку и побежал к ней.
– Что с вами стряслось? – запыхавшись, спросил он и вдруг осекся на полуслове, увидев привалившегося к ее ногам старика. – Зачем вы таскаете такого пожилого человека по морозу? – возмутился он. – У него же может случиться сердечный приступ из-за переохлаждения! Неужели вы одна не могли сходить в магазин? Обязательно деда было тащить с собой, да? А врачи потом вытаскивай его с того света? – почти кричал на нее прохожий.
– Он упал… там… у булочной, – прошептала она.
– Конечно, упал! Девушка, какая вы безответственная! Вы бы его еще в сандалиях на босу ногу из дома выпустили! Где вы живете? Куда вас проводить?
– Я? В тех новых домах, – показала она в другую сторону.
– Почему же вы здесь оказались? – опешил мужчина.
– Дедушка этот… он живет в том дворе, за углом… кажется.
– Почему «кажется»? Вы не знаете, где живет ваш собственный дед?
– Это не мой дедушка, это чужой старичок… Он упал и не мог подняться… Никого рядом не оказалось… Вот мы с ним и пошли потом… «через Альпы»… Он показал мне рукой, куда идти, а потом уже и говорить не мог…
Мужчина благоразумно решил не вникать в бессвязный Кирин рассказ, быстро потер старику лицо и руки, натянул на негнущиеся кисти свои перчатки и попытался поставить его на ноги. Старик немного пришел в себя и назвал дом и квартиру.
– Ох, простите меня, девушка, я и подумать не мог, что… – растерялся ее спаситель.
Они с Кирой подхватили старика и стали перетаскивать его через очередной сугроб, под которым скрывался колючий кустарник. Навстречу им спешила встревоженная жена мужчины. Она, пристально взглянув на Киру, молча забрала у нее сумки и, сняв с себя мохеровый шарф, закутала ей голую шею – верхней пуговицы на пальто как не бывало.
– Как же вас так угораздило? – с сочувствием произнесла она. – Простудитесь ведь…
– Да ничего, я, вообще-то, закаленная. Только вот после родов ослабела маленько… И грудь боюсь застудить.
– Вы, что, недавно родили? – заохала она.
– Чуть больше месяца назад…
На счастье, дом старика был уже близко. Он собрал последние силенки и засеменил своими ногами. Они все вместе вошли в подъезд и поднялись на седьмой этаж. Кира с женщиной остались погреться у батареи на лестничной клетке, а мужчина со стариком направились к квартире. Дверь после продолжительного звонка открыла немолодая женщина с отечным лицом в разводах вчерашней косметики и всклокоченными волосами.
Такого вдохновенного мата пришедшие услышать не ожидали. Кира даже заслушалась, проявив к этому словарному запасу арготизмов профессиональный интерес. «Услышала бы эту тираду Галкина-Федорук (профессорка из МГУ, которая сделала научную карьеру на подобном материале, почерпнутом в родной деревне) – сдохла бы от зависти! И ведь грамотно тетка слова-то расставляет, не то, что забулдыги у пивнушки!» – думала она. После столь блистательного вступительного «соло» дама, наконец, поинтересовалась:
– Вы зачем эту старую шваль сюда притащили? – набросилась она на завороженного таким приемом мужчину. – Пусть бы издох там, где упал! Неделю назад где-то уже пропадал, так нет – притащили. Такие же, сердобольные, мать вашу… И вот – опять. Мы уж думали – все, каюк этому козлу, а он … приполз… живой. Ну, давай, сволочь такая, снимай свои галоши! Где перчатки потерял?! Запру вот тебя, мудака старого, на замок, чтоб не вылезал никуда! – кричала она, замахиваясь на старика.
– Женщина, у вас ведь тоже старость не за горами, – попытался урезонить ее Кирин спаситель. – А что если ваши дети с вами так же обойдутся? Подумайте об этом. Умрет отец – ведь плакать будете, не на ком зло-то срывать станет… Да и о Вечном не грех бы уже задуматься… А бить старого человека – за это можно и срок схлопотать. Так и передайте своему братцу.
В коридоре появился хмурый, с тяжелого похмелья мужик и потащил старика в комнату. Тот неловко обернулся и, взглянув на мужчину, смущенно прошептал: «Извините их, пожалуйста. Спасибо вам. И передайте той девочке, которая меня подобрала… не бросила замерзать на снегу… никто не подошел… только она. Я буду помнить ее. Пока жив».
Дверь с грохотом захлопнулась. Сверху сбегал по лестнице мальчишка лет десяти-одиннадцати.
– Слушай, парень, – обратился к нему мужчина. – Ты знаешь дедушку из этой квартиры?
– Да, старенький такой. Мама говорила, что он какой-то заслуженный генерал. За ним еще такая блестящая черная «Волга» приезжала. У него наградами весь китель увешан! Я сам видел, перед Днем Победы в прошлом году. Но сейчас он почти не выходит, после смерти жены.
– Знаешь, этому дедушке сейчас очень трудно живется, иногда ему и поесть-то нечего. Ты бы не смог к нему заглядывать иногда – ну, хлеба, молока принести из магазина или еще чего-нибудь? А я тоже постараюсь его навещать. Вот мы и поможем этому заслуженному человеку хоть чем-то, как ты думаешь? Ведь он за нас с тобой на фронте воевал…
– Конечно, мне не трудно, я живу над ним, этажом выше. Но там часто очень громко ругаются… и что-то роняют… Мама даже милицию вызывала…
С тяжелым сердцем выходили они из подъезда. Кира заторопилась домой, муж с женой хотели ее проводить, но она поблагодарила и отказалась. Оттаявшие ноги неслись, не замечая сугробов. Вот и ее дом.
– Ты что так долго? – встревоженно спросил муж, помогая ей раздеться. – Да ты как ледышка! Беги скорее в ванную, грейся, а я чайник поставлю…
– Сначала надо малыша покормить, метнулась она к кроватке.
– Куда ты такая холодная к ребенку! У тебя молоко, наверное, уже превратилось в мороженое, а ему это еще рано! – попридержал он Киру. – Ничего, он потерпит, я его уже попоил водичкой, подмыл, перепеленал…
– Как? Сам?
– Ну не соседей же звать! Только, по-моему, он уже из одеялка вырос. Какое-то маленькое ты купила.
Кира взглянула на спящего ребенка: закатанная в одеялко «колбаска», перевязанная поясом от ее халата, мирно посапывала, высунув на волю святые розовые пяточки. Она невольно улыбнулась. Какая разница, как пеленать, – главное, чтобы ребенок не плакал.
Они склонились над кроваткой, разглядывая результат своего совместного труда.
– Как ты думаешь, каким он вырастет? – спросила она мужа.
– Ну конечно, способным. Технарем, как я. И таким же красивым, как ты, – реверанс в ее сторону.
– Я не об этом. Будет ли он нас любить… совсем стареньких? Не станет ли… поколачивать? С нетерпением ждать, когда мы того… уйдем в мир иной?.. Чтобы освободить… жилплощадь?
– Да ты что?! Посмотри, какие у него пухлые губки! Прямо как у моей матушки. Люди с такими губками не бывают злыми, не бойся, – сказал он, прижимая ее к себе.
* * *
Малыш действительно вырос и способным, и человечным.
А Кире еще не раз довелось в своей жизни испытать что-то вроде «Перехода через Альпы», когда в трудный момент никого рядом или одни любопытные – и нужно действовать быстро:
Внезапно потерявшая сознание пожилая женщина, которая шла за ней по темной улице в двенадцатом часу ночи. Диабет. И всего-то понадобился кусочек сахара, припасенный у нее в сумке.
Мальчишка-подросток, ровесник ее сына, выскочивший из-за автобуса прямо под колеса встречной машины около ее работы. Она села с ним рядом прямо на асфальт и держала его голову на коленях, стараясь успокоить и выяснить номер телефона родителей, пока он был в сознании. Хорошо, что успел прибежать старший брат до приезда «Скорой», которая явно не торопилась, хотя до ЦИТО – рукой подать.
Молодой нетрезвый парень, решивший замерзнуть в сугробе назло жене на том же бульваре; возвращавшаяся с работы Кира случайно заметила в темноте одиноко торчавшую из снега руку в черной перчатке. Подействовал только один довод: «А как же твоя мать это переживет?»
Сосед, повесившийся в собственной квартире, – и барабанный стук в Кирину дверь. Тогда Кире с трудом удалось его кое-как откачать (пригодились занятия в сандружине на ее предприятии), но жена парня отказалась от «Скорой»: «Выпимши он, еще заберут…» Спустя полмесяца, в день своего тридцатилетия, совпавшего с Днем защиты детей, сосед, отец двухмесячной дочки, повторил свой «подвиг». И опять в Кирину дверь барабанили среди ночи. На этот раз они вместе с мужем пытались вернуть его с того света до приезда «Скорой», которую Кире пришлось вызывать самой вопреки протестам жены, отсиживавшейся, как и в первый раз, все это время на кухне.
Здоровый дядька, упавший ей прямо под ноги около ее собственного дома; найти исправный телефон на улице и вызвать «Скорую» в то время – проблема, дождаться ее и объяснить, почему ты не знаешь его имени-фамилии и прочее – еще большая проблема.
И тот искалеченный парнишка, которого врачи выхаживали полгода: Кира случайно увидела ранним утром из окна своей квартиры на двенадцатом этаже в скверике напротив лежащего в неестественной позе человека; начало 90-х – избитого до полусмерти десятиклассника, пришедшего в гости к приятелю, выбросили умирать в тени деревьев на обледеневшей земле…
И много еще чего было.
За что ей все это? Может, судьба напоминает ей таким образом о неоплаченных долгах?
Привычно спрашивая на улице растерянных стариков и детей, не нужно ли им чем помочь, Кира, теперь уже и сама пожилая женщина, невольно думает: «Может, и мне кто протянет руку, когда упаду?».
Москва, октябрь 2014 г.По долинам и по взгорьям…
Ну кто придумал устраивать собрания после работы? Да еще для прослушивания «политинформации», которую заместитель начальника их главка будет читать по бумажке битый час, бубня себе под нос. Есть же газеты! Кто хочет – читает, кто не хочет, довольствуется вполне достоверным «сарафанным радио» или «вражьими голосами». 1984 год. Все придерживаются принятых правил игры: в «речах» – одно, на языках – другое, а в головах – совсем противоположное.
Никто вслух вопросов докладчику не задает, только мысленно: «Когда ты, наконец, заткнешься, рожа гебешная?!» Особенно смешно слушать его «покаянные» призывы: «Да, права наша Партия, распустились мы все в последние годы, дисциплины – никакой, да и работаем спустя рукава». Вот гад блатной! Он-то когда работал? Из-за границы не вылезал, проходимец, и в главке толку от него – экстерьер один, а внутри пусто. Вот из-за таких, которые «спустя рукава» руководят сельским хозяйством огромной страны, она, эта самая страна, скоро зубы положит на полку за ненадобностью.
Попадая правдами и неправдами «с мест» в центральный аппарат министерства, начальники, даже самые никчемные, начинали не с преодоления застойной мертвечины на новом участке работы, о которой верещали с высоких трибун, а с благоустройства своих кабинетов, где еще не выветрился дух прежнего хозяина. Все кардинально перестраивалось под вкус очередного местоблюстителя, менялись мебель, оснащение «комнаты отдыха» и секретариат (каждый прибывал на новое место службы со своим «самоваром»). Параллельно шел подбор квартиры в зависимости от кругозора: народ из глухомани требовал жилье только в доме на улице Горького, более цивилизованная публика предпочитала Кутузовский (ведь там жил сам Брежнев!) или, на худой конец, ближний Юго-Запад. Не забывали и о госдачах, которые вскоре чудесным образом становились их собственными.
Отдельная песня – семья: испокон веку на Руси водится: «Ну как не порадеть родному человечку!» Для жен и родни – «теплые местечки», для детей – места в престижных вузах. И пайки – из сотой секции ГУМа и других малоприметных подъездов. А остальной народ (даже министерские рабочие лошадки) – пусть живет, как хочет!
Эти злобные мысли разбередили ей душу. А молока сегодня из-за этого чертова собрания уже не купить. И масло дома тоже, кажется, кончилось… Ой, что-то народ зашевелился, зашуршал, зашаркал по паркету, незаметно подползая к выходу. И – с низкого старта в гардероб.
На улице уже стемнело. Конечно, зимой в половине восьмого – уже ночь. Но Садовое Кольцо грохотало не меньше, чем днем. В их огромном кабинете, где полтора десятка сотрудников без конца названивали на разные голоса во все концы страны, невозможно было открыть окно: люди не слышали сами себя. Хорошо, что от министерства до «Лермонтовской» не больше семи минут ходу. В сапогах на высоких каблуках и шубе много не походишь.
Каких-то лишних полтора часа – и нарушается давно установленный порядок: в это время уже пора «метать на стол» и кормить семью, а она только входит в метро. Муж в командировке, ребенок один, похватает куски из холодильника и будет ждать маму с работы. Хоть бы вчерашние котлеты разогреть догадался!
В вагоне малолюдно. Основная масса министерского народа (на этом пятачке целых четыре министерства) уже схлынула. Вот и пересадка на фиолетовую линию. Ехать почти полчаса, можно и почитать. В «Новом мире», до которого руки доходили только в дороге, интересная новинка Ильи Штемлера «Универмаг». Что-то совсем свежее, хотя и про нашу «застойно-застольную» жизнь. Хорошо, что освободилось местечко и можно погрузиться в перипетии романа, пристроив журнал на сумке с продуктами. Сидевший напротив пожилой, но еще вполне молодцеватый мужчина улыбнулся ей и игриво подмигнул. «Вот старый дает, – подумалось ей. – Хотя… не такой уж старый, и глаз горит…»
Внезапно вагон сильно дернулся. Что-то заскрипело и завизжало. Стоявшие пассажиры попадали. Тишина. Поезд остановился в туннеле. Никаких объявлений. Такое происходило впервые.
Конечно, не сталинские времена, машиниста не расстреляют. Но все же что это? Погас свет. И вскоре стало как-то совсем не по себе: то ли душно, то ли чем-то пахнет, непонятно. Люди завозились, завздыхали. Кто-то стал усаживаться на пол, подстелив газету. Оказалось, внизу легче дышать. Прислонившийся к двери пассажир вдруг отскочил: они стали разъезжаться, обнажая зев черного туннеля с протянутыми вдоль него толстыми кабелями и тусклыми лампами. Ни начала, ни конца туннеля не было видно. Вероятно, они застряли где-то в середине перегона. Прошло уже больше получаса. Через вагон пробежал озабоченный машинист, отмахиваясь от недоумевающих пассажиров.
Наконец кое-где включилось слабое аварийное освещение, и тотчас раздался надтреснутый голос: «Граждане, не волнуйтесь, состав сошел с рельсов, но все хорошо. По радио вызвали ремонтников, они скоро прибудут, и мы поедем дальше». Уже почти час, как люди томятся в душных вагонах глубоко под землей. Хорошо хоть детей немного, время-то позднее для них – почти девять часов вечера.
Вдруг показалось, что под ногами вроде как качается и откуда-то доносится нарастающий гул. Это в соседних вагонах началась паника: люди стремились выбраться на волю (идиоты! там же контактный рельс!), раздирали двери и пытались высадить стекла. Через двери между вагонами было видно, как в них метались пассажиры. Жутко завыли женщины.
– Та-ак! – раздалось вдруг со стороны противоположных сидений. – Скоро кончится программа «Время», и пустят очередную серию детектива. А ну-ка, отгадайте, кто из тех двоих шпион?
Это попытался вовлечь в светскую беседу окружающих сидевший напротив пожилой дядька, который ей подмигивал. «Выпил, небось, вот и не боится ничего», – подумалось раздраженно. Люди испуганно оглядывались на него: «Сидим тут, как мыши в мышеловке, а ему хоть бы хны, дураку старому».
– А вообще-то, давно пора ужинать, – гнул свое дядька. – Так ведь, девушки? – обратился он к своим соседкам, приезжим хмурым теткам с набитыми продуктами авоськами.
Женщины нерешительно переглянулись и, внезапно рассмеявшись («А, была не была»), потащили на свет божий сосисочно-сарделечные ожерелья.
– Народ! А ну, подгребай! Эй, барышни, может, у кого хлеб есть? – зазывал веселый дядька.
– Есть! И масло нате, а вот еще сырок плавленый, – пискнуло откуда-то сбоку.
Батон пошел по вагону, обрастая по пути колбасой, сыром, капустными листьями и прочим, что нашлось у запасливых хозяек. Его сменила буханка черного, ей на смену пришла «хала» с маком. Заедали все это яблоками, откусывая и передавая дальше немытый фрукт. Нашлись и конфетки у сластен.
– Да, ребята, давно я так не ужинал! – довольно протянул веселый дядька. – Вотбы еще попить чего, а то начнем вдруг икать всем вагоном, вот смеху-то будет!
Народ действительно рассмеялся, как бы сбрасывая с себя тягостное напряжение.
– Попьем, чего ж не попить-то? – согласился стоявший в сторонке суровый мужик, не принимавший участия в этом «пире среди чумы». – Только у меня это… портвешок «777».
– Да ладно, портвешок, так портвешок. Как вы, ребята? – привстав, поинтересовался веселый дядька мнением «высокого собрания».
– Портвешок! – радостно загудело со всех сторон.
Бутылка пошла по рукам.
– А нам?! Нам не хватило! – послышался интеллигентный дамский голосок.
– Не переживайте, мадам, лично для вас у меня есть пиво, – заворковал стоявший неподалеку парень.
Удивительное дело! Обычно мужчин редко увидишь с хозяйственной сумкой или полной авоськой. А здесь, в полумраке подземелья, то тут, то там послышались звуки откупориваемых бутылок. Мужчины угощали соседок и соседей по вагону, женщины опустошали свои сумки, выкладывая съестное на «общий стол». Удачно добытые сосиски из министерского буфета ушли туда же.
– Водки девушкам от восемнадцати до восьмидесяти не предлагать! У нас еще будут танцы! Они должны быть в форме!
Взрыв хохота потряс, кажется, весь состав. Паникеры из соседних буйных вагонов смотрели на них, отпихивая друг друга, с ужасом: «Все, эти, наверное, тронулись умом».
– Песню за-пе-вай! – скомандовал веселый дядька и стал дирижировать свернутой «Правдой».
И тут, не сговариваясь, пассажиры дружно грянули:
По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперед, Чтобы с боя взять Приморье — Белой армии оплот!Отчаянное эхо разносилось по всему туннелю.
Вдруг загорелся свет, смешав дружную песню. Люди с удивлением разглядывали друг друга. Раскрасневшиеся, в распахнутой одежде, они все еще переживали минуты единения, чувствуя себя «одним несокрушимым народом».
Сидевший напротив «веселый дядька» с запавшими глазами выглядел утомленным и сильно постаревшим.
– Ничего, – подмигнул он ей снова, – ничего, ребята. На войне еще не такое бывало. Раньше смерти не помрем… Паника – страшное дело. Друг друга передавили бы…
По вагону уже бежали ремонтники: «Сейчас, потерпите, вызволим вас. Пришлось ехать по верху, с другого конца Москвы, там авария была». Они открыли двери вагонов, и народ гуськом потянулся через них к переднему, где находилась кабина машиниста. Мужчины «дружного» вагона помогали женщинам и старикам передвигаться по составу, а потом переносили их на руках на землю, туда, где было безопасно. Оказалось, что расстояние от пола вагона до земли выше человеческого роста.
Контактный рельс отключили, и серая плотная человеческая масса заколыхалась, двинувшись на далекий свет в конце туннеля. Идти между рельсами в темноте было трудно, то и дело кто-то спотыкался, и люди поддерживали друг друга. Пожилых и ослабевших мужчины буквально тащили на себе. Конечно, она не планировала гулять в сапогах на каблуках по шпалам, но не идти же босиком и в шубе? Даже в такой ситуации.
Вдруг далеко впереди заметались тени в свете фонарей. Это от «Щукинской» им навстречу бежали работники метро, милиционеры и медики в белых халатах. Вот, наконец, и станция. Кто-то втащил ее на платформу, спрашивая, не нужно ли помочь, и предлагая воду. Станция была пуста, поезда в сторону центра проносились без остановки.
– Нет-нет, спасибо. Мне ничего не надо. Я сама. Там… люди, есть старенькие, и дети, кажется… Они могли упасть на рельсах… Проверьте обязательно… В соседних вагонах была страшная паника, может, кто в обратную сторону двинулся. Не задавило бы кого…
На улице у входа в парк стояли машины «Скорой помощи», милицейские «газики» и автобусы. Но ей места в автобусе с надписью «До Сходненской» не хватило, ждать следующего не было сил, и она побрела к Волоколамке, чтобы там сесть на свой троллейбус. Домой она добралась только в половине двенадцатого, переживая, что сын дома голодный и беспокоится, куда мама подевалась.
– Ой, муська, ты чего так долго? – встретил ее сын с куском колбасы в руке. «Вот поросенок, даже не переоделся после школы, так в форме и играл на полу в свои машинки. И, скорее всего, не ел целый день, бедняга. А, ладно, обойдется все».
– Представляешь, сынок, я в метро застряла.
– Как это?!
– А вот так, – усмехнулась она и рассказала ему про свое путешествие «По долинам и по взгорьям» московской подземки.
– Мамочка, какая же ты счастливая! Я еще никогда не был в туннеле метро. Там, наверное, так интересно! Как же тебе повезло! Ты рада?
– Конечно, рада, – согласилась она, подумав про себя: «Рада, что тебя не напугала и сиротой не оставила. Колготки только жалко, новые совсем».
* * *
С той поры прошло много лет. В стране сменился строй – и все чаще и чаще поезда в метро стали внезапно останавливаться в туннелях. Иногда на минуты, иногда больше. И каждый раз в такие моменты у нее замирает сердце, живо вспоминающее тот давний «марш-бросок» в темном туннеле. А теперь еще и взрывы случаются с неисчислимыми жертвами. Пронеси, Господи!
Москва, ноябрь 2014 г.День Победы
К концу апреля прекратилась надоедливая холодная морось, сквозь лохматые тучи пробилось солнышко, и весна поспешила наверстать упущенное. За пару дней на раскисших газонах поднялась трава, замелькали робкие первоцветы и черные скелеты деревьев прикрыли свою наготу ярко-зелеными шелковистыми покрывалами. В воздухе ощущалось что-то пронзительно-волнующее, далекое, из юности… Приближалась череда праздников – Пасха, Первомай и юбилейный День Победы – с военным парадом и салютом. Праздники праздниками, а дачная «посевная» ждать не будет. И все же в этом году есть особая дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Все началось с задания внука: первокласснику предстояло подготовить ко Дню Победы коротенький рассказ о военных подвигах своего прадеда, морского офицера, и наклеить его увеличенный портрет на специальную картонку. Мы с мужем и раньше много рассказывали малышу о прадедушке Иване, которого он уже не застал в живых, но для доклада предложили ему выбрать один эпизод. И вот что получилось.
Мой прадедушка
Мой прадедушка был моряк – инженер-капитан первого ранга. Он отлично говорил по-немецки и хорошо знал корабли, поэтому командование направило его в Германию разведать, какой военный флот есть у немцев. Незадолго до начала войны с Советским Союзом прадедушке удалось бежать из Германии, где за ним уже охотились фашисты. Целый месяц он тайком добирался на товарных поездах через разные страны, где уже бушевала война, до Москвы, чтобы поскорее передать своему командованию секретные сведения.
После выполнения этого задания его направили в город Северодвинск, который уже бомбили немцы, испытывать новое торпедное оружие для подводных лодок, в создании которого он принимал участие.
Однажды их секретную подводную лодку, которую они испытывали, заметил самолет и стал бомбить. Лодка потеряла управление и легла на грунт. Целую неделю моряки пытались починить лодку. Им пришлось очень тяжело, но они не могли попросить помощи, иначе лодку обнаружили бы враги и узнали бы секрет ее нового оружия. Их уже считали погибшими.
С огромным трудом морякам удалось довести лодку на малом ходу до своей базы. Лодку они спасли, а сами чуть не погибли от недостатка воздуха, без пищи и воды.
Мой прадедушка был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За боевые заслуги», а также шестью медалями, в том числе – «За победу над Германией». За создание нового оружия для флота ему дали Сталинскую премию.
Вечером, выслушав его волнующий «отчет», мы с грустью разбирали оставшиеся копии фотографий своих покойных отцов и вдруг по телевизору, тихо бубнившему что-то свое, давно навязшее в зубах, сообщили о том, что 9 мая после парада от Белорусского вокзала к Красной площади пройдет «Бессмертный полк». Раньше мы что-то слышали о нем, но не проникались этой идеей, считая его очередным политиканством. И все же лучше увидеть это собственными глазами, тем более в юбилейный год.
Мне вспомнилось, как в далеком 1965 году в стране впервые широко отмечали двадцатилетие Дня Победы. С той поры 9 мая стал праздничным днем. На Красной площади прошел военный парад. Нарядные люди с цветами заполонили всю улицу Горького (Тверскую), которую в тот день целиком отдали пешеходам. Мне было восемнадцать. Я смотрела во все глаза на эту непривычную картину – такого еще не было!
Повсюду встречались бывшие фронтовики, блестя наградами на солнце, еще не старые (лет сорока, сорока пяти и чуть больше) в застиранных, но хорошо отутюженных гимнастерках или кителях, перетянутые ремнями, в выцветших пилотках или офицерских фуражках. Им дарили цветы, обнимали, целовали, поливая непрошеными слезами. А по тротуарам катила целая армия безногих на деревянных дощечках с шарикоподшипниками, отталкиваясь от асфальта подбитыми резиной деревянными «калачами» и позвякивая наградами в такт. В 50-е они часто мотались по электричкам, прося милостыню под жалобные песни. Но вот так, в центре столицы… Шли инвалиды на костылях, шли безрукие… Пьяненькие… Там и сям надрывались потрепанные гармошки, кто-то плясал, кто-то пел, кто-то рыдал. Милиция никого не задерживала, и никто не руководил этим стихийным шествием без флагов, лозунгов и портретов вождей, потрясшим меня до глубины души.
Решение пришло мгновенно – надо идти. В «новые времена», развенчавшие все и вся, этот горький праздник, кажется, стал единственным общечеловеческим событием для самых разных людей, позволяя им почувствовать себя единым народом, не униженным и оскорбленным, а гордым, стойким и мужественным. Сомнения, порожденные потоками негатива из СМИ, которые обрушиваются на головы замороченных граждан, конечно, были: людская толпа непредсказуема, возможны провокации или того хуже нередкие ныне террористические акты. А в давке никакой валидол не спасет. И все же душа рвется идти. Такой исторический день! Кто знает, удастся ли когда-нибудь еще пережить подобное.
В метро оказалось много людей с флагами, самодельными плакатами и портретами фронтовиков на картонках и фанерках на длинных ручках, заботливо упакованных до поры до времени. Значит, мы со своими напечатанными на принтере портретами не одиноки, поэтому нечего стесняться. У Белорусского вокзала стояли многочисленные рамки-металлоискатели для пропуска прибывающих на Тверскую. Нарядные полицейские, вежливые и предупредительные, ненавязчиво регулировали движение. Наш «ручеек» плавно, без толкотни и давки, влился в полноводную человеческую реку на Тверской, берущую свое начало где-то далеко на Ленинградке.
Люди – немногочисленные сгорбленные ветераны, увешанные наградами, пожилые «Дети войны», старики с клюшками и взрослые внуки фронтовиков, совсем еще юный молодняк и родители с детьми в колясках, ребятишки, восседающие на плечах отцов или дедов, и подростки, сопровождающие своих бабушек-дедушек, – дружно шагали рядами, почти плечо к плечу, растянувшись на всю ширину улицы. Между рядами – не больше двух шагов. Над их головами плыли, будто сами по себе, транспаранты и портреты, с которых смотрели на своих потомков в основном молоденькие лица, сохранившиеся на старых потертых карточках из семейных альбомов, на страницах ветхих армейских газет, на увеличенных фотографиях с документов или на предвоенных любительских снимках. Матросы, летчики, танкисты, пехотинцы, партизаны, девчонки-зенитчицы и медички, степенные военачальники в парадных мундирах и пожилые добровольцы в ватниках, малолетние «сыны полка» и труженики тыла – тощие подростки и изможденные женщины…
На портретах – подпись: фамилия, имя, отчество, где воевал, когда погиб или умер. На некоторых – где и когда пропал без вести или оказался в плену, или погиб в концлагере. А были и такие, на которых в черных рамках значились только имя и фамилия… ничего больше от этих людей не осталось, даже фотографии. На иных – целые списки членов одной семьи. Старухи несли портреты, сняв их, видимо, дома со стены, как иконы, или просто прижав фотографии к груди. Кто-то нес награды, как это обычно бывает на похоронах… Кто-то прикреплял фотографии с Георгиевской ленточкой прямо на одежду.
Вдоль улицы, за ограждением, стояли люди, и тоже с портретами своих близких, приветствуя участников марша. На площади Маяковского и бывшей Советской волонтеры и полицейские помогали уставшим выйти из колонны, чтобы отдохнуть. Вода и туалеты – без проблем. И при этом – никаких «распорядителей», как на советских демонстрациях, никаких «заградотрядов». На балконах Тверской развевались самодельные флаги и висели портреты фронтовиков. На одном из них, в доме напротив Центрального телеграфа, стоял седобородый дед с внушительным «иконостасом» на груди и кланялся проходящим внизу. Мощное «ура!» прокатилось по колонне, приветствуя ветерана.
На подходе к Историческому музею колонна разделилась на два «рукава», поднимаясь по брусчатке к Красной площади. В нашем «рукаве» впереди забурлила «воронка», которую люди старательно обходили, бросая насмешливые взгляды на виновников задержки, вокруг которых образовалась пустота. Некто суетливый в зеленой накидке с надписью: «Движение зеленых» или что-то в этом роде пытался выстроить в одну линию группу подростков в таких же балахонах, которым никак не удавалось развернуть транспарант с каким-то воззванием. Хохот и презрительные насмешки в их адрес вынудили этих «политиков» быстро растворится в толпе, теряя зеленые «доспехи». На всем пути только эти недоумки и попались. Конечно, кое-где мелькали какие-то черно-красные флаги, но быстро исчезали, не находя поддержки у демонстрантов.
Трибунам на Красной площади, на которых было полно иностранцев, тоже передалось это всеобщее воодушевление. Они горячо приветствовали демонстрантов, размахивая флагами и поблескивая разнообразными камерами. Всем хотелось запечатлеть этот исторический момент. Старенькие ветераны, наши и союзнические, специально приехавшие на этот праздник в Москву, сидели на почетных местах, сияя множеством наград. Портреты своих фронтовиков поднимали и на трибунах.
Поражала духовная сплоченность идущих в колонне москвичей, «своих», которых уже не часто встретишь в таком количестве в нашем Вавилоне! Конечно, здесь были не только москвичи. И все же это были «свои», родные лица. Они вышли на марш сами, без чьей-то указки, в едином порыве, в знак благодарности тем, кто подарил им этот мир, заплатив за него своей жизнью. Люди в колонне ощущали свое братство и торжество момента, проявляя удивительную чуткость друг к другу. У многих на глазах блестели слезы. Даже у мужчин. Море портретов над нашими головами ошеломляло: сколько загубленных жизней, израненных судеб и не рождённых потомков! Война забрала самых молодых, здоровых, сильных и умных мужчин и женщин, истощив генофонд страны. И все же она выстояла. Сколько вокруг в колонне прекрасных лиц, торжественных и вдохновенных – и молодых, и зрелых, и умудренных жизнью, и совсем еще юных!
От Белорусского вокзала до Новокузнецкой мы шли без остановки пять часов. И все это время я не могла унять слезы. Оказывается, люди не изменились в главном, несмотря на разочарования, уныние, недоверие ко всему и всем, опрощение, духовное и материальное обнищание и вседозволенность последних десятилетий. Главное – они остались людьми, человечными и мудрыми. Полмиллиона москвичей, вышедших, не сговариваясь, на марш в этот день, доказали это, развеяв любые сомнения. Иногда приходится слышать: «Не тот народ пошел…». Да нет, народ все тот же. И постоит за себя, если что…
Москва, август 2016 г.Качество жизни
Известно, что каждые семь лет человек словно нарождается заново, но к концу десятой семилетки у многих начинаются сбои в этом божественном механизме: следующее «рождение» может уже и не произойти – часы жизни остановятся. Удастся ли ей дотянуть до своего юбилея и испытать некое торжество момента перехода в иную возрастную ипостась? Подвести какие-никакие итоги? Конечно, лучше бы предварительные…
Но «торжество момента» не случилось: за месяц до юбилея заболел ее муж.
– Быстро в больницу! – распорядился пожилой врач из поликлиники.
– Я не могу. У меня же лекции в институте! Может, какие-то уколы помогут снять боль в ноге? – попробовал увильнуть от проблемы муж.
– Нет. Все плохо. Не тяните. Отправляйтесь прямо сейчас.
Но пока дело дошло до госпитализации, минула целая неделя… хождения по врачам. Хирург известной московской больницы, крупный седоватый мужчина, долго мял ногу пациента и недовольно морщился:
– Вам нужна срочная операция на артерии, а мы специализируемся на венах и больных принимаем только в плановом порядке, по очереди. Вызывайте из дома «Скорую», покажите наши заключения, и… отвезут… где будет место. Все. До свидания, – торопливо закончил он, пряча глаза.
– Меня выставили… – растерянно произнес муж, выходя из кабинета.
– Как же так?! – метнулась она к доктору.
Вопрос ее повис в воздухе. Ошеломленные, они позвонили сыну. Если бы не предупрежденный заранее товарищ их сына, который заведовал соседним отделением в этой больнице и оказался в нужном месте в нужное время… Они уже собирались уходить домой, как вдруг заметили спешившего к ним врача, которого сопровождал такой же здоровяк, но моложе. Доктора подхватили мужа и повели его обратно, бросив ей на ходу:
– Посмотрим его еще раз с профессором… Место мы вам нашли… что же вы сразу-то не сказали, от кого…
Дальше – как при ускоренной киносъемке: «Бегом! В палату! Документы – медсестре!». В нейрохирургическом отделении мужа мгновенно вытряхнули из одежды, словно тряпичную куклу, прицепили к капельнице, накинули на него простыню, словно хитон, и повезли на УЗИ. Она осталась ждать его возвращения в палату, радуясь удачному разрешению вопроса.
– Вы кто ему?
– Жена.
Заведующий отделением, рослый хмурый хирург, был краток:
– Положение тяжелое. Сейчас его увезли в реанимацию. Если доживет до завтрашнего утра, будем делать операцию на следующий день. Возможно, придется ампутировать ногу. До паха. Там ничего сделать нельзя. Почти. Я постараюсь, но ничего не могу обещать. Конечно, качество жизни без ноги уже не то, но все-таки жизни…
Как? Почему? Зачем реанимация человеку, который сам пришел в больницу, пусть и с палкой? А страшное слово «ампутация»? Это же обычно грозит курильщикам и диабетикам. Но ее муж не курит уже лет сорок, да и диабета у него вроде нет… Сердце у нее рванулось к горлу, а в голове застучали на все лады молоточки.
– Пожалуйста, попытайтесь сохранить ему жизнь… Пусть без ноги… голова и руки… они важнее… нам этого достаточно… – молила она врача, лихорадочно заклиная себя: «Только не упади в обморок!».
Надо собрать себя «в кучку», взнуздав собственные недуги. Только бы выжил… остальное неважно. И не с такими увечьями живут… Сын нас поддержит… Как-нибудь справимся… Дома все приспособим и на даче что-нибудь придумаем… Но лучше пока не думать об этом. Сейчас главное – удержать его на этом свете. Своими мольбами, силой духа.
В церковь она ходила редко, как и многие, – по великим праздникам, да еще когда сильно прижмет. Маленькая старинная церковь недалеко от дома – уютная и не пафосная. Строгий Николай Чудотворец смотрел на нее с иконы сочувственно, слушая неловкий лепет вместо молитвы: «Поплачь, поплачь, – словно говорили его глаза, проникающие прямо в душу, – легче станет».
Телефон молчал, и это немного успокаивало. Все-таки неизвестность оставляет надежду. Утром в больнице ее уже поджидал сын – их с мужем надежда и опора. «Все вопросы – к реанимации», – сообщили в отделении. Томительное ожидание неизвестно чего. Дверь в реанимацию была приоткрыта, и они прокрались к палатам, пытаясь разглядеть среди опутанных трубками неподвижных тел свое, родное.
– Что вы здесь делаете?! Уходите немедленно!
– Мы хотели поддержать своего больного перед операцией…
– От вас ему будет только один вред! Приходите завтра! – рявкнул врач.
Раз он в реанимации, а не… в другом месте, значит есть надежда, и это уже хорошо. Завтра долго не наступало. Утром в отделении тишина: «Ждите, хирурги на операции». Она выбрала себе «наблюдательный пост» напротив кабинета заведующего, который будет сам оперировать. Казалось, время остановилось и все вокруг вместе с ней окаменело.
Врачи появились внезапно и торопливо прошли мимо. Она ринулась за ними и схватила за рукав палатного врача, такого же огромного, как и его шеф.
– Как? Что? – смотрела она на него собачьими глазами, не в силах вымолвить ни слова.
– Сделали невозможное, благодарите искусного хирурга, – кивнул он в сторону заведующего, удалявшегося в свой кабинет.
– А ногу?! Отняли?! – прохрипела она.
– Ну что вы! Кто вам сказал? За ногу мы еще поборемся! Его сейчас перевезли в реанимацию, и вы можете к нему заглянуть, если там пустят.
«Там» милостиво разрешили. В зеленом балахоне на завязках она двинулась на ватных ногах к палате. Осунувшийся муж, весь в трубках и повязках, полулежал на кровати и пытался справиться с больничным «обедом». Живой… «Как он исхудал за эти дни! Одни глаза остались!»
– Как ты? – спросила она дрожащим голосом, целуя его в сиреневые губы.
– Уже ничего. Скорее бы убраться из этой пыточной камеры. Что я тут пережил… Хотели ногу отнять… И тромб еле поймали… Врач сказал: «Жить хочешь?» Не дали даже тебе позвонить, посоветоваться… Кому нужен калека…
– Не бойся, все уже позади… И ты нам всем очень нужен… с ногами или без – неважно.
Потом была беседа с хирургом – короткая и беспощадная. Апеллировал он в основном к сыну, сочтя его в этой ситуации главным ответственным лицом.
Их всех ожидал долгий и нелегкий путь к некоему подобию того, что суровый хирург обозначил «качеством жизни». Пусть так! Все же главное слово – «жизнь»! И они постараются ее сохранить… Когда-то давно, в первые годы их супружества, ей приснился страшный сон: она рыдает над мертвым мужем, который тогда сильно заболел, и слышит чей-то голос: «Ты знаешь, что тебя ждет? Чего ты хочешь?» «Пусть будет, что будет. Лишь бы он был жив, со мной или без меня – это неважно. Я не хочу его отпускать… туда».
Вот и теперь, спустя сорок пять лет, она все еще не хочет его отпускать…
Москва, ноябрь 2016 г.Примечания
1
Спустя десятилетия на этом месте появится станция канатной дороги «Мир».
(обратно)

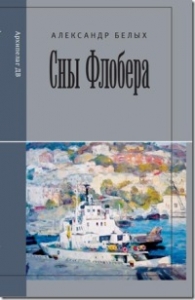

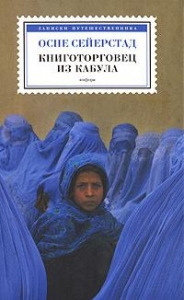
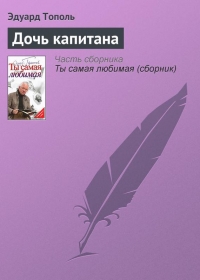



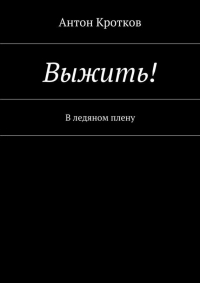


Комментарии к книге «Быть может…», Вера Юрьевна Заведеева
Всего 0 комментариев