Ладислав Фукс Крематор[1]
«Величайшее коварство дьявола в том, что он внушает нам, будто его нет».
Джованни Папини1
— Нежная моя, — сказал пан Карел Копферкингель своей черноволосой красавице жене на пороге павильона хищников, и легкий весенний ветерок пошевелил его волосы, — вот мы и снова здесь. Здесь, в этом дорогом нам, благословенном месте, где мы с тобой семнадцать лет назад познакомились. А помнишь ли ты, Лакме, возле кого это было? — Лакме кивнула, и он нежно улыбнулся темным глубинам павильона и сказал: — Да, возле вон того леопарда. Пойдем посмотрим на него.
И когда они, переступив порог павильона, зашагали сквозь тяжелую духоту зверинца к леопарду, пан Копферкингель сказал:
— Мне кажется, Лакме, что здесь ничего не изменилось за эти семнадцать лет. Взгляни, вот и змея свернулась в углу точно так же, как тогда, — показал он на змею, уставившуюся на молоденькую розовощекую девушку в черном платье. — Я еще семнадцать лет назад удивлялся, зачем это они змею поместили в павильон хищников, ведь для змей существует специальное отделение. Смотри-ка, и загородка та же… — и он дотронулся до загородки перед леопардом, к которому они как раз подошли.
— Все как тогда, семнадцать лет назад, — сказал пан Копферкингель, — кроме разве что леопарда. Тот, наверное, уже умер. Милосердная природа освободила его от звериных оков. Видишь ли, дорогая, — сказал он, наблюдая за леопардом, жмурившимся за решеткой, — мы все время рассуждаем о милосердной природе, благосклонной судьбе, добром Боге… мы судим о других и в чем только их не виним… в подозрительности, злословии, зависти и Бог весть в чем еще… А мы сами? Разве мы милосердны, снисходительны, добры? Мне постоянно кажется, что я делаю для вас страшно мало. Эта статья в сегодняшней газете об отце семейства, который сбежал от жены и детей, это же просто ужас! Что теперь станут делать бедняжка жена и дети? Надеюсь, есть какой-то закон, который защитит их. Ведь законы и существуют как раз для того, чтобы защищать людей.
— Наверняка есть такой закон, Роман, — тихо сказала Лакме. — Наверняка этой женщине с детьми не дадут умереть с голоду. Ты же сам говоришь, что мы живем в человечном государстве, где царят справедливость и добро… Что же до нас, Роман… — улыбнулась она, — что до нас, так нам живется неплохо. У тебя хорошее жалованье, у нас большая красивая квартира, я забочусь о хозяйстве, о детях…
— Да, неплохо, — сказал пан Копферкингель, — и это целиком твоя заслуга. У тебя было приданое. Нам помогала твоя покойная мать. Нам помогает твоя тетушка, которая, будь она католичкой, была бы после смерти причислена к лику святых. А что я? Квартиру обставил — вот и все. Нет, дорогая моя, — пан Копферкингель покачал головой и вновь поглядел на леопарда. — Зинушке шестнадцать, Миливою четырнадцать, они сейчас как раз в том возрасте, когда детям нужно особенно много, и я должен заботиться о них, это моя святая обязанность. Я знаю, как поднять доход семьи. — И когда Лакме безмолвно поглядела на него, он повернулся к ней и сказал: — Найму агента за треть комиссионных. Пана Штрауса. Я помогу вам, небесная моя… и ему тоже. Это хороший, порядочный человек, жизнь сильно потрепала его, я еще расскажу тебе об этом; так как же не помочь хорошему человеку? Мы пригласим его в ресторан «У серебряного футляра».
Лакме прильнула к мужу, глаза ее улыбались и смотрели на леопарда, который все еще жмурился за решеткой, подобно большой добродушной собаке, пан Копферкингель тоже смотрел на леопарда, и глаза его улыбались, когда он сказал:
— Вот видишь, нежная моя, как тонко могут чувствовать животные. Какими милыми они могут быть, если правильно подойти к ним и понять их грустные, томящиеся в заключении души! Сколько плохих людей превратилось бы в хороших и добрых, если бы отыскался кто-нибудь, кто понял бы их и обогрел слегка их исстрадавшиеся души… ведь каждый человек нуждается в любви, даже полицейские, которые борются с проституцией, хотят любви, и плохими люди бывают только оттого, что никто и никогда не любил их… Этот леопард не тот, что был тут семнадцать лет назад, но и он, когда придет срок, будет освобожден и прозреет — тогда, когда обрушится окружающая его стена и его ослепит свет, которого он пока не видит. Пила ли наша ненаглядная сегодня молоко? — спросил он, подразумевая кошку, которая жила у них, и когда Лакме молча кивнула, пан Копферкингель в последний раз улыбнулся леопарду, и они неторопливо двинулись сквозь тяжелую духоту зверинца к выходу из этого дорогого им благословенного места.
Пан Копферкингель напоследок оглянулся на змею в углу, которая с ветки все еще внимательно наблюдала за розовощекой девушкой в черном платье, и сказал:
— Странно, что пресмыкающееся присоединили к млекопитающим, может, это только для декорации или как дополнение… — Потом он нежно перевел Лакме через порог павильона, и уже на дорожке, обрамленной кустами, Лакме улыбнулась и сказала:
— Хорошо, Роман, пригласи пана Штрауса на обед. Только не перепутай название ресторана, чтобы он не искал.
И Копферкингель остановился, овеваемый легким весенним ветерком, на дорожке, обрамленной кустами, и ласково кивнул — в душе его царил покой, который знаком людям, только что совершившим обряд перед алтарем. Он поднял глаза к ясному солнечному небу, простирающемуся над его головой, постоял так какое-то время, а потом повел рукой и чуть заметно указал куда-то ввысь, как бы на звезды, которые днем не видны, как бы на чудное видение или явление… В следующее воскресенье в полдень…
В следующее воскресенье в ресторанчике «У серебряного футляра» пан Копферкингель говорил невысокому, плотному, добродушного вида человеку:
— Пан Штраус, надеюсь, вам не пришлось долго искать этот ресторан? — И когда пан Штраус, невысокий, плотный человек, покачал головой, пан Копферкингель облегченно вздохнул, как и его Лакме. — Я рад, что вам не пришлось долго искать… Понимаете, когда скажешь «У удава»… — взгляд пана Копферкингеля скользнул по вывеске ресторана, — когда скажешь «У удава»… то все наперед ясно: одно название чего стоит, пусть это будет даже прирученный, дрессированный удав. Недавно я читал в газете о дрессированном удаве, умевшем считать и делить на три… Другое дело серебряный футляр, это загадка. Тут до последнего момента не знаешь, что таится в этом футляре, покуда его не откроешь и не заглянешь внутрь… Так вот, пан Штраус, у меня к вам одно предложеньице.
Пан Штраус, невысокий, плотный человек, застенчиво улыбнулся черноволосой красавице Лакме и Зине, тоже черноволосой и красивой: их красота явно привлекала его, обе сидели за столом изящно, даже нежно, если можно сидеть нежно; улыбнулся он и Мили-вою, который тоже был черноволос и красив, но пока еще мал и глуп, он сидел, словно напуганный чем-то; а пан Копферкингель, оживившись, подозвал официанта и заказал еще вина и десерт.
Солнце, проникшее сквозь листву, осветило их столик в ресторане «У удава», иначе — «У серебряного футляра», который располагался под открытым небом, там имелась даже площадка для оркестра и место для танцев, и в это воскресное весеннее сияние под кронами деревьев официант внес напитки и десерт. Пану Штраусу и Зине — по рюмке красного вина, Лакме — чай…
— Знаете, пан Штраус, — улыбнулся пан Копферкингель, косясь на ближайшее дерево, где висела табличка: «Починка гардин и портьер — Йозефа Броучкова. Прага, Глоубетин, Катержинская, 7». — Знаете, пан Штраус, моя драгоценная, собственно, происходит из немецкой семьи, из Слатинян, и у них дома всегда пили чай, она любит чай… — Мили получил лимонад и пирожное. — Мили, пан Штраус, очень любит сладкое, — улыбнулся пан Копферкингель и снова поглядел на табличку с рекламой Йозефы Броучковой, — особенно эскимо, он у нас лакомка. — А потом он перевел взгляд на свою руку с красивым обручальным кольцом, возле которой стояла маленькая чашечка кофе, и сказал: — Ну, а я непьющий, то есть я совсем не пью — разве что капельку, чисто символически. И сигареты я не люблю. Я не научился курить даже в годы войны, когда мы воевали за Австрию. Я не потребляю ни алкоголя, ни табака, я непьющий и некурящий.
Пан Копферкингель пригубил кофе, посмотрел на подмостки, где на стульях сидели музыканты, задержался взглядом на какой-то пожилой женщине в очках, склонившейся над кружкой пенистого пива за столиком невдалеке от оркестра, а затем сказал:
— Итак, пан Штраус, вы — коммивояжер кондитерской фирмы. Вам приходится иметь дело с продавцами и владельцами кондитерских, и, безусловно, это чрезвычайно приятное занятие. Люди, служащие в кондитерских, должны быть обходительны, любезны, добры; знаете, пан Штраус, мне их даже немного жаль. Что, если вам предлагать этим милым людям, помимо продукции вашей сладкой фирмы, кое-что еще? Не для коммерции, а для них же самих, для этих обходительных, любезных, добрых людей… Да вы не бойтесь, — улыбнулся пан Копферкингель, — никаких страховок, никаких полисов, это нечто совсем иное. Предложив им сладости, вы еще раз опустите руку в портфель и извлечете контракт на обслуживание в нашем крематории. Пять крон комиссионных за каждого клиента.
Оркестр заиграл польку, взвизгнули кларнеты и скрипки, вступил контрабас, и на площадку вышли три пары. Одну из них составляли пожилой толстяк в белом крахмальном воротничке с красной бабочкой и розовощекая девушка в черном платье. Толстяк ухватил ее за спину и завертелся с ней на одном месте как волчок. За столиком вблизи танцующих сидела с кружкой пенистого пива немолодая женщина в очках и сердито трясла головой. Потом она сдула пену на пол и сделала глоток.
— Видите ли, пан Штраус, — Карел Копферкингель улыбнулся, уставившись на залитый солнцем стол. — Господь Бог мудро распорядился людьми. Пусть некоторым выпадает страдать — что же, ведь животные тоже страдают. У меня дома есть бесценная книга в желтом коленкоре, это книга о Тибете, о тибетских монастырях, об их верховном правителе далай-ламе, об их изумительной вере… Этот том подобен Библии. Страдание есть зло, с которым следует бороться или хотя бы смягчать, сокращать его; но зло это творят сами люди, ибо они окружены стеной, из-за которой не видят света. Однако Господь распорядился мудро, указав человеку: помни, что ты прах и в прах же обратишься. Из праха он создал человека и милосердно допустил, чтобы, перенеся все терзания и муки, которыми одарила его жизнь, все разочарования, а также недостаток любви… — он задержал взгляд на немолодой женщине в очках, уткнувшейся в кружку пива, — тот вновь стал прахом. Крематорий, пан Штраус, это, по существу, богоугодное заведение. Ведь оно помогает Господу вернуть человека в прах быстро. Вообразим на мгновение, что человек был бы сотворен из какого-нибудь негорючего материала. Тогда… — пан Копферкингель пожал плечами, не сводя глаз с пожилой женщины в очках, — тогда, конечно, пришлось бы предавать его тело только земле; но, по счастью, человек горюч. Знаете, сколько времени пройдет, пока мертвый станет в земле прахом? Лет двадцать — и при этом скелет еще до конца не истлеет! А в крематории сейчас, когда вместо кокса пользуются газом, вся операция — вместе со скелетом — длится семьдесят пять минут. Некоторые, впрочем, возражают, что, мол, Иисуса Христа не сожгли, а похоронили в земле. Но это же, пан Штраус, — улыбнулся Копферкингель, — иное дело! Я всегда отвечаю этим милым людям: Спасителя бальзамировали, обернули плащаницей и погребли в пещерной гробнице. Вас же никто не станет погребать в пещере, обертывать и бальзамировать… Само собой, пан Штраус, тут не годятся ссылки на то, что гроб в земле может треснуть под тяжестью глины и, когда тяжесть эта обрушится покойнику на голову, бывает адски больно… Ведь человек, — пан Копферкингель покачал головой, — уже мертв и ничего больше не чувствует… Но в пользу кремации можно привести другой довод. Посудите сами, пан Штраус, если бы людей не жгли, а только засыпали землей, то зачем тогда все эти печи?
Помолчав немного, пан Копферкингель посмотрел на танцующих и продолжал:
— Мы живем в гуманном государстве, которое строит и оборудует крематории… но зачем? Просто так, чтобы люди заходили поглазеть, будто в музей? Да ведь чем быстрее человек обратится в прах, тем быстрее он освободится, переменится, перевоплотится — это, кстати, относится и к животным; есть страны, пан Штраус, где существует обычай сжигать также и мертвых животных, — к примеру, Тибет. Эта наша желтая книга о Тибете удивительно увлекательна, — пан Копферкингель посмотрел на дерево, на котором висела табличка «Починка гардин и портьер — Йозефа Броучкова. Прага, Глоубетин, Катержинская, 7», и заметил:
— Разве в Глоубетине есть Катержинская? Я знаю только Катержинскую в Праге-2.
Музыка смолкла, затихли кларнеты и скрипки, затих контрабас, и танцующие пары вернулись за свои столики. Ушел и пожилой толстяк в белом крахмальном воротничке с красной бабочкой вместе с розовощекой девушкой в черном платье, а пожилая женщина в очках вновь отпила из кружки. Пан Копферкингель подозвал официанта, расплатился, и все поднялись.
— Вы любите музыку, пан Штраус, — улыбнулся Копферкингель, когда они выходили из ресторана «У удава», иначе — «У серебряного футляра». — Все, кто имеет чувствительную душу, любят музыку. Как несчастны те бедняги, которые умирают, не познав красоты Шуберта или Листа. Вы, кстати, не родственник Иоганна или Рихарда Штрауса, бессмертного автора «Кавалера роз» и «Тиля Уленшпигеля»?
— Увы, нет, пан Копферкингель, — добродушно отозвался пан Штраус, рассматривая ресторанную вывеску, под которой розовощекая девушка в черном платье разговаривала с молодым человеком… а к ним медленно приближалась пожилая женщина в очках… — Я им не родственник, но музыку Штрауса люблю. И дело не в фамилии, — улыбнулся он, — я бы любил ее, даже если бы меня звали, к примеру, Вагнер. Куда теперь вы держите путь?
— Мы тут еще кое-куда заглянем, — улыбнулся в ответ пан Копферкингель, — сегодня воскресенье, начало весны, я бы хотел дать моей семье как следует отдохнуть. Встряхнуться, рассеяться… Поведу своих дорогих к мадам Тюссо!
— Ах, к мадам Тюссо, — протянул пан Штраус.
— Конечно, — сказал извиняющимся тоном пан Копферкингель, — это не она, а всего лишь ее жалкое балаганное подобие, но что же делать… Лучше такое скромное балаганное подражание, чем совсем ничего. Это, — показал он на кусты и деревья, — это там. Пан Штраус, я счастлив был.
— Милый и остроумный человек, — сказала Лакме, когда пан Штраус откланялся со словами благодарности, а они медленно двинулись по аллее к мадам Тюссо, — и если ты считаешь, что дело стоящее…
— Стоящее, драгоценная моя, — пан Копферкингель улыбнулся, — я получаю за каждого клиента пятнадцать крон, но я не в силах обходить людей, как бродячий торговец, я допоздна — нередко и по вечерам — задерживаюсь на службе, так откуда мне брать тогда время на детей, на тебя… У пана Штрауса значительно больше возможностей; обходя кондитерские, он может убить сразу двух зайцев. Жаль лишь, что я предложил треть своих комиссионных, а не половину. Как бы мне не стать похожим на ученого удава, который делил на три, а вот на два не мог. Чего только не натерпелся бедный пан Штраус! Вы, драгоценные мои, даже представить себе не можете… Вначале один злой человек лишил его места привратника: он уже получал пенсию, но у него больная печень, денег вечно не хватало, вот ему и пришлось пойти в привратники. — И он грустно улыбнулся Зине, которая шла подле них. — Это поистине печально. Потом пан Штраус потерял жену: умерла от горловой чахотки, — грустно улыбнулся он Лакме. — Потом сына, который умер от скарлатины, — и он улыбнулся Миливою, плетущемуся следом, — так что бедняга хлебнул горя. Удивительно еще, как это он не обезумел. Слава Богу, ему удалось выстоять под ударами судьбы! А его долю я все-таки увеличу, — решительно сказал пан Копферкингель, — за успехи, которых он наверняка добьется.
— Да, — кивнула Лакме, — он, конечно, хороший коммерсант. Ведь он еврей.
— Ты так полагаешь, драгоценная? — усмехнулся пан Копферкингель. — Как знать… По фамилии не скажешь. Штраусы — не евреи. Штраус означает страус.
— Фамилия тут ни при чем, — пожала плечами Лакме. — Ее можно поменять. Ты же сам говоришь «У серебряного футляра» вместо «У удава»; хорошо еще, что пан Штраус не заблудился… меня ты зовешь Лакме, а не Марией, и хочешь, чтобы я звала тебя Романом, а не Карелом.
— Я — романтик и люблю красоту, драгоценная моя, — улыбнулся пан Копферкингель своей темноволосой жене и нежно взял ее под руку, одновременно послав улыбку Зине.
— Я и не думала, — сказала Зина, — что в ресторане можно сидеть на улице, прямо под деревьями, ведь весна только началась. И еще я не знала, что там танцуют в обед. Я думала, танцы бывают только с пяти часов.
— «У серебряного футляра» танцуют и днем, и на улице сидят потому, что уже потеплело, — ответил пан Копферкингель, поглядев на деревья и кусты, оглянулся на Миливоя, все так же плетущегося позади, и сказал с нежной улыбкой: — Что ж, надо дать семье развлечься, встряхнуться, рассеяться… вот мы и у цели.
Они стояли перед шатром, где над деревянным окошечком кассы пестрела вывеска:
ПАНОПТИКУМ МАДАМ ТЮССО
Великий мор, или Черная смерть
в Праге в 1680 году
2
За деревянным окошечком кассы сидел пожилой толстяк в белом, крахмальном воротничке с красной бабочкой и продавал билеты. Вход был задернут пурпурной занавесью с бахромой, а перед ним стояла кучка людей, ожидая, когда их впустят. Пан Копферкингель купил в кассе билеты и присоединился вместе со своими драгоценными к этой кучке.
— Там будут показывать страшное? — неуверенно спросил Мили, поглядывая на шатер, размалеванный скелетами, и на вход, задернутый пурпурной занавесью с бахромой. Пан Копферкингель грустно кивнул.
— Страдания, — тихо сказал он, — однако такие, против которых у человека сегодня уже есть средство. Ты ведь не станешь бояться — это же всего только аттракцион!
Из-за занавеси с бахромой высунулась рука, сверкающая массивными перстнями. некоторое время она покоилась на пурпуре, растопыря пальцы и как бы выставляя их на обозрение, а потом отдернула полог — из-за него вышла смуглая пожилая женщина в ярком красно-зелено-синем одеянии с крупными серьгами и бусами, похожая на старую индианку или гречанку.
— Дамы и господа, пожалуйте сюда, — заговорила она, низко кланяясь. — Вы же — ближе, детвора: наш сеанс начать пора, — продолжала она, картавя.
— Это, очевидно, владелица, — сказал пан Копферкингель Лакме, нежно беря ее под локоть.
Вместе с остальными посетителями они очутились в отгороженном помещении, обставленном наподобие аптеки. В слабом желтом свете виднелся цеховой знак с извивающейся змеей, вокруг были нарисованы полки и шкафы с глиняными, оловянными и жестяными сосудами, позолоченными коробочками и пакетиками с порошками; на прилавке лежала огромная книга, стояли весы, кюветы, жаровни, воронки и ситечки. За прилавком застыл бородатый старик с длинными космами в черном плаще с облезлым меховым воротом и в берете: красные, как розы, щеки и васильково-синие глаза, а в полуоткрытом рту — жемчужные зубы; в руках он держал весы с каким-то товаром. У окошка склонилась над ступкой женщина в блузе и фартуке, она как бы искоса следила за посетителями. Перед прилавком стояли двое мужчин средних лет; один из них, богато одетый, в перчатках и шляпе с длинным пером, наблюдал за аптекарем, другой же, в обтрепанном черном капюшоне на голове и в балахоне, зажав в руке монету, уставился на женщину у окна. Сзади между шкафов виднелось что-то вроде ниши, прикрытой полупрозрачной занавеской, за ней маячила какая-то неподвижная тень.
— Дамы и господа, перед вами великая беда, — затараторила хозяйка, картавя, — на дворе 1680 год, и в Праге прознал народ, что близится, словно смерч, свирепый мор — черная смерть, от которой спасения нет: таково расположение планет. Так коварна была природа, и враг наш извечный лжив; но человек покамест жив! Над Прагой нависла грозная туча чумы — и вот в старинной аптеке мы.
И она так же картаво продолжала:
— В шкафах и на полках друг за другом — лекарства и коренья для борьбы со всяким недугом. Тут корица, мускат, шафран и перец черный, — сверкая перстнями, хозяйка показала на плошки, жбаны, горшки, — а тут аир, имбирь, сера и зуб кабана толченый. Вот белый и черный сахар, венецианское мыло и тмин, вон там — каучук, керосин, итальянская корпия и бутыли вин. Здесь сушеные жабы, куриные потроха, волчья печень, кости слона, рачьи глазки, а здесь в ларце — жемчуг, рубины, кораллы, квасцы и чешуя морских чудищ из сказки. Вон в том шкафу, — указала она, — масла, сухие травы, древесная кора, раковины улиток и хлеб святого Яна, а тут амулеты, уксус, камфара и формы для марципана. Там — примочки на волдыри и раны, рядом — мышиные капканы. Там — сердце оленя и когти спрута, тут зеленеют розмарин и рута, а тут… — она указала на женщину возле окна, — аптекарша в фартуке поверх юбки толчет можжевельник в ступке. Здесь собачье, кошачье, заячье, аистиное сало, которое людей от многих хворей спасало, здесь сало медвежье, на что оно годится — не знают только невежи, здесь сало змеиное, детьми любимое, а тут с человечьим жиром три горшка и четвертованного вора сухая рука.
Хозяйка помолчала, очевидно, с намерением передохнуть после этой своей скороговорки, и наконец показала на бородатого старика с длинными космами, румяными щеками, голубыми глазами и белыми зубами:
— Фигура перед вами — провизор с весами, он отвешивает розмарин, руту, алоэ и всякое зелье злое с примесью ароматических смол — чтоб не разил человека мор. А это покупатели, — хозяйка обвела рукой пару перед прилавком, — пришли за лекарством от мора, который косит людей без разбора. Вот этот, в черно-красном бархате, в перчатках, в ботфортах и шляпе с длинным пером, — показала она, — сановный вельможа, который мерит взглядом прилавок с весами и аптекаря тоже; он накупит трав, но, веря в грубую силу, еще завернет в цирюльню отворить себе жилу. А рядом стоит живодер, что город чистит от всякой дряни; он верит, что мор одолеет целебная сила бани. Ну, а там кто у нас сидит? — спросила она, показывая на тень в нише за занавеской, и вдруг крикнула: — Свет!
Луч, упавший на занавеску, высветил человечка с длинными соломенными волосами в островерхой зеленой шапочке и красно-желтых штанах. Он держал в одной руке весы, а другую поднимал с воздетым пальцем, очень напоминая собой рекламу кофе. С глубоким поклоном хозяйка сообщила:
— Это наш добрый, славный карлик Карлуша, наши глаза и уши…
Итак, над Прагой нависла грозная туча чумы, и из старинной аптеки отправимся дальше мы.
Погас свет, аптека погрузилась во мрак, где-то за декорациями послышался дробный топот. и хозяйка показала на следующий занавес со словами:
— Дамы и господа, пожалуйте сюда!
— Тут и впрямь все как живое, — шепнула одна посетительница с длинным пером на шляпе и с ниткой бус на шее.
— Фигуры сделаны из воска, — буркнул в ответ ее спутник, полный человек с палкой и в котелке, — фигуры сделаны из воска, это же видно.
Пан Копферкингель взял Лакме под локоть и повел в следующее помещение.
Они оказались в комнате, набитой книгами и всякими мисками, ванночками, котелками, тиглями, воронками, каганцами и ретортами; на столе подле глобуса лежали перстень и череп; но это была уже не аптека. За столом сидел старый бородатый человек в шелковой блузе и берете с золотым галуном; он выглядел более бледным, чем провизор, изнуренным жизнью и заботами: глаза выцвели, зубы пожелтели… Он держал в руках стеклянную колбу и нож. На стене висела потускневшая от времени картина с двумя треугольниками, звездами, кометами и множеством каких-то знаков. Поодаль стояли вельможа и живодер, раздетые по пояс, тела их были странно скрючены, кожа желтая, глаза выпучены — страх да и только! За затянутым прозрачной тканью окном была видна неясная тень.
— Да-да, дамы и господа, — выкрикнула хозяйка, — это наш сановный вельможа с живодером, настигнутые безжалостным мором. Впрок ни один не пошел им редкостный эликсир — что же теперь придаст им жизненных сил? Они окуривали жилище ладаном, дымом сосны, розмарина, ели толченую слоновую кость, жемчуг, рубины — все зря: торжествует страшная порча, тела их ломая и корча. Они молились, постились так строго, но смерть с косою стоит у порога, и к лекарю пролегла их дорога. Дамы и господа, мы у врача в Старом Городе Пражском, на рынке Влашском…
— Как в театре, — шепнула посетительница с пером на шляпе, трепетно взирая на композицию, но толстяк с палкой и в котелке толкнул ее в бок.
— Это не театр, — произнес он брюзгливо и самоуверенно. — Это паноптикум. Все из воска.
Пан Копферкингель улыбнулся Лакме, Зине и Мили, который оторопело смотрел по сторонам, и спросил:
— Интересно, что бы сказал обо всем этом наш милейший доктор Беттельхайм? Уж он бы тут не спасовал! Кто-кто, но только не он!
— Дамы и господа, — продолжала своей картавой скороговоркой хозяйка, — откуда же была эта беда? Ученые книги тогда писали, что так светила небесные встали, коварные же инородцы отравили колодцы… Но вот медик обоих больных осмотрел и руту с майораном им нюхать велел. Еще совершать омовения тела в бане, разведя розовой воды, камфары и уксусу в лохани. А также и впредь свой окуривать дом и с молитвой поститься — это, мол, всегда сгодится… Вот этим ножом, — сверкая кольцами, хозяйка показала на ланцет, который лекарь держал в руке, — врач, надавив вполсилы, отворяет всем недужным жилы. Ну, а там, как живой… Свет! — крикнула она, и луч осветил голубое окно с полупрозрачной занавеской, а за ней — человечка в шапочке, жилетке и штанах, — наш карлик Карлуша кивает вам головой. Тут как тут он: глядит, следит, проверяя подсчетом точным по часам песочным, — хозяйка, кланяясь, показала на руку карлика, в которой теперь были песочные часы, так что он напоминал рекламу чая, — как долго еще будет чума стучаться к людям в дома. Но куда пойдут двое бедных больных, чтоб обрести облегченье страданий? В бани! Дамы и господа, отправимся же и мы туда, — она хлопнула в ладоши, и в кабинете медика погас свет. Из темноты послышался топоток — кто-то скакал по доскам; посетители остановились у следующего занавеса.
— В бани! — воскликнула дама с пером на шляпе, оглядываясь на остальных. — Интересно, а вода с паром там есть?
— Не будь дурой! — напустился на нее ее спутник-толстяк и толкнул ее локтем. — Знай себе гляди да помалкивай. Это тебе не прачечная, это паноптикум, тут все из воска.
Они нырнули под занавес и очутились в каморке с деревянными лоханями, бадьями, ведерками и корытами. В корытах сидели двое, вельможа и живодер; они таращились на зрителей, нагоняя страх. Из бадьи торчала голова моющейся женщины; она вперилась в потолок, как если бы молилась. Сзади стоял, наклонившись, румяный банщик и щеткой тер женщине голову. У окна стояла толстая баба в блузе, фартуке и чепце с ведром в руке, а за полупрозрачной занавеской была видна тень — должно быть, карлик Карлуша. Расставив ноги и руки, он потешался над сидящими в корытах, напоминая рекламу мыла.
— Баня, — улыбнулся пан Копферкингель Лакме, Зине и Мили, — старинная баня. Но насколько же лучше ванная у нас дома! Наша роскошная, уютная ванная комната, в которой есть зеркало, ванна, вентилятор и бабочка на стене!
— Продолжение нашего обзора — в банях близ дома пражского живодера, — торопливо картавила хозяйка, — сюда ходили люди мыть свое тело, чтоб оно было чистым и блестело. Вот это, — она показала на малого над бадьей, — банщик, он же мойщик, мыльщик, терщик и парильщик. Его дед лил из воска свечи, потом попал в солдаты и отведал картечи, а отец ножи точил, горшки лепил, и помнят в народе, что был бородат и дороден. А вот эта в фартуке и юбке — прислуга, для присмотра за платьем, для подтиранья пола, а в лучшие годы клиентам мужского пола по очереди подруга. Там поверх края бадьи видна брадобрея беглая жена, что у позорного столба стояла на виду у всех и в бане теперь отмывает грех. В корытах же все вы живодера и вельможу узнали, которые про свою болезнь у лекаря прознали. А кто там стоит за окном? Свет! — крикнула хозяйка.
Луч высветил человечка за полупрозрачной занавеской, который, расставив ноги, потешался над сидящими в корытах, а хозяйка с глубоким поклоном сказала:
— Это Карлуша, наш милый гном, кивает головой, словно живой. Он бы охотно болезным помог — если бы не был так мал и убог… Вперед, дамы и господа, пожалуйте за мной туда, где вы наяву увидите, как может окончиться жизни бег, ибо былинки слабее на земле человек. — Она хлопнула в ладоши, и декорации, изображающие баню, погрузились во мрак, позади по доскам запрыгало, затопотало… и все потянулись за следующий занавес.
Они очутились в полной темноте, однако ненадолго.
Откуда-то из-под потолка ударил сноп света, одна из женщин вскрикнула, посетительница с пером на шляпе шепнула «ужас!», а пан Копферкингель с грустной улыбкой обнял Лакме, краешком глаза приглядывая за Зиной и Миливоем. Прямо перед зрителями на крюке раскачивался повешенный живодер. На нем был черный балахон с капюшоном, руки вытянулись вдоль тела, лицо набрякло, язык вывалился, глаза вылезли из орбит; веревка, на которой висел труп, поворачивалась вместе с телом.
— Да, — возопила хозяйка, сверкая кольцами, — повесился наш несчастный живодер, силы воли не лишил его мор: чем терпеть, страдать и сеять вокруг заразу, решился живодер покончить с жизнью сразу. Вот тело его мертвое висит, и никто на свете его не воскресит.
— Как живой, — затрясла головой возбужденная посетительница с пером на шляпе, и перо затрепетало, а толстяк засопел и сердито буркнул:
— Да мертвый он, слышишь, ты?! Удавленник, тебе говорят! Мы в паноптикуме, здесь все из воска.
— Вынули его из петли, — торопливо картавила хозяйка, — и за чертою города погребли в общей чумной могиле, которую еще и известью залили… Свет! — крикнула она, и луч выхватил из темноты карлика на заднем плане; он стоял в шапочке, блузе и штанах, вполоборота к посетителям, одна нога занесена, как для марша, в руке — крест на древке; его фигура напоминала рекламу обуви или панталон. — Наш карлик хоронит, — с глубоким поклоном сказала хозяйка, — душа его болит и стонет; он хочет беде помочь, да не знает как, ведь он сам такой же бедняк! Дамы и господа, пожалуйте за мной, туда, где смерть вступает с жизнью в бой… — Хозяйка встала перед следующим занавесом, повешенный и карлик исчезли в темноте, сзади запрыгало, затопотало… — и группа гуськом потянулась за хозяйкой, а женщина с пером воскликнула, оглядываясь на остальных:
— Смерть вступает с жизнью в бой! Это, наверное, будет самая жуткая сцена, я вся так и дрожу. А что это за шум слышен всегда, когда гаснет свет, вроде как прыжки? Эй, — сказала она своему толстяку, — у тебя вот-вот свалится шляпа!
— Молчи, ты, балда! — напустился на нее тот. — Тут тебе не камера пыток, какие прыжки?! Это паноптикум, тут все из воска. Марш вперед! — И он послал ее тычком в следующее помещение.
Это оказался то ли коридор, то ли подвал с дверью, задернутой полупрозрачной тканью, и мощенным плитами полом, на котором стояли тяжелые черные столы и сундуки… А между ними. между ними высился мертвенно бледный, скрюченный болезнью вельможа в шляпе с длинным пером и в высоких ботфортах, в руках он сжимал то ли прут, то ли палку, занеся ее над хрупкой девушкой, которая опустилась на одно колено и в ужасе пыталась защитить голову и лицо.
— Я так и знала, мертвецкая! — взвизгнула посетительница, и перо на ее шляпе задрожало, а толстяк бешено замотал головой и ткнул ее в бок.
— Черта лысого ты знала! — яростно просипел он. — Ты дура! Это не мертвецкая, это паноптикум, здесь все из воска, говорю тебе в сотый и в последний раз. Гляди себе и не мели языком, не то. — И он погрозил ей палкой.
— Вы узнали вельможу, — торопливо картавила хозяйка, сверкая перстнями, серьгами и ожерельем, — но хоть глазам не верь: стал из него просто зверь! Решил девицу он убить, чтоб ей не дать чуму плодить и козням сатаны служить… Ах, суждено ей погибнуть или остаться жить? Вы, добрые господа, конечно, за то, чтобы безумец не причинил ей вреда… — так приди же, наш карлик, скорее сюда! Свет! — хлопнула она в ладоши, но послышался щелчок выключателя, а свет не зажегся; когда же наконец лампочка вспыхнула, хозяйка отвесила низкий поклон, и за полупрозрачной занавеской показался карлик. Голова наклонена, нога согнута для удара по лежащему внизу детскому мячу, рот до ушей, одна рука грозит вельможе, а другая держит ярко размалеванную миску… Все это напоминало рекламу магазина игрушек.
— Вы увидели, уважаемая публика, великую беду: черную смерть в Праге в 1680 году, — продолжала картавить хозяйка. — А в довершение добрая дива явит вам еще одно диво: в карлика нашего, милого Карлушу, вдохнет жизнь и душу. Наш карлик — бедняжка, у него одна рубашка… он не резвится, не шалит, как ваши детки, а просит у зрителей на бедность монетки. Увидев так близко чуму, пожертвуйте болезным — и вы поможете снять заклятье ему!
Она подошла к Карлуше, простерла над ним руку, унизанную кольцами, и выкрикнула:
— Чары-мары-тарабары, человечек восковой, повернись и стань живой!
Хозяйка паноптикума с глубоким поклоном коснулась пальцем шапочки карлика — и среди посетительниц послышались сдавленные крики. Восковая фигурка заморгала глазами, задвигала губами, дернулась — и ожила. Улыбаясь и кланяясь, Карлуша протянул вперед раскрашенную миску.
— Да это не паноптикум! — заверещала посетительница с пером, обернувшись к своему толстяку. — Что ты нес чушь, будто тут один воск? У самого у тебя из воска мозг! Глянь, у него нога шевельнулась… Господи, я, кажется, свихнулась!
Толстяк захрипел и вскинул палку; его спутница вскрикнула, схватилась одной рукой за бусы, а другой — за шляпу с пером и пустилась наутек.
— Она, верно, и впрямь свихнулась, — извиняясь, сказал толстяк. — Дурная баба. Это она не впервой вытворяет. Хватит, больше никуда ее водить не буду!
Владелица балагана торопливо поблагодарила зрителей за пожертвования, пожелала им счастливого пути и отодвинула занавес, пропуская их в последнее помещение, где на фоне черной бумаги белело несколько жалких человеческих скелетов, а под ногами раскатились рассыпанные бусы и валялось перо.
— А что стало с тетей? — заинтересовался Мили. — Она убежала?
— Убежала, — подтвердил пан Копферкингель, грустно взирая на скелеты, — наверное, не выдержала потрясения.
— А мальчик-карлик тут работает? — спросил Мили.
— Скорее всего, он внук хозяйки, — ответил пан Копферкингель.
— Бедная женщина, — сказал он позже, когда все вышли из шатра на свежий воскресный воздух. Пан Копферкингель полуобернулся назад и поглядел на толстяка с палкой — тот держал в руке шляпу. — Бедная женщина, надеюсь, с ней не произошло ничего серьезного. Это ведь всего лишь паноптикум, балаганный аттракцион; современная медицинская наука поможет ей. Да вот хоть наш добрый, человечный доктор Беттельхайм наверняка бы ее вылечил. Драгоценная моя, тебе приходилось видеть кабинет доктора Беттельхайма? — улыбнулся он Лакме. — Он как-то позвал меня к себе. У него на стене висит прекрасная старинная картина… Впрочем, это неважно… Страшно подумать, какие несчастья некогда испытывали люди. Перед чумой они были совершенно беззащитны. Средневековье, одно слово.
— Средневековье, Роман, — сказала Лакме, когда они вышли на улицу, — преследует людей и сегодня. Не чума, так что-то другое.
— Это верно, — кивнул пан Копферкингель. — Сегодня людей преследуют голод, нищета, эксплуатация, всяческие бедствия — и новые болезни, которые тогда еще были малоизвестны, к примеру, лепра… Взять хоть пана Штрауса, и не одного его… — Пан Копферкингель потупил глаза. — Чего они только не натерпелись в жизни! Правда, все эти страдания преходящи, в конечном итоге человек освобождается от них, сбрасывает цепи, перевоплощается… И даже те, кто умер тогда от чумы… — пан Копферкингель ненадолго задержал взгляд на витрине попавшейся по пути кондитерской. — Люди перестали страдать, они давно мертвы. Ну и что? Это ждет всех — но не сразу, не вдруг. Мы же стремимся сократить страдания сейчас, покуда еще длится наша единственная, неповторимая жизнь. Именно так говорится в нашей замечательной книге о Тибете.
Он помолчал и добавил:
— В средневековье покойников хоронили в общих могилах и засыпали их известью, чтобы предупредить распространение заразы. Между тем было бы умнее сжигать их! И зараза бы не грозила, и истерзанные болезнью тела несчастных обращались бы в прах куда быстрее! Но как я счастлив, дорогая, — улыбнулся пан Копферкингель Лакме, — что способен обеспечить вас лучшим жильем, нежели люди имели в прежние времена. Прихожая, пианино в гостиной, приемник в столовой, ванная… Не Бог весть что, но, может, будет лучше, раз уж у нас есть пан Штраус. При случае я все же увеличу его долю. — Пан Копферкингель ласково улыбнулся Зине, которая шла подле них, и оглянулся на Миливоя, плетущегося далеко позади: он, должно быть, застрял у одной из витрин — скорее всего той кондитерской, мимо которой они только что прошли.
Пан Копферкингель остановился, и Лакме с Зиной остановились, поджидая Мили, а когда он наконец догнал их, пан Копферкингель сказал:
— Ну, Мили, как поживает племянник доктора Беттельхайма Ян? А Войтик Прахарж с четвертого этажа? — И тут же, еще не дав Мили ответить, добавил: — Не отставай, Мили, поторопись!
3
— Я приобрел для тебя, любимая, картины, — сказал как-то пан Копферкингель своей жене в их замечательной столовой, в которой стояли — кроме всего прочего — книжный шкаф, горка, торшер, трельяж и радиоприемник. — По случаю первой крупной выручки. Это чтобы наш дом стал еще краше.
— А ты перечислил проценты пану Штраусу? — спросила Лакме.
— Конечно, — ответил он, тронутый ее щепетильностью, — причем не треть, как обещал в «Серебряном футляре», а сразу половину. Этим я и сам избавился от ощущения, что я его обманываю, и для него приготовил приятный сюрприз. Дети дома?
— Зина на музыке, а Мили с Яном Беттельхаймом.
— Я рад, — улыбнулся пан Копферкингель, — Ян Беттельхайм — хороший, воспитанный мальчик, пусть Мили дружит с ним. Ян никогда не уходит дальше моста. Он успешно учится, любит музыку, его часто водят в оперу… он не пьет, не курит… Да-да, дорогая, — пан Копферкингель встретил улыбкой удивленный взгляд Лакме. — То, что ему только четырнадцать, как и Мили, еще ничего не значит. Возьми, к примеру, Войтика Прахаржа с четвертого этажа. Ему пятнадцать, а его отец… мне жаль его…
Лакме вновь недоуменно поглядела на мужа, и пан Копферкингель не без смущения пояснил:
— Мы, конечно, не вправе критиковать и судить других, у каждого из нас, будь он даже такой же праведный трезвенник, как я, множество своих недостатков. Но пани Прахаржо-ва пожаловалась мне вчера на лестнице, что ее муж пьет.
Он перевел взгляд на принесенный сверток и закончил:
— Пьет, и чем дальше, тем больше. Если так пойдет, то он станет натуральным алкоголиком. Наш разговор, к несчастью, слышала Зина, это меня очень огорчает, и я жалею пана Прахаржа, но еще больше я жалею пани Прахаржову и их Войтика. Боюсь, что мальчик пойдет по стопам отца. Бывают пороки, которые передаются по наследству. Похоже, что Войтик Прахарж уже курит, и он, как и наш Мили, любит уходить из дому. Бог знает, от кого Мили досталась эта склонность, но только не от меня и не от тебя, мы-то всегда были домоседы… Как вспомню об этой истории с Сухдолом… Знаю-знаю, — тут же нежно сказал он, заметив укоризну во взгляде Лакме, — спиртным и сигаретами наш Мили, слава Богу, не балуется, он хороший мальчик, и я рад, что он общается с Яном Беттельхаймом. Дальше моста они не уходят.
Потом он сказал:
— Кстати, насчет пана Прахаржа… надо предупредить Зину, чтобы она нигде об этом не болтала, особенно при Войте, подобное известие об отце могло бы потрясти его. Ну, а теперь, дорогая, — пан Копферкингель улыбнулся, — повесим подарки. Позволь, перед тем как развернуть пакет, я расскажу, как я их нашел.
Пан Копферкингель достал ножницы, чтобы перерезать веревки, и сказал:
— Дело было так. По дороге с почты мне пришло в голову купить что-нибудь для дома. Как ни прекрасна наша квартира, мы должны и дальше ее благоустраивать, как сказала бы твоя тетушка из Слатинян, эта добрейшая женщина, почти святая; кроме того, возможно, нам предстоит принимать деловых людей, ведь помимо пана Штрауса я собираюсь нанять и других; впрочем, оставим это. Так вот, по дороге с почты, — продолжал пан Копферкингель, разрезая веревку, — я зашел к багетчику пану Голому, ты его, наверное, не знаешь, я и сам видел его сегодня впервые в жизни… это пожилой одинокий человек, вдовец, жена у него умерла восемь лет назад, и остался он вдвоем с дочерью, которая, когда я вошел в мастерскую, отмеряла за прилавком багет и выглядела очень привлекательно: совсем юная розовощекая девушка в красивом черном платье… У пана Голого были сплошь одни дешевые березки, сирень да маки — короче, ничего стоящего, кроме разве что единственной картины без рамы, для которой его дочь и отмеряла багет. А эти картинки, — пан Копферкингель показал на сверток, — стояли в углу, он даже не предполагал продать их, хотел только вставить в рамку; это две гравюры, за обе он просил всего восемь крон, добрый человек…
И пан Копферкингель с улыбкой извлек гравюры из оберточной бумаги. На первой был изображен город на холме, с замком и собором на фоне гор.
— Я подумал, — опять улыбнулся пан Копферкингель, — что это Зальцбург или Любляна, оба эти города похожи как две капли воды, оба стоят на холме, я бывал в них во время войны; но оказалось, что это Мэриборо, главный город ирландского графства Куинс, получивший свое название в честь королевы Марии. Там сохранились развалины замка 1560 года, старое здание суда и сумасшедший дом. Куда же мы ее повесим?
— Может, в ванную? — предложила Лакме, и он был тронут.
Он считал ванную комнату самым красивым местом в их квартире и очень ее любил.
Захватив Мэриборо, они направились в ванную, которая и впрямь впечатляла: там было большое зеркало, умывальник, ванна, а на стене под потолком сверкала белизной изящная вентиляционная решетка со шнуром, закрепленным на железной скобе. Ниже, под решеткой, в черной застекленной рамке висела большая желтая бабочка, насаженная на булавку.
— Знаешь, дорогая, — улыбнулся пан Копферкингель, — я считаю нашу ванную самым красивым местом у нас в квартире и очень люблю ее, но мне все же кажется, дорогая, что сюда больше подойдет букет цветов или обнаженная натура, чем Мэриборо. Принимая во внимание, что жители Мэриборо занимаются ткачеством, повесим эту картину в переднюю, поближе к вешалке. Над нашим замечательным шкафчиком для обуви… А вот и вторая гравюра, — сказал он, когда они вернулись в столовую. — Это портрет. Идеальный портрет идеального джентльмена. Это Луи Марен, профессор Коллежа общественных наук, позднее министр социального обеспечения в правительстве Пуанкаре…
— Но тут написано другое имя, — склонилась над рамкой Лакме.
— Ну да, — погладил он ее по черным волосам, — это никарагуанский президент Эмили-ан Чаморро в 1916 году. Неважно, дорогая. Пусть это будет Луи Марен. Имя мы закроем бумажной полоской. Красивое, экзотическое мужское лицо станет украшением нашей столовой. Когда за обедом видишь благородное лицо, еда кажется вкуснее. Повесим… — пан Копферкингель окинул взглядом стены столовой и закончил: — Повесим его вот здесь, у окна. Рядом с нашей прелестной табличкой. Правда, та картина, для которой отмеряла багет розовощекая дочка пана Голого, подошла бы сюда больше: там изображена свадебная процессия. Ну ничего, ведь я всегда могу еще раз зайти к пану Голому и купить ту картину. Тогда мы перевесим Марена в другое место. — И он поправил прелестную табличку, висевшую на черном шнурке у окна.
— Отец, ты купил картины! — ахнула Зина, вернувшись с урока музыки, и пан Копферкингель погладил ее по голове и сказал:
— Я купил картины, золотко мое, так как доходы нашей семьи возросли. Я купил их, чтобы наша квартира стала еще уютнее. — И он грустно улыбнулся Зине и Лакме, а потом спросил: — Ну, как ты сегодня играла?
— Да так… — вздохнула Зина, не сводя глаз с экзотического мужского лица на портрете. — Повторяла до бесконечности этюд, а старуха готова была бить меня линейкой по пальцам.
— Ну, Зинушка, не надо так, — мягко сказал пан Копферкингель, — не называй больше учительницу старухой. Это почтенная пожилая дама. Когда тебе будет столько, сколько ей, и какая-нибудь шестнадцатилетняя девушка назовет тебя старухой, тебе это вряд ли понравится. Женщины очень ранимы, и прежде всего красивые женщины, золотко мое. Мы не вправе никого обижать… даже в мыслях… Зина, — строгим голосом продолжал пан Копферкингель, — прошу тебя, не рассказывай никому о том, что ты слышала о пане Прахарже от его жены. И особенно Войте, это его может очень огорчить, я вообще не понимаю, как это пани Прахаржова решилась вслух пожаловаться…
Зина молча кивнула, и пан Копферкингель опять погладил ее по волосам.
— Драгоценная моя, — обратился он затем к Лакме, — детям надо бы навестить тетю в Слатинянах… отвезти ей цветов, — например, букет белых лилий. Как жаль, Лакме, что нет уже с нами твоей доброй матери, она так хорошо готовила, пекла…
Тут он улыбнулся кошке, лежащей в углу столовой, и пошел посмотреть, есть ли у нее в блюдце молоко: кошка тоже ела в столовой.
— Вчера или когда-то еще, — сказал пан Копферкингель, глядя на кошачье блюдце, — я прочитал, что арестовали одну женщину, которая продавала на рынке освежеванных кроликов, а на самом деле это были кошки. Бедную женщину на это толкнула нужда. Ведь хотя мы живем в справедливом и человечном государстве, нужда кое-где еще дает о себе знать.
Потом Зина стала приводить в порядок волосы перед маленьким зеркалом в столовой, а пан Копферкингель открыл книжный шкаф и любовно провел пальцем по корешку своей замечательной желтой книги о Тибете, после чего обвел взглядом тумбочку, торшер и радио и отправился помогать Лакме готовить бутерброды. Вечером они ожидали супругов Рейнке.
Рейнке были старыми друзьями Копферкингелей, хотя виделись оба семейства в последние годы нечасто. Это была солидная, элегантная пара. На Вилли ловко сидели серый костюм с голубым галстуком и зеленая тирольская шляпа со шнурком вокруг тульи; аккуратно причесанную головку его жены украшали большие серьги. Лакме разлила вино, все чокнулись, пан Копферкингель и Лакме едва пригубили, а Зина выпила чуть больше, примерно как пани Рейнке. Пан Копферкингель пододвинул гостям бутерброды и соленый миндаль. Пани Рейнке взяла бутерброд и положила его на хрустальную тарелочку, и Вилли тоже взял бутерброд, а другой рукой достал из кармана газету и протянул ее своему другу первой страницей вверх.
— Женатые мужчины, согласно статистике, — прочитал пан Копферкингель, открыв газету, — живут дольше. Прекрасно, Вилли, мы с тобой должны поблагодарить наших милых дам. Не будь их, мы бы поумирали, не дожив до старости.
Все засмеялись, а пан Копферкингель поискал глазами еще какую-нибудь поучительную информацию, чтобы зачитать ее вслух.
— А вот, — проговорил он, погасив улыбку, — бездомный ютится в свинарнике… Или вот: во рту восьмилетнего мальчика разорвался патрон! Это не худо бы послушать нашему Мили, — вздохнул пан Копферкингель, — правда, ему уже четырнадцать, но он все время где-то бродит. Может быть, вы еще не знаете, ведь вы давно у нас не были… — Пан Копферкингель посмотрел на Вилли и на пани Рейнке. — Как-то он даже не вернулся вечером домой, пришлось обратиться в полицию. Нашли его ночью в поле в окрестностях Сухдола, он вздумал заночевать там в стогу… дело было летом. Вот и сейчас его нет дома. Что, до сих пор гуляет? — с улыбкой спросил он у Лакме.
— Мили с Яном Беттельхаймом, у моста, — сказала Лакме.
— Беттельхайм? — поднял глаза Вилли. — Интересная фамилия. Не тот ли это врач, чья вывеска висит у вашего подъезда?
Пан Копферкингель кивнул. Вилли встал и направился, сопровождаемый слегка смущенным взглядом хозяина, к окну, туда, где висела на черном шнурке табличка с цифрами:
I II 1. 8.00-8.30 8.30-9.45 - 2. 8.30-9.00 9.00–10.15 3. 9.00-9.30 9.45–11.00 4. 9.30–10.00 10.15–11.30 5. 10.00–10.30 11.00–12.15 6. 10.30–11.00 11.30–12.45 7. 14.00–14.30 14.30–15.45 8 14.30–15.00 15.00–16.15 9. 15.00–15.30 15.45–17.00 10. 15.30–16.00 16.15–17.30Вилли молча изучал табличку. Потом перевел глаза на экзотический портрет, висящий рядом.
— Карл, кто это? Кто-нибудь из ваших предков?
— Это бывший французский министр Луи Марен, — неуверенно проговорил пан Копферкингель, — я купил это сегодня утром у пана Голого. Пан Голый содержит багетную мастерскую на Неказанке, он пожилой человек, вдовец, его жена умерла восемь лет назад, и он живет с дочерью, красивой розовощекой девушкой в черном платье… В передней висит и другая картина от пана Голого. Мэриборо, это город в Ирландии, названный в честь королевы Марии, она основала его в 1560 году. Но у пана Голого есть одна картина, которая подошла бы сюда больше, свадебная процессия… Ах, Вилли, — сказал пан Копферкингель, когда Вилли вернулся на свое место, — стоит только вспомнить, как нас мобилизовали, как мы пели в Праге на вокзале «Тебе, в венце победы, слава!» и «На родине, на родине», как мы сражались на фронте, как умирали… но война мне чужда, я не люблю ее. Она несет людям куда больше несчастий, чем мирная жизнь: нужду, разлад в семье и разводы, кровь, слезы, боль, смерть… И не только людям. Как вспомню, к примеру, сколько вынесли в походах несчастные лошади! На свете должны царить мир, счастье и справедливость.
— Но все это с неба не падает, — сказал Вилли, — за это надо бороться! Мечты и слова ничего не стоят, важны дела. А на них способны только полноценные люди. Судьбы Европы должны решать они, а не всякие слабаки. Вот, например, Австрия, — он ткнул пальцем в первую страницу газеты. — Ее присоединили к рейху — и это лишь первый шаг. Гитлер — гениальный политик, он избавит стомиллионный народ от страданий, нищеты, безработицы и обеспечит ему подобающее место в мире… вы еще не видели листовок, которые выпустила наша СНП? Она объединяет судетских немцев.
— А я думал, — удивился пан Копферкингель, — что ты член аграрной партии.
— Верно, — сказал Вилли, — но я немец! В январе мы примкнули к СНП, и я тоже внес в дело объединения свою скромную лепту. В Чехословакии создается единый немецкий фронт. Наш народ после войны стал жертвой беззакония, и мы с этим не можем смириться. В ком течет немецкая кровь, кто сражался с врагами Германии, кто хочет мира, счастья и справедливости — встань под знамена СНП! Еще не поздно, написано в листовке, которая может служить и заявлением… Вступай в СНП! Без Гитлера мы не выживем!
Пан Копферкингель растерянно посмотрел на Вилли и предложил:
— Угощайся миндалем.
Пани Рейнке сурово взглянула на пана Копферкингеля, взяла газету, развернула ее и начала читать заголовки:
— «Бездомный ютится в свинарнике…», «Во рту восьмилетнего мальчика разорвался патрон…» Ну, какие еще есть важные новости? — Она перевернула страницу. — А-а, вот! «Упал в кипяток. В Берегове отмечали серебряную свадьбу…»
Пан Копферкингель перевел глаза на пани Рейнке и мягко сказал:
— Жизнь полна трагедий, пани Эрна. Например, пан Штраус служил привратником, но один злой человек выгнал его, вскоре он потерял семью — жена умерла от горловой чахотки, а сын от скарлатины; теперь он торговый агент по кондитерской части и попутно проводит среди желающих предварительную запись в крематорий… Или возьмем недавний случай с женщиной, которая из-за нужды и голода продавала кошек под видом кроликов; хотя мы живем в человечном государстве, нужда все еще дает о себе знать. А женщины, — продолжал он, — женщины, которые пережили внезапное потрясение! Тут недавно у нас на глазах одна такая. насмотревшись на чуму в паноптикуме… Угощайтесь миндалем, — предложил он пани Рейнке.
— СНП? Но как же… — Лакме смущенно отпила чаю. — Ведь наши дети ходят в чешские школы, дома мы тоже говорим только по-чешски — вот как сейчас.
— Да, мы никогда не говорили в семье по-немецки, — подтвердил пан Копферкингель, — и книги у нас сплошь чешские… Да и сколько там во мне немецкой крови? Капля!
— Капля? — переспросил Вилли с жестким смешком. — Капля… Но у кого есть совесть и сердце, чувствует в себе и каплю. Повторяю: без Гитлера мы не выживем. Нас задушит безработица, мы перемрем от голода, и зароют нас, как собак: вот в чем трагедия, — с нажимом сказал Вилли. — Это тебе не один-два доходяги, не баба, которая продавала кошек или сбрендила в паноптикуме, тут целая нация! Тут страдают и бедствуют сто миллионов человек! А ты за деревьями не видишь леса: уткнулся в своего пана Штрауса и упускаешь главное!
Вдруг Вилли поглядел на часы и объявил, что у него в восемь встреча в немецком казино с Берманом.
— Берман — руководящий работник СНП, он едет в Берлин на совещание с министром Геббельсом! Эта республика — помеха на пути нашего возрождения… Но это тебе долго объяснять, — Вилли махнул рукой, — а нам с Эрной пора. Хорошо, что у подъезда нас ждет машина, а то бы мы опоздали.
Супруги Рейнке поднялись — но тут раздался звонок в дверь. Зина побежала открывать, и в столовую несмело вошел Мили. В дверях он обеими руками стащил с головы кепку.
— Где ты был, Мили? — хлопнул его по спине Рейнке. — С Яном Беттельхаймом у моста?
— Нет, перед домом, — выпалил Миливой. — Мы смотрели на машины.
— Мили очень любит машины, — сказала Зина.
— У него есть даже своя теория, — улыбнулась Лакме. — Он делит машины на цветные, зеленые и белые. Цветные машины — это обычные, частные, например, та, на которой ездит доктор Беттельхайм, или ваша. Зеленые — это военные и полицейские. А белые машины…
— А белые — небесные, — смущенно улыбнулся пан Копферкингель. — Для ангелов.
Супруги Рейнке засмеялись, Вилли взял свою зеленую шляпу со шнурком вокруг тульи, они попрощались и ушли.
— Да, Вилли никогда нельзя было назвать слабаком, — сказал пан Копферкингель своей темноволосой жене, стоя у окна под табличкой на черном шнурке и портретом министра социального обеспечения. — Он всегда был полноценным человеком. И вот сейчас у подъезда его ждет машина, и он занимает высокое положение в партии судетских немцев. Как жаль, Мили, — повернулся он к сыну, который таскал со стола соленый миндаль, — как жаль, что тебя не было с нами, интересный получился разговор, интересный и поучительный. Пан инженер Рейнке тоже ходил когда-то в гимназию, но он не шатался Бог знает где, его не искали с полицией — и вот результат. Он встречается с неким Берманом, который едет в Берлин к самому министру Геббельсу, у подъезда его ждет машина — а ты хромаешь по немецкому. Правда, мы-то дома говорим по-чешски, и все это политиканство и связи с СНП мне вовсе не по душе, но немецкий, мой мальчик, знать надо, что ни говори, это язык стомиллионного народа. Ян Беттельхайм наверняка хорошо говорит по-немецки… даже Войтик Прахарж берет где-то уроки…
— Но живут же другие без немецкого! — возразил Мили. — Вот хоть тот же Карлуша из паноптикума…
— Ну, — удивленно засмеялся пан Копферкингель, — это совсем другое дело. Ему он ни к чему, ведь этот Карлуша ездит по ярмаркам.
Затем пан Копферкингель сказал:
— Давайте включим радио, там передают замечательный концерт. А как поживает моя красавица? — И он во второй раз за вечер пошел посмотреть на кошкино блюдце в углу. — Зинуша! Нельзя так мучить животное, молока у кошки осталось на донышке… А-а, это «Прелюдия» Листа…
И он нежно погладил кошку.
4
Была пятница, и старуха, заметив пана Копферкингеля издалека, уже кивала ему. Она ждала здесь каждую пятницу утром и каждую субботу вечером, даже когда шел дождь или снег. Но сейчас было лето, старуха стояла без платка, похожая на седую колдунью. Пан Копферкингель подал ей монетку и вошел в привратницкую. Там он просмотрел висящее в рамочке расписание на сегодня: пять мужчин и пять женщин, в их числе и тридцатилетняя пани Струнная. Пан Копферкингель поздоровался с паном Враной, у которого была больная печень и который то и дело заваривал себе в привратницкой чай, и неторопливо двинулся через безлюдный двор к зданию крематория.
«Вот уже пятнадцать лет я прохожу мимо пана Враны и его привратницкой, направляясь в Храм смерти, — думал он про себя, попеременно глядя то на брусчатку у себя под ногами, то на ясное синее небо над головой, — пятнадцать лет прихожу я сюда, и меня всякий раз охватывает священный трепет. Это как мой брак с Лакме. Уже семнадцать лет мы живем вместе, — он посмотрел на свою руку с обручальным кольцом, а меня точно так же, как в день нашей первой встречи у клетки с леопардом, переполняет чувство счастья и любви. Мне жаль тех, кто не испытал этого…» Тут он вошел в здание и миновал вторую привратницкую, где сидел пан Фенек — старый чудак с длинным ногтем на мизинце. За привратницкой у него была своя каморка с кушеткой, тумбочкой и стулом. Когда пан Копферкингель проходил мимо, пан Фенек кивнул головой и помахал зажатой в руке газетой. Пан Копферкингель с улыбкой поздоровался, потом свернул в коридор и вошел в раздевалку. Беран и Заиц успели уже натянуть комбинезоны.
— Читал? — спросил Заиц. — Англичане уговаривают нас уступить Судеты. Боюсь, как бы они с Францией не продали нас немцам…
— А мы не дадимся, — отрезал Беран. — В пограничье объявят чрезвычайное положение.
Пан Копферкингель, улыбаясь, достал сверток с едой и книгу о Тибете, которую он читал здесь в свободные минуты.
— Не бойся, Йозеф, — ласково сказал он Заицу. — С чего бы им продавать нас немцам? Все будет в порядке. И это я говорю, несмотря на то, что во мне есть капля немецкой крови, а супруга моя — вообще немка по покойнице матери, но никто не выбирает свое происхождение, и мне это совершенно безразлично. Я политикой не интересуюсь, — повернулся он к Берану, — по мне лишь бы не было нужды, несправедливости и страданий. Жаль, что пока все обстоит не совсем так. А-а, пан Дворжак, — внезапно заметил он молодого человека, который молча стоял в углу у вешалки, что же вы, пан Дворжак, смелее! Вы, кажется, немного волнуетесь. Ничего, пан Дворжак, я введу вас в курс дела как можно деликатнее. Не хотите ли и вы пойти с нами, пани Лишкова? — и он улыбнулся молоденькой уборщице, которая перед зеркалом повязывала на голову косынку, собираясь домой. — Ведь вы еще, можно сказать, не знаете всей нашей механики и автоматики. Вот пани Подзимкова — та знает.
— Пани Подзимкова работает здесь уже пятнадцать лет, а мне это для уборки коридоров знать ни к чему, — печальным голосом ответила пани Лишкова, не отрываясь от зеркала, и пан Копферкингель засмотрелся на нее, не выпуская из рук сверток с едой и книжку о Тибете, и подумал: «Что это с пани Лишковой? У нее такой печальный голос! Да и на дворе так тепло, а она в косынке. Даже старуха нищенка — и та стоит с непокрытой головой». А потом он подумал: «Я ни разу не был в пекарне, но наши печи странным образом напоминают мне о хлебе насущном…» Когда пани Лишкова ушла, пан Копферкингель переоделся в комбинезон и кивнул пану Дворжаку, который все так же молча стоял в углу у вешалки.
— И что вас сюда потянуло, пан Дворжак, — улыбнулся пан Копферкингель, — ведь вы еще очень молоды, наверное, только что окончили институт? Ну, да все мы, пан Дворжак, когда-то начинали — вот и пан Беран, и пан Заиц, так что выше голову и прочь всякие страхи! Страх, наряду с нуждой, завистью и клеветой, — один из главных врагов человечества. Если бы люди избавились от страха, они стали бы куда счастливее. Страх мешает нам почувствовать красоту окружающей природы! Пойдемте.
Они вышли в коридор, и пан Дворжак робко спросил, можно ли здесь закурить.
— Разумеется, — кивнул пан Копферкингель. — Почему же нельзя? Мы не в кино и не в больнице, мы — посреди огня. Так что курите, пан Дворжак, если вам от этого станет легче. Спасибо, — отверг он предложенную сигарету, — я не курю. И не пью. Но если вы считаете, что рюмочка-другая пойдет вам сейчас на пользу, то не стесняйтесь, пан Дворжак, выпейте. Мы, трезвенники, — терпимые и разумные люди. — Пан Копферкингель засмеялся и приступил к объяснениям. — Вот этот репродуктор, — указал он на тарелку, чернеющую на фоне белого кафеля, — служит для того, чтобы мы слышали церемонию в ритуальном зале. Она стоит того, пан Дворжак: прекрасные речи, возвышающая душу музыка. Вы любите музыку, пан Дворжак?
А когда молодой человек, стряхнув в ладонь пепел, кивнул, пан Копферкингель сказал:
— Это очень хорошо, пан Дворжак. Тонкие натуры всегда любят музыку. Остается только пожалеть тех, кто умер, так и не познав красоты Шуберта или Листа. А вы случаем не родня Антонину Дворжаку, автору «Черта и Качи», «Хитрого крестьянина» и «Русалки»?
Пан Дворжак завертел головой, и пан Копферкингель пояснил:
— У нас тут часто исполняют «Ларго» Дворжака, «Поэму» Фибиха, «Свети, солнышко, свети», «Прекрасную мою Чехию»… Итак, это репродуктор… А вот эта кнопка, — пан Копферкингель указал на кнопку посреди белого кафеля, — раздвигает железный занавес ритуального зала, отправляя людей в космические сферы. Впрочем, теперь, при новом директоре, мы пользуемся ею крайне редко. Это за нас делает наверху пан Пеликан. И пан Пеликан, и новый директор — весьма достойные люди, у нас с ними хорошие отношения… а убирает там пани Подзимкова… А теперь взгляните на эту табличку.
И пан Копферкингель подвел Дворжака к стене, где на черном шелковом шнурке висела табличка:
I II 1. 8.00-8.30 8.30-9.45 - 2. 8.30-9.00 9.00–10.15 3. 9.00-9.30 9.45–11.00 4. 9.30–10.00 10.15–11.30 5. 10.00–10.30 11.00–12.15 6. 10.30–11.00 11.30–12.45 7. 14.00–14.30 14.30–15.45 S 14.30–15.00 15.00–16.15 9. 15.00–15.30 15.45–17.00 10. 15.30–16.00 16.15–17.30— Вам, наверное, это кажется сложным, — улыбнулся пан Копферкингель, — но это не так. На самом деле все очень просто. Первая церемония, — он ткнул в первый столбик цифр, и на его руке блеснуло обручальное кольцо, — начинается в восемь часов и длится полчаса. Мы располагаем двумя печами, и теперь, когда вместо кокса ввели газ, превращение покойника в пепел происходит за один час пятнадцать минут. Нетрудно высчитать, что первые два гроба попадают в печь сразу же по окончании церемонии, после того, как раздвинется занавес, и вот здесь это видно, — он показал на цифры. — Но третий гроб, — провел он пальцем по третьей строчке, — должен ждать своей очереди пятнадцать минут, а пятый и шестой — целых полчаса… В двенадцать у нас обеденный перерыв; в хорошую погоду, пан Дворжак, можно прогуляться по кладбищу. Если вы обойдете наше здание сзади, то окажетесь на Виноградском кладбище, при этом вам даже не придется проходить через привратницкую. Во второй половине дня сжигают еще четверых, и в шесть вы можете отсюда испариться…
Пан Копферкингель показал на потолок и некоторое время постоял с запрокинутой головой, как бы наблюдая за звездами, а потом улыбнулся Дворжаку, который курил, понуро уставясь на табличку:
— Таблички, пан Дворжак, бояться нечего, это только наш график, так сказать, расписание поездов смерти. Расписание, которым в отличие от всех прочих расписаний, рано или поздно воспользуются все… разве что кто-то захочет лежать в земле. Там свое расписание, не такое четкое, ведь основано оно не на механике, а на действии подземных вод и живых организмов. А эта штука, — вновь указал он на табличку, — могла бы стать украшением королевских покоев или чертогов властителя Гималаев… Так, а теперь сюда. — Пан Копферкингель подошел к печи. — Перед вами два термометра. Первый показывает температуру внутри устройства, которое преобразует газовую смесь в раскаленный воздух. Кремация, пан Дворжак, производится с помощью раскаленного воздуха, гроб и тело ни в коем случае не должны соприкоснуться с огнем, это очень важно, есть даже такой закон. Законы, пан Дворжак, существуют для того, чтобы защищать людей… Ну, а второй термометр, — на руке пана Копферкингеля опять блеснуло обручальное кольцо, — регистрирует температуру внутри самой печи. Температура должна быть выше девятисот пятидесяти градусов. Мы поддерживаем ее на уровне тысячи градусов, так за ней легче следить. Допустимый же максимум — тысяча двадцать градусов. Если его превысить, кости превратятся в стекловидную черную массу и праха не будет. А это — беда, пан Дворжак, ведь наша цель — чтобы человек стал прахом, быстро и мирно вернулся туда, откуда он явился. При тысяче градусов кости становятся ослепительно белыми и при наполнении урны рассыпаются прахом, как это и положено. Итак, можно контролировать всю процедуру с помощью термометров — но есть и другой путь. Поднимемся по лестнице, — показал пан Копферкингель, — и заглянем в печь через это вот окошечко. Оно, пан Дворжак, сделано из толстого огнеупорного стекла. Это поистине святое окно, выходящее прямо в кухню смерти, в мастерскую Господа Бога. Через него видно, как душа отделяется от тела и возносится в космические сферы. Однако вам для начала смотреть туда не стоит, предоставьте это нам. А еще я расскажу вам, что происходит после кремации.
Пан Копферкингель сделал несколько шагов вперед и продолжал:
— Итак, когда покойник сожжен, его прах насыпают вот в эти металлические цилиндры. Высота их двадцать три сантиметра, диаметр — шестнадцать сантиметров. Но душа туда не попадает, — улыбнулся пан Копферкингель, — не для того она создана, чтобы быть запертой в металле, она сотворена для космоса. Сбросив оковы страданий, освободившись, она подчиняется иным законам, нежели законы металлических цилиндров: переселяется в другое тело… Да, вот еще что. Печь непосредственно сообщается по рельсам с ритуальным залом. Отверстие для гроба, или вход, как мы его называем, имеет размер метр двадцать на метр двадцать. Человек легко может войти туда, стоит только пригнуться. А сейчас, пан Дворжак, я проведу вас в наш зал ожидания.
Дворжак загасил сигарету, и они двинулись мимо стеллажей с металлическими цилиндрами и печей к дальней двери.
— Это наш зал ожидания, пан Дворжак, здесь убирает пани Лишкова. Комната эта походит на коридор или подвал, пол вымощен плитами, в углу за прозрачной занавеской — ниша… Ну, а тут, на столах, стоят гробы. Как видите, они открыты, пронумерованы и подписаны. Это чтобы не спутать. Сейчас их здесь пять — как раз утренняя партия. Шестой, тот, который попадет в ритуальный зал первым, ровно в восемь, уже наверху, чтобы родные могли проститься. Однако, пан Дворжак, не каждый гроб поступает в ритуальный зал. Некоторые прямо отсюда идут в печь, — например, родные не хотят видеть покойника, либо смерть вызвана заразной болезнью, либо тело находится в таком состоянии, что его нельзя выставлять. Эти гробы, пан Дворжак, сразу заколачиваются наглухо, вот как сегодня номер три.
Пан Копферкингель показал на закрытый гроб под номером три, снабженный табличкой «Освальд Ржезничек». Потом он обвел глазами помещение, заметил железный прут в углу, хотел было что-то сказать о нем, но тут его взгляд упал на пятый гроб.
— В пятом гробу мы хороним сегодня пани Струнную, — сказал он и поманил пана Дворжака поближе. В гробу лежала поразительной красоты женщина. — Я видел ее еще вчера, — сказал пан Копферкингель, потупившись.
Пан Дворжак, застыв у него за спиной, смотрел, смертельно бледный, внутрь гроба.
— Ее щеки не ввалились, скулы и нос не заострились, как это обычно бывает у мертвецов. И кожа не имеет воскового цвета и нисколько не напоминает фигуры в паноптикуме. — Пан Копферкингель повел рукой, на которой вновь блеснуло обручальное кольцо. — Наоборот, кожа у пани Струнной розовая, а глаза прикрыты так, словно она спит, но вот-вот проснется и встанет. Вы, верно, подумали: а вдруг она живая? — спросил пан Копферкингель, видя, как пан Дворжак вытаращил глаза. — Гоните такие мысли прочь! Эта женщина зарегистрирована как мертвая, и наш долг — совершив положенный обряд, предать ее кремации. Регистрация смерти — самый ответственный и возвышенный акт, какой совершается на этом свете, он для нас — закон, и мы строго исполняем свои обязанности. Итак, пан Дворжак, вы познакомились со всей нашей механикой и автоматикой и на этом можно пока остановиться.
В десять часов, когда очередь дошла до пани Струнной, пан Копферкингель сказал Дворжаку, который опять нервно курил:
— Смерть этой женщины была зарегистрирована, и для нас это — закон. А законы существуют для того, чтобы служить людям, и мы их обязаны чтить. Мы можем оказать ей еще лишь одну последнюю услугу — дать ей лишних полчаса постоять на запасном пути, ведь она пятая, и я, пан Дворжак, рад этому. А потом за каких-нибудь семьдесят пять минут от нее останется только накалившийся добела скелет, который вскоре рассыплется; за семьдесят пять минут она возвратится в первоначальное свое состояние — в прах. В земле это заняло бы двадцать лет, да и то кости ее остались бы целы. Конечно, если бы пани Струнная оказалась и впрямь живой, ей было бы очень плохо. Еще бы, перед ней — вся жизнь — а тут… Хотя как знать, может, не так и плохо: вдруг в жизни она много страдала? Такие случаи бывают, и довольно часто. А страдания — огромное зло, и мы должны делать все возможное, чтобы их смягчить или прекратить… Но не бойтесь, пан Дворжак, — улыбнулся пан Копферкингель, — пани Струнная действительно умерла, таких ошибок сейчас не совершают.
Пан Копферкингель дослушал по репродуктору конец церемонии в ритуальном зале, вторую часть «Неоконченной симфонии» Шуберта (что же еще, ведь красавице не было и тридцати), потом, нажав на кнопку, раздвинул железный занавес и отправил покойную в тупик. Номер третий в первой печи был не готов, ему оставалось еще полчаса. И пан Копферкингель листал книгу о Тибете, далай-ламе, его вере и о переселении душ, поглядывая, чтобы температура внутри печи была не выше тысячи двадцати градусов, а, отвлекаясь, вспоминал, что говорил его друг Вилли, когда был вместе с Эрной у них в гостях, и что говорили Беран и Заиц о политической ситуации, слушал доносившиеся из ритуального зала рассуждения о том, что есть наша жизнь… а потом в его памяти всплыла дочь пана Голого, красивая, молоденькая, розовощекая девушка в черном платье, как она отмеряла багет для картины, изображающей свадебную процессию… потом молодая пани Лишкова, уборщица, которая выглядела сегодня такой удрученной… Ну, а потом часы показали десять тридцать, и он с грустной улыбкой отправил в первую печь гроб покойной красавицы и стал внимательно следить за термометром, чтобы пепел получился чистым и нежным.
5
Доктор Беттельхайм жил со своей женой, видной пожилой дамой, с племянником Яном и служанкой Анежкой над квартирой Копферкингелей. Над самой их столовой находилась приемная старого доктора, но и квартира рядом тоже принадлежала ему.
«Будь потолки в нашем доме тоньше, — думал пан Копферкингель, сидя раздетым до пояса на круглой белой табуретке в приемной у доктора, — будь они чуть тоньше… Да нет, как бы моя милая Лакме могла через потолок понять, что эти шаги — мои? Я пришел после приема, когда здесь не бывает ни души, да и направлялся я не сюда, а в кондитерскую, чтобы купить моей драгоценной что-нибудь сладкое, она это иногда любит, хотя, конечно, не так, как Мили… а кроме того, — рассуждал он, — моя Лакме никогда не была подозрительной. Она, как и я сам, не сомневается, что у нас идеальный брак и что ни разу за все семнадцать лет его не омрачило ни одно облачко. Наш брак, — подумал пан Копферкингель, посмотрев на свое обручальное кольцо, — безоблачен, как небо над Храмом смерти в те минуты, когда там никого не сжигают».
Доктор Беттельхайм взял пана Копферкингеля за руку, и пока он искал вену и протирал это место ваткой, пан Копферкингель смотрел на его столик, где лежали стетоскоп, шпатель и круглое зеркало на лоб, которые у доктора Беттельхайма имелись, хотя он и не был отоларингологом; потом, покосившись на стоявший в углу стеклянный шкафчик, полный колб, пробирок и лекарств, и на газовую горелку возле него, пан Копферкингель надолго задержался взглядом на огромной потемневшей картине в черной раме, которая уже долгие годы висела в этом кабинете. Бледный молодой человек с пылающим взором, свирепым лицом и аккуратными усиками, одетый в темно-красные бархатные панталоны и темно-коричневый камзол и с золотым кинжалом у пояса, тащил через порог слабо освещенной комнаты куда-то в сумрачный коридор красивую женщину; вернее, не женщину даже — почти ребенка, розовощекую девушку в черном платье. Комната, из которой ее так яростно выволакивали, была, по всей видимости, спальней, так как на заднем плане за полупрозрачной занавеской смутно вырисовывалась старинная кровать. Из глубины коридора на молодого человека собирался наброситься импозантный седобородый господин в черной шапочке с искаженным болью лицом. Пан Копферкингель, приглядываясь в особенности к розовощекой девушке, изо всех сил старался понять, что означает эта сцена. Вот если бы молодой человек тащил девушку в спальню, раздумывал пан Копферкингель, то все было бы ясно, но ведь он тащил ее из спальни — и это не находило объяснения. Он не отрывал взгляда от розовощекой девушки в черном платье, даже когда врач приставил к его руке иглу шприца, надавил, взял кровь и приложил к месту укола ватку. Потом врач прошел в угол, где стоял белый стеклянный шкафчик, впрыснул кровь в пробирку, зажег горелку, подержал пробирку над пламенем — и только тогда пан Копферкингель отвел глаза от картины, потому что услышал:
— Реакция отрицательная, пан Копферкингель, вы здоровы.
Доктор говорил ему эти слова уже много лет, и всякий раз с души пана Копферкингеля словно сваливался камень. Если бы камни эти свалились все вместе, вообразил пан Копферкингель, то, наверное, рухнул бы потолок в нашей столовой!
— Вы все еще считаете эти анализы необходимыми, пан Копферкингель? — спросил врач, убирая инструменты.
Тот, повернувшись к картине, кивнул. «Ну да, — подумал он, глядя на свое обручальное кольцо, — я заверяю его, что не имею связей с другими женщинами, кроме моей драгоценной, но при этом боюсь заразы… Не выгляжу ли я в глазах этого милого доктора лгуном или неврастеником?» И он в который уже раз объяснил, что опасается подхватить заразу в крематории.
— Но вы же не прикасаетесь к мертвецам, — возразил врач, — да и вообще, так эта зараза не передается!
— Конечно, пан доктор, — отозвался пан Копферкингель, — но такой я человек. Я делаю анализы ради очистки совести. Для меня было бы ужасно узнать, что я, не дай Бог, заразил свою жену. Я не пью, не курю, но наградить ее этим… Я бы тогда застрелился!
Тут пан Копферкингель вспомнил о Прахарже с четвертого этажа, который, к сожалению, пьет, и о его жене, которой он сочувствовал, и об их Войтике — как бы тот не унаследовал увлечение спиртным… Потом он сказал:
— Наш Мили, пан доктор, то и дело уходит из дому. Не понимаю, откуда это в нем, мы с женой такими не были. Боюсь, как бы вскоре нам не пришлось опять искать его с полицией, как в тот раз, когда его занесло в Сухдол и он вздумал заночевать там в стогу. Я очень рад, пан доктор, что он дружит с вашим Яном. Когда они вместе, то я знаю, что они не дальше чем у моста или перед домом — смотрят на машины. У Мили есть даже такая игра: он делит машины на цветные, зеленые и белые; зеленые — это военные и полицейские, а белые — санитарные, «Красный крест», как я их называю, небесные, для ангелов. А ваша машина синяя, то есть цветная… Я правда рад, что они с Яном дружат. Бродяжничать сейчас опасно. В пограничных областях, насколько я слышал, объявлено чрезвычайное положение, а в Нюрнберге, говорят, был съезд национал-социалистов, на котором выступал Гитлер и угрожал нам… кто знает, что нас ждет! Пан доктор, я боюсь… — сказал Копферкингель, а про себя подумал: «Боюсь, совсем как пан Заиц, все это для многих людей может обернуться адом…»
— Не бойтесь, пан Копферкингель, не стоит, — улыбнулся врач. — Насилия никогда не хватает надолго. На короткое время насилие может победить, но не оно творит историю.
Пан Копферкингель облегченно вздохнул, а врач добавил:
— Люди не вечно будут терпеть насилие. Людей можно запугать, загнать под землю, но надолго ли? Ведь мы живем в цивилизованном мире, в Европе двадцатого века! Насильники, пан Копферкингель, в итоге всегда бывают биты. Взять то же наше пограничье. Чехословацкое правительство объявило чрезвычайное положение — и весь этот немецкий заговор разом рухнул… А-а, вы глядите на картину…
— Я гляжу на нее уже много лет, — спокойно улыбнулся Копферкингель, — но всегда словно впервые… Что на ней, собственно, изображено, пан доктор? Кто эта красивая розовощекая девушка в черном платье… и почему усатый молодой человек тащит ее из спальни?
— Это длинная история, пан Копферкингель, — улыбнулся врач и присел к столу. — Картина передается в нашей семье из поколения в поколение. Родом мы из Венгрии, и предки наши жили в Прешпурке, нынешней Братиславе. По семейной легенде, в восемнадцатом веке один из них — вон тот седобородый старик на картине — женился на поразительно красивой молодой женщине, которую захотел похитить венгерский граф Бетлен. Но муж защитил ее, что тут и изображено. Это похищение. Вот почему женщину тащат из спальни… — улыбнулся врач.
— Муж защитил ее, — повторил пан Копферкингель. — Похищение не удалось.
— Не удалось, — кивнул врач. — Я же говорил вам, насильники всегда бывают биты.
— Это настоящая живопись, — оценил пан Копферкингель. — И кто же тот мастер?
— Он неизвестен, — покачал головой врач, — картина не подписана. Может быть, автор решил скрыть свое имя, ведь у него выступает насильником граф Бетлен, а спасителем — еврей… Мы, Беттельхаймы, евреи, а евреев, пан Копферкингель, преследовали во все времена… Художнику такая трактовка могла грозить неприятностями.
Пока доктор Беттельхайм заполнял карточку, пан Копферкингель не мог отвести глаз от красавицы на картине, теперь-то он понимал смысл этой сцены: неудачное похищение. И вдруг он почувствовал, что запутался и не знает, кого жалеть больше — красивую розовощекую девушку, ее старого мужа-спасителя или знатного похитителя, у которого ничего не вышло. А потом он вспомнил пани Струнную, которую недавно сжигал, и пани Лишкову, уборщицу, которая выглядела в последнее время печальной, вспомнил дочь пана Голого, розовощекую красивую девушку в черном платье… подумал он и о пани Прахаржовой, жене несчастного пана Прахаржа с четвертого этажа, и еще о нескольких знакомых женщинах… и наконец посмотрел на доктора.
— Ну что же, пан Копферкингель, — вставая, сказал тот, — если опять надумаете — заходите. А сын у вас — славный мальчик, и не тревожьтесь вы, что, мол, он бродяжничает. Это возраст. Все мальчишки его возраста любят различные романтические приключения, тут ничего не поделаешь. Я, например, когда мне было пятнадцать, бегал за солдатами, маршировавшими мимо нашего дома в Братиславе на стрельбище за городом. Да, а как ваша супруга, пан Копферкингель? Иногда она мне кажется грустной, может, она на что-то жалуется?
Пан Копферкингель оторопел. Лакме кажется грустной? Лакме на что-то жалуется? А он и не заметил!
— Да ничего, — поторопился успокоить его доктор, увидев, как он поражен. — Это было всего лишь мое мимолетное впечатление, но я, конечно, ошибся. Пожалуйста, сюда, пан Копферкингель, — направил он посетителя к двери в жилую комнату, — чтобы вас не видела Анежка, а то она моет пол перед кабинетом.
Но даже когда пан Копферкингель с коробкой шоколадных конфет для Лакме отпирал этажом ниже дверь своей квартиры, он все еще не пришел в себя и мысленно повторял: «Лакме кажется доктору грустной! Боже, что это значит, что с ней — или это действительно было лишь обманчивое впечатление, я-то ничего не замечаю, нужно будет у нее осторожно спросить… — А потом он подумал: — Как хорошо, что у нас в доме живет такой замечательный и человечный врач, который всегда готов принять меня, да еще в неурочное время и строго конфиденциально».
Уже войдя в свою прихожую, он припомнил слова доктора о насилии и насильниках, которые всегда бывают биты, а также о евреях, которых во все времена преследовали, — и как-то у него два этих замечания не сходились. Вот и Гитлер в Германии преследует евреев. Почему? За что? Ведь они такие милые и любезные люди!
И с коробкой конфет для Лакме он переступил порог их замечательной столовой.
6
Правительство ушло в отставку, и новое во главе с одноглазым генералом объявило мобилизацию. Жизнь закрутилась дьявольской каруселью, набирала обороты, летела вперед: лишь бы долететь до цели, а там с налета — к оружию! Спустя несколько дней после объявления мобилизации пан Фенек принес в крематорий одну странную вещицу.
— Гляньте, пан Копферкингель, — совал он в привратницкой под нос Копферкингелю какую-то застекленную коробочку, — вы только гляньте! Тут на бумажках булавками пришпилены мухи. Это мухи, дрозофилы, род двукрылых, на них, пан Копферкингель, ставятся опыты по наследственности. Так вот эта, — показал длинным ногтем на мизинце пан Фенек, — называется дрозофила фунебрис. Не приобретете ли коробочку? Отдам дешево. За щепотку, — Фенек понизил голос и заморгал слезящимися глазами, — за одну щепотку морфия.
— Отличный экспонат, — сказал пан Копферкингель серьезно. — Я, пан Фенек, ценю такие вещи. Эти мухи были когда-то живыми, жужжали, летали, на них ставили всякие опыты, а теперь они приколоты к бумажкам. У меня в ванной висит под стеклом бабочка на булавке… Но, пан Фенек, откуда мне взять морфий? Ведь я даже не курю!
— Но у вас есть знакомый химик… — тянул старый чудак.
— Инженера Рейнке нет в Праге, — ответил пан Копферкингель. — Объявлена мобилизация, кругом такая карусель, все полным ходом летит вперед — лишь бы долететь до цели… в общем, сейчас он в отъезде.
— Ну, так рассчитаетесь со мной, когда он вернется, — бормотал Фенек и совал в руки пану Копферкингелю коробочку, — у меня еще кое-что осталось, а это вы возьмите. Возьмите хотя бы из-за дрозофилы фунебрис… берите же, пан Копферкингель! — И Копферкингель, кивнув, поблагодарил и взял коробочку.
В коридорах пахло дезинфекцией, пани Лишкова стояла с косынкой в руке у дверей зала ожидания, собираясь уходить. Беран и Заиц еще не появлялись.
— Я сегодня пораньше, — сказал пан Копферкингель пани Лишковой, подходя к ней с коробочкой. — Это чтобы увидеть вас.
— Вам и без меня есть на что посмотреть, — негромко ответила она, повязывая косынку.
— Вы об этих несчастных в печах? Дорогая моя, я нормальный человек, и это зрелище не может не трогать меня. Но вы-то — живая. Неужели весь смысл вашей жизни — убирать здесь каждое утро? Вставать ни свет ни заря, ехать сюда, чтобы только навести блеск — и вернуться домой? Знаете, пани Лишкова, в последние дни я часто о вас вспоминал — даже на приеме у врача..
А потом он сказал:
— Сами знаете, какое сейчас время. Объявлена мобилизация. Вам надо бы поискать человека, который станет вас опекать, нельзя жить одной. Давайте сегодня вечерком поговорим обо всем этом! Немного отдохнем, встряхнемся, рассеемся… — И он, не спуская глаз с ее голой шеи, придвинулся к ней поближе. Женщина вытаращила глаза, вскрикнула и пустилась наутек по коридору, мимо печей к раздевалке. Откуда-то послышался голос пани Подзимковой — что, мол, случилось?
— Смерть в крематории, — объявил пан Копферкингель, все так же держа в руках коробочку с мухами и портфель. — Пани Лишкова меня испугалась.
Пани Подзимкова появилась из-за печей и улыбнулась ему, а он улыбнулся ей в ответ.
— Пан Копферкингель, вам шутки, а у меня мороз по коже. У печей не шутят.
— Вы правы, — опять улыбнулся Копферкингель, — но вы же знаете, пани Подзимкова, у меня и в мыслях не было ничего плохого. Пани Лишкова — красивая одинокая женщина, у нее никого нет, время сейчас тревожное, мобилизация, и я только хотел поговорить с ней, пригласить ее куда-нибудь, хотя бы домой… а бедняжка испугалась. Ну что же, может быть, в другой раз.
— Понимаешь, Йозеф, — спустя несколько минут объяснял он Заицу, войдя в раздевалку, где шел разговор о немцах и о мобилизации и где были все — и Беран, и Дворжак, который, впрочем, молча стоял в углу, застегивая комбинезон, — понимаешь, время сейчас тревожное, мобилизация, но это все политика, а она меня не интересует. Я противник насилия, страданий, нищеты, а главное — войны. Одну я уже пережил, и с меня вполне довольно. Я-то знаю, что тогда вынесли люди! Нужду, разлад в семье и разводы, кровь, боль… даже кони — и те натерпелись. Я против войны, вот и вся моя политика. И это я говорю несмотря на то, что во мне есть капля немецкой крови, а супруга моя — вообще немка по матери, но ведь никто не выбирает свое происхождение… Ну что, вы уже перестали нервничать? — повернулся он к пану Дворжаку. — Курить вы стали меньше, со временем привыкнете, освоитесь — и, надеюсь, вообще бросите курить. У моей Зины, — улыбнулся он, доставая сверток с бутербродами, — скоро день рождения, а я никак не придумаю, что ей подарить. Мы только что узнали о ее дружбе с неким паном Милой, судя по фотографии, это хороший, воспитанный мальчик из приличной семьи. Но будь мы даже знакомы лично, я не мог бы посоветоваться с ним насчет подарка — он бы ей все выболтал. Вот я и мучаюсь, что бы ей купить. — И он взглянул на коробочку с мухами, которую перед тем сунул в угол. — Пан Дворжак, не подскажете ли, что подарить семнадцатилетней девушке? Вам это, наверное, виднее.
— Не знаю, — улыбнулся молодой человек, косясь на мух. — Может, коробку конфет?
— Отрез на платье, — сказал Заиц, глядя туда же.
— На черта ей отрез?! — закричал Беран. — Готовое платье. Чтобы тут же надеть и носить. А мобилизация — это вам не политика. Это оборона! Это бой! — внезапно добавил он.
— Мобилизация — это не политика. Это оборона, это бой, — повторил пан Копферкингель своей Лакме у них в гостиной, взобравшись на стул, чтобы повесить застекленную коробочку с мухами над пианино. — Так сказал мне сегодня в раздевалке пан Беран. А недавно я повстречал у нашего дома доктора Беттельхайма, и мы с ним немного поболтали. Насилия никогда не хватает надолго, говорил он мне, на короткое время насилие может победить, но не оно творит историю. Людей можно запугать, загнать под землю, но надолго ли, ведь мы живем в цивилизованном мире, в Европе двадцатого века! И в подтверждение он вспомнил о картине, которая висит у него в кабинете, на ней изображено похищение женщины венгерским графом Бетленом. Похищение это не удалось. Но евреев преследовали во все времена, сказал он мне, и это как-то не сочетается с его теорией кратковременности насилия.
Пан Копферкингель, все еще стоя на стуле, посмотрел на коробочку с мухами, которую держал в руке, и продолжал:
— Наш немецкий друг Вилли, наверное, был прав, говоря, что за счастье, мир и справедливость приходится бороться. Впрочем, это, кажется, общепризнано, наш пан Беран сказал то же самое. Но Вилли, похоже, прав и в том, что счастья способны добиться только сильные, только полноценные люди. Ведь слабые едва ли одолеют насилие, эксплуатацию, нужду, они, несчастные, обречены страдать. Как подумаю, к примеру, о нашем пане Фенеке… знаешь, — грустно взглянул он на Лакме, — он морфинист. Наркомания — страшная вещь, дорогая моя, — покачал головой пан Копферкингель, прикладывая застекленную коробочку к стене, — это куда страшнее, чем курение и алкоголизм. Бедный пан Фенек, разве он со своим длинным ногтем на мизинце может из крошечной каморки бороться с эксплуатацией или за мир, он же еле ноги таскает и двух слов толком не свяжет… Или бедный пан Прахарж с четвертого этажа, что может он? Кстати, давно я что-то не видел пани Прахаржову, только бы их мальчик не пошел в отца, это ведь может быть наследственным… — Пан Копферкингель окинул взглядом мух. — Наследственность доказана опытами на мухах. А еще у нас есть один молодой человек, Дворжак. Когда он только поступил к нам, то почти не выпускал изо рта сигарету, но понемногу успокоился и сейчас, слава Богу, курит куда меньше. Надеюсь, он скоро вообще бросит курить, чего от всей души ему желаю…
Пан Копферкингель слез со стула и, оценивая взглядом, хорошо ли он укрепил коробочку, сказал:
— Пан Штраус очень преуспел с записью в крематорий. Посетители кондитерских — чувствительные, душевные, добрые люди, у которых есть вкус к таким вещам, и я подумываю обзавестись еще несколькими агентами, к примеру, в магазинах игрушек или парфюмерии, а может быть, и в ювелирных. Понимаешь, дорогая моя, — улыбнулся он Лакме, вытирая тряпочкой сиденье стула, — я все же чувствую, что еще недостаточно забочусь о вас. У доктора Беттельхайма из квартиры над нами есть красивая картина и автомобиль, и у Вилли он есть; я, конечно, не завидую и от души желаю им счастья, они хорошие, порядочные и трудолюбивые люди. У нас нет машины, зато есть наш благословенный дом, — он обвел рукой комнату, — и наша любовь. Это куда больше. Скажи, Лакме, ты не бываешь в последнее время грустной? — спросил он неуверенно, вертя в руках молоток, которым только что вбивал в стену гвоздь. — У тебя ничего не болит, не лежит камнем на сердце?
Лакме улыбнулась и положила руку ему на плечо. Он кивнул и погладил ее черные волосы.
— У нашего золотка скоро день рождения, надо подарить ей хороший подарок. Пан Заиц советует отрез, а пан Беран — готовое платье, чтобы сразу надеть и носить. В этом что-то есть. Пройдусь-ка я по магазинам. Мне нужно будет зайти к пану Каднеру на Фруктовую, вот я по дороге и посмотрю платье. Интересно, а этот ее Мила… судя по фотографии, он хороший, воспитанный мальчик, из приличной семьи… любит ли он музыку?
Спустя пять дней утром пани Подзимкова сказала ему в коридоре Храма смерти:
— Мы потеряли работника. Уволилась пани Лишкова. Ей тут было страшно. Да и я что-то тоже иногда побаиваюсь…
— Пани Лишкова уволилась? — удивился Копферкингель. — В такое время? Я только что слышал, что у нас на границах стоит немецкая армия, в Мюнхене собирается какая-то конференция, пахнет войной — а она уволилась? Очень жаль. Теперь уже я никуда не смогу пригласить ее. Бедняжка, она ведь почти девочка. Ну, а вы-то, пани Подзимкова, вы нас не бросите? Вы тут как-никак пятнадцать лет! Кстати, вы не читали сегодня в газетах о женщине, которая потеряла три тысячи? Несчастная мать двоих детей потеряла три тысячи крон и вместо того, чтобы заявить об этом в полицию, прыгнула в Эльбу. — Пан Копферкингель грустно поглядел в направлении печей и повторил: — Она прыгнула в Эльбу, а эти ее три тысячи тем временем преспокойно лежали в полиции, их нашел и отнес туда один честный человек. Ужасно! Двумя несчастными сиротами больше.
В раздевалке Беран и Заиц, склонясь над газетой, говорили о том, что на границах стоит немецкая армия, а в Мюнхене собирается конференция для обсуждения ситуации в пограничье. В углу, у вешалки, стоял пан Дворжак и копался в портфеле.
— Что ты так кипятишься, — улыбнулся Берану Копферкингель, — и чего ты, скажи, испугался? Что нас захватят? Истребят? Но это же насилие… — и он припомнил слова доктора Беттельхайма. — А насилия никогда не хватает надолго. На короткое время насилие может победить, но не оно творит историю. Мы же живем в цивилизованном мире, в Европе двадцатого века! — Тут пан Копферкингель вспомнил о Вилли. — Да ведь этих немцев даже жаль, они так бедствуют! Изо всех сил стараются избавиться от нищеты и безработицы… А что они хотят стать сильными, так это еще ничего не значит. Сила не всегда на стороне зла. Впрочем, это политика, — махнул он рукой, заметив, что привлек всеобщее внимание, — а политика меня не интересует. Вы знаете, что пани Лишкова уволилась? Мне только что сообщила об этом пани Подзимкова. Ей тут было страшно…
Пан Копферкингель взял газету, полистал ее и сказал:
— Читали про утопленницу в Эльбе? Взяла бы себя в руки и пошла не топиться, а в полицию, и все было бы в порядке! А так двое детей без матери. Которая у нас по графику барышня Чарская? — спросил он Дворжака.
— Седьмая.
— Седьмая, — сказал Копферкингель. — Какая трагедия! Это первая кремация после обеда, и ждать в тупике ей не суждено ни минуты. Она отправится в печь прямо из ритуального зала, и нам не удастся уважить ее красоту и подарить ей еще хоть миг ожидания. Бедная барышня Чарская! Вчера я смотрел на нее — кажется, будто она спит, на ней черное шелковое платье, а в руке она держит четки. Попрощаться с ней придут очень многие. Она как раз собиралась замуж…
— У меня иногда бывает такое чувство, что лучше я буду следить за котлами, — сказал упавшим голосом Дворжак. — Или возить катафалки в зале, как пан Пеликан.
— И вы туда же, пан Дворжак? — удивился Копферкингель. — Да что же это такое? Ведь вы было перестали нервничать! Я совсем недавно говорил супруге, что вы освоились, стали меньше курить и, даст Бог, скоро вообще бросите, а вы… Нет, пан Дворжак, котельная не для вас, это означало бы понижение. Уж лучше тогда возить катафалк.
Ровно в четырнадцать часов пан Копферкингель отложил книгу о Тибете, включил репродуктор и стал слушать церемонию прощания с барышней Чарской. Оратор был неплохой.
— Слышите, пан Дворжак, как он говорит? Неплохой оратор. Человеческая жизнь есть не что иное, как ожидание смерти, и именно здесь, в этом месте, мы осознаем это особенно остро. Как верно сказано — должно быть, это кто-то из философов! Да, пан Дворжак, здесь осознаешь многое. Всем живым тварям после недолгой жизни суждено умереть. Из праха мы созданы, прахом остаемся и в прах же обратимся. Тьма перед нами, тьма позади нас, и наша жизнь всего лишь миг меж одной бесконечной тьмой и другой, точно такой же. Вот, например, люди, жившие сто лет назад, уже давно умерли. То же самое могли сказать они о живших до них, а через сто или двести лет кто-то скажет те же слова о нас с вами. Люди беспрерывно рождаются и умирают, на сей раз уже навечно попадая в царство мертвых. Так во всяком случае кажется нам, живым. Но если дело обстоит именно так, то судьба мыслящих существ поистине плачевна. Тогда человеческая жизнь лишена всякого смысла!
— И все же, — унылым голосом сказал пан Дворжак, впервые осмеливаясь возразить, — жизнь имеет смысл. Уже одно то, что человек пытается делать что-то для потомков…
— Пан Дворжак, — улыбнулся Копферкингель скорее с грустным сочувствием, чем снисходительно, — пан Дворжак, но ведь эти потомки тоже умрут! Когда-нибудь, пускай даже через миллионы лет, земля наша остынет, и с нею погибнет все живое. Зачем тогда, спрашивается, человеческие труды, муки и жертвы? Где и в чем смысл жизни существ, что населяли миллионы лет тому назад одну из планет? Я, например, люблю свою семью и готов делать для нее все. Но это не смысл моей жизни. Это всего лишь моя обязанность, мой святой долг… Ах, заиграли «Ларго» Дворжака, — Копферкингель кивнул на репродуктор, — слышите вы этот плач со стоном? Еще неделю назад барышня Чарская ходила на службу, писала, считала, готовилась к свадьбе, а сейчас. Видите ли, у нее не было ни семьи, ни детей, так разве имела ее жизнь смысл? — И пан Копферкингель вновь с грустью подумал, что нет, не сможет он подарить ангельски прекрасной покойнице ни минуты ожидания на запасном пути, он это и вслух сказал, адресуясь к мертвой:
— Увы, уже через час с четвертью ты сгоришь в своем черном шелковом платье и с четками, останется лишь ослепительно белый скелет, да и тот рассыплется в прах, который поместится в металлический цилиндр, а потом в урну… Но не душа, — сказал он наконец, — душа туда не попадет. Она освободится, избавится от своих оков, вознесется в космические сферы — и войдет в иное тело, а не в урну. Она сотворена не для этого! Да, пан Дворжак, человеческая жизнь есть не что иное, как ожидание смерти. Кстати, такова же она и у животных, но те об этом не знают. Однако ожидание смерти — это еще не смысл жизни. Все любят жизнь, и многие боятся смерти, считают, что это зло, конец всего; действительно, безвременная смерть — это хотя и не конец, но, несомненно, зло. Благом она может стать лишь тогда, когда тем самым сокращаются человеческие страдания.
Не исключаю, — подвел итог пан Копферкингель, когда церемония прощания барышни Чарской заканчивалась, — не исключаю, что если бы мы победили природу и побороли смерть, то это для нас была бы беда. Тогда людские страдания длились бы бесконечно. Так что прежде пришлось бы искоренить страдания, но для этого люди должны стать ангелами, ведь страдания причиняем друг другу мы сами. Отсюда ясно, что на земле вечная жизнь невозможна — разве только настанет земной рай. По смерти же, напротив, нет вечного ада, которым нам грозят, все это чепуха, есть только вечное небо, нирвана, как говорят в Тибете. Так что смерть на земле — это благо, ибо на земле всегда были, есть и будут люди и их страдания, а не ангелы и рай. Не будь смерти, пан Дворжак, — сказал Копферкингель, насторожившись, так как траурная церемония барышни Чарской закончилась и пан Пеликан раздвинул железный занавес, — не будь смерти, мы не могли бы ни возвращаться в прах, как это положено, ни возрождаться из праха. Не совершались бы погребения, так что наши печи были бы уже ни к чему, и государство, даже самое человечное, не стало бы содержать крематории. Бедная барышня Чарская, — вздохнул Копферкингель, — я как раз везу ее в печь. В первую печь — а ведь она готовилась к свадьбе! Она, конечно, родится заново, да что пользы? Ее смерть была безвременной, а это большое зло. Безвременная смерть, — повторил пан Копферкингель, посмотрев на термометр, — может стать благом только тогда, когда тем самым сокращаются человеческие страдания. Но мне кажется, что смерть барышни Чарской — это не тот случай.
Когда в конце дня Копферкингель миновал привратницкую пана Фенека, старый чудак высунулся из своей каморки спросить насчет морфия.
— Я же сказал вам, что пана инженера нет в Праге, — ответил Копферкингель. — Потерпите. Ему не до морфия, ведь вдоль границ стоит немецкая армия, а в Мюнхене собирается конференция. Тут пахнет войной, пан Фенек, а вы со своим морфием!
Пан Фенек исчез в своей каморке, и Копферкингель смущенно подумал: «Надо же, я лишь чуть-чуть показал ему свою силу, а он испугался».
— Я сейчас к переплетчику, пан Фенек, — крикнул он примирительно привратнику, — а потом пойду поищу платье для дочери, скоро у нее день рождения…
Копферкингель вышел во двор, у ворот кивнул второму вахтеру, пану Вране, у которого была больная печень, сел на трамвай и поехал на Фруктовую к переплетчику Каднеру.
— Пан Каднер, — сказал Копферкингель в переплетной мастерской пожилому толстяку в белом крахмальном воротничке с красной «бабочкой» и извлек из портфеля несколько листков. — Пан Каднер, я просил бы переплести эти листки. Я очень люблю читать их и не один год бережно храню в моем книжном шкафу рядом с желтой книгой о Тибете, которую вы тоже в свое время переплетали. Это закон о кремации от 7 декабря 1921 года и служебная инструкция от 9 октября 1923 года. Они тоненькие, несколько страничек, но я бы хотел, чтобы вы одели их в красивый черный переплет с серебряной каемкой и веточкой кипариса. А может быть, вы сумеете пустить те же украшения и по корешку?
— Серебряная полоска на корешке — это просто, — ответил толстяк, — но кипарис и заголовок поместятся только на обложке. Срок — неделя, пан Копферкингель. Объявлена мобилизация, и у нас заказ от Красного Креста. Люция!
На зов вышла пожилая женщина в очках; она вымученно улыбнулась, вытирая тряпкой мокрые руки, а пан Каднер сказал:
— Люция, покажи пану Копферкингелю образец траурного переплета.
Потом Копферкингель двинулся на Рыцарскую и задержался там перед витриной большого магазина готового платья, выбирая, что бы подошло для Зины. В витрине было вывешено множество белых кружевных воротничков, а посреди них высилось несколько женских манекенов в красивых, ярких цветастых платьях. В углу стояла фигура розовощекой девушки в черном шелковом платье, и пан Копферкингель решил, что Зина могла бы надеть такое платье и в гости, и в театр, и на свидание со своим Милой, и на семейные прогулки: это платье как будто создано для нее, и завтра Зина придет с ним его примерить. А потом он обратил внимание на белые кружевные воротнички и подумал, не купить ли один такой для Лакме, у которой, правда, не предвидится торжества, но она наверняка обрадуется, если получит в подарок белый кружевной воротничок, он так украсит ее парадное темное платье… И Копферкингель вошел в магазин. «Да, — твердил он довольно, выходя на улицу, — этот воротничок очень украсит ее темное платье, то-то она обрадуется… ну, а что бы еще купить Зине, сладкой моей девочке?» И тут ему вспомнилась картина со свадебной процессией, которую он видел в мастерской багетчика Голого. «Надо зайти туда, — подумал он, — раз уж я оказался поблизости, это будет хороший подарок, ведь девушки любят свадьбы, а висеть она может в столовой у окна, там, где сейчас портрет министра социального обеспечения, который мы перевесим в другое место… надеюсь, пан Голый не продал еще эту свадьбу». И пан Копферкингель направился в багетную мастерскую. За прилавком стояла красивая розовощекая девушка в черном платье.
— Свадебная процессия? Ко дню рождения? — мило улыбнулась она. — Ах, конечно, она где-то здесь. Подождите немного, я позову папу.
— Отличная свадьба, пан Копферкингель, — сказал багетчик, принеся картину. — Я так и вспоминаю о своей свадьбе с покойной женой, это было двадцать лет назад. Господи, как давно… Уже девять лет ее нет, и над ее могилой выросла березка… Я заверну картину в красивую бумагу, раз это ко дню рождения. Мартичка, — обернулся он к дочери, — принеси мне серебристую бумагу с красными маками.
— Отец, что это за мухи над пианино? — спросила вечером Зина.
— Но, Зинушка, ведь они висят тут уже целую неделю, — улыбнулся Копферкингель. — Ты только сейчас их заметила? Это мне дал один добрый, но несчастный человек. Кажется, золотко, твоя голова чем-то очень занята. — Он имел в виду пана Милу, который был знаком им только по фотографии. — Наверное, у тебя сейчас в мыслях один пан Мила, золотко, — опять улыбнулся он. — Ну что ж, в этом нет ничего плохого. Судя по фотографии, это хороший, воспитанный мальчик из приличной семьи.
А потом он добавил:
— Эти мухи, которые висят над пианино целую неделю, очень интересные. Одна из них, вон та черная, называется дрозофила фунебрис. А остальные — банановые, на них ставят опыты по наследственности… Зинушка, — ласково сказал Копферкингель, — скоро твой день рождения, и я решил купить тебе красивое шелковое платье, чтобы ты могла надевать его в гости, в театр, в кино, на прогулки с нами и с паном Милой… Завтра приглашаю тебя со мной в магазин, для примерки, я присмотрел кое-что на Рыцарской улице. Моей драгоценной, — прибавил он, — я купил в том же магазине изящный белый кружевной воротничок на парадное темное платье. — Тут он послал улыбку сидевшей в углу кошке и, подойдя, погладил ее. — Ах, как чистоплотна наша любимая Розана! И молока у нее сегодня вдоволь.
7
Судеты были оккупированы, а квартира Копферкингелей сияла огнями.
— Как празднично сегодня в нашей прелестной столовой, — говорил пан Копферкингель на кухне своей Лакме, укладывая на большое блюдо бутерброды. — Словно свадьба! Во главе стола сидит наше золотко, рядом, — указал он на один из кухонных стульев, — пан Мила, дальше две школьные подруги нашего золотка, Ленка и Лала, напротив Ян Беттельхайм и Войта, сын бедного пана Прахаржа с четвертого этажа. Знаешь, нежная моя, — сказал он Лакме, которая теперь аккуратно насыпала в тарелочки соленый миндаль, — все это точь-в-точь как на старой картине, написанной хорошим мастером. Этот пан Мила очень кстати догадался захватить фотоаппарат. Если фотографии получатся, это будет память на всю жизнь. — Пан Копферкингель взял другое блюдо и принялся раскладывать пирожные. — А наша Зина настоящая красавица, драгоценная моя, она пошла в тебя и твою покойную мать. И как ей идет новое черное шелковое платье. Она может смело надеть его в гости, в театр, на прогулку с нами… будь у нее не черные, а светлые волосы, такие, как у ее одноклассниц, она была бы вылитый ангел! Если она выйдет за пана Милу, он будет счастлив. Фотография не обманула, он хороший юноша, и из приличной семьи. Его отец, инженер Яначек, — крупный специалист по станкам, и потом, Мила любит нашу Зину, я заметил, как он смотрел на нее за столом. Вот только имя Милослав мне не очень по душе, лучше бы он был Святобор, Милослав — это слишком нежно. Ну да неважно. Имена ничего не значат, ты права, дорогая. Мила интересуется физикой, электричеством, машинами, я тоже охоч до таких вещей, еще надо его спросить, как он относится к музыке.
— Да ведь они дети, — улыбнулась Лакме, поправляя белый кружевной воротничок на темном платье. — Это у них обычная гимназическая любовь… Мало ли что их ждет впереди!
— Конечно, — сказал Копферкингель, любуясь белым кружевным воротничком. — Мало ли что их ждет впереди… Никто не знает, что будет и что чем кончится, единственная неизбежность в нашей жизни — это смерть. Но первую любовь никто не забудет, вот и наше золотко запомнит ее на всю жизнь… Хватит ли двух бутылок вина? — сказал Копферкингель, доставая чайные ложечки. — Надеюсь, хватит. Я спиртного не пью и буду кофе, для тебя, дорогая, налит чай, наш Мили — сладкоежка, Ян Беттельхайм тоже, им скорее подавай пирожные, ты заметила, вино они едва пригубили, так что, слава Богу, алкоголики из них не получатся… короче говоря, бутылки достанутся девочкам, Ленке и Лале, потом нашей Зине, пану Миле и сыну бедняги Прахаржа. Этот Войта, кстати, выпил немало, как бы он и впрямь не пошел по стопам отца… Впрочем, мы не должны подавать вида, будто о чем-то подозреваем, особенно Зина. Интересно, выйдут ли у пана Милы фотографии? Хорошая у нас осталась бы память о нынешнем дне.
— Я забыла тебе сказать, Роман, — спохватилась Лакме, вынимая блюдца из буфета, — что пришла открытка от Вилли. Вот, — она извлекла из буфета открытку, — принесли сегодня утром. Вилли зовет тебя и Мили на будущей неделе на бокс. Пишет, что хочет вам показать кое-что стоящее.
Пан Копферкингель взял приглашение, прочитал его и вернул Лакме.
— В будущую среду в молодежном клубе… Что ж, раз Вилли приглашает, пожалуй, можно и пойти. Мы ведь не виделись с тех пор, как захватили Судеты. Странно, что он зовет в клуб молодежи, это же чешский клуб. Да еще на бокс! Я и не знал, что он увлекается боксом. То-то удивится Мили! Он ни разу в жизни не был на боксе, так что для него это будет настоящее откровение. Боюсь только, как бы мне не испортить нашего доброго мальчика, лично я считаю этот вид спорта довольно грубым. Позови, нежная моя, Зину…
Лакме отлучилась и вернулась с Зиной, которой очень шло новое черное шелковое платье. Втроем они взяли со стола блюда, тарелки и ложечки и понесли в столовую. В дверях Зина сказала:
— Я не думала, что мы будем подавать бутерброды и сладости только сейчас. Мне казалось, что все должно стоять на столе с самого начала.
— Лучше подносить постепенно, — улыбнулся пан Копферкингель, — когда все выставляют на стол, то не ждешь сюрприза. Это как бабушкин сундук, который раз за разом открываешь — и всегда находишь там что-то новое.
Столовая действительно напоминала живописное полотно с изображением застолья. Все сидели тесным кружком, в котором нашлось место даже кошке. Мили держал ее поперек живота, Ян Беттельхайм водил туда-сюда ее хвостом, а Войтик подсовывал ей к мордочке рюмку вина. Ленка и Лала — обе белокурые, только Ленка худенькая, а Лала пухленькая — смеялись, и Мила тоже смеялся, нетерпеливо поглядывая на фотоаппарат.
— Угощайтесь, дети, — радушно предложил пан Копферкингель. — Все это должно быть съедено. Барышни… — улыбнулся он Ленке и Лале, — пан Яначек, мальчики… — И строго добавил: — Мили, перестань мучить невинное животное. Отпусти кошку. Мы позовем ее, когда будем фотографироваться.
Ах, это один французский министр, — пояснил Копферкингель, заметив, что Мила заинтересовался портретом никарагуанского президента, который висел над дверью, в то время как на его прежнем месте у окна красовалась свадебная процессия. — Его пришлось перевесить сюда от окна, где теперь помещается вот эта свадебная процессия. — Копферкингель подошел и снял ее со стены. — Я купил ее в подарок Зинушке у багетчика пана Голого. Это одинокий пожилой человек, вдовец, он потерял жену уже девять лет назад, но у него есть красивая, розовощекая дочка Марта. Свадьба, дорогие дети, — улыбнулся Копферкингель, не отрываясь от картины, — это великое событие, которое происходит только раз в жизни и определяет всю судьбу человека. Бывает, конечно, что кто-то разводится… — Копферкингель покачал головой и водрузил картину на место. — Разводится и женится снова, случается и такое. Но хорошо ли это? Я по крайней мере против этого. Муж да будет верен своей жене, а жена — мужу. Свадьба есть таинство. — Пан Копферкингель посмотрел на свое обручальное кольцо и вернулся за стол. — А таинство дважды не совершается. Это как регистрация смерти, самый ответственный и возвышенный акт на этом свете. или как погребение, которое тоже не повторяется… Так вы, пан Яначек, взяли с собой фотоаппарат? А получатся при таком освещении снимки?
— Получатся, — с готовностью отозвался Мила. — Можно начинать?
— Вначале надо поесть, — возразил Копферкингель, — когда человек сыт, он и выглядит лучше, жизненнее. А вы еще почти ничего не съели, — показал он на стол, — берите, пан Яначек, видите, сколько здесь всего. Барышни, — обратился он к Ленке и Лале, — вы тоже ничего не едите. Стараетесь сохранить стройную фигуру? Это похвально… — И про себя подумал: «Стройным и дерева потребуется меньше». А вслух сказал: — Но ведь вы еще так молоды!
Потом он стал потчевать Войту и Яна, а Зина налила вино, девочки и Войта выпили и взяли бутерброды, а Ян с Мили — пирожные, и Войта рассеянно уставился на книжный шкаф.
— Тут у меня небольшая библиотечка, — улыбнулся Копферкингель, — где собраны книги, которые можно перечитывать до бесконечности, и при этом они чаруют и захватывают ничуть не меньше, чем когда их открываешь впервые… Зинушка, — попросил он дочь, — включи радио, сейчас должны передавать замечательный концерт, пусть музыка оживит наше застолье.
Потом он сказал:
— В этой моей библиотечке есть две книги, которые особенно мне дороги. Эта вот желтая — о Тибете и далай-ламе, а вторая, рядом с ней, в черном переплете… это даже не книга, а всего лишь несколько листочков, которые даже нелегко было скрепить вместе, однако листки эти очень ценные. Это законы… Кстати, мы ведь сегодня еще не открывали газету, — сказал пан Копферкингель под звуки пленительной арии из «Сицилийской вечерни» Верди, полившиеся из радиоприемника. — А время теперь такое бурное, особенно после захвата Судет. Происходят великие события… — и он протянул руку за газетой, развернул ее и начал читать вслух:
— «Несовершеннолетний за рулем… Автомобиль сбил каменщика с тачкой и извозчика, который упал с козел и получил легкие телесные повреждения. Как выяснилось, за рулем был молодой человек семнадцати лет, на отцовской машине катавшийся по Праге». С тобой, Мили, такого не случится, — пан Копферкингель улыбнулся Мили, который жевал пирожное, — у нас машины нет. Ты можешь только делить машины на цветные, зеленые и белые… Скорее такая история вполне могла бы выйти с Яном, у них машина есть. — Копферкингель кивнул на Яна Беттельхайма, который слушал Верди. — Но Ян — хороший, воспитанный мальчик, он любит музыку, любит ходить на оперы и на концерты, так что он не станет брать без спросу дядину машину. Твой дядя, — пан Копферкингель оторвался от газеты и приветливо посмотрел на Яна, — милейший человек. Хороший врач. Замечательный специалист. Вообще профессия врача просто прекрасна. Врач точно ангел среди людей, он помогает несчастным, а что может быть благороднее этого? Врач избавляет людей от боли и сокращает их страдания… А пан доктор Беттельхайм вдобавок тонкий знаток живописи!
И он опять взялся за газету.
— «Антенна убила женщину», — прочитал он и посмотрел на Лакме, которая поправляла белый кружевной воротничок на платье. — Эти женщины так неосторожны! Так небрежны! А ведь в крематории от нее за час с четвертью останутся всего два килограмма пепла!
Из приемника полился романс Миньон «Знаешь ли чудный край, где так чист небосвод…»
— Мили, — Копферкингель перевел глаза на сына, — на тебя тоже иногда находит, так сохрани тебя Бог, к примеру, попробовать на зуб патрон. Этак можно до конца жизни остаться калекой! И шляться ты любишь, — неодобрительно покачал он головой, — пора бы уже угомониться. Вот Ян, — показал он на молодого Беттельхайма, — если и идет погулять, то не дальше, чем до моста. Ему бы уж наверняка не пришло в голову переночевать в стогу, тем более в такое время. Сейчас не до романтических прогулок, ты же знаешь, что творится в стране, у нас только что отобрали Судеты, мы живем словно в военном лагере, и полиция не станет поощрять в молодых людях романтику дальних странствий… Это романс Миньон «Знаешь ли чудный край».
Копферкингель кивнул в сторону приемника и вновь склонился над газетой:
— А вот еще кое-что. «Членовредительство во сне. Некто Й. Кашпар спал на кровати у стола, на котором он вечером оставил большой кухонный нож. Ночью ему приснился страшный сон, он схватился за нож и изо всех сил ударил себя в правую руку…» Наверное, левша, — покачал головой Копферкингель, — хорошо еще, что бедняга не попал в сердце или в живот. Видите, — он отложил газету в сторону, — бывает, что и сны несут смерть… Ну же, дети, ешьте, у нас сегодня семейное торжество, а угощение на столе не убывает. Дорогая… — Лакме улыбнулась мужу и стала потчевать гостей.
Все занялись едой, а Зина, Мила, Войта и Ленка с Лалой выпили вина.
Потом Мила уставился на табличку возле окна.
— Пан Яначек обратил внимание на нашу табличку, — обрадовался пан Копферкингель, а по радио между тем зазвучали куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно. — Вы и не догадываетесь, что эта табличка означает! Это, пан Яначек, можно сказать, расписание поездов смерти. Вот вы интересуетесь электричеством, машинами, физикой, за всем этим будущее, миром овладеет автоматика… Я тоже очень люблю всякие автоматы и механизмы, хотя не распространяюсь об этом. Возможно, что и это расписание смерти удастся довести до полного автоматизма, — Копферкингель встал и снял со стены табличку. — Тогда все пойдет еще лучше и быстрее. На первый взгляд это кажется сложным, но на самом деле здесь никакой сложности нет. Вот эти цифры означают порядковые номера покойников, — показал он на столбец цифр, и на пальце его тускло блеснуло обручальное кольцо, — это время церемонии прощания, это первая и вторая печь, а вот это — время кремации, включая и ожидание на запасном пути. Будь у нас не две, а три печи, запасной путь был бы не нужен, все отправлялись бы в печь сразу… — И Копферкингель вернул табличку на место.
— Кремация, дети, предпочтительнее, чем погребение в земле. Автоматика и механизация помогают быстрее обратить человека в прах. Помогают Богу, а главное — самому человеку. Смерть избавляет людей от боли страданий, рушит стену, которая окружает нас всю жизнь и сужает наш кругозор. Кремации, дорогие дети, бояться не стоит. — Пан Копферкингель улыбнулся и добавил, показав рукой на радио: — Это кончаются куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно.
— А бывало, чтобы человек ожил в гробу? — спросил Мила.
Ленка с Лалой и Войтик засмеялись, а Ян Беттельхайм с серьезным видом продолжал слушать радио, откуда сейчас звучал сладчайший дуэт сопрано и тенора из последнего действия «Дона Паскуале» Доницетти. Пан Копферкингель, явно польщенный вниманием юноши, ответил:
— Что вы, пан Яначек, такого в моей практике не случалось. Никто не ожил: ни пани Струнная, которая в гробу казалась спящей, ни барышня Чарская, которой было всего тридцать лет и которая собиралась замуж…
— И все-таки люди иногда оживают, — настаивал Мила. — Я читал!
— И я тоже, — вмешалась толстушка Лала.
— Да, иногда такое бывало, — согласился Копферкингель, — но только когда мертвец на самом деле не умер. За всю историю лишь двое и впрямь воскресли из мертвых: дочь Иаира и Лазарь. Но это было исключение, чудо, да и то оба они ожили не в гробу, дочь Иаира лежала дома, а Лазарь — в пещере, обернутый полотном. И уж никак не ожить тому, кто провел час с четвертью в печи и чей прах был ссыпан в урну. — Пан Копферкингель отпил кофе. — Кремация с гарантией избавляет человека от страха ожить после смерти, если кто-то верит, что это возможно и сегодня. Впрочем, дорогие дети, бояться нечего — теперь мертвые не оживают. Кого зарегистрируют мертвым, тот мертвый и есть. Современная наука не ошибается… Это дуэт из «Дона Паскуале» Доницетти, — улыбнулся Копферкингель Яну Беттельхайму, который все это время, казалось, слушал музыку.
— А может в крематории случиться так, что смешается вместе пепел двух покойников? — спросил невпопад Ян, и Копферкингель, польщенный его вниманием, покачал головой.
— Это исключено, — сказал он. — Совершенно исключено. Такое могло происходить в средневековье, когда совершались массовые сожжения еретиков на кострах. А в крематории каждого сжигают отдельно, причем горячим воздухом: ни тело, ни гроб не должны соприкасаться с открытым огнем. на то есть даже закон… Впрочем, если бы пепел двух покойников и смешался, беды бы не было. Прах человека всегда одинаков, будь это премьер-министр или официант, нищий или хоть директор крематория. И неважно, какое у кого происхождение, есть в тебе, предположим, капля немецкой крови или нет, такие вещи здесь не в счет, — пан Копферкингель улыбнулся. — Все мы произошли из праха и в прах же вернемся.
Тут у стола появилась кошка, и Копферкингель добавил:
— В некоторых странах сжигают и трупы животных. Там закон защищает не только людей, но и зверей. Звери — наши братья, и мы не вправе причинять им боль. Тем, кто поймет их грустные, тоскующие души, не страшны даже самые свирепые хищники… даже леопард… — И Копферкингель посмотрел на Лакме и ее кружевной воротничок, который красиво белел на темном платье. — В нашей замечательной книге о Тибете есть одно замечательное место. Рассказ о юноше, который повстречался в джунглях с леопардом. Вечером, когда было темно, он лег спать в кустах, а утром, проснувшись, увидел в двух шагах от себя леопарда. Посмотрели они друг на друга — и леопард не тронул человека. Позднее этот юноша стал монахом и в конце концов далай-ламой. Главное — иметь чистое сердце, братская душа зверя это чувствует. Ступай, ненаглядная, — погладил он кошку, — мы позовем тебя, когда начнем фотографироваться. Пусть будет запечатлен и твой нынешний облик, который ты после уже не вспомнишь…
Потом Копферкингель сказал:
— Сейчас передают арию из «Нормы» Беллини, поет известная итальянская певица… Посмотрим, что еще мы не читали в газете… наверняка что-то найдется, ведь после Судет мы живем словно в военном лагере. — И он потянулся за газетой. — А-а, вот! «Ученые о сиамских близнецах. У каждой из двух девочек, которые срослись вместе, была своя голова с шеей, свои верхние конечности и своя грудная клетка с соответствующими внутренними органами, но при этом у них был один живот и одна пара ног. Они имели два отдельных позвоночника, а следовательно, две нервных системы, а также два мозга. Психическая жизнь каждой из девочек была самостоятельной. Обе засыпали и просыпались независимо друг от друга. Так это двухголовое существо жило целый год». Подумай, Ян, — Копферкингель обернулся с улыбкой к молодому Беттельхайму, — если это двухголовое существо кремировали, то пепел обеих девочек смешался — и ничего. Да и как тут было делить пепел? Вообрази, Зинушка, — шутливо подмигнул он дочери, — что у тебя было бы две головы и ты могла бы одновременно делать два дела, думать за двоих, чувствовать за двоих… ведь это значит прожить на земле два срока. Воистину благословенная участь! Что ж, дорогие дети, давайте выпьем еще раз по рюмке. Несравненная, налей, пожалуйста, девочкам и мальчикам; Яну и Мили, наверное, не надо — они не пьют, они еще очень молоды… Как красива эта ария из «Нормы»!
Пан Копферкингель отпил кофе, посмотрел на полупустые блюда с бутербродами, пирожными и миндалем и сказал:
— Ну вот, вы немного поели, немного насытились… так, может быть, пан Яначек, вы нас сфотографируете?
Все сгрудились вместе, пан Копферкингель взял на колени кошку и сел с Лакме посередине, рядом с ними встали Зина и Мили, остальные выстроились сзади. Мила в шутку погрозил им пальцем, велел всем замереть и под звуки божественной «Нормы» сделал снимок.
— Фотография, — сказал Копферкингель, когда он закончил, — как бы консервирует настоящее для вечности. У нас в крематории тоже фотографируют, только при этом не говорят «замрите!» — ведь снимают покойников в гробу…
Пан Копферкингель попридержал у себя на коленях кошку, и Мила сделал еще один снимок, на сей раз семейный, с Лакме, Зиной и Миливоем. Но пальцем он больше не грозил и замереть не просил.
— Люди любят помещать в семейных альбомах фотографии похорон, так же как и фотографии свадеб, — сказал Копферкингель после второго снимка. — Это две самые торжественные церемонии в жизни, которые хочется запомнить навсегда.
Потом сын бедняги Прахаржа вызвался сменить Милу у аппарата, чтобы он смог сфотографироваться с остальными. Пан Копферкингель кивнул и опять взял на колени кошку, усадил подле себя Лакме, а молодежь встала сзади.
— Теперь вы вдвоем с Зиной, — улыбнулся Копферкингель Миле, — а я буду снимать, только вы, пан Яначек, подготовьте аппарат.
Мила подготовил аппарат, и пан Копферкингель сделал снимок. Ария из «Нормы» закончилась, и в столовой наступила тишина.
— Даст Бог, фотографии получатся удачные, — улыбнулся пан Копферкингель, — и будет у нас память на всю жизнь. Спрячьте аппарат, пан Яначек, не то еще сломается!
— Я вот что хотела спросить… — сказала толстушка Лала, смущенно отводя глаза. Пан Копферкингель ласково кивнул ей, и Лала осмелела: — Зачем надо бальзамировать трупы, как, например, было принято в Древнем Египте?
— Это, барышня Лала, долго объяснять. — Копферкингель махнул рукой. — Я-то считаю, что бальзамировать противоестественно. Из-за этого человек не сможет вернуться в прах, из которого он вышел, разве только через тысячелетия. Бальзамировать следует только святых или выдающихся деятелей, которым уже ни к чему возвращаться в прах. В Египте бальзамировали фараонов, позже бальзамировали Спасителя… в наши дни может быть забальзамирован далай-лама в Тибете. но бальзамировать какую-нибудь пани Струнную или барышню Чарскую просто грех.
Копферкингель повернулся к Зине и сказал:
— Ну, а сейчас по случаю своего семнадцатилетия и в честь своих милых гостей ты могла бы сыграть нам на пианино. Барышня Лала наверняка любит музыку, пан Яначек тоже… — Оба кивнули, и Копферкингель заметил: — Тонкие натуры не могут не любить музыку. Это так естественно! Порадуй же нас, золотко. Может быть, ты сыграешь «Песни об умерших детях» Малера?
Все перешли в гостиную, где стояло пианино, Зина заиграла польку, и пан Копферкингель вспомнил, что он и Мили идут в среду вместе с Вилли на бокс.
8
В зале их места оказались почти рядом с рингом. Зрители все прибывали, рассаживались, жевали эскимо, пили пиво из кружек или прямо из бутылок — здесь это было в порядке вещей… Собралось много людей, старых и молодых, мужчин и женщин, причем женщин пришло больше, чем можно было ожидать. Пан Копферкингель заметил в первом ряду пожилую женщину в очках, которая тянула пиво из кружки, а чуть поодаль — розовощекую девушку в черном платье, пришедшую с молодым человеком. Оглянувшись, он заметил у входа жгучую брюнетку, чей профиль и грудь ему показались знакомыми. Смех, манера поводить плечами, ярко накрашенные губы — все в ней выдавало проститутку.
— Видишь тетю? — сказал он Мили и полез в карман. — Не ту черную у дверей, которая дергает плечами, а ту, что в проходе продает эскимо. Беги, купи себе и попроси программку.
Но Вилли опередил друга и первым протянул мальчику деньги — сегодня угощал он.
— У этой чернявой, которая у дверей, профиль и грудь точь-в-точь как у одной моей знакомой, — сказал Копферкингель Вилли, когда Мили пошел за эскимо и программкой. — У проститутки по прозвищу Малышка… Кажется, это она и есть. Знаешь, моя драгоценная едва не забыла отдать мне твое приглашение на бокс. Сунула его в буфет к блюдечкам.
— В буфет к блюдечкам! — засмеялся Вилли, не сводя глаз с ринга. — Нет, вам непременно надо было посмотреть этот спорт настоящих мужчин. Спорт настоящих мужчин того стоит. В конце концов, мы же не кисейные барышни, мы старые солдаты, а время пришло боевое. Погляди, сколько тут народу! И женщин много…
— Некоторые женщины любят бокс, — улыбнулся Копферкингель, — и я рад за них. Если их это развлекает — ради Бога! Это все же лучше, чем пить вино и курить или даже быть морфинистом… Но лично мне бокс всегда казался слишком грубым… — И он с улыбкой покачал головой.
— Грубым? — отозвался Вилли. — Скорее жестким. И это хорошо. Время пришло боевое, оно требует сильных, стопроцентных мужчин. Слабаки не отстоят правду и счастье человечества, это я тебе как-то говорил, и тут ты, надеюсь, спорить не станешь. Да так оно, собственно, было всегда, мы-то с тобой это помним по фронту, где мы защищали честь немецкой нации. Нередко слабость скрывает в себе больше зла, чем сила. — И он вперился взглядом в Мили, который возвращался с эскимо.
— А где программа? — спросил его Копферкингель, а когда в ответ он только ойкнул, сказал: — Беги купи, надо же знать, кто сегодня боксирует. — И Мили опять ушел. — Ему временами приходится повторять дважды, — улыбнулся пан Копферкингель и посмотрел туда, где стояла девица, похожая на проститутку по прозвищу Малышка. Там наступило непонятное оживление: люди заволновались, повскакивали с мест, но что их взбудоражило, видно не было. — У дверей непонятное оживление, — констатировал Копферкингель, — люди волнуются, даже с мест вскакивают… Так, говоришь, жесткий? Но тогда это тем более не для молодежи! Это может быть спортом для солдат или там полицейских, но не для таких вот мальчишек. Тут ведь, кажется, молодежный клуб?
— Именно молодежь, — сказал Вилли, — и обязана быть сильной. Даже чехи это понимают, видишь? — Он кивнул на переполненный зал и помахал Мили, который наконец принес программку. — Ну вот, программа у тебя есть, можешь садиться: сейчас начнется.
Пан Копферкингель взглянул на пожилую женщину в очках в первом ряду и на розовощекую девушку в черном чуть дальше, потом обернулся к дверям, где все так же стояла живая копия Малышки, а наступившее там оживление постепенно передавалось и зрителям впереди. Причиной его, как теперь стало ясно, были двое, которые никак не могли отыскать свои места.
Раздался удар гонга, ринг залил сноп света, и публика зашумела.
— Смотри в оба, Мили, и ничего не бойся, — сказал Вилли, — бояться стыдно. Страх — злейший враг человечества. Да-да, уверяю тебя… — улыбнулся он Копферкингелю, а вокруг них все головы повернулись к двум опоздавшим, которые наконец нашли свои места — и оказались прямо перед Вилли. Тут на ринг вышли два подростка.
— Бокс — это боевой спорт, der Kampfsport, — тихо сказал Вилли по-немецки — так, чтобы никто не слышал. — И он не только для сильных и ловких, он как раз для тех мальчишек, которым не хватает веры в себя и смелости. Борьба мужчины с мужчиной учит оценивать свои силы и отражать удары врага. Нападение и защита — главное в боксе.
Вдруг мелко задрожали канаты, которыми был опоясан ринг: между ними пролезал толстый коротышка судья в белом крахмальном воротничке с красной «бабочкой», носком ботинка он задел за канат, и зал взорвался хохотом. Пан Копферкингель обратил внимание на пришедших последними и севших перед Вилли мужчину и женщину.
— Так и ногу сломать недолго, — сказала женщина.
Рассерженный карлик-судья выпутался из канатов, поправил крахмальный воротничок и галстук-бабочку, вышел в центр ринга и резким движением руки подозвал боксеров.
— Сейчас потечет кровь? — заволновался Мили.
— Может быть, — пожал плечами Вилли. — Это боевой спорт, а в бою нередко льется кровь: на войне как на войне. Но вообще в боксе стараются до этого не допускать. Жестокие удары запрещены, во всяком случае, у нас. В гитлерюгенде боксу учат даже детей — и притом только прямым ударам, хуки справа и слева не позволяются…
— Как бы они не выбили друг другу зубы, — сказала женщина, сидящая перед Вилли, когда судья раскинул руки, посылая боксеров в разные углы ринга. Пан Копферкингель пристальнее пригляделся к соседке. В руке она держала программку, на голове у нее была шляпка с пером, а на шее нитка бус. Ее спутник был низенький и толстый, у него на коленях лежал котелок, а рядом с креслом стояла трость.
Начался поединок. Мили смотрел испуганно.
— Это еще что! — сказал Вилли. — Пока не было ни одного стоящего удара.
Тут наконец последовало несколько стоящих ударов, но зазвучал гонг.
Бой кончился вничью. Толстый судья в крахмальном воротничке с «бабочкой» сердито вскинул руки и затопал ногами.
— Похоже на танец, — сказала женщина с пером. — Сюда бы еще музыку!
— На черта музыку? — буркнул ее сосед-толстяк, ткнув женщину в бок. — Здесь не кабак, здесь бокс!
Раздался гонг, и на ринг вышла следующая пара. Судья топнул ногой, взмахнул рукой, и бой начался. Удары были сильными, резкими, и Мили еще больше перепугался.
— Этому надо учиться, — сказал Вилли, — а иначе ничего не добьешься. Надо освоить правильные удары и научиться держать оборону. Не знаю, как в здешнем молодежном клубе, а в гитлерюгенде принято индивидуальное обучение. — И он тихо повторил эти же слова по-немецки.
Боксеры на ринге обхватили друг друга руками, и толстый судья вклинился между ними, пытаясь развести их в разные стороны.
— Как бы они его не побили, — сказала женщина с пером.
— С чего бы это им его бить? — проворчал толстяк, ткнув ее в бок. — Ты же не в кино, ты на боксе, и здесь не бьют, а боксируют!
Поединок становился все ожесточеннее, подростки обменивались ударами, судья прыгал вокруг них, зал гудел и свистел, пожилая женщина в очках отхлебнула пива, а розовощекая девушка в черном платье обернулась к своему молодому спутнику. Но тут судья вновь начал разгонять боксеров по разным углам.
— Почему у него нет перчаток? — спросила женщина с пером.
— Это же судья, — зашипел толстяк, — он не боксирует. Ты лучше смотри на этих, в трусах.
Потом один из боксеров зажал своего соперника в углу ринга, прозвучал гонг, и бой кончился. Судья подскочил к победителю, вскинул вверх его руку, и зал радостно зашумел.
— Он выиграл потому, — сказал Вилли, — что правильно защищался. Если бы ты тоже научился так защищаться, — обратился он к Мили, — то тебе никто не посмел бы угрожать. И если бы на тебя кто-нибудь напал, ты бы дал отпор.
Судья навалился животом на канаты и принялся махать кому-то, наверное, следующей паре боксеров.
— Как бы он не упал, — сказала женщина с пером.
— С чего бы это? — обрушился на нее толстяк. — С чего бы это ему падать? Он зовет боксеров, он — судья. И вообще, хватит трепаться!
На ринг вышла третья пара. Вилли заглянул в программку:
— Вон тот, в красных трусах, работает подручным у мясника.
— Он же мясник, — взвизгнула женщина с пером, тыча пальцем в программку. — Сейчас прольется кровь!
— Заткнись, — ткнул ее в бок толстяк. — С чего это ей проливаться? Ты не на бойне, ты на боксе. Молчи и смотри, а не то…
Прозвучал гонг, судья топнул ногой, и начался третий поединок. Он сразу пошел в быстром темпе, и Мили едва не обезумел от ужаса.
— Не бойся, — смеялся Вилли, — видишь, какой удар, der Stoss, — добавил он по-немецки. — Если бы ты тоже так умел, то был бы непобедимым.
Тут подручный мясника после очередного удара противника повис на канатах. «Это был крюк, der Haken», — сказал Вилли. Зал загудел и засвистел, пожилая женщина в очках глотнула пива, розовощекая девушка в черном отвернулась от ринга, толстый судья раздраженно притопывал и махал руками, так что его галстук-бабочка подпрыгивал, а толстяк толкал женщину с пером в бок и шипел:
— Ты что, ненормальная?! Ты что делаешь? Ты куда смотришь?
— Почему тот, который с «бабочкой», не дает сдачи? — верещала женщина, нервно вертя головой. — Этак его кондрашка хватит. Он же ловит бабочек, почему у него нет зеленого сачка?
— Прекрати, — гневно буркнул толстяк, стукнув тростью об пол, — какие бабочки, какой зеленый сачок, я же тебе сказал, что он судья, а не боксер!
А на ринге события развивались стремительно, все вертелось колесом, с обеих сторон сыпались удары… толстый судья в белом крахмальном воротничке с красной «бабочкой» метался между противниками, подскакивал, пританцовывал, размахивал руками, и вдруг…
…и вдруг один из боксеров пригнулся, напрягся, выбросил вперед перчатку… и судья, подобно бабочке, взлетел на метр от пола и во весь рост растянулся на ринге… а боксер опять кинулся вперед, и вот уже подручный мясника тоже лежит на полу… Зал рассмеялся, кое-кто вскочил, а пожилая женщина в очках подбросила вверх опустевшую пивную кружку…
— Он умер, — истошно закричал Мили, трясясь, как овечий хвост.
— Разве? — улыбнулся Вилли. — Что ж, может, и так.
— Зачем же ты врал, что он не боксер? — вопила женщина с пером. — Зачем ты врал, будто он судья?! Ведь он взлетел и упал! Ты же говорил, что тут бокс и крови не будет! — Она толкнула толстяка в спину. — Ты сказал, что мы идем на бокс, почему же тут говорят по-немецки?..
Толстяк схватил ее за плечи и начал трясти, да так, что перо на шляпке заходило ходуном, а бусы громко зазвенели.
— Это нечаянно, — кричал толстяк, — он просто попал под горячую руку, и некому тут говорить по-немецки, ты же не в рейхе, ты в Праге…
— Ерунда, — смеялся Вилли, — ему не повезло, вот и все. Бокс — это красиво, это der Kampfsport, — добавил он по-немецки. — Он закаляет тело и дух и развивает реакцию, внимание и смелость. Недаром фюрер считает бокс лучшим видом спорта.
Тем временем судья поднялся на ноги, подпрыгнул несколько раз, желая показать, что ничего особенного не произошло, — а сам так и кипел от возмущения, грыз ногти, встряхивал головой; подручный мясника тоже было встал, но тут же снова упал. Публика вскочила с мест, некоторые кинулись к рингу, женщина с пером ударила толстяка по спине, воскликнула: «А ты говорил, мы в Праге!» — и побежала к выходу. Толстяк в котелке и с тростью погнался за ней, толкнул в плечо, она вскрикнула, и публика засмеялась, подначивая толстяка, который беспрестанно повторял: «Она сумасшедшая, она впервые на боксе, никуда я с ней больше не пойду, вот всегда она так, в психушке ее место, вот где!»
У дверей образовался людской водоворот, там теснились и пожилая женщина в очках и с пустой кружкой, и красивая розовощекая девушка в черном, и ее молодой сосед, и проститутка Малышка — она поводила плечами, смеялась и размахивала чьими-то разорванными бусами. Пан Копферкингель улыбнулся ей, а она состроила в ответ забавную гримаску. Неподалеку от нее какой-то мужчина раздавал всем желающим листовки; Копферкингель не сумел протолкаться поближе, зато Вилли одну такую бумажку взял. Ну, а потом они выбрались на вечернюю улицу. Под фонарем в окружении кучки зевак стоял толстяк, его трость была прислонена к стене, и он вытирал носовым платком подкладку котелка.
— Пойдем-ка, — поторопил пан Копферкингель Мили, который явно хотел о чем-то спросить, — у него сбежала жена, наверное, ее что-нибудь встревожило, но врач ей обязательно поможет, а нам уже пора… — И они неторопливо зашагали по тротуару.
— Итак, мы видели мужской спорт, — улыбнулся Вилли своему другу Копферкингелю и его сыну, а потом, взглянув на листовку, добавил: — Гляди-ка, Мили, это приглашение в спортивную секцию молодежного клуба… возьми, тебе это может пригодиться!
Они завернули за угол, и Вилли продолжил:
— Итак, мы видели мужской спорт и замечательную чешскую молодежь. Надеюсь, вы остались довольны… Ну, а что ты думаешь по поводу Судет? — спросил он у Копферкингеля. — Ведь мы с тобой так и не успели толком обсудить последние события. Это была трудная работа, но, к счастью, она увенчалась успехом. Наконец-то Судеты вздохнут свободно. — Он слегка понизил голос, потому что мимо как раз проходила шумная компания. — Там одержали победу арийское право и справедливость. Иначе и быть не могло, потому что Гитлер никогда не проигрывает. Наше будущее — у него в руках, и это залог успеха!
— В жизни все так неопределенно, — покачал головой Копферкингель, — и будущее всегда сокрыто от нас. Неизбежна одна только смерть.
— Не сомневайся, — по-прежнему улыбаясь, отозвался Вилли, — Гитлер обязательно добьется успеха, потому что сражается он ради высокой цели. Цель эта — спасение от голода и нищеты ста миллионов немцев и установление для них справедливых законов, под властью которых люди станут жить как в раю. Страх и муки сгинут навсегда…
— Но это возможно разве что после смерти, — отмахнулся пан Копферкингель. — То есть после обретения человеком вечной жизни. А вечная жизнь доступна лишь фараонам, святым, далай-ламам… Мы же можем только облегчать муки. Люди суть прах — и в прах же обратятся… — Он улыбнулся какой-то женщине. — Слушай, ты заметил в зале красивую розовощекую девушку?
— Но я и говорю о вечной жизни, — резко перебил его Вилли, — о вечной жизни для нашего народа! О немецкой расе, призванной спасти человечество и установить новый порядок. Сегодня решается судьба Европы, а это никого не может оставить равнодушным. — И Вилли обернулся, отыскивая глазами Мили, все еще сжимавшего в кулаке приглашение в клуб.
— Мили, — оглянулся в свою очередь пан Копферкингель, а потом спросил, усмехнувшись: — Значит, мы с тобой тоже решаем судьбы Европы?
— Безусловно, — обиженно отозвался Вилли, — впрочем, за тебя я не ручаюсь. Твоя капля немецкой крови молчит. Ты равнодушен. Мы воюем, — подчеркнул он, — а трусы — нет. Человек легко поддается страху и забывает о своем долге. Погоди, — остановил он Копферкингеля, заметив, что тот собирается возразить. — Я имею в виду другой долг, долг совести. Такому человеку безразличны беды народа… Бросить нищенке раз в неделю мелкую монету — это нетрудно. Сунуть грязному попрошайке какую-нибудь ерунду может каждый, даже уличная девка. — Он покосился на Мили. — Но вот бороться за счастье миллионов — это дело другое! Ликвидировать безработицу и нищету, в пучину которых ввергли твой народ враги рейха, очистить мир от всяческих паразитов, отвоевать для немецкой нации жизненное пространство — вот как я понимаю наш долг, Карл!
— Жизненное пространство, — протянул Копферкингель. — Послушай, Вилли, я расскажу тебе кое-что о гробах. Когда гроб закрывают крышкой, покойнику не должно быть под ней тесно. У хорошего гробовщика крышка ни в коем случае не задевает лицо и грудь мертвеца. Лучшими считаются те гробы, в которых могут поместиться два человека. Гроб должен быть просторным, и это единственное жизненное пространство, по-настоящему важное для людей.
Они вышли на перекресток, где ездили машины и трамваи, и Вилли оглянулся и подозвал Мили.
— Как бы все это не обернулось адом, — сказал Копферкингель, решивший, что Вильгельм обиделся. — Адом. И виноват будет только твой Гитлер…
— Но ведь он борется за счастье и справедливость стомиллионного народа! — строго заметил Вилли. — За его бессмертие. За новую Европу. Да, — кивнул он, — это может обернуться адом. Адом для тех, кто мешает нам, то есть для наших врагов. Ну, а для законопослушных граждан никакого ада не будет.
Перед ними мчались автомобили и трамваи, причем автомобили были только цветными — ни одного зеленого или ангельски-белого! Рейнке посмотрел на бледного Мили:
— По-моему, бокс не даст тебе сегодня заснуть. Впрочем, ничего удивительного — ведь ты видел его впервые. Скоро ты привыкнешь и даже сможешь стать таким же смелым, как этот подручный мясника… Ну вот вы и дома.
Они остановились перед подъездом, возле которого висела табличка «Доктор медицины Якуб Беттельхайм, кожные и венерические болезни». К тротуару жалось несколько цветных автомашин; одна из них принадлежала доктору Беттельхайму.
— А твоя машина сегодня где? — спросил пан Копферкингель.
— У Эрны, — ответил Вилли, — я поеду домой на такси.
9
— Ах, Рождество, Рождество, — улыбнулся пан Копферкингель Лакме, протиравшей в столовой сиденья стульев, и любовно посмотрел на огромную нарядную елку. — Все у нас с тобой замечательно! Клиенты идут толпами, и каждый мечтает о печи и пепле. Кстати, подарки обоим нашим солнышкам (Копферкингель имел в виду детей) я купил на деньги, заработанные паном Штраусом. Он оказался весьма усердным и добросовестным человеком… где-то он проведет нынешний вечер? Ты же знаешь, ему пришлось уйти с прежнего места службы. — Копферкингель посмотрел на стену, где над шкафом висела фотография, запечатлевшая Зинин день рождения. — Жена Штрауса умерла от чахотки, сын — от скарлатины… а я вчера нашел еще одного агента. — И он опять улыбнулся Лакме, которая продолжала протирать стулья. — Ты спрашиваешь, кто он? Хороший честный человек по фамилии Рубинштейн. Он, наверное, еврей, ведь Рубинштейны — это еврейская фамилия. Раньше он торговал постельным бельем в магазине Либы, но недавно тот разорился. Теперь немного охотников покупать постельное белье. Пан Рубинштейн предлагал посетителям простыни и наволочки, а сейчас станет уговаривать людей кремироваться. Здесь есть нечто общее: ведь и в гробу человек лежит не на голых досках. Пан Рубинштейн любит музыку, особенно сочинения Моцарта и Фримля… Однако кое-что меня все же беспокоит… — Копферкингель ласково погладил Лакме по голове. — Пан Рубинштейн разведен. Зря он так. Лучше бы ему быть вдовцом, подобно пану Штраусу или пану Голому… ну да ладно. В конце концов, это его дело, и нам не пристало ни обсуждать, ни осуждать его. Ведь не каждая семья так счастлива, как наша, возлюбленная моя. — Копферкингель вздохнул и подошел к елке. — Как жаль, что мы никогда больше не увидим твоей бедной матери. Ее дух мог бы объявиться здесь нынче вечером, когда я стану зажигать рождественские свечи. Зато в пять часов появится Вилли…
— Ты говоришь так, будто он призрак, — засмеялась Лакме. — А Эрна тоже придет?
— Нет, — сказал пан Копферкингель, — Эрна слишком занята. У них сегодня будут гости, немцы из пражского отделения Судетской партии. Так что Вилли заглянет всего на несколько минут. У него ко мне какой-то разговор. Наверное, хочет сообщить, что я трус и выродок, потому что не слышу зова крови и не выполняю свой долг. А может, сегодня, в Сочельник, он не станет огорчать нас и просто поздравит с праздником. Ну что ж, пускай приходит, в буфете для него припасены печенье и миндаль… Слышишь, дверь открывается? Наверное, дети вернулись.
Действительно, в прихожей торопливо разувались Зина и Мили, а на полу стояла большая хозяйственная сумка, в которой что-то шевелилось.
— Они такие огромные, — воскликнул Мили. — Просто великаны! Но она купила двух маленьких, — и он кивнул на Зину.
— Пани Анежка тоже купила двух маленьких, — сказала Зина, — два маленьких лучше одного большого, глупыш ты этакий…
— Быстрее, дорогие мои, быстрее, надо немедленно напустить полную ванну воды, — сказал Копферкингель, глядя на сумку. — Они открывают рты и глотают воздух… а к вечеру Анежка убьет их.
Дети побежали в ванную; пан Копферкингель извлек из сумки двух карпов, осторожно опустил их на белое дно красивой ванны и повернул кран. Потом он выпрямился и склонил голову, как если бы перед ним был катафалк… а рядом стояли Мили и Зина, наблюдавшие за тем, как вода заполнила ванну и оживила рыб, пустившихся по ней в недалекое плавание.
— Ну вот, мои милые, — Копферкингель поднял голову и посмотрел на вентиляционную решетку с привязанным к ней шнурком и на желтую бабочку на кафеле стены, — с карпами все в порядке. Они уже в своей стихии, и мы можем покинуть нашу любимую ванную комнату.
— А почему их будет убивать Анежка? — спросил Мили и тоже посмотрел па вентилятор. — Разве ты сам не можешь?
— С чего ты взял? — ласково улыбнулся Копферкингель. — Конечно, могу. Но я не люблю этого делать, а у пани Анежки есть опыт, она помогает нам уже много лет. И потом, это прекрасный повод подарить ей что-нибудь на Рождество. У нее такая добрая душа.
Под вечер пришла пани Анежка.
Копферкингель услышал, как она разговаривает в прихожей с Лакме.
Он вышел к ним, поздоровался и крикнул в сторону кухни:
— Солнышки мои, проходите в столовую, пани Анежка уже здесь. — А про себя подумал: «Я сообщаю им о приходе палача».
— Побудьте пока в столовой, — сказал он Мили и Зине. — Вам это видеть ни к чему. Тут тебе не бокс, — повернулся он к Мили. — А где наша пушистая Розана?
— В кухне, — ответил Мили.
Пан Копферкингель посмотрел на семейную фотографию. Он сидел в центре, рядом с Лакме, и держал на коленях кошку, а по бокам стояли Зина и Мили. Потом он перевел глаза на торшер, на стул под ним и взялся за газету.
— «Разыскивается девятилетний мальчик, который ушел из дому три дня назад и до сих пор не вернулся. Родители и полиция предпринимают…» — Мили потупился, пан Копферкингель невольно улыбнулся и выглянул в коридор, так как заскрипела кухонная дверь.
— Карпы уже в кухне, — сообщил он детям, — на столе приготовлено место, и пани Анежка сейчас возьмется за молоток и нож…
Из кухни донесся глухой удар.
— Один мертв, — кивнул пан Копферкингель и посмотрел на висевший у окна график смерти, — интересно знать, который? Меньший или больший? Окружавшая его стена пала, и бедная душа оказалась на воле.
И он опять раскрыл газету:
— «Голод толкнул женщину на самоубийство. Сегодня в восемь часов утра полиция обнаружила на вилле доктора С…» — Пан Копферкингель дочитал заметку до конца и бросил быстрый взгляд на Зину, поправлявшую у зеркала прическу.
Тут из кухни опять послышался негромкий удар, и пан Копферкингель кивнул.
— Второй тоже умер, — констатировал он, поглядев на табличку возле окна. — Стена пала, а свободная душа воспарила ввысь. Теперь, Мили, ты получишь обе эти души и станешь весело играть с ними. Впрочем, мы отлично понимаем, что это только рыбьи воздушные пузыри, а истинные души карпов наверняка уже подыскали себе новые тела. Например, вселились в каких-нибудь кошек. Вообще-то рыбы — это наши младшие братья, и мы не должны были бы убивать и есть их, потому что это жестоко. И все же ваша добрая мать вот-вот положит их на сковороду, чтобы зажарить. — Пан Копферкингель взял в руки «Закон о кремации». — В семь часов они украсят собой наш праздничный стол. Так заведено Богом, и, значит, иначе нельзя. Лакомясь в Сочельник вкусными карпами, мы тем самым приближаем их новое рождение. Спаситель тоже ел их. — Копферкингель аккуратно поставил на место «Закон о кремации». — Мало того, он ел даже агнцев…
И отец семейства обнял детей за плечи.
— Ну, дорогие мои, пришло время подарить пани Анежке наш замечательный красный фартук.
Не успела еще закрыться дверь за благодарной пани Анежкой, как в прихожей появился Вилли. Он поздоровался с Лакме и детьми, снял пальто, сдул пылинку с лацкана элегантного пиджака и вошел в столовую.
На столе его уже ждала бутылка вина.
— Какая красивая елка, — сказал Вилли, — а карп у вас тоже есть?
— Целых два, — улыбнулся пан Копферкингель, — и они сейчас жарятся на нашей маленькой удобной плите. А вот ее покойная мать, — он подразумевал тещу, — никогда не жарила карпов. Она любила заливную рыбу — говорила, что знает какой-то заграничный рецепт. Ну, а мы готовим их по-чешски. Ты, наверное, пришел сообщить мне, что я выродок и трус…
— Я никогда не произносил ничего подобного, — Рейнке быстро отошел от елки, — я говорил только, что ты не прислушиваешься к голосу немецкой крови и не борешься вместе с нами за счастье и справедливость. Сила и правда — на нашей стороне, — он засмеялся и плеснул в рюмку немного вина, — и я уже сказал тебе, что борьба за светлое будущее никогда не обернется адом для таких, как мы. Неужели тебе нравится насилие? Неужели ты любишь тех, кто виноват в нашей нищете? Может, ты жалеешь их? Хочешь, чтобы они продолжали грабить нас? Превращали нас в попрошаек? Ты когда-нибудь видел, как отворяют кровь? — Он помолчал и продолжил: — Вот здесь, на руке, делается маленький надрез, к которому прикладывают пиявку, в средние века так лечили чуму… Я знаю, — он глотнул вина, — я уверен, что ты не любишь насилие. Ты любишь мир и хочешь всеобщей справедливости. Ладно, — он побарабанил пальцами по столу, — я вынужден, наконец, открыть тебе глаза. Я всегда подозревал, что ты не любишь войну, потому что не позабыл ее ужасов… Ведь тебя трогают даже страдания лошадей… Так вот, нынешняя чешская республика является огромным гробом повапленным. Это источник новой мировой войны. Это бастион наших врагов.
— Я с тобой не согласен, — возразил Копферкингель, — это гуманное государство, и в нем действуют хорошие законы…
— Законы о кремации, — перебил его Вилли, — но у нас в Германии тоже есть такие. Они есть в любой стране, за исключением, пожалуй, Ватикана, который вообще не признает кремацию. Но почему же это твое замечательное государство не позволило нам, немцам, создать свою республику? Почему в Судетах было запрещено посылать немецких детей в немецкие школы? Почему чешское государство допустило, чтобы в наших людей в пограничье стреляли? Что? — он взглянул на пытавшегося что-то возразить Копферкингеля. — Ты все еще сомневаешься? А как же быть со здешней нищетой? Ведь ты сам рассказывал мне, что часто встречаешь нищих. Мало того, здесь есть даже женщины, продающие на рынках дохлых кошек под видом кроликов… в рейхе подобное уже невозможно, хотя мы пока выполнили далеко не все наши планы. Голову даю на отсечение, что в Судетах не осталось ни одного нищего, несмотря на то, что фюрер освободил эти области совсем недавно. — Он глотнул вина. — Нет, Карл, пора расставлять точки над «i». Войны быть не должно. Насилие необходимо ликвидировать, причем ликвидировать повсеместно! Эта республика обречена, Карл. Польша и пальцем не шевельнет ради нее. Бек[2] кое-что выторговал себе у Геринга за ликвидацию республики, а Малая Антанта[3] дышит на ладан. Все кончено.
— Неужто дело и впрямь зашло так далеко? — недоверчиво покрутил головой пан Копферкингель.
— Гораздо дальше, чем ты думаешь, — резко сказал Вилли. — Эта республика — только один из неприятельских оплотов. У нас много врагов, и в свое время фюрер обязательно сочтется с ними. Мы, немцы, — усмехнулся Рейнке, — призваны навести порядок. Мы установили в Европе новый, счастливый и справедливый строй. — Вилли поднялся, прошелся по столовой и остановился у тумбочки.
— Мы — носители сильного, гордого духа, — сказал он, взглянув на семейное фото, в центре которого сидел пан Копферкингель с кошкой на коленях, — в наших жилах струится чистая арийская кровь. Кровь, являющаяся предметом гордости, кровь, которую нельзя получить вместе с образованием или купить за золото, потому что она — дар свыше… да-да, — Вилли многозначительно посмотрел на своего друга Копферкингеля, — дар свыше, который необходимо ценить.
Мы — носители светлой культуры, — продолжал он, не спуская глаз с таблички на шелковом шнурке, — и мы знаем, в чем смысл жизни. Мы понимаем в этом больше, чем любая другая нация, так как это понимание тоже ниспослано нам свыше. Оно ниспослано и тебе — ведь в твоих жилах течет немецкая кровь. Неужели ты считаешь, что принадлежность к немецкой нации может быть случайностью? Нет же, нет, это судьба!
Мы боремся за высшую общечеловеческую мораль, — сказал он и направился к елке, усеянной свечками, — за новый мировой порядок. И ты один из нас. Ты честный, тонко чувствующий, аккуратный, но главное, — Вилли обернулся, — главное — ты сильный и смелый. Истинная германская душа. Этого, mein lieber Karl, у тебя никто не отнимет. Даже ты сам. Потому что это предопределение. Это — твой дар. Ты избран… — и Вилли указал пальцем на потолок, подразумевая небо.
Пан Копферкингель сидел за столом, на котором стояла бутылка вина и недопитая рюмка, и смотрел на Вилли, стоявшего рядом с рождественской елочкой и еле заметно улыбавшегося. Друзья помолчали. Тут раздался стук в дверь, и вошла Лакме с вазочкой миндаля.
— Вилли сегодня не хочет миндаля, — сказал Копферкингель, — благодарю тебя, моя драгоценная. Мы скоро закончим.
Когда Лакме вышла, Вилли подсел к столу и с удовольствием допил свою рюмку. Копферкингель налил ему еще.
— Мне, пожалуй, пора, — вежливо отказался Вилли, — меня ждет Эрна. Мы встречаем Рождество в казино. В немецком казино на Розовой улице. Ты его наверняка знаешь — там еще три ступеньки перед входом и облицовка из белого мрамора. Ожидается довольно много народу. Фабриканты, депутаты парламента, университетские профессора — только избранные, разумеется… Я обязательно буду беседовать с герром Берманом, возглавляющим пражскую СНП. Поверь мне, Карл, что в целой Праге ты не отыщешь более роскошного заведения, чем наше казино. Это просто сказка! Какие там ковры, зеркала, картины, не говоря уж об умывальных и ванных комнатах. А какая еда, какая прислуга! У нас прекрасные официантки, буфетчицы и… девушки. Изумительные, умопомрачительные, такие, что дух захватывает. — Он улыбнулся. — Немки, конечно. Ведь казино могут посещать только немцы. Наши с тобой братья, Карл. Чехам туда вход заказан. Мы не потерпим в своем доме этих предателей и соглядатаев. Ну вот, а в январе я поеду в Вену и в Берлин. — Вилли встал. — Там меня уже ждет новая машина. Итак, Карл, — он протянул другу руку, — главное — это видеть цель. И думать о будущем. О лучшем будущем для наших детей. О радостной жизни для всего человечества. Мне кажется, тебя больше занимает Тибет, чем то, что творится под самым носом. — Он засмеялся. — Веселого тебе Рождества и всего наилучшего в наступающем году. Смотри-ка, у вас шторы не в порядке, — и он показал на карниз, откуда свисал вырвавшийся из зажима угол шторы. — Ну, пока. Впрочем, мне еще надо попрощаться с твоим семейством, — добавил он.
Около семи Лакме и Зина накрыли на стол. Обе выглядели очень нарядно: на Зине было черное шелковое платье, которое она получила ко дню рождения, а на Лакме — тоже темное и шелковое, но с белым кружевным воротничком. Пан Копферкингель не спеша зажег елочные свечи и включил радио. Потом все сели за стол.
— Я думала, — сказала Зина, — что мы зажжем свечи только тогда, когда будем дарить друг другу подарки.
— Лучше зажечь их сейчас, в начале ужина, — пояснил Копферкингель, — ведь они горят так редко, всего лишь раз в году. На катафалках и гробах свечи пылают гораздо чаще. Ну вот, теперь у нас самое настоящее Рождество, — он указал на приемник, откуда доносились колядки. — Сейчас нам с вами надо подумать о тех близких, которых нет с нами, а также о тех, с кем мы не можем найти общего языка. — Он улыбнулся кошке, вылизывавшей свое блюдечко. — Ах ты, наша красавица, наша Розана… Вот, например, тетушка из Слатинян, эта добрая душа, которая всегда готова прийти на помощь; будь она католичкой, она непременно стала бы после смерти святой. Нежные мои, — взглянул он на детей, — вам надо как-нибудь навестить ее, захватив с собой букет белоснежных лилий… И твоя покойная мать, дорогая моя Лакме, — улыбнулся он жене. — Ее заливной карп, приготовленный на чужеземный манер… может, она видит нас сейчас, может, она даже пришла сюда и стоит теперь у елки, на которой я зажигал свечи… а может, ее душа уже переселилась в другую оболочку. Мы не имеем права надеяться, что она достигла совершенства и никогда больше не перевоплотится, таких людей мало, исключительно мало, это египетские фараоны, святые, далай-ламы… — Копферкингель покосился в сторону книжного шкафа. — Что-то поделывает пан Мила Яначек? — обратился он к Зине. — Наверное, ужинает сейчас дома с родителями и думает о тебе, ведь он подарил тебе такой красивый подарок, да еще прибавил яркую открытку, это приятный юноша из хорошей семьи, он интересуется музыкой, физикой и техникой и достоин всяческого счастья. А еще надо непременно вспомнить о двух белокурых барышнях, Ленке и Лале, твоих, Зинушка, одноклассницах. А у Беттельхаймов, — пан Копферкингель устремил взгляд на Мили, — сегодня тоже праздничный ужин. Они всегда отмечают наше Рождество. Я ни разу не слышал, чтобы они праздновали еврейские праздники, хотя сам доктор происходит из древнего еврейско-венгерского рода. Наш милый старый филантроп! Как-то он пригласил меня в свой кабинет и немного рассказал о себе. — Копферкингель поглядел на свадебную процессию на стене. — Он говорил и о той старинной красивой картине, которая висит у него над столом. Там изображено похищение женщины графом Бетленом… — Копферкингель запрокинул голову и посмотрел на потолок, как будто надеясь увидеть там звездное небо. — А как поживают Прахаржи? — спросил он. — Я давно не встречаю ни самой бедняжки, ни ее сына Войты.
По радио звучала музыка; Копферкингель глядел то на рождественскую елку, то на кошку, тершуюся о его брюки…
— Бесценные мои, — опять заговорил он, — сегодня Сочельник, и Храм смерти закрыт. В нем пусто и голо. Там нет ни пана Дворжака, ни привратника Враны, который всю жизнь мучается печенью, ни даже несчастного Фенека с длинным ногтем на мизинце… он тоже встречает Сочельник дома… Что же касается пани Струнной и барышни Чарской… — он зачем-то прислушался к веселым рождественским колядкам, — если бы их похоронили в земле, то сегодня эти красавицы выглядели бы омерзительно. К счастью, их кремировали, поэтому прах давно находится в урнах, а души подыскали себе иные тела. В Храме смерти сейчас лежат и терпеливо дожидаются окончания праздников всего лишь двое усопших. Рождество нужно живым, а не мертвым, и печи сегодня не работают.
Между прочим, — улыбнулся он Мили, — по субботам они тоже холодные… Но вот в Сочельник крематорию надо бы работать, ведь это день Рождества, и кремаций в этот день должно быть как можно больше, чтобы больше душ освободилось, вознеслось в космические сферы и обрело новые тела. Вот разве что этим замечательным жареным карпам повезло, — добавил он.
Когда жареные карпы были съедены и тарелки убраны, пан Копферкингель положил перед собой газету — по радио как раз передавали «Пойдем мы вместе в Вифлеем» — и поставил на стол бутылку вина. Все чокнулись и выпили, однако сам отец семейства только слегка смочил губы.
— Символически, — объяснил он, — я ведь трезвенник. Но зато у меня чистая германская душа… Да-да, — подтвердил он, заметив удивленный взгляд Лакме, — так сказал Вилли. Избранный, отмеченный судьбой Вилли, — улыбнулся он своей рюмке, — который ужинает сегодня с Эрной в немецком казино на Розовой улице. Там еще дверь с тремя ступеньками перед входом и облицовка из белого мрамора… Вильгельм ужинает в изысканном обществе. Да, чуть не забыл, — обратился он к Лакме, которая слегка погрустнела, — в газете опять пишут о всяческих несчастьях. Например, о женщине, которая покончила с собой. — Он пробежал глазами небольшую заметку и стал читать ее вслух: — «Пятилетнюю девочку покусал цепной пес. Вчера во второй половине дня он сорвался с цепи, выскочил на улицу, где играли дети, и…» Смотри-ка, — удивился вдруг пан Копферкингель, — как же я его не заметил, это объявление? «Починка гардин и портьер («Иисус, Господь наш, мы будем качать тебя в колыбельке», — выводили по радио детские голоса), Йозефа Броучкова. Прага, Глоубетин, Катержинская, 7». Да, чтобы не забыть, — и он аккуратно сложил газету, — у нас что-то со шторой. Давай поправим ее, а потом уже займемся подарками. Наша квартира должна выглядеть безупречно.
Лакме встала и подошла к окну. Копферкингель со стулом в руках последовал за ней. Лакме взобралась на стул, приподнялась на цыпочки и поправила шторы и раздвигающий их шнур. («Хорошо», — одобрил ее действия Копферкингель, подергав за шнур.) Он помог Лакме спуститься, нежно обнял ее и провел рукой по белому кружевному воротничку.
— Ну вот, — сказал он, — а теперь пора приниматься за сладкое и за раздачу подарков. К сожалению, далеко не каждая семья может позволить себе такие дорогие подарки, как у нас, — ведь в нашей стране все еще существует нищета… Между прочим, Вилли уверял меня сегодня, что главное — это видеть цель. Думать о будущем. Думать о лучшей жизни для наших детей и для всех тех, кто придет следом за нами. Думать о счастье целого человечества. По-моему, — пан Копферкингель улыбнулся книжному шкафу, — по-моему, Вилли говорил очень убедительно…
Потом по радио запели «Уже родился наш Господь», и Копферкингель принес подарки, до поры до времени припрятанные в спальне. Лакме получила чулки, какой-то пахучий крем в большой банке с черно-золотой этикеткой и коробку конфет. Зине достались сумочка, коробка конфет и ноты «Траурного марша» Шопена. Мили же стал обладателем корзиночки пирожных, крохотного белого автомобильчика с красным крестом и черной подушечки, украшенной золотыми и серебряными кистями. А еще ему был вручен приключенческий роман «Смерть в джунглях».
10
— В феврале Вилли дал мне этот сверток, а сегодня вот написал, что пора, — объявил в столовой пан Копферкингель своей темноволосой Лакме, Зине и Мили. С Рождества миновало три месяца. — Итак… Я запрусь в моем любимом месте — в ванной комнате — и выйду, уже когда буду совсем готов. Несравненные мои, — обратился он ко всей семье, — пожалуйста, не стучите в дверь и ничего мне не говорите, я должен сосредоточиться. Держитесь от ванной подальше, а то как бы вам не испугаться моего вида, ведь первое впечатление наверняка будет жуткое!
Все неуверенно кивнули, а пан Копферкингель взял сверток и скрылся в ванной.
— Вот я все, бывало, недоумевал, возвращаясь от нашего доброго доктора Беттельхайма, за что это Гитлер в Германии преследует евреев, — бормотал про себя в ванной комнате пан Копферкингель, обводя взглядом красивую белую ванну, сияющий белый вентилятор и желтую бабочку на стене, — за что он так преследует их, ведь они очень милые, любезные и великодушные люди. А сейчас я понимаю. Вилли мне все объяснил. Их преследуют за то, что они против Гитлера. Против немецкого народа. Это несчастная, заблудшая нация, которая ничего не смыслит… — Пан Копферкингель грустно поник головой и развязал сверток.
Обтрепанные штаны в пятнах; свитер, потемневший от носки, вонючий, дырявый; рубаха у ворота омерзительно грязная.
— Вилли не велел стирать, — улыбнулся пан Копферкингель, — он говорил, что нищие ничего не стирают, а ходят wie eine Schlampe[4].
Серого цвета пальтецо оказалось тесным и залоснившимся, на нем не было ни одной целой и крепко пришитой пуговицы.
— Вилли сказал: не застегиваться! — улыбнулся пан Копферкингель. — Нищие всегда ходят нараспашку, показывая, что у них под пальто. Дырявый свитер и грязная рубаха… А на голову Вилли не принес ничего, чтобы был виден парик.
Он взял в руки парик из седых всклокоченных волос с лысиной на макушке и двумя желтоватыми пучками у ушей.
— Причесывать нельзя, — опять улыбнулся Копферкингель, — нищие, говорил Вилли, ходят den ganzen Tag wie sie vormittags aus dem Nest kriechen[5].
Потом он извлек из свертка пару мохнатых бровей и две бледно-желтые полоски гнусной щетины, которые следовало налепить вдоль ушей вниз, к скулам. Они лежали в целлулоидном футляре с надписью «Сделано в Германии». Затем были вынуты три коробочки с гримом…
— А-а, вот это — серо-белый, или грязный, как говорил Вилли, это розоватый, телесный, а тут — синеватый, или же чахоточно-лихорадочный. Самое сложное — втереть грим в лицо, потом нужно будет его промокнуть и обмахнуться пуховкой, как делают женщины. А вот и очки…
Пан Копферкингель бережно достал два жалких стеклышка по полдиоптрии в кривой проволочной оправе.
— Вилли не рекомендовал фальшивые очки с простыми стеклами. А вот и этот чудо-материал! Eine Wundermaterie. Слегка нагреть… как воск, говорил Вилли, как воск… — Пан Копферкингель опять улыбнулся и провел по лбу рукой, на которой что-то блеснуло. — И нарастить на переносице горбинку, она совершенно изменит мой облик. Хорошо, что эта масса имеет серовато-белый или грязно-телесный оттенок, а не лиловый, ведь лиловые носы бывают у пьяниц. Вилли говорил, что нищие-алкоголики вызывают скорее отвращение, чем сострадание, а это мне ни к чему. Да я и в самом деле не пью, — пан Копферкингель расплылся перед зеркалом в улыбке. — Не пью и не курю, не то что бедняга Прахарж с четвертого этажа. А вот еще ботинки со шнурками и отставшей подошвой!
Удостоверившись, что дверь ванной крепко заперта, пан Копферкингель стал не спеша переодеваться и гримироваться. «Ах, куда и зачем я только иду?» — подумал он, смотрясь в зеркало; между тем на нем уже были штаны с пятнами плесени и грязная рубашка. Он вспомнил слова Вилли. «Ничего особенного, — говорил тот, смеясь, когда занес сверток; Лакме и детей дома не было. — Тут маскарадный костюм. Костюм нищего. Шестого марта ты наденешь его и для начала подойдешь к нашему казино на Розовой улице, знаешь, где три ступеньки и вход отделаны белым мрамором. Там в полпятого мы с тобою встретимся, я подам тебе монетку и шепну, похож ли ты на нищего. От казино ты двинешься не торопясь к еврейской ратуше на Майзловой улице и немного там постоишь. Зачем? — Вилли засмеялся. — Да так. Шестого марта в шесть вечера в еврейской ратуше торжество. Ты встанешь у входа, vоr dem Ausgang, vоr dem Тоr[6], кстати, можешь почитать, что там у них написано; знаешь, у дверей в ратушу висит такая застекленная доска… а рядом как раз фонарь, так что в шесть вечера ты можешь делать вид, будто читаешь. Ну, а потом ты вернешься домой. Так же осторожно, как перед уходом, откроешь дверь квартиры и преобразишься опять в Карла Копферкингеля, служащего пражского крематория. Вот и все. Это будет своеобразное испытание твоей смелости и выносливости, so eine vortreffliche Exerzierung[7], а заодно ты поможешь этим несчастным, пропащим, заблудшим евреям, которые мешают благу и счастью нашего народа. Как ты им этим поможешь, я тебе объясню потом, когда мы с тобой встретимся шестого марта на Розовой улице у казино… Надеюсь, что ты сам хочешь этого, — добавил еще Вилли, — ты же всегда был против войны и насилия, против эксплуатации, нищеты и лишений, кстати, у тебя даже служат агентами два еврея — пан Штраус и пан Рубинштейн, два приличных, порядочных человека, отчего им не помочь? Разве весь смысл твоей жизни в том, чтобы отправлять в печь гробы?»
Вилли смолк, потом сунул руку в карман и протянул своему другу Карлу какую-то бумажку. «Это заявление о вступлении в СНП, пока не поздно, стань ее членом. Время не терпит! Бог мой… — уже уходя, Вилли поднял глаза на портрет никарагуанского президента над дверью. — Так у тебя и висит этот шут гороховый! Тут бы хорошо смотрелся портрет истинного джентльмена, нашего фюрера и рейхсканцлера, а не этого клоуна…» И Вилли, попрощавшись, ушел.
Тогда стоял февраль, Лакме и детей не было дома, а сегодня, шестого марта, пан Копферкингель заперся в ванной и, надев грязные брюки и рубаху, гримировался… а потом он посмотрелся в зеркало и испугался собственного отражения.
Здесь, в ванной комнате, не было больше пана Карла Копферкингеля, супруга своей ненаглядной Лакме и отца двоих солнышек, здесь стоял совсем другой человек, самый настоящий нищий, eine menschliche Ruine[8]… «Старый побирушка, которого я и знать не знаю, — подумал пан Копферкингель. — Это надо же, как, оказывается, легко можно человека изменить… переменить… и что же? Этот вот нехитрый маскарад от Вилли…» А еще он подумал: «Мои золотые стоят у окна столовой и ждут меня, а ведь когда я открою дверь и выйду… то выйду вовсе и не я, а вот он… — пан Копферкингель ткнул в зеркало, — вот он…» И с опаской: «Как бы они не перепугались насмерть! Не нагнать бы мне на них страху! Не нужно их пугать, нет, — твердил он про себя, стоя перед зеркалом и поглядывая на вентилятор и на желтую бабочку под ним, — они мне так дороги, я не смею их пугать…» Наконец, оторвавшись от зеркала и подняв глаза к вентилятору, как бы моля небо дать силы, он вдруг подумал: «Видел бы меня сейчас наш пан Фенек, бедолага, или пан Дворжак!» После чего подошел к двери, взялся за ручку и лишь в последний момент вспомнил, что Вилли велел еще в довершение маскарада слегка приволакивать левую ногу — den Fuss ein wenig nachschleppen…; а туловище чуть наклонять. И вот он чуть наклонился, приготовился приволакивать ногу — и вышел…
В столовой его ожидала немая сцена: зажатый ладонью полуоткрытый рот Лакме, стоявшей у торшера, остолбеневшая Зина, выпученные глаза Мили… а также кошки. Он постоял недолго, отставив ногу и чуть наклонившись вперед, на пороге столовой под все еще висевшим там портретом никарагуанца, потом сделал два шага к Лакме, Зине, Мили и кошке и затянул густым басом, протянув руку вверх ладонью:
— Люди добрые! Подайте корочку хлеба — я не ел с утра. Смилуйтесь надо мной!
Эффект был потрясающим.
Первой опомнилась Зина и закричала:
— Отец, ты забыл снять кольцо.
И верно, на левой руке пана Копферкингеля сверкало обручальное кольцо.
— Кажется, мелочь, а человека выдает, — улыбнулся пан Копферкингель и выпрямился.
— Молодец, Зинушка! Кольцо надо снять. Впервые в жизни, дорогая, — повернулся он к Лакме, — как ты знаешь, за девятнадцать лет нашего супружества я ни разу не снимал его…
— И он стащил свое кольцо, направился к встревоженной Лакме, взял ее ладонь и ласково вложил в нее золотую вещицу. — Береги его, дорогая, как зеницу ока, как мое сердце, чтобы, вернувшись с прогулки, я взял назад из твоих чистых рук и вновь надел на палец этот символ нашей верности и любви… Смею ли я, жалкий нищий, поцеловать тебя?
Лакме обняла и попыталась сама поцеловать его, но он вдруг отстранился.
— Символически, дорогая, — улыбнулся он, — чтобы не стерся грим или горбинка на переносице не отвалилась. Вот вернусь — и мы это восполним!
Лакме, все еще встревоженная, отступила от него и спросила:
— Зачем это тебе, Роман, идти в таком виде на улицу, на что это? И вообще, куда ты собрался?
— К немецкому казино, дорогая, — улыбнулся пан Копферкингель ей, а потом Зине, Мили и кошке, — там у входа меня встретит в полпятого Вилли, а оттуда я отправлюсь в Старый Город на Майзлову улицу. К евреям, дорогая, — нежно улыбнулся он, — ты бы, конечно, смогла это понять… но объяснять некогда…
Тут он слегка повел рукой и сказал:
— Видишь ли, им надо как-то помочь. Это несчастные, заблудшие люди, они борются против Гитлера, против немецкого народа, не ведая, что творят… А для меня это своеобразное испытание моей силы и смелости, этакий экзамен, в общем, когда я вернусь, я все тебе расскажу, не бойся… Зинушка, — пан Копферкингель часто заморгал за стеклышками своих жалких очков и машинально пригладил торчащие у висков космы. — Зинушка, у тебя же свидание, а скоро четыре часа. На сколько вы договорились?
— На полчетвертого, — ответила Зина.
— Боже мой, на полчетвертого! — вскричал пан Копферкингель. — Да ведь наш славный пан Мила уже наверняка ушел… — Но Зина покачала головой.
— Какая вера в человека, — пан Копферкингель поморгал и вновь машинально поправил парик. — Золотой юноша, этот твой пан Мила. Ну, беги и передай ему от нас привет. А у меня еще есть пять минут. Молодость, ах, молодость, — вздохнул пан Копферкингель, глядясь в маленькое зеркало в столовой, когда Зина выбежала. — Мы с тобой, Лакме, тоже были такими. Уже девятнадцать лет, как мы познакомились с тобой у клетки леопарда в зоопарке. — Он улыбнулся своему отражению в маленьком зеркале. — Тот леопард давно отошел в мир иной… Ну, я, пожалуй, тоже двинусь, время не ждет, пора подумать и о долге. Нужно будет позаботиться, чтобы никто в доме не видел, как я ухожу. Когда я вернусь, небесная моя, я вознагражу тебя за все, клянусь…
Пан Копферкингель погладил Лакме, все еще встревоженную и растерянную, послал улыбку кошке и Мили, который стоял, выпучив глаза, в углу, затем сгорбился, отставил ногу, поморгал, глядя на портрет никарагуанского президента над притолокой и вышел в прихожую. Тут он опять же поморгал перед видом Мэриборо, что висел над вешалкой, постоял, прислушиваясь, у двери, посмотрел в глазок, обернулся к Мили и Лакме, которые затаили дыхание у него за спиной, сказал им, что никого нет, в доме все спокойно, неслышно отворил дверь и шагнул за порог.
Когда он спускался по лестнице, сгорбившись и держась за перила, у него мелькнула мысль: что, если бы кто-то все-таки заметил, как он выходил из квартиры, ведь люди могли подумать, что пани Копферкингель принимает дома нищих! «Увидел бы меня, к примеру, милейший доктор Беттельхайм, к которому я тайком хожу узнать, не заразился ли я, — думал он, пока спускался по лестнице, все так же горбясь и держась за перила, — вдруг как раз доктор и заметил бы, что такой вот мерзкий бродяга выходит от Копферкингелей. Или его стареющая красавица жена, или их племянник Ян, или их работница Анежка в своем красном фартуке, эта добрая преданная душа…»
Он был уже почти внизу и вдруг с замиранием сердца увидел, как в подъезд вошла пани Прахаржова, которую он очень давно не встречал, да не одна, а с Войтиком. Почтительно поклонившись, он отступил к стене… мать и сын прошли с некоторым недоумением мимо него и, кажется, еще обернулись вслед… а он добрел до двери. «Не узнали, — убедился пан Копферкингель, — впрочем, иначе и быть не могло, мой наряд продуман до мелочей, человек так в нем меняется… так изменяется… Бедная пани Прахаржова, бедный Войта, только бы он не пошел по стопам отца!» Он ступил на тротуар и смешался с прохожими, но прежде все же еще раз огляделся вокруг, и ему почудилось, что на другой стороне улицы стоит Зина и смотрит на него. Чуть поодаль справлял нужду малютка пинчер.
К дверям немецкого казино на Розовой улице, куда, приволакивая ногу и сгорбившись, доковылял пан Копферкингель, вели три ступени; вход был отделан белым мрамором. «Мне по душе беломраморные порталы с тремя ступенями, — думал пан Копферкингель, неторопливо переходя через дорогу. — Это как вход во дворец какого-нибудь богача. Или в роскошный ритуальный зал. Вилли сейчас там, — думал он, — внутри, где я ни разу еще не был, но где мне все знакомо по его рассказам — ковры, зеркала, картины… умывальные, ванные… сливки немецкого общества Праги: депутаты парламента, профессора немецкого университета, правда, не все… пан Берман, который ездит в Берлин совещаться с министрами, первоклассные официантки, буфетчицы и… девушки…» Пан Копферкингель наконец добрался до тротуара и инстинктивно прислонился к стене ближайшего дома, сощурился, глядя сквозь стеклышки своих очков, чуть отставил ногу и наклонил корпус, чтобы Вилли, выйдя из белого подъезда с тремя ступеньками, нашел его принявшим правильное положение. И пока он так стоял у стены, глядя на беломраморный вход в казино, мимо него прошли несколько человек, на которых он не обратил внимания. Впрочем, одну женщину он все же выделил. Стройная, полногрудая красотка, которой он ни разу в жизни не видел, вдруг полезла в сумочку, и не успел пан Копферкингель опомниться, как на его ладонь легла монетка. Ибо совершенно неосознанно он подставил женщине руку ладонью вверх — как дома, когда вышел из ванной! От этого ее дара у него екнуло сердце. «Какая добрая красавица, — подумал он, придя в себя от изумления, — и какой к тому же успех моего костюма!» Но тут он увидел, что от казино к нему энергичным шагом направляется его друг Вилли.
— Фантастика, — засмеялся Вилли, глядя вслед женщине, которая ушла уже далеко, — fantastisch, tadellos[9]. Тебя как подменили! Ты просто второй Чаплин! Пройдемся-ка немного, — засмеялся он, — nebeneinander[10]…
Приволакивая ногу и горбясь, пан Копферкингель медленно зашагал бок о бок с Вилли и, покосившись на его элегантное пальто, спросил:
— Это ничего, что ты идешь со мной?
— А что, — ответил Вилли, — разве гражданин этой республики не вправе пройти пару шагов рядом с нищим? Ведь мы живем в свободной демократической стране, верно? Ausgezeichnet, — засмеялся он, опуская глаза к земле, — du schleichst wie echter Bettler[11]. -Потом Вилли сунул руки в карманы своего элегантного пальто и негромко сказал:
— Ты выдержишь это испытание твоей чести. Ты рожден для великих дел, — и Вилли оглядел с улыбкой его щетину, патлы и лихорадочные пятна на лице. — Поздравляю, это у тебя вышло просто превосходно. Да, ты не слабак, ты — настоящий мужчина, истинный немец по духу. Сейчас ты еще немного потаскайся по улицам, чтобы хорошенько настроиться, а потом — вперед, на Майзлову. Главное, тебе надо доползти туда до шести. Потолкайся у входа в ратушу, поглазей по сторонам, можешь и с протянутой рукой постоять. Поторчи у объявления перед входом, я говорил тебе, там у ворот такая маленькая застекленная доска, почитай, что на ней написано, рядом как раз фонарь… А еще… постарайся подслушать хоть пару слов. Einige Wörter auffangen[12]. Пару слов, какие всегда говорятся у входа. Nämlich[13] — засмеялся Вилли, что говорят евреи у входа в еврейскую ратушу шестого марта 1939 года, собираясь на праздничное собрание «Хевра сеуда». Завтра я тебя расспрошу. — И добавил: — Ты же знаешь, это несчастный народ, который ничего не смыслит. Такой древний народ, что страдает склерозом… Но ты можешь им помочь, дознавшись, что говорят, что замышляют. Пусть для тебя это будет такое небольшое испытание, небольшая проверка, как я тебе говорил, когда был у вас. Раз уж ты месяц назад вступил в СНП, придется тебе пройти через этот экзамен. Ведь весь немецкий народ держит сейчас экзамен, причем гораздо более трудный: в военной форме — на полях войны, принося жертвы; молодежь из гитлерюгенда — на боксерских рингах; и рядом со всем этим твое пресмыкание. — сказал Вилли, кивая головой на ковыляющего рядом друга, — это твое пресмыкание выглядит просто детской забавой. Ну, а вскоре ты придешь к нам в казино.
Лицо пана Копферкингеля озарилось улыбкой — настолько, насколько это возможно для убогого нищего, и он спросил:
— Там, ты говорил, красивые ковры, картины, ванные комнаты и… красивые женщины?
— Красивые женщины? — засмеялся Вилли. — Фантастические! Такие, что во всей Праге нет красивее и нежнее их, und doch die Eleganz[14]! Это тебе не какая-нибудь там Малышка из «Мальвазии» или все эти твои барышни Лишковы, Струнные, Чарские и черт знает кто еще… с ними надо покончить. Они тебе не потребуются. Разве ты живешь только для того, чтобы отправлять гробы в печь и измерять там температуру? Ты рожден для великих дел, и общество твое должно быть достойным тебя! Отправляйся на Майзлову улицу к ратуше, где собираются эти заблудшие души, и напряги свой слух. Сегодня ты плетешься туда нищим, но наступит день — и ты подкатишь в «мерседесе». В шикарном зеленом военном автомобиле… Ну, иди, завтра я расспрошу тебя. Geh[15]…
Вилли Рейнке отстал, а пан Копферкингель пошел дальше, размышляя.
«Он даже не дал мне для вида монету, это оказалось ни к чему! Все это — как чудо, от которого меня прямо-таки бросает в жар. Куда чудеснее, чем серебряный футляр! Мое превращение почти так же увлекательно и удивительно, как переселение души далай-ламы в моей книге о Тибете, хотя здесь дело другое, ведь на мне всего лишь маскарадный костюм. Видел бы меня сейчас бедняга пан Фенек или пан Дворжак, — мелькнуло у него в голове. — Впрочем, неважно. Мой лоб холоден, как металл, моя рука тверда, а сердце будто отлито из германской стали; это мой экзамен». И с металлической холодностью он двинулся в толпу этих достойных жалости несчастных людей.
Перед зданием еврейской ратуши на Майзловой стояла чья-то голубая «татра», и пан Копферкингель, усиленно хромая, направился к ней. Увидел горящий фонарь, под ним застекленную доску, а там и вход в ратушу. «Ну и подъезд, — подумал он, — мрамора и ступенек нет и в помине, сплошная серая известка и черные окованные металлом двери; да и как иначе, ведь тут не немецкое казино, а еврейская ратуша…» Он побродил вокруг «татры», дивясь сквозь очки ее голубизне, потерянно огляделся по сторонам. К ратуше шли и шли люди; на него стали обращать внимание.
«Надо подойти к доске», — решил он и доплелся до входной двери, где поправил очки и, так и не выпрямившись, стал читать:
«ХЕВРА СЕУДА»
Пражская «Хевра кадиша» в день рождения и смерти нашего учителя Моисея, 7-го числа месяца адара, или 6-го марта 1939 года, проводит праздничное собрание «Хевра сеуда». Сеуда состоится в 18 часов после молитвы минха в зале Погребального братства нашей ратуши. Во время собрания произнесет слово раввин, а затем прозвучат религиозные песнопения в исполнении канторов.
Участников сеуды, согласно обычаю, ожидает ужин.
— Ужин, — прошептал пан Копферкингель, отставив назад ногу, — в годовщину рождения и смерти Моисея, который родился в тот же день, что и умер: какая фантазия, какой миф! — Улыбнувшись же, он добавил про себя: «Зал Погребального братства. Интересно, что это за Погребальное братство и как выглядит их зал? Ковров, зеркал, картин, ванных комнат, как в казино, там, конечно, нет. Наверное, это что-то наподобие нашего зала ожидания или ритуального зала в крематории — без распятия, разумеется». А потом он подумал, что эти несчастные не признают кремации и хоронят мертвых в земле, где процесс длится двадцать лет, двадцать лет, пока человек станет прахом, из которого мы все вышли. «Здесь они тоже чего-то недопонимают, заблудшие души. Как это говорил Вилли? Народ такой древний, что страдает склерозом…» Тут, слыша, что подходят новые люди, он обернулся, сгорбился еще больше и, просительно глядя поверх очков, протянул руку.
Возле него останавливались, шарили в карманах и сумочках — и в ладонь пана Копферкингеля, который трясся и моргал, опускались монеты, он же произносил дрожащим, блеющим голосом слова благодарности: «Да вознаградит вас Господь…» И вдруг пан Копферкингель видит два знакомых лица, и у него в который уже раз замирает сердце, это пан Штраус и пан Рубинштейн, его агенты, он дает им целых пятьдесят процентов от выручки, два добрых, порядочных, приличных человека, и вот на ладонь пана Копферкингеля ложатся новые монеты. «Бедняги, у них никого нет, — думает пан Копферкингель, — пан Рубинштейн разведен, у пана Штрауса жена умерла от горловой чахотки, а сынок от скарлатины, знали бы они, кому подают…» Но тут перед ним появляется… ну да, у него чуть колени не подогнулись, это он, доктор Беттельхайм, специалист по кожным и венерическим заболеваниям из их дома, этот добрый, благородный филантроп… «Насилия никогда не хватает надолго, — мелькает в голове у Копферкингеля, — историю творит не оно… Людей можно обмануть, запугать, загнать под землю, но надолго ли? Ведь мы живем в цивилизованном мире…» А за доктором Беттельхаймом идет его стареющая красавица жена, и в ладонь пана Копферкингеля опять падают монеты… а вот и их Ян… идет, как будто слушая музыку… он даже не подозревает, этот милый, добрый юноша… так же, как и его дядюшка и тетя; знали бы они… а Анежки с ними нет, Анежка в своем красном фартуке христианка… Явь все это или сон? Но постепенно людей становилось все меньше, а собравшиеся уже были внутри, в ратуше, и пан Копферкингель, очутившись один на один с голубой «татрой», вновь повернулся к доске у входа.
«Погребальное братство, участников ожидает ужин, сегодня родился и умер Моисей. Что, если я тоже войду туда? Я, конечно, не еврей, у меня истинно немецкий дух, но ведь из меня такой великолепный нищий, что мне бы наверняка досталась тарелка. Подобной развалине, как я сам убедился, евреи подают, хоть я для них и гой…» Пан Копферкингель улыбнулся, пересчитал деньги и выяснил, что заработал шесть крон, а вместе с монеткой, полученной у казино, — шесть двадцать. «Я получил шесть двадцать под видом нищего, — засмеялся Копферкингель, — шесть крон от евреев, пришедших на праздник, и двадцать геллеров — от женщины-арийки. А если бы Вилли тоже подал мне у казино, то у меня было бы шесть сорок…» И он побрел прочь.
На улицах было уже темно, горели фонари. У Индржишской башни он спохватился. «Ведь я так ничего и не услышал у ратуши, — подумал он, — ich habe kein Wort aufgefangen[16], я слушал там только себя самого, собственные изъявления благодарности и свой блеющий голос! Что же я скажу Вилли, когда он меня завтра спросит? Что-то сказать надо. Я всегда четко исполнял свои обязанности, а это был своеобразный экзамен, испытание, я же месяц назад вступил в СНП! Может, сказать ему, что евреи у входа в ратушу говорили: Гитлер — убийца, Геббельс — преступник, а этот пан Берман из Праги, который ездит к берлинским министрам, — изверг, и его надо изничтожить, ликвидировать? — Пан Копферкингель грустно улыбнулся и покачал головой. — Это, правда, вряд ли поможет несчастным заблудшим долгожителям, которые ничего не смыслят. Скорее наоборот. Гитлер станет преследовать их еще яростнее. Нужно будет придумать что-то другое».
Тут он с теплотой вспомнил обручальное кольцо, которое оставил дома в ладони своей несравненной темноволосой Лакме, что выглядела подавленной и встревоженной, — и заторопился. На перекрестке за башней, где грохотали трамваи и автомобили, он столкнулся с молоденькой розовощекой девушкой в черном платье под руку с каким-то юношей. Краем глаза заметив ее, он побежал дальше и увидел пожилую женщину в очках, которая, наверное, жила где-то поблизости, так как несла в кувшине пиво… а сразу за перекрестком ему попался пожилой толстяк с белым крахмальным воротничком и красной «бабочкой», тот в одной руке вертел какие-то билетики, другая его рука была сжата в кулак… Но Копферкингель бежал вперед, и наконец на углу одной из улиц увидел в свете фонаря красотку, он разглядел, что она блондинка, и услышал, как она говорит кому-то, кого было плохо видно: «Одни пьют с содовой, другие со льдом…» Тогда он вспомнил о казино — и побежал так быстро, как только позволяли ему отстающие подошвы.
11
А потом наступило пятнадцатое марта 1939 года и все то, что с ним было связано. Страну оккупировали вооруженные силы рейха, в Прагу приехал фюрер, над Пражским Градом, над домами и крематорием взвился германский флаг… ну, а пан Копферкингель… пан Копферкингель часами бродил по столичным улицам, глазея на войска и немецкие вывески, появившиеся над магазинами. Иногда он заходил и на Фруктовую и читал надписи над переплетной мастерской пана Каднера и багетной лавкой пана Голого… Но больше всего влекла его Розовая улица, где можно было полюбоваться белым, с тремя ступеньками, мраморным подъездом казино, которое казалось ему то виллой богача, то прекрасным ритуальным залом, то загадочным серебряным футляром… А в апреле, незадолго до дня рождения фюрера, он удостоился высокой чести и был приглашен внутрь.
Копферкингель вошел в роскошный зал с коврами, люстрами, зеркалами, картинами и сел рядом со своим другом Вильгельмом Рейнке, занимающим важный пост в пражском управлении СД, его женой Эрной — красиво причесанной и покачивающей большими серьгами — и несколькими незнакомыми офицерами. Их столик окружали вышколенные официантки и улыбчивые белокурые красавицы. Пан Копферкингель был покорен их манерами и услужливостью, сражен всем увиденным и услышанным, изумлен богатым выбором блюд и…
— Нет, спасибо, пить я все-таки не буду, — улыбнулся он своим соседям. — Видите ли, я — трезвенник. Я даже не курю. Вилли и Эрна давно знают об этом. Мне так жаль пана Прахаржа из нашего дома! Ведь у него есть сын, Войта, который может пойти по стопам отца и тоже сделаться алкоголиком. Такие люди неполноценны, они мешают нам бороться за светлое будущее. Но это, конечно, совсем другое дело, — и он поспешно указал на рюмки на столике, — это вовсе не алкоголизм. Да и вообще, нам не следует обсуждать и осуждать других, мы сами не без греха… Какие тут: красивые зеркала и картины! Можно сказать, райские. При новом справедливом строе так должен выглядеть весь мир, — и он опять устремил взгляд на красавиц-блондинок.
— Все в наших руках, — отозвался Вилли, — надо только неуклонно выполнять свой долг. От кого же, как не от нас, зависит, чтобы навсегда ушли в прошлое войны, нищета, голод и страдания? — Вилли улыбнулся. — Ты по-прежнему полагаешь, будто это возможно только на том свете? Тогда погляди кругом и скажи: разве здесь кто-нибудь страдает? — И Вилли широко раскинул руки и покосился на девушек, которые тут же засмеялись… и пани Эрна тоже. — Вот видишь, все счастливы, и если этого можно добиться здесь, в немецком казино в Праге, то почему должны отставать Варшава, Будапешт, Париж, Брюссель, Лондон, Нью-Йорк?.. Правда, фюреру еще предстоит сражаться за них. Зато потом, после победы, такая жизнь установится повсюду — и тогда даже лошади навсегда избавятся от страданий. — Вилли заговорщицки наклонился к своему другу Копферкингелю: — Тем более что наша армия не нуждается в лошадях, она полностью механизирована… Однако у нас есть враги, mein lieber КаН, — посерьезнел вдруг Вилли. — Каждое великое дело наталкивается на противодействие врагов, — продолжал Рейнке, — и это надо учитывать. На земле живут люди, а не ангелы, а люди всегда с готовностью творят зло. Ты сам говорил мне нечто подобное. Фюреру удалось уничтожить один из бастионов войны, и чешской республики больше нет, но это вовсе не означает, что здесь не осталось наших недоброжелателей. Мы не имеем права почивать на лаврах. Нам нельзя закрыть глаза и сладко уснуть: ведь вредители не дремлют. Они могут скрываться под разнообразными личинами, они могут быть учеными, художниками, писателями… а могут — бывшими офицерами чехословацкой армии, полицейскими и священниками… или даже незаметными уборщицами, механиками, кочегарами… или торговцами и директорами… короче говоря, это те, кто натравливает, стравливает, травит… такие люди очень опасны, но только до тех пор, пока мы ничего не знаем о них. Нам надо следить за ними и разоблачать их, иначе они совершат преступление против немецкого народа, а то и против человечества. Надеюсь, ты не забыл, что в своем крематории ты — единственный немец? Там нет других носителей культуры и представителей нового порядка, тем более что ты стал уже членом НСДАП, и, следовательно, мы можем полностью положиться на тебя. Ну вот, а теперь расскажи, как там у вас обстоят дела.
— Как у нас обстоят дела? — Копферкингель задумчиво покачал головой и аккуратно отодвинул в сторону рюмку с вином, которую поставил перед ним официант. — Это трагедия, Вилли! Ведь в моем крематории есть люди, совершенно ни в чем не разбирающиеся… А теперь, после пятнадцатого марта, стало еще хуже…
Копферкингель поднял голову, увидел, что все вокруг смотрят только на него, и продолжал:
— Возьмем, к примеру, Заица или Берана. Это враги рейха и нового справедливого строя, в свое время они даже возражали против присоединения к Германии Судет. Или привратник Врана, у которого что-то с печенью. Я, правда, общаюсь с ним крайне редко, но мне, однако, кажется, что с ним тоже не все в порядке… Или вот пани Лишкова, которая когда-то убирала у нас, а потом уволилась. Я, к сожалению, не знаю ее домашнего адреса, но его легко можно выяснить… Пан Пеликан, это тот служащий, который открывает железный занавес ритуального зала и выпускает человеческие души в космические сферы… впрочем, у меня к нему претензий нет, пускай работает… но вот директор нашего крематория, директор моего Храма смерти, — сказал он, и Вилли и все прочие расхохотались, дав тем самым понять, как вырос он в их глазах после этих слов. — Так вот, директор очень плохо относится к рейху, он сказал мне однажды, что сжег бы всех немцев в наших печах, это было уже после пятнадцатого марта, его фамилия Сернец… по-моему, он не должен оставаться директором…
Копферкингель огляделся по сторонам, все понимающе кивнули, и ему стало ясно, что его замечание принято к сведению, тем более что Вилли сказал:
— Ну конечно, мы не допустим, чтобы он остался на своем посту. Нам нет надобности держать его в крематории, раз там есть ты. Ты и сам во всем прекрасно разбираешься. Карл Копферкингель, господа, — обратился Вилли к окружающим, — работает в крематории целых двадцать лет…
Все восхищенно ахнули, а Копферкингель скромно потупился.
— Что же до твоего ближайшего окружения, — продолжал Вилли, — то там есть даже несколько евреев. Они, конечно, ни в чем не разбираются, потому что принадлежат к вымирающей склеротической нации, но все-таки… двое из них, кажется, работают на тебя, верно?
И Копферкингель закивал и ответил:
— Да-да, верно. — А потом еще дальше отодвинул свою рюмку и сказал: — Пан Штраус, мой агент, вполне приличный и трудолюбивый человек, у него чувствительная душа, он любит музыку и хорошо справляется с обязанностями коммивояжера кондитерской фирмы. Однако, положа руку на сердце, я должен признать: не исключено, что он работает только ради денег. Протекторат, установленный в Чехии, ему явно не по душе… Пан Рубинштейн, второй мой агент, тоже добрый и чувствительный человек, он любит музыку и старательно трудится, но корысть не чужда и ему, раньше он продавал постельное белье, а фюрер и рейх ему совсем не нравятся. Кто-кто? — Копферкингель задумчиво провел рукой по лбу. — Ах, доктор Беттельхайм из нашего дома… он такой добряк… но тоже ни в чем не разбирается. Представьте себе, он как-то уверял меня, что немцы творят насилие, а насилием историю не напишешь. Мол, людей можно заставить замолчать лишь ненадолго, потому что мы живем… — Копферкингель обвел глазами присутствующих, — в цивилизованной Европе двадцатого века… и жена его нас не жалует, и их племянник Ян. Он, конечно, хороший мальчик и очень любит музыку, но он тоже пропитался этим тлетворным духом. наверное. А взять их служанку Анежку, она, конечно, не еврейка, и у нее великодушное сердце, но она тоже вся… пропитана, на Рождество она приходила к нам убивать карпов, я бы, — пан Копферкингель вытер салфеткой руки, — ни за что не смог этого сделать. — И Вилли кивнул в знак согласия, подозвал официанта и заказал себе еще вина и коньяка, а для своего друга Копферкингеля — кофе и миндаль.
— Кстати о евреях, — сказал Вилли Рейнке, поглядев на Эрну и остальных. — Теперь ты понимаешь, за что фюрер их не любит. За то, что они ничего не смыслят, за то, что они против нас и лишь сеют вокруг себя ненависть. Ты же сам говоришь, домработница Анежка — не еврейка, но она тоже пропитана, пропитана — очень верное слово! Да и как иначе? Она же много лет прожила с ними бок о бок… Это несчастный заблудший народ, который никогда не поймет нас; не верь, что их можно перевоспитать, убедить, уговорить, у них для этого не хватит извилин, — Вилли постучал себя по лбу, — они же страдают наследственным склерозом. Даже когда ты под видом нищего стоял в марте у еврейской ратуши, ты все равно был несравненно выше их. Ты, сбросив с себя маскарадный костюм, вновь стал Карлом Копферкингелем, немцем, чистокровным арийцем, — а они, сняв пальто, остались все теми же жалкими, убогими евреями. Это как с музыкой. Есть люди, достойные сострадания, которые умирают, не познав красоты Листа или Шуберта. Так и эти бедняги умирают, не познав силы и красоты третьего рейха. В прежние времена их преследовали, так что они хлебнули лиха. Ты думаешь, все это понапрасну, ни с того ни с сего. Слышал ли ты когда-нибудь о чуме? — Вилли с улыбкой отпил коньяк. — Об этом грозном биче средневековья, о болезни, унесшей сотни тысяч жизней? А ты знаешь, откуда она взялась? — Вилли вновь улыбнулся, а пан Копферкингель неуверенно обвел глазами окружающих и остановил взгляд на Эрне. — Так вот, это все отравленные колодцы! Евреи сыпали в колодцы отраву, чтобы погубить христиан. Неужели ты этого не знаешь? Ну, да дело прошлое, — Вилли засмеялся и махнул рукой, — а что было — то сплыло. Ты же сам говоришь, что все мы из праха и в прах же вернемся и что человеческий пепел всегда одинаков… Конечно, ты по этой части специалист, и ты должен стать директором. Разве смысл твоей жизни в том, чтобы отправлять гробы в печь и регулировать температуру?.. Истоки нас не интересуют, нам важны итоги. А они таковы: евреи против фюрера, против нас, против германской империи. Они мешают нашему счастью, угрожают новому европейскому порядку, стоят на пути нашей миссии, нашей — а также и твоей — избранности. Отдельные евреи только кажутся хорошими: взять, к примеру, твоих пана Штрауса и пана Рубинштейна, ты всегда говорил, что они порядочные, приличные люди, однако сейчас тебе ясно, что это не так, что ты в них ошибался. И в докторе Беттельхайме, которого ты всегда так нахваливал, тоже. Наконец-то ты раскусил его, увидел, что он заразил своего племянника, да что племянника, в конце концов, это его родственник, но он заразил даже свою домработницу, которая вовсе не еврейка! В Спарте, дамы и господа, — обратился Вилли к окружающим, — убивали больных детей. Некоторым особо чувствительным натурам это могло показаться жестокостью. Но на самом деле это было благодеянием для таких детей, которым пришлось бы в жизни очень туго… да и для здоровья нации это полезно. Ведь каким здоровым государством была Спарта и какое место она сумела занять в истории! Мы совершили бы преступление против нации и человечества, если бы не избавлялись от нежелательных элементов. Мы в ответе за счастье немецкой нации и всех людей на земле. За успех нашего дела. Всякие же мелочи второстепенны, это всего лишь декорация.
Вилли выдержал паузу, как оратор после яркой политической речи, и все, офицеры и штатские, заулыбались, глядя на пана Копферкингеля с таким видом, словно речь эту произнес не Вилли, а они сами.
Пан Копферкингель попивал кофе и смотрел вокруг — на Эрну, на красавиц-блондинок, на ту, что подошла к их столику только что. Она напоминала ангела, она была совсем как кинозвезда… Потом он опять, в который уже раз, оглядел нарядный зал, зеркала, картины.
Вилли сказал:
— Человечество спасет сила, и оно станет чистым, здоровым и неиспорченным… на, выпей. — Рейнке подвинул к приятелю рюмку. Тот отказался, и Вилли пришлось пить коньяк в одиночестве. — Слабаки нам не нужны, они ни на что не годятся… Послушай, Карл, общаться с евреями — это значит поступаться честью арийца. Здесь, — он махнул рукой в сторону зеркал, — могут бывать только истинные, полноценные люди. Носители немецкого духа, те, кто способен пожертвовать чем-то во имя победы нового строя. Мы не пускаем сюда ни чехов, ни прочих славян… Ты говорил, Карл, — Вилли понизил голос, — что мать твоей Марии, твоей Лакме, готовила рыбу как-то особенно, на иностранный манер. А ты знаешь, кто так готовит рыбу? Евреи! — Копферкингель от неожиданности вздрогнул, а Вилли докончил: — Мать твоей Лакме была еврейкой!
Пан Копферкингель совершенно опешил.
— Лакме, — опять заговорил Вилли, глотнув коньяку, — твоя черноволосая Лакме, национальность которой видна невооруженным глазом, убеждала меня, что у вас дома говорят только по-чешски, это было как раз тогда, когда я напомнил тебе о твоей немецкой крови. Твоя черноволосая Лакме всегда теряется и волнуется в моем присутствии, потому что я говорю с тобой о твоем немецком происхождении. Твоя Лакме всегда уверяет, что фамилии не играют никакой роли… еще бы, ведь ее девичья фамилия Штерн! Твоя милая Лакме собиралась скрыть от тебя мое приглашение на бокс, она засунула его куда-то в буфет, потому что не хотела, чтобы вы с Мили увидели любимый спорт фюрера. Ее совсем не обрадовало твое вступление в СНП в феврале этого года, а ведь ты пришел к нам как раз вовремя: в марте здесь уже был фюрер. В том, что вы всегда говорили между собой по-чешски, виноват не ты, а она, потому что она — еврейка. В том, что ты почти не слышал голоса своей крови, тоже нет твоей вины — она специально заглушала его, потому что она — еврейка. Я не знаю, что именно сказала тебе твоя Лакме, когда ты стал членом НСДАП, но хотел бы я услышать, что она скажет, когда ты отправишь своих детей в немецкие школы. Твоя жена отвратительно влияет на Мили. Мальчик слишком мягкотел и изнежен, и странно, что ты этого все еще не заметил. Хотя… представители ее национальности всегда действуют исподтишка… А вот если тебе поручат… извини, Карл! — И Вилли Рейнке торопливо поднялся. — Позволь мне представить тебя…
— Я наслышан о вас, герр Копферкингель, — сказало Значительное Лицо, — у вас есть опыт, вы можете оказать нам множество услуг, и я надеюсь, что вы, чистокровный немец, не можете равнодушно смотреть на… вы знаете, что такое чистота расы? Боюсь, вы не сможете занять приличествующий вам высокий пост до тех пор, пока в вашей собственной семье… как давно вы женаты, герр Копферкингель? — улыбнулось Значительное Лицо, жестом предложив всем садиться.
— Нашему браку девятнадцать лет, — сказал пан Копферкингель. — Мы познакомились в зоопарке возле леопарда, в павильоне хищников. Там еще есть стеклянный ящик со змеей… мне это всегда казалось странным, однако он стоит там и по сей день, это, очевидно, что-то вроде иллюстрации или декорации… в общем, этакое дополнение…
— Герр Копферкингель, — посерьезнело Значительное Лицо, — все мы вынуждены приносить жертвы на алтарь нашего общего дела и нашей высокой миссии. На будущей неделе я собираюсь переговорить с шефом пражской Службы безопасности и секретарем имперского протектора герром Берманом… Не исключено, что он станет возражать против… Короче, я весьма сожалею, но боюсь, вы недостойны занимать тот пост, который мы намеревались вам предложить… — И Значительное Лицо улыбнулось Эрне и красавицам-блондинкам, в том числе и той, что походила на ангела и на кинозвезду одновременно. Она нежно коснулась плеча пана Копферкингеля, и тот выдохнул:
— Но я же могу развестись, господа!
Беседа закончилась, все поднялись, Вилли, Эрна и Копферкингель подошли к замечательной картине, изображавшей обнаженную женщину, и Вилли, которому лакей как раз протягивал его зеленую шляпу со шнурком вокруг тульи, произнес одобрительно:
— Да, это было бы разумно. Развестись. Ты же можешь жениться вторично. Еще раз, правда? — Он поглядел на Эрну, и та кивнула. — Лакме должна осознать: она не имеет никакого права жить с тобой под одной крышей. Это несовместимо с твоей честью. С честью национал-социалиста. Помнишь, как однажды ваш доктор Беттельхайм, — Вилли покосился на картину, — справлялся о ее здоровье? Ты сам рассказывал мне об этом. Теперь-то ты понимаешь, Карл? Это все плоды вырождения их нации. Вырождение — вот что это такое! Они слабы и неполноценны, Карл, и всех их вскоре ждут тяжкие испытания…
Пан Копферкингель вернулся домой только под утро, когда вся семья уже давно спала. В столовой, где над дверью по-прежнему висел портрет никарагуанского президента, а у окна — табличка на черном шнуре, к нему подошла проснувшаяся кошка… он отогнал ее и взглянул на большую фотографию над тумбочкой, а потом достал из шкафа книжку о Тибете и уселся в кресло под торшером. Вскоре его глаза стали слипаться, и ему почудилось, будто со страницы на него кто-то смотрит. Тогда он погасил свет и отправился в спальню.
12
— Вот мы и на месте, — пан Копферкингель глубоко вздохнул, как бы желая очистить легкие, — вот мы и на месте. — Потом он пригладил волосы, которые шевелил легкий ветерок, указал вверх и сказал:
— Какая высота! Поднявшись туда, мы на целых шестьдесят метров приблизимся к небу. Ничего не поделаешь, — он широко улыбнулся Лакме в темном платье с белым кружевным воротничком, Зине в черном шелковом платье и Мили в кепке, жадно лизавшему эскимо, — ничего не поделаешь. Мы живем в великую эпоху, и наш долг всегда помнить об этом. Экскурсионные полеты отменены, посмотреть на Прагу с борта самолета нам не удастся, поэтому мы просто поднимемся на лифте и увидим город с высоты шестидесяти метров. Лучше так, чем никак. «Впрочем, — добавил он про себя, — можно смотреть на Прагу и снизу, из-под земли».
Они вошли в овальный прохладный вестибюль с множеством металлических колонн и направились к кассе. В окошке виднелись пустая пивная бутылка и пожилая женщина в очках, которая, горько усмехаясь, продавала входные билеты. Пан Копферкингель купил у нее четыре штуки и остановился со всем своим семейством возле лифта.
— Значит, мы поедем вот на этом? — неуверенным голосом поинтересовался Мили, приканчивая эскимо, и Копферкингель внимательно посмотрел на сына.
— Да, мы поедем на лифте, — сказал он, — и я надеюсь, что ты не испугаешься. Ведь это совсем не страшно… Помнишь, как ты боялся у мадам Тюссо и на боксе в молодежном клубе? Там все прошло благополучно, так что бояться тебе нечего. Совершенно нечего.
Приехал лифт, и оттуда вышел пожилой толстяк с белым крахмальным воротничком и красной «бабочкой». Он забрал у Копферкингеля билеты, и все погрузились в лифт. В кабине стоял низенький стульчик, а на стене висело маленькое зеркало.
— Как здесь красиво, — улыбнулся пан Копферкингель, когда дверь закрылась. — Какая хорошенькая уютная клетка! Сюда бы еще решетки и леопарда… — Тут лифт остановился, пожилой толстяк с белым крахмальным воротничком и красной «бабочкой» распахнул дверь, и Копферкингели ступили на застекленную круговую галерею. Ее оконца — и матовые, и цветные — были открыты настежь, поэтому всюду гулял легкий сквознячок. — Мы с вами находимся, — начал пан Копферкингель, — в самой высокой точке нашего любимого города. Может даже показаться, что мы стоим на горе и с ее вершины обозреваем расстилающийся у наших ног мир.
Мили и Зина побежали к окошкам — туда, откуда открывалась панорама Праги: Влтава, Старый город, Национальный театр, Винограды. Пан Копферкингель с Лакме степенно последовали за детьми. Слева от них любовались Малой Страной, Градом и собором Святого Вита красивая розовощекая девушка в черном платье и какой-то молодой человек.
Возбужденный шепот доносился и с противоположной стороны галереи, из-за лифта: очевидно, там тоже были посетители.
— Итак, это Прага, — пан Копферкингель с трудом оторвал глаза от розовощекой девушки в черном платье, — отсюда она как на ладони. Как если бы мы стояли на высокой горе и озирали расстилающийся у наших ног мир. Вон Влтава, Карлов мост, Национальный театр, вон две башни Тынского храма и Староместская ратуша, ну, а та приплюснутая башня — это Пороховые ворота… и еще Национальный музей… Посмотри-ка сюда, Мили, — сказал он сыну, указывая на дымчатое желтоватое стекло в одном из окошек галереи. — Такие же стеклышки есть в наших печах. Это святые окна, потому что через них можно заглянуть в кухню Господа Бога и увидеть, как душа прощается с телом и уносится в космические сферы. Ну, и какова же наша Прага? — Он нагнулся к желтому стеклышку, постоял так несколько мгновений и заключил, выпрямившись: — Да уж, ничего не скажешь, Прага и впрямь красива.
Они передвинулись немного левее, туда, откуда были видны Малая Страна, Град, собор Святого Вита и Дейвицы; розовощекая девушка в черном платье и молодой человек отошли чуть западнее и стали смотреть на городской стадион. Те люди, которые находились напротив, в другой части галереи, тоже прошли вперед, и из-за лифта по-прежнему слышался их свистящий шепот.
— Итак, перед нами собор Святого Вита и Градчаны. Там всегда жили чешские короли и президенты. Посмотри вот в это окошечко, — пан Копферкингель легонько подтолкнул Мили к матовому стеклу, и Мили послушно посмотрел, куда было сказано. — А вон то светлое большое здание с колоннами. — видите, сколько там стоит машин?.. — это Чернинский дворец, бывшее министерство иностранных дел. Сейчас в нем канцелярия имперского протектора. Будь внимательна, дорогая, — Копферкингель обернулся к Лакме, которая понуро стояла рядом с ним. — Ты видишь, как реет над дворцом имперский флаг? Наш флаг? — И он, не дожидаясь ответа, вновь обратился к Мили: — Ну же, погляди в окошечко!
— Там Альпы, — донеслось из-за лифта. — Там Зальцбург.
— Не городи ерунды, — ответил раздраженный мужской голос, — какие там Альпы, какой Зальцбург?! Это не Альпы, это просто утес в Подолье. Это не Зальцбург, это всего лишь Браник! Тут тебе не кино, тут смотровая площадка.
Пан Копферкингель просунул в окошечко руку, помахал ею, сказал: «Снаружи дует приятный свежий ветерок!» — и отыскал глазами башню собора Святого Вита.
— Там Ржип? — спросил Мили, и Копферкингель кивнул.
— Да, там гора Ржип, и на ней, по чешскому преданию, стоял когда-то праотец Чех. Но это только легенда, миф, фантазия. Что-то вроде легенды о Моисее, который родился и умер седьмого марта. — Он улыбнулся Лакме и покосился на ее черные волосы. — А вон там, вдалеке, рейх, — объяснил он.
Потом Копферкингели прошли немного левее. Красивая девушка в черном платье и ее молодой человек тоже продвинулись на несколько метров и стали смотреть на Смихов, Браник и Подолье… а из-за лифта все так же долетали чьи-то возбужденные голоса.
— Это стадион имени Масарика, — сказал Карл Копферкингель, — там сейчас тихо и пусто. Так тихо и пусто бывает и во дворе моего Храма смерти — по утрам, пока туда еще никого не привезли. В прошлом году на стадионе было шумно и весело. — отец семейства ненадолго задумался. — Он больше не носит имя Масарика, недавно его переименовали. Ничего не поделаешь, некоторые фамилии не годятся для нашей эпохи, хотя ты и говоришь, что фамилии не играют никакой роли. — И он опять улыбнулся Лакме. — Ну-ка, ну-ка, — Копферкингель подался вперед и вскинул голову. ему послышалась далекая музыка, и он указал в сторону Страгова, где по одной из улиц медленно ползла черная змейка.
— Похороны, — сказал крематор, — похоронная процессия. Видите, дети? Видишь, небожительница? — обратился он к Лакме. — Присмотрись-ка получше. ну что, увидела? Покойницу везут на Мальвазинки, там тоже есть кладбище. Бедняжка, ей предстоит лечь в землю.
— А я и не знала, — сказала Зина, — что музыка разносится так далеко.
— В городе сейчас тихо и спокойно, — пан Копферкингель снова повертел рукой в открытом окошке, — а этот легкий теплый ветерок дует как раз в нашу сторону. Вот музыка и слышна. Жаль, что его не очень хорошо видно. — Копферкингель убрал руку из окна и приложил к глазам. — Я про гроб. Можно различить только факельщиков и лошадей с плюмажами.
— Но там совсем как в Сплите, — раздался из-за лифта женский голос, — я даже вижу море!
— Уймись же наконец! — прошипел невидимый мужчина. — Ведь ты ни разу не была в Югославии! Никакой это не Сплит, это Глоубетин. Ты не в паноптикуме, ты на смотровой площадке.
Копферкингели опять продвинулись налево, к тому месту, откуда виднелись Подолье и Смихов; красивая девушка в черном платье и молодой человек тоже прошли подальше, туда, откуда открывалась панорама центральной части города. Что же до спорящей парочки, то ее по-прежнему скрывал лифт. Пан Копферкингель заговорил:
— Перед нами Браник, Подолье и Смихов. А вон то здание с трубой — это смиховская пивоварня. Впрочем, я не пью, вы же знаете. А вон Баррандов, — и он указал на далекую вершину. — Там хранятся разные окаменелости. Всякие древности. — Он усмехнулся. — Прямо-таки склеротические древности. Жуки, бабочки, первобытные люди. — он опять усмехнулся и высунул руку в открытое окошко. — Вглядись-ка получше, небожительница, и не бойся. Снаружи такой приятный теплый ветерок, — он помахивал в воздухе рукой с блестевшим на ней обручальным кольцом.
— Я вижу Голгофу, — воскликнул женский голос, — а вон тот зеленый собор с башнями — Иерусалим, ну, а те белые облака — это рай!
— Брось нести чепуху! — вскипел невидимый собеседник. — Какая там Голгофа — ведь это Ржип! Какой там Иерусалим — ведь это пражская психушка! Если ты немедленно не заткнешься, я.
— Ну вот, круг замкнулся, — констатировал пан Копферкингель, когда все его семейство вновь очутилось в том месте, откуда открывался вид на центр Праги, на кусочек Влтавы, на Старый Город, Национальный театр, Винограды. — И нам опять кажется, будто мы стоим на высокой горе и озираем мир, расстилающийся у наших ног. Да-да, именно у наших ног. — Копферкингель улыбнулся и продолжил: — Перед нами Национальный театр и Национальный музей, а вон то огромное белое здание — это министерство соцобеспечения. видел бы его Марен, наш милый министр из столовой. Вон там, за башнями, лежит Староместская площадь. и Розовая улица… а за золочеными куполами, которые так сияют на солнце, — он вытянул руку, и его обручальное кольцо ярко блеснуло, — скрывается. ты не знаешь что? — повернулся он к Лакме. — Неужто не знаешь? Там стоит синагога, самая большая пражская синагога, ты что, и вправду этого не знаешь? — Он перевел взгляд на ее черные волосы. — Разве ты никогда не была там? Ну да ладно, оставим это. а неподалеку — мой Храм смерти. Его отсюда, к сожалению, не видно, потому что он за холмом. Мили, посмотри вот в это стекло, — предложил он мальчику.
— Здесь все качается, — взвизгнула женщина за лифтом. — Ну конечно, ведь мы же на качелях!
— Какие еще качели? — прикрикнул на нее мужской голос. — Здесь все из железа. Ты же не на ярмарке, ты на смотровой площадке!
— Подойдите-ка сюда, — сказал пан Копферкингель, делая шаг влево и опять высовывая руку в окошко.
— Шатается, — сказала невидимая женщина. — Я чувствую. Шатается. Мы можем упасть!
— Вот еще! — оборвал ее мужчина. — Упадет, как же, жди! Сто лет стояла, а как ты пришла — так сразу и упадет! Ну уж нет, не будет у меня этакого счастья! — И вдруг рявкнул: — Здесь все из железа, а не из воска, мы не на боксе, мы на смотровой площадке!
— Ну, а там, — указал Копферкингель, — пробивает себе путь река. Там Глоубетин. И Катержинская улица. хотя ее отсюда не видно. Она, наверное, очень короткая, я на ней ни разу не был. Я знаю только Катержинскую в Праге-два. — И пан Копферкингель сделал шаг влево. — А это опять Градчаны, собор Святого Вита, дворец чешских королей и президентов. а вон то светлое здание с колоннами — это Чернинский дворец, бывшее министерство иностранных дел, теперь там резиденция имперского протектора Чехии и Моравии. Видишь, дорогая, — улыбнулся он Лакме, — над дворцом развевается имперский флаг. посмотри же, не бойся, — он в который уже раз помахал высунутой в окошко рукой, — ветерок такой теплый. То-то птицам раздолье!
— Я не смогу спуститься по лестнице, — громко сказал женский голос, — у меня голова закружится.
— А зачем тебе идти по лестнице? — осведомился мужчина. — Здесь есть лифт.
— Разве? — спросила женщина. — Ерунда какая! Откуда тут лифт, ведь ты не в Нью-Йорке. Ты в рейхе!
— Молчать! — сердито крикнул мужчина и ударил чем-то об пол. — Куда же это, по-твоему, подевался лифт? Или ты только что не ехала на нем? Или ты тащилась сюда пешком?
— Похоронная процессия уже скрылась, — сказал пан Копферкингель, отойдя немного западнее; розовощекая девушка с молодым человеком тоже сделали несколько шагов. — Улица опустела, скорбная вереница приближается к кладбищу. Но гроб несут не в Мальвазинки, а в Бржевнов. Бедная женщина, — добавил он. — Неужели это самоубийство?
— Но откуда ты знаешь, — спросила Зина, — что умерла именно женщина?
— Я это чувствую, — улыбнулся пан Копферкингель, — у меня есть чутье. Да и траурная музыка была женской. — Он помрачнел. — Страдалица, не скоро же она разложится. Только лет через двадцать. В печи бы ей это удалось за семьдесят пять минут.
— Я подверну ногу, а ты разобьешься, — пискнула женщина. — Лестница-то винтовая! Нахлобучь поглубже шляпу, не дай Бог, потеряешь!
— Что ты заладила?! — разъяренно вскричал мужчина и опять стукнул чем-то об пол. — Говорю же тебе — тут есть лифт! — Новый удар. — Ты поедешь на лифте, ты уже ехала на нем и оказалась здесь! И прекрати болтать, — гаркнул он. — А этот твой Иерусалим!..
Лифт со скрипом поднялся наверх, выпустил новых посетителей, и пожилой толстяк с красной «бабочкой» на белом крахмальном воротничке крикнул:
— Лифт вниз не повезет! Пользуйтесь лестницей номер два!
— Слышал? — закричала женщина. — Слышал? Что ж ты языком-то молол, ведь мы пойдем по лестнице! — И из-за поворота выскочила женщина в шляпе с длинным пером и с ниткой бус на шее и помчалась по галерее, преследуемая низеньким толстяком в котелке и с воздетой вверх тростью. Они дважды, сотрясая пол, обогнули галерею, а потом женщина выбежала на лестницу номер два и с грохотом понеслась вниз. Толстяк снял котелок, вздохнул и сказал окружившим его любопытным:
— Сумасшедшая! Она увидела отсюда Иерусалим и еще какой-то рай, кажется, она решила, что здесь небо. Всегда она так. Никуда с ней больше не пойду. — Толстяк вытер платком лоб. — Ее место в психушке.
— Ничего-ничего, — быстро сказал Копферкингель, заметив, что и Мили, и Зина, и даже Лакме собираются о чем-то спросить. — Наверное, у нее закружилась голова. Это случается, когда человек поднимается слишком высоко. К сожалению, здесь еще не небо, иначе бы тут жили одни ангелы. Ей полегчает, — пообещал он, — полегчает, как только она окажется внизу. Внизу… — Копферкингель посмотрел в шестидесятиметровую бездну под ногами. И показал куда-то вдаль: — А вон там Сухдол. — Потом он еще раз взглянул на розовощекую девушку в черном и сказал: — Пожалуй, нам пора, поднебесные вы мои.
Они вышли на лестницу номер два и стали потихоньку спускаться. Первой шла Зина в черном шелковом платье, полученном ею в день рождения, потом Мили, который одной рукой вцепился в перила, а другой придерживал на голове кепку и шел поэтому очень медленно; за ним следовала Лакме в темном шелковом платье с белым кружевным воротничком (она тоже крепко держалась за перила), а замыкал шествие сам Копферкингель.
— Стена, что всегда окружает нас и закрывает горизонты, — улыбнулся крематор черным волосам своей Лакме, — рухнула, когда мы оказались на такой высоте. Мы как бы взошли на вершину горы и увидели у своих ног весь мир. — А потом он сказал: — Смерть прекрасна и необходима, но покойники должны быть кремированы. Мне очень жаль ту женщину, которую только что похоронили. Одна лишь кремация избавляет человека от страха смерти, — он опять улыбнулся в затылок Лакме и посмотрел вниз в бездну: ведь они все еще находились на самом верху лестницы. — Вот это был бы прыжок, — сказал он.
В прохладном вестибюле пожилая женщина в очках как раз подбирала с полу измятое поломанное перо и рассыпавшиеся бусины.
13
— Я не мог прийти вовремя, — сухо, но все же довольно приветливо сказал пан Копферкингель директору Сернецу. Они беседовали в директорском кабинете спустя несколько дней после визита в казино и посещения смотровой площадки. — Случилось непредвиденное. Я был на совещании. Директор поглядел на Копферкингеля и не сказал ему ни слова, на его лице не дрогнул ни один мускул, он даже бровью не повел; Копферкингель небрежно поклонился и ушел. «Директор сам не свой, — сказал он себе по дороге в раздевалку. — Может, он чувствует, что над ним сгущаются тучи? Что о нем говорят и что его судьба вот-вот решится? Недолго ему уже тут оставаться. Сернец — неплохой человек, ну и что? Мы не потерпим вредителей на таких важных постах. На таких важных постах никто не потерпел бы вредителей, это же само собой разумеется, это так естественно. Ведь он предлагал сжечь всех немцев в наших печах, просто уму непостижимо…» Копферкингель потряс головой, прикрыл глаза ладонью и ускорил шаг, желая побыстрее добраться до раздевалки. Переодевшись, он поздоровался с Бераном и Заицом, которые молча и с мрачными лицами следили за температурой в печах; из репродуктора доносилась «Моя прекрасная Чехия»; он спросил, где пан Дворжак, и Заиц мотнул головой в сторону зала ожидания.
Дворжак стоял над раскрытым гробом и украшал покойницу цветами. Пан Копферкингель подошел поближе, пригляделся и сказал:
— Какое красивое платье у этой прелестницы, черное, шелковое, с воротничком. оно и понятно, ведь в гроб люди обычно надевают свои лучшие наряды, те, что при жизни пригодились им всего лишь несколько раз. В гробу, пан Дворжак, все хотят быть красивыми.
Помолчав, он добавил:
— Это барышня Вомачкова. Несчастная торговала в буфете вином и другими спиртными напитками. Ей уже пора в ритуальный зал, и пан Пеликан вот-вот повезет ее туда. А этот гроб, — Копферкингель показал на гроб номер семь, — давно заколочен, он отправится прямиком в печь, потому что болезнь была заразной. Вы уже почти не курите, пан Дворжак, — Копферкингель улыбнулся и взглянул на железный прут, лежавший перед занавешенной стенной нишей. — Вот видите, вы привыкли. — Потом он еще раз полюбовался усыпанной цветами девушкой, кивнул Пеликану с его тележкой и сказал: — Приступайте. Вомачкова готова.
Выходя из крематория, Копферкингель столкнулся с привратником Фенеком.
— Пан Копферкингель, — Фенек поднял на него слезящиеся добродушные глаза, и его голос дрогнул, — вы не забыли про морфий?
— Послушайте, — решил проявить твердость Копферкингель, — если вы не прекратите преследовать меня, я обращусь в полицию. Вам отлично известно, что морфинизм уголовно наказуем. Это порок, недостойный человека, и если вы не оставите меня в покое, я сдам вас в сумасшедший дом. — Он посмотрел на Фенека, который от страха едва держался на ногах, и тихо добавил: — Вы ничего не добьетесь от меня, пан Фенек, потому что я забочусь о вашем здоровье. Вам, очевидно, недостает ума, но зато он есть у меня. Я честный здоровый человек, непьющий и некурящий, и я вовсе не желаю брать из-за вас грех на душу. Оставьте меня в покое — раз и навсегда.
Пан Фенек, совершенно уничтоженный, скрылся в привратницкой. «А ведь верно, — подумал Копферкингель, очутившись на безлюдном дворе, — а ведь верно! Стоило мне продемонстрировать ему свою силу, как он испугался. Вилли прав. Сила и твердость — вот что спасет человечество! Ну, а слабые и неполноценные — это всего лишь обуза, они мешают нашей борьбе за завтрашний день».
Во второй привратницкой сидел пан Врана, у которого была больная печень, и Копферкингелю показалось, что тот не хочет смотреть на него…
Лакме была в столовой. Она стояла у окна под картиной со свадебной процессией и табличкой с расписанием поездов смерти, и муж улыбнулся ее черным волосам, ощутив мимолетный прилив жалости. Потом он заметил Мили, который торопливо прятал что-то за маленькое зеркало в столовой. Копферкингелю удалось разглядеть, что это была фотография, и он сказал себе: «Эге, а жизнь-то идет! Вот уже и Зинушка встречается со своим паном Милой, и даже тихоня Мили. м-да, дети растут, взрослеют.» Он подошел к радиоприемнику и включил его.
— Бедняга Фенек, — сообщил он, — ему опять нужен морфий. Он слабый, мягкотелый, конченый человек. почти сумасшедший. Кстати, хотел бы я знать, как поживает этот пьяница, пан Прахарж. у него еще сын есть, Войта. давненько мы с ними не встречались, почти год. — Из приемника полилась сладчайшая каватина Альмавивы из «Севильского цирюльника», которую граф распевал под балконом Розины. и пан Копферкингель направился к Мили, протягивая ему раскрытую ладонь. — Ну-ка, покажи мне свою любовь, свою первую любовь, мы тоже хотим взглянуть на нее. — Поколебавшись, Мили отдал отцу фотографию. Оказалось, что это была вовсе не девушка, а подручный мясника, боксер из молодежного клуба.
— Это подручный мясника, — Мили заикался и смотрел на кошку, — ну, тот боксер.
Копферкингель удивленно спросил:
— Где ты ее взял? Разве вы знакомы?
— Ты же сам послал меня за программкой, чтобы я знал, кто боксирует. — сказал Мили, а потом неохотно выдавил из себя, что дважды заходил в молодежный клуб и наблюдал за тренировками. — Там было написано, — объяснил Мили, — «приходите к нам». Ну, на том приглашении, что дал мне пан Рейнке.
— Я рад твоей дружбе с боксером, — чуть помедлив, произнес Копферкингель и подумал про себя, что такая дружба избавит подростка от изнеженности и слабохарактерности. — Ты, Мили, должен быть стойким и смелым, ведь в твоих жилах течет немецкая кровь. Моя кровь, — добавил он, сдвинув брови. — После каникул ты отправишься в немецкую гимназию. Да-да, — улыбнулся он опешившей и погрустневшей Лакме и вновь обратился к Мили: — Дружить с боксером — это, конечно, хорошо, бокс — боевой спорт, ein Wettkampf, недаром фюрер считает его одним из лучших видов спорта, но вот что, Мили: хватит тебе бродить невесть где. К мосту, пожалуй, тоже лучше не ходить. А этот твой друг тренируется прилежно? — Он вернул мальчику фотографию и, когда Мили кивнул, спросил: — А что он тебе рассказывает, о чем вы с ним говорите?
И он услышал ответ на свой вопрос. Он узнал, о чем говорят между собой два эти мальчика. Узнал, почему боксер так усиленно тренируется. Почему он так прилежен. Почему его удары должны непременно достигать цели. Потому что немцы вторглись в нашу страну. Потому что они насильники. Потому что они отняли у нас свободу. Говоря все это, Мили дрожал как овечий хвост и упорно смотрел на кошку, и пану Копферкингелю удалось превозмочь себя и промолчать. Он только скорбно покачал головой. «У меня есть еще время, чтобы открыть ему глаза, — думал он, глядя на Мили, — я все объясню ему, я уговорю его, я внушу ему верные мысли». И он направился к приемнику (Альмавива как раз заканчивал свою красивую арию) и легонько отпихнул кошку, метнувшуюся ему под ноги.
Перед самой Троицей гестапо прямо в крематории арестовало Йозефа Заица и Берана, а потом и директора Сернеца. «Действия гестапо, — сказал себе Карл Копферкингель, член НСДАП с душой истинного арийца, — кажутся довольно-таки жестокими. Но они продиктованы обстоятельствами, ведь речь идет о счастье миллионов. Мы совершили бы преступление против народа, — сказал себе пан Копферкингель, — преступление против человечества, если не стали бы избавляться от вредителей и смирились бы с их подрывной деятельностью.»
Итак, гестапо арестовало прямо в крематории Заица, Берана и директора Сернеца. Мили и Зина, прихватив с собой букет белых лилий, уехали на Троицу к любимой тетушке в Слатиняны, а пан Копферкингель со дня на день ожидал известия о своем повышении.
— Небесная моя, — обратился Копферкингель к Лакме, когда они сидели вдвоем в их замечательной столовой, — дети уехали к тете в Слатиняны, они решили навестить эту добрую женщину, которая вполне достойна называться святой, и мы с тобой остались одни. В моем Храме смерти арестовали Заица, Берана и директора Сернеца. Я не знаю за что, наверное, за их враждебное отношение к рейху, немецкому народу и человечеству. Что с тобой? — улыбнулся он Лакме, которая очень испугалась. — Неужели тебя страшит арест Заица, Берана и директора? Успокойся, с ними ничего не случится, они в полной безопасности, их просто переведут на другую работу. — Помолчав, он продолжил: — Скорее всего, именно я заменю пана Сернеца. Больше некому, я отличный специалист. Послушай, дорогая, а что, если мы с тобой оденемся понаряднее и устроим себе маленький праздничный ужин? Без вина, разумеется, я ведь непьющий. а потом мы выкупаемся в нашей белоснежной ванне, как это делали древние римляне. Не сегодня ли, кстати, годовщина нашей небесной свадьбы? — Он обворожительно улыбнулся. — Или хотя бы годовщина нашего восхитительного знакомства в зоопарке возле леопарда? Не сегодня? Ну, а мы с тобой договоримся, что сегодня. иди же. — И Копферкингель подхватил Лакме под локти и отвел на кухню.
Под вечер, когда ужин был уже готов, пан Копферкингель заставил Лакме надеть темное шелковое праздничное платье с белым кружевным воротничком. Когда она оделась, муж проводил ее в столовую, усадил за стол, принес из кухни бутерброды, миндаль, кофе и чай, включил радио и тоже подсел к столу.
— Слышишь, небесная моя? — нежно улыбнулся он. — Это хор из «Лючии ди Ламмер-мур» Доницетти. Странно. Такая, можно сказать, идеальная похоронная музыка, а у нас ее почему-то исполняют очень редко. Ведь когда кто-нибудь заказывает «Лючию», то похороны получаются просто замечательные. Но пани Струнной играли «Неоконченную», барышне Чарской — «Ларго» Дворжака, а барышне Вомачковой — «Песнь о последней розе» Фридриха фон Флотова. Обидно, что музыку чаще всего выбирает не сам усопший, а его родственники, которые исходят из собственных вкусов. Они ни за что не закажут то, что нравилось умершим, нет, они остановятся на том, что любят сами!
И он добавил:
— Это ария Лючии из третьего действия. Ее исполняет одна знаменитая итальянка.
Горка бутербродов потихоньку таяла, а радио все играло и играло, и пан Копферкингель сказал:
— У нас с тобой, чистейшая, вся жизнь впереди. Нам, заоблачная моя, открыт весь мир. Нам открыто даже небо, — он взглянул на потолок, как бы желая отыскать на нем звезды, — небо, которое за эти девятнадцать лет не омрачило ни единое облачко, небо, которое простирается иногда и над моим Храмом смерти — тогда, когда там никого не сжигают. Жаль только, что в нашей ванной у вентилятора оторвался шнур, надо завтра же все исправить. Я временно привязал там веревку с петлей на конце, чтобы вентилятором можно было пользоваться. Зато штора вон там, в углу, — он указал на окно, — о которой говорил в Сочельник Вилли, больше не обрывается. Как же они прекрасно поют! — Копферкингель кивнул на радиоприемник. — Абсолютно правы те, кто жалеет людей, не любящих музыку, — они умирают, не познав красоты… но где же наша Розана?
После ужина Копферкингель поцеловал свою небесную и предложил ей:
— Пойдем в ванную, Лакме, прежде чем раздеться, надо там все приготовить.
И он взял стул, и они пошли, а кошка внимательно наблюдала за ними.
— Здесь жарко, — сказал Копферкингель и подставил под вентилятор стул, — кажется, я переборщил с отоплением. Открой-ка вентилятор, дорогая.
Когда Лакме встала на стул, пан Копферкингель погладил ее лодыжку, набросил петлю ей на шею и пробормотал, ласково улыбаясь:
— А что, если я повешу тебя, дорогая?
Она улыбнулась мужу, очевидно, не расслышав его слов, а он резко ударил ногой по стулу — и все было кончено.
Натянув в передней пальто, Копферкингель отправился в немецкую уголовную полицию и продиктовал там для протокола:
— Ее толкнуло на это отчаяние. Она была еврейкой и не смогла жить со мной под одной крышей. Возможно, она догадывалась о том, что я собираюсь развестись с ней, потому что этот брак был несовместим с моей честью истинного арийца. И добавил про себя: «Я жалел тебя, дорогая, очень жалел. Ты стала грустной, понурой, и это вполне понятно, но я — немец, и мне пришлось принести тебя в жертву. Я спас тебя от мук, дорогая моя, а они наверняка предстояли тебе. Сколько страданий, небесная, принесла бы нам в новом, счастливом и справедливом мире эта твоя еврейская кровь…»
Лакме была кремирована в Слатинянах… а пан Карл Копферкингель получил пост директора пражского крематория. Он отправил на пенсию пана Врану, у которого было что-то с печенью. «Привратник уже старый, — решил Копферкингель, — он пришел сюда за двадцать лет до моего появления в крематории, пускай отдыхает; пани Подзимкову, уборщицу, я уволил, потому что она побаивалась Храма смерти, но я избавлю ее от страха…» — а вот пана Дворжака он оставил. «Вы знаете, пан Дворжак, — сказал он ему, — мне нравится, что вы не курите и не пьете. что вы такой же трезвенник, как и я.» А еще он оставил пана Пеликана и пана Фенека. «Надо спасти его, — думал он иногда в своем директорском кабинете, — он ведь едва держится на ногах». Когда Копферкингель проходил мимо привратницкой, пан Фенек начинал всхлипывать и быстро залезал к себе в будку… как собака.
14
Да, для детей поступок их матери оказался потрясением, однако жизнь учит нас смиренно переносить ее удары.
— Нынче, дражайшие мои, — сказал Копферкингель своим солнышкам, стоя с газетой в руках посреди столовой, — нынче жизнь — это борьба, мы с вами живем в великое революционное время и обязаны мужественно переносить все испытания. Милостивая природа освободила нашу незабвенную от оков земного мира и вновь обратила ее во прах; ей открылся космос, и я не исключаю, что у вашей матери теперь иная телесная оболочка — ведь кремация заметно убыстряет процесс. Она была хорошей, доброй женщиной, — добавил пан Копферкингель, — верной, тихой, скромной, ей уже просиял вечный свет, и она навсегда обрела покой. — И Карл Копферкингель раскрыл газету. — В человеческой жизни все очень зыбко, — продолжал он. — Будущее неопределенно, и люди зачастую страшатся его. Определенна и неотвратима одна только смерть. Впрочем, есть еще кое-что: тот новый, счастливый строй, который будет вот-вот установлен в Европе. Итак, новая, цветущая Европа фюрера и — смерть, вот что ожидает человечество… В сегодняшней газете, — он зашуршал газетным листом, — напечатано одно красивое стихотворение, мне даже кажется, что оно было написано в память моей драгоценной Лакме. Я сейчас прочту вам первую строчку: «Сумерки, день спешит обручиться с вечером.»
Потом он отложил газету в сторону, извлек из шкафа книгу о Тибете и вновь обратился к детям:
— Теперь, нежные мои, когда мы с вами лишились матери, я обязан заботиться о вас еще усерднее, чем прежде. Зинушка, — он улыбнулся дочери и опустил глаза на книгу о Тибете, которую по-прежнему сжимал в руке, — ты красива, как твоя мать, ты дружишь с паном Милой, но после каникул тебе придется перейти в немецкую школу. И тебе, Мили, тоже. — Он посмотрел на мальчика долгим испытующим взглядом, а потом опять перевел глаза на книгу о Тибете и слегка наморщил лоб, этот мальчик с тонкой, нежной душой все больше и больше беспокоил его. «Он никогда не походил на меня, — думал он, уставившись на желтую коленкоровую обложку, — никогда. да еще эта подозрительная склонность к бродяжничеству. Как бы он опять не заблудился где-нибудь в ночи и мне не пришлось бы разыскивать его с полицией, как тогда в Сухдоле. А его приятель боксер вместо того, чтобы закалять и укреплять дух Мили, только портит его и сбивает с истинного пути. Не превратиться бы ему в Войту Прахаржа из нашего дома!»
А однажды.
Дело было в казино. Копферкингель в присутствии белокурой красавицы Марии, которая напоминала ангела и кинозвезду одновременно и которую он называл Марлен, беседовал о своем сыне с Вилли Рейнке.
— Мили все больше беспокоит меня, — вздохнул он, окинув взором роскошные ковры, картины и хрустальные люстры, — по-моему, он становится слишком мягкотелым и изнеженным, он никогда не походил на меня, а уж эта его подозрительная склонность к бродяжничеству. Боюсь, что ему опять придет фантазия ночевать в стогу сена у Сухдола. Бокс, на котором мы с тобой тогда были, — он посмотрел на стол, где стояли рюмки с коньяком, — к сожалению, не пошел ему впрок. Боксировать он не станет ни в коем случае — хотя это и могло бы ему когда-нибудь пригодиться, ты сам так говорил. Но зато он познакомился с подручным мясника. Этот малый портит Мили и сбивает его с истинного пути вместо того, чтобы закалять и укреплять немецкий дух, который я старался привить ему. Я очень огорчен, потому что с ним может случиться то же, — он опять посмотрел на рюмки с коньяком, — что случилось с Войтиком Прахаржом из нашего дома.
— Его мать была наполовину еврейка, — сказал Вилли, взглянув на белокурую Марлен, прильнувшую к плечу пана Копферкингеля, — и это дает себя знать в сыне. Миливой — метис второй степени. Согласно имперскому закону от 14 ноября 1935 года, параграф второй, он является метисом второй степени, так называемым «евреем на четверть». Это закон, — сказал он, продолжая глядеть на Марлен, — а законы существуют для того, чтобы служить людям, и мы должны уважать их. Боюсь, Карл, что его не примут ни в нашу гимназию, ни в гитлерюгенд. Ты и впрямь не хочешь коньяку? — Он потянулся было к рюмкам на столе, но пан Копферкингель покачал головой и отодвинул одну из них в сторону.
— Скоро мы будем в Варшаве, — засмеялась красавица Марлен.
В субботу на той неделе, когда над Варшавой взвился флаг со свастикой и имперская военная армада двинулась дальше на восток, пан Копферкингель надел новые высокие черные сапоги и зеленую шляпу со шнурком и перышком, купленную на днях у немецкого шляпника, положил в карман пиджака маленькие симпатичные клещи и повел Мили на экскурсию в крематорий; день был самый подходящий, потому что по субботам умерших сжигали только до обеда. Стояла чудесная погода. Возле подъезда они увидели Яна Беттельхайма и Войтика Прахаржа, которые рассматривали разноцветные машины. Ребята вежливо поздоровались и спросили, куда это Мили направляется. Пан Копферкингель приветливо улыбнулся молодым людям и сказал, что на прогулку. Мили молча смотрел на обоих своих приятелей, те смотрели на него, и все трое будто строили какие-то тайные планы, так что пан Копферкингель решил прервать эту безмолвную беседу:
— Вы бы, мальчики, заходили к нам иногда. Вы так давно у нас не были. И не надо во время своих прогулок забираться слишком уж далеко. Бродяжничать сейчас опасно. — Потом он указал подбородком на автомобили и засмеялся: — Зеленые — военные и полицейские, а белые — санитарные. Для ангелов. Так, Мили? — И он кивнул своему мальчику, и они пошли по улице.
Спустя несколько минут Копферкингель сказал:
— Я надеюсь, Мили, что мы скоро тоже обзаведемся красивой яркой машиной и ты станешь ездить на ней, как ездил еще недавно на своем автомобиле Ян Беттельхайм. Мы будем устраивать себе по воскресеньям разные экскурсии. Что там твой Сухдол! Можно уехать гораздо дальше, — например, в какой-нибудь замок, тебе наверняка понравится. К сожалению, у доктора Беттельхайма нет больше машины. — Тут они подошли к кондитерской, и Мили замер как вкопанный. — Ах ты, сладкоежка, — улыбнулся пан Копферкингель и полез в карман — тот самый, где у него лежали клещи. — Вот, возьми крону и купи себе эскимо. — Потом он опять опустил руку в карман и добавил: — Пожалуй, купи еще и пирожное.
Мили купил себе эскимо и пирожное, и отец с сыном отправились дальше. Неподалеку от кладбищенских ворот висело какое-то объявление, и его внимательно изучал пожилой толстяк. Подойдя поближе, Копферкингель заметил на нем белый крахмальный воротничок с красной «бабочкой» и невольно вздрогнул.
— Как жаль, — сказал он Мили, — как жаль, что твоей любимой матери нет с нами. — И тут его взгляд упал на объявление:
ПОЧИНКА ГАРДИН И ПОРТЬЕР
ЙОЗЕФА БРОУЧКОВА,
Прага, Глоубетин, Катержинская, 7
— Мы пойдем через кладбище, — он тронул сына за плечо, — там гораздо красивее, чем во дворе. Когда я еще не был директором, я частенько прогуливался в обед по кладбищенским дорожкам. Жалко, что твоя мать ушла от нас в мир иной.
Прямо у ворот они остановились: из-за ближайших надгробий доносился какой-то странный шум, там топали ногами, подпрыгивали и даже шипели, а потом оттуда выскочила женщина с ниткой бус на шее и в шляпе с пером, она тыкала пальцем себе за спину и пронзительно верещала. За ней по пятам гнался потный низенький толстяк в котелке и с тростью, он кричал:
— Куда же ты несешься, погоди!.. Нет здесь никаких смотровых площадок, здесь кладбище, ты же была на кладбище!..
При виде пана Копферкингеля в черных высоких сапогах и в зеленой шляпе со шнурком толстяк остановился, раздраженно дернул головой и объяснил:
— Она сумасшедшая, она меня измучила. Вообразила, видите ли, что ей тут покажут какую-то кровавую бойню.
— Это пройдет, — отозвался Копферкингель, и толстяк снял котелок и принялся неторопливо вытирать лоб.
— Нам пора. — Копферкингель повернулся к явно напуганному Мили. — Ничего страшного, просто у тети какой-то приступ, это пройдет, врачи ей обязательно помогут, ведь они настоящие земные ангелы. И ни в коем случае не пробуй на зуб ружейный патрон. Это может плохо кончиться. Ну что, вкусное было пирожное?
Они миновали свежие могильные холмики с венками и очутились перед зданием крематория. В привратницкой сидел и дрожал мелкой дрожью пан Фенек. Увидев герра директора в черных высоких сапогах и зеленой шляпе с пером, он низко поклонился; глаза у него опухли и слезились. «Если мне и удастся спасти Фенека, — подумал Копферкингель, — то я все равно буду вынужден уволить его или отправить в сумасшедший дом». Он небрежно махнул рукой и открыл дверь. Проведя Мили по коридору, Копферкингель показал ему холодные печи; всюду сильно пахло дезинфекцией, мальчик трясся от страха.
— Вот, значит, какие они, эти печи! — Мили неуверенно поглядывал по сторонам.
— Да, они именно такие, — улыбнулся пан Копферкингель, — и я надеюсь, что ты их не боишься. Ведь они пусты, в них сейчас никого не жгут. И вообще, Мили, тебе пора уже перестать бояться. В кого только ты такой уродился? Тебе было страшно в паноптикуме, страшно на боксе, страшно на смотровой площадке. а разве с тобой там что-нибудь случилось? Так что не бойся и взгляни сюда. Эта кнопка управляет железным занавесом ритуального зала, вот это — термометры, а это — репродуктор. короче говоря, здесь есть множество самых разных механизмов и приспособлений… а вон с той лесенки можно заглянуть прямо в печь, но туда тебе ходить не стоит. Погоди-ка минутку, я посмотрю на табличку, да ты ее знаешь, такая же висит у нас дома.
Потом они прошли мимо склада металлических урн для пепла (диаметр — шестнадцать сантиметров, высота — двадцать три сантиметра), там сильно пахло дезинфекцией, и мальчик все так же дрожал от ужаса. — Это склад урн для пепла, — пояснил Копферкингель, — все они у нас на строгом учете. — И он повел сына в глубь здания, к гробам.
— Здесь лежит пан Данек, — бесстрастно произнес Копферкингель, — здесь — доктор Веверка, у него, к несчастью, слишком тесный гроб, когда крышка опустится, она коснется его лба. вот это пан Пискорж, а следующий гроб, — пан Копферкингель подошел к заколоченному гробу под номером пять, на котором было написано «Э. Вагнер», — заколочен, потому что открывать его никто не станет. Родственники на похороны не придут, и в понедельник он отправится прямо в печь. — Пан Копферкингель извлек из кармана клещи и отвинтил крышку.
Их взорам предстало бледное заострившееся лицо офицера в парадной зелено-серой форме с железным крестом. На груди — фуражка и белые перчатки. В петлицу была вставлена веточка лавра. Еще одна веточка — по всей видимости, миртовая — лежала на скрещенных на животе руках.
— Это герр Эрнст Вагнер, — сказал Копферкингель своему почти обезумевшему от страха сыну, — штурмбаннфюрер СС, он любил немецкий народ и музыку, его похоронят под звуки вагнеровского «Парсифаля». Значит, говоришь, твой боксер собирается бить немцев? — Копферкингель грустно улыбнулся съежившемуся Мили. — Этих насильников и захватчиков? Ты, наверное, рассказывал ему, что любишь сладкое. Знаешь, покойный герр Вагнер был настоящим немцем. Не каким-нибудь там неженкой и хлюпиком. и безупречного происхождения. В рейхе существует один закон, я сейчас постараюсь растолковать его тебе. «Ohne Rücksicht а^ den Dienstgrad muss jeder SS-Angehörige den Abstammungsnachweis erbringen, wenn er sich verloben oder verheiraten will». «Любой член СС, если он собирается обручиться или жениться, обязан доказать чистоту своего происхождения.», а законы у нас всегда служат людям. — Копферкингель улыбнулся и продолжал: — У него замечательный гроб, высокий, широкий. как раз такой, как нужно. А может, ты, Мили, тоже ляжешь туда? Разве плохо обратиться в прах под звуки «Парсифаля»? — И он невесело усмехнулся и взялся за железный прут, лежавший в углу у ниши. Потом он заставил мальчика встать на колени, широко расставил ноги в высоких черных сапогах и убил его.
Труп он уложил в гроб к эсэсовцу, хороший был гроб — высокий. широкий, так что места хватило обоим, и они прижались друг к другу, подобно сводным братьям. Привинтив крышку обратно, убийца внимательно оглядел железный прут и кафельные плитки пола, чтобы удостовериться в их чистоте, затем поправил зеленую шляпу со шнурком и пошел к выходу. «Смерть сближает, — сказал он себе, сжимая в кармане клещи, — пепел — он и есть пепел. И неважно, кто был кремирован — немецкий штурмбаннфюрер или же мальчик с нечистой кровью. Бедный Мили, — сказал он себе, — ему бы пришлось несладко; хорошо, что я избавил дитя от мук. Его бы не взяли ни в немецкую гимназию, ни в гитлерюгенд. Жаль только, что нам не удалось еще раз вместе сфотографироваться.»
— Мили, дождись меня, не убегай, — крикнул Копферкингель рядом с привратницкой, желая, чтобы эти его слова услышал Фенек, который прижимал руку тыльной стороной ко рту, как будто целуя ее. — Пан Фенек, — обратился он к старику, — зачем вы лижете свою руку, вам надо лечиться, так больше продолжаться не может, вы же губите себя. У вас явные признаки вырождения, вам требуется психиатр! — Привратник вскинул голову, всхлипнул и молитвенно сложил ладони.
Потом Копферкингель вышел из здания и пересек двор; во второй привратницкой ему подобострастно поклонился преемник пана Враны. Недалеко от ворот крематория Копферкингель подал монету старухе нищенке, которая попрошайничала здесь и зимой, и летом, и зашагал к трамваю. Возле остановки стояла красивая розовощекая девушка в черном платье и какой-то молодой человек с перекинутым через плечо ремешком фотоаппарата.
Четырьмя днями позже пан Копферкингель отправился в немецкую уголовную полицию и заявил об исчезновении своего шестнадцатилетнего сына.
— Сегодня четвертый день, как его нет дома, — сказал он. — Мили вел себя так с самого раннего детства, однажды мы даже обращались за помощью в полицию. Тогда его отыскали в Сухдоле, он, видите ли, хотел переночевать там в стогу сена. Мальчик по натуре романтик, боюсь, как бы он не последовал за нашей армией в Польшу, с него станется. А еще я хотел вам сообщить, что в последнее время он свел знакомство с одним боксером.
А между тем Мили уже сожгли, и его прах смешался с прахом чистокровного эсэсовца. Все операции у печи проводил сам господин директор, которому помогали двое улыбчивых и расторопных парней, совсем не похожих на Заица и Берана. Пану Копферкингелю хотелось не только заняться любимым делом, но и показать этим милым юношам, как высоко ценит он их труд, труд, который когда-то кормил и его, выходца из простой семьи. А в ритуальном зале торжественно звучала музыка из «Парсифаля» Вагнера и «Героической симфонии» Бетховена.
15
Вскоре после окончания победоносной польской кампании Карла Копферкингеля пригласили к шефу пражской Службы безопасности и секретарю имперского протектора герру Берману. Встреча проходила в том самом светлом здании с колоннами, возле которого всегда стояло много ярких машин и над которым реял флаг рейха; в кабинете сладко пахло сандаловым деревом, а украшали его не только нарядные шторы, толстые ковры и огромный портрет фюрера, но и несколько весьма недурных картин. и вот тут-то, в этом кабинете, принадлежавшем шефу пражской Службы безопасности и секретарю имперского протектора, Копферкингелю конфиденциально сообщили о готовящемся уникальном эксперименте. Стояла глубокая осень 1939 года.
— Во имя чистоты немецкой расы. Во имя победоносной борьбы за новую, счастливую Европу. Во имя справедливого общественного устройства, во имя фюрера, — вот что сказали Карлу Копферкингелю и подняли за это рюмки; там был и Вильгельм Рейнке, который предложил ему на выбор: — Коньяк, чешская сливовица?
А потом ему объявили:
— У вас есть опыт. Вы любите всяческие механизмы и приспособления, вы — истинный носитель арийского духа. Нам надо провести испытания новых газовых печей. Вы должны гарантировать строгое соблюдение тайны. Задание очень почетно. Из вас может получиться прекрасный командир производства.
— За газовыми печами — будущее. — Вилли провел ладонью по лежавшей на столе книге. — То будущее, в котором неопределенно все, кроме смерти и нашей общей победы. Даже лошади избавятся тогда от мук, — улыбнулся он. — Тебе поручено почетное задание.
Ты получишь в свое распоряжение автомобиль «мерседес», который я обещал тебе, когда ты ходил, одевшись нищим, на Майзлову улицу. Ты сможешь вывозить свое семейство за город. — И Вилли взял рюмку и торжественно провозгласил: — Ты — один из избранных! Ты что же, по-прежнему не пьешь?
Пан Копферкингель втянул носом сладкие запахи сандалового дерева, которыми пропитался кабинет, взглянул на стол и сложил руки на коленях: — Спасибо, господа, — сказал он, покачав головой, — но я по-прежнему не пью. Я ведь трезвенник. — И он дал согласие выполнить это почетное задание.
Копферкингель стал все чаще заходить в казино. У него завелись любовницы; среди них особенно выделялась белокурая Марлен, чье настоящее имя было Мария, она напоминала ему ангела или кинозвезду, а всего их у него насчитывалось то ли десять, то ли двадцать, и он встречался с ними не только в казино… некоторые даже приходили к нему домой — у него их было столько, что он начинал их путать, зато он не пил и не курил и очень жалел тех, кого не окружали такие красотки. А еще он жалел пани Прахаржову, чей муж погибал от алкоголизма, и их несчастного сына Войту, который тоже мог пойти по дурной дорожке, он жалел и кое-кого еще, — например, доктора Беттельхайма и все его семейство. а в своей столовой Копферкингель подолгу простаивал у гравюры со свадебной процессией, которую он купил когда-то Зине у багетчика пана Голого, и у таблички на черном шнурке, а еще он задирал голову и смотрел туда, где раньше висел никарагуанский президент, а теперь — элегантный фюрер, и говорил себе: «Скоро я возглавлю эксперимент по газовым печам, и мне дадут «мерседес». а еще он любил рассматривать семейное фото над тумбочкой, где он сидел рядом с Лакме, держа на коленях кошку. а над пианино висели под стеклом мухи дрозофилы, те самые, на которых ставят всякие эксперименты. а как-то под вечер он вдруг вспомнил о доброй тетушке из Слатинян и сказал себе: «Мне обязательно надо пойти в нашу уютную ванную, которую я так люблю.» И он пошел туда и под вентилятором, рядом с бабочкой, зажег маленькую свечку. Потом он вернулся в столовую, включил торшер (за окнами уже смеркалось) и снял с полки закон о кремации; полистав его несколько минут, он в тысячный раз взял в руки книгу о Тибете, увлекательнейшую, захватывающую книгу о Тибете, тибетских монастырях, далай-ламе и его перевоплощениях, сказал себе: «Я же знаю ее почти наизусть» — и уселся с нею под торшером; тут ему захотелось подумать о дочери, и он подумал: «А все-таки я неплохо забочусь о моем единственном ребенке, ее, благодарение Богу, приняли в немецкую школу, жаль только, что она унаследовала кое-какие черты своей покойной матери, эта моя восемнадцатилетняя черноволосая красавица.» — и тут позвонили в дверь.
Пан Копферкингель встал из-под торшера, положил тибетскую книгу на обеденный стол и пошел отворять.
— Могу я поговорить с господином директором Копферкингелем? — сказал по-немецки человек, стоявший на лестничной площадке. — Я прислан к нему с тайной миссией.
Копферкингель молча поклонился и отступил назад, приглашая незнакомца войти. Потом он проводил его в столовую. В своей широкой черной хламиде посетитель выглядел немного странно, да и лицо у него было на удивление желтое, но, возможно, так только казалось из-за рассеянного света торшера.
— Прошу садиться, — Копферкингель спокойно кивнул в сторону стола. — Извините. — И он убрал лежавшую там книгу. — Я читал. Что вам предложить? Коньяк, чешскую сливовицу?
— Спасибо, — улыбнулся гость, сложив руки на коленях, — я не пью. И не курю. Я трезвенник. — Он улыбнулся еще шире и сказал: — Если это вас не затруднит, я попросил бы чаю с кусочком масла.
Пан Копферкингель быстро побежал в кухню, приготовил там чай с кусочком масла и вернулся в столовую. Гость поблагодарил и сказал:
— Кушог. Я — тулку из монастыря Миндолинг. Наш далай-лама умер. Долгие годы, семнадцать, нет, даже девятнадцать лет Тибет, этот благословенный край, пытался отыскать его инкарнацию. Отыскать того великого мужа, которого избрал Будда для своего перевоплощения. и вот сегодня, спустя двадцать лет, он наконец найден. Я был послан в далекое путешествие, чтобы встретиться с вами и сообщить, что это — вы. Вас ждет тибетский престол!
Он помолчал и добавил:
— Но это строго между нами. Надо блюсти тайну. Я приду сюда еще раз, чтобы посвятить вас, и только потом мы с вами отправимся в Гималаи, на нашу любимую, благословенную родину.
— Отец, у тебя были гости, — сказала вернувшаяся домой Зина, — на столе стоят две чашки, и в одной на дне — какое-то масло.
— У меня побывал редкостный гость, Зинушка, — ответил пан Копферкингель, внимательно глядя на дочь. — Но не будем говорить о нем, надо блюсти тайну. Ну что, нравится тебе в школе, золотко мое? В твоей новой, немецкой школе?
— Я растеряла всех своих подруг, — грустно сказала Зина, — я не думала, что я их растеряю. Я думала, что все будет по-старому. С Ленкой и Лалой я больше не вижусь.
— Это были милые и симпатичные девушки, — согласился Копферкингель, — но ничего не поделаешь, человеку приходится мириться с утратами. Взять хоть меня. Я тоже прошел через множество трагических разлук. Пани Струнная, барышня Чарская, Вомачкова, пани Лишкова, пани Подзимкова. Пан Голый потерял жену, пан Рубинштейн развелся, пан Штраус тоже лишился близких — его жена умерла от чахотки, а сын — от скарлатины. Мы то и дело теряем кого-то, такова человеческая жизнь. А как поживает Мила Яначек?
— Он пока ничего не говорил, но я думаю, мы больше не будем встречаться.
— Ну что ж, — пан Копферкингель посмотрел на семейное фото. — Значит, я прав. Это был симпатичный, милый юноша из приличной и уважаемой семьи, его отец работал инженером, а сам он интересовался физикой и техникой, любил музыку и всяческие механизмы и приспособления. совсем как я. он мог многого добиться в жизни. Утешайся тем, что на вечную память о нем у тебя останется вот эта фотография. — И он указал на стену. Поглядев туда, Зина спросила:
— О Мили так ничего и не слышно?
— Ничего, золотко мое, ничего. Боже мой, да где же он?.. — И пан Копферкингель, нахмурившись, уселся в кресло.
Она печально погладила его по голове, а он взял ее за руку и сказал: — Мы живем в великую революционную эпоху, но нас одолевают горести. Мы теряем близких. Доктору Беттельхайму запретили практиковать. Согласно Закону от 25 июля 38 года все без исключения евреи в Германской империи лишены права заниматься врачебной практикой. это закон, а законы, как ты, конечно же, знаешь, мы обязаны уважать… он, правда, все еще живет над нами со своей красивой женой, служанкой Анежкой и племянником Яном. В его бывшем кабинете висела прекрасная старинная картина, похищение женщины графом Бетленом, и это единственное, что у него осталось. Внизу перед домом нет больше его автомобиля. Но очень скоро там появится другая машина, блестящий новый «мерседес», и он будет принадлежать нам, а вот эту стену… — он показал на одну из стен столовой, — украсит замечательная старинная картина. Впрочем, все это ерунда, — торопливо добавил Копферкингель, — это не имеет значения, потому что человек не должен быть рабом своих вещей. Мы, золотко мое, живем в прекрасное революционное время, и нам нужно мыслить глобально и никогда не забывать о немецком народе и о человечестве в целом. Ну, а эта история, — он имел в виду историю с паном Милой, — пускай тебя не беспокоит. Все равно чехи будут уничтожены. Да-да, дитя мое, это уже решено, — сказал он, заметив, что Зина вздрогнула, — правде надо смотреть в глаза. Скрывать от тебя что-либо я считаю бессмысленным. Уж если нам удалось стойко перенести смерть нашей любимой матери и это несчастье с Мили, то подобную беду мы и подавно сумеем пережить. Ликвидация чехов отвечает интересам того нового, счастливого и справедливого строя, который созидает сейчас фюрер. Физическая смерть им не грозит, — Копферкингель замотал головой и всплеснул руками, — нет-нет, ни в коем случае, мы же не убийцы. Но они будут онемечены. Это исконно наши территории, и именно отсюда нам суждено управлять миром, — он обвел рукой столовую и посмотрел на кошку, которая только что зашла в комнату. — Так оно и будет, и земля тогда станет раем. На вечные времена.
Через несколько дней пан Копферкингель сказал Зине, собиравшейся на очередной урок музыки:
— Золотко мое! Я получил важное задание. Я буду руководить грандиозным экспериментом, поэтому из крематория мне придется уйти. Если то что мы задумали, удастся, то человечество раз и навсегда избавится от эксплуатации, голода и нищеты и люди, а может, и лошади. не будут больше страдать. К сожалению, всего я тебе сказать не вправе, потому что это — государственная тайна и надо держать язык за зубами. Я просто предлагаю тебе, прежде чем я навсегда покину крематорий, сходить со мной туда. Ты увидишь то здание, где я провел целых двадцать лет, увидишь, с чего я начинал и чего достиг, усердно исполняя свой долг. Завтра суббота, и во второй половине дня трупы не сжигают, им приходится ждать до понедельника. Ты наденешь свое красивое черное шелковое платье, и мы с тобой отправимся. Я постараюсь, — добавил он, помолчав, — раздобыть фотоаппарат.
Едва Зина ушла, как в комнате появился тибетский посланник. Копферкингель принес ему чай с маслом.
— Пора. — Монах прямо в столовой опустился перед ним на колени. — Вас ждет трон! Тибет, наша благословенная родина, ожидает своего повелителя, народу не терпится приветствовать своего владыку. Вот одеяние покойного далай-ламы. — монах махнул рукой куда-то в пустоту, наверное, он указывал на невидимые звезды. — Стена, заслонявшая от вас горизонты, рухнула. Небо раскрылось, и над нами — бесчисленные звезды. — он опять указал на потолок. — Вы спасете мир. — Монах коснулся лбом ковра. — Вы — Будда!
— Встаньте, сын мой, — добродушно отозвался пан Копферкингель; глаза его были влажными от слез. Поднявшись из-за стола, он воздел руки к потолку. э-э, к небу. и сказал:
— Небо раскрылось, и над нами — бесчисленные звезды. Сколько раз я читал об этом в замечательной книге о Тибете, которую переплел для меня в красивый желтый переплет пан Рудольф Каднер, пражский переплетчик. Да будет счастливо все сущее! Ни одна жертва не кажется мне напрасной, если приносится она во имя грядущего счастья человечества. Пан Голый тоже потерял жену. И пан Штраус. Его жена умерла от чахотки, а сын — от скарлатины. Однако мне предстоит еще кое-что уладить. — Он опустил голову и улыбнулся. — Мне предстоит спасти еще одну добрую душу. Я обязан вовремя избавить ее от страданий, которые непременно ожидают таких, как она, в этом счастливом мире. Завтра все будет сделано. Она наденет темное шелковое платье и ляжет в нем в гроб к знаменитой пианистке Гермине Сыкоровой. Небесный хор споет им вторую часть шопеновского фортепьянного концерта, так захотел вдовец. Обожди до завтрашнего вечера, сын мой.
Монах кивнул, и в ту же секунду свет в глазах Карла Копферкингеля померк. Это померкла его душа, и крематор услышал чудесную музыку — арию из «Лючии ди Ламмер-мур» Доницетти, фортепьянный концерт, «Неоконченную», «Парсифаля». и еще что-то бравурное, кларнет, тимпаны, барабан. он увидел, что в столовой, рядом с кошкой и с той дверью, над которой висит портрет фюрера, стоят трое мужчин в белом, три белоснежных ангела… они ласково берут его под руки и ведут по лестнице, где от них испуганно шарахаются какая-то женщина и ее сын-подросток. потом он оказывается на тротуаре. перед ним машина, белая, ангельская, с красным крестом и немецким номером. Когда он наклонил голову, чтобы сесть туда, его волос коснулся легкий осенний ветерок.
В середине мая 1945 года — вскоре после окончания войны — пан Копферкингель смотрел через окошко санитарного поезда, стоявшего у перрона вокзала небольшого немецкого городка, на толпы изможденных людей, возвращавшихся домой. Ему казалось, что он различает знакомые лица: пана Штрауса, и пана Рубинштейна, и старого доктора Беттельхайма, и его племянника Яна и красивую женщину, которую он прежде где-то видел. Копферкингель улыбался, он бы с радостью помахал им рукой, но рука у него лежала в кармане, и он там как раз что-то нащупал. Это оказались обрывок бечевки и кусочек сахару. Он повернулся лицом к купе и сказал своим безруким и безногим соседям:
— Счастливое человечество. Я спас его. Мир навсегда избавился от нищеты и страданий, даже лошади не будут больше мучиться. Господа, наконец-то новый строй победил!
Из трубы пражского крематория шел желтоватый дымок. Там сжигали морфиниста.
Примечания
1
«Иностранная литература», 1993, № 8. Пер. с чеш. И. Безруковой.
(обратно)2
Юзеф Бек (1894–1944) — министр иностранных дел Польши (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)3
Малая Антанта — созданный в 1920–1921 гг. блок Чехословакии, Румынии и Югославии.
(обратно)4
Неряхами (нем.)
(обратно)5
Весь день, словно они только что вылезли из берлоги (нем.)
(обратно)6
Перед входом, у ворот (нем.)
(обратно)7
Превосходный экзамен (нем.)
(обратно)8
Человеческая развалина (нем.)
(обратно)9
Фантастически безупречно (нем.)
(обратно)10
Рядом, вместе (нем.)
(обратно)11
Отлично, ты плетешься, как настоящий нищий (нем.)
(обратно)12
Уловить несколько слов (нем.)
(обратно)13
А именно (нем.)
(обратно)14
А что за изящество (нем.)
(обратно)15
Ступай (нем.)
(обратно)16
Не уловил ни одного слова (нем.)
(обратно)







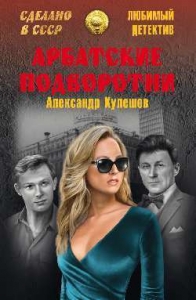

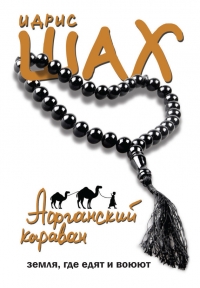

Комментарии к книге «Крематор», Ладислав Фукс
Всего 0 комментариев