Борис Алексеев Ищите интонацию. Сборник коротких рассказов
© Борис Алексеев, 2017
© Интернациональный Союз писателей, 2017
***
Борис Алексеев
Москвич. Родился в 1952 г. Окончил МИФИ. Через два года, не став великим физиком, ушёл в художники. Через двадцать лет, так и не став великим художником, ушёл в сочинители. Через двести лет…
Впрочем, о том, как сложится жизнь через двести лет, предлагаю поговорить позже!
Всем добра. Борис Алексеев.
Орёл над перевалом
Меня разбудил ночной телефонный звонок.
– Борис Алексеевич?
– Да.
– Здравствуйте. Вас беспокоит полковой священник Анатолий Песков. Мы закончили строительство Александра Невского храма и хотели бы украсить его стены фресками. Вы согласны нам помочь? Речь идёт о работе в Киргизии.
– Согласен!
– Спокойной ночи.
Священник отключил связь. Я повертел в руках мобильник и вдруг почувствовал, что привычная картинка моего московского быта рассыпается на фрагменты, напоминающие картонные пазлы. Так дробится на тысячи брызг (а-ах!) морская волна, ударяясь грудью о гранит утёса.
На следующее утро штатный ковёр-самолёт (с двумя пулевыми ранениями фюзеляжа) «выкрал» меня из лабиринта московских улиц и перенёс в девственные предгорья Тянь-Шаня, на заснеженный берег… неба.
– Неба? – удивитесь вы.
– Да, именно неба! Всматриваясь в будни лётчиков, я понял: небо начинается не где-то там за горизонтом, а совсем рядом, на взлётно-посадочной полосе российского военного аэродрома. Именно здесь голубая волна оплескивает вытоптанные СУ-шками и транспортными ИЛ-ами бетонные плиты человеческого побережье, выманивая «на глубину» крылатых авантюристов и романтиков!..
Но обо всём по порядку.
Рассказ 1. Командир
На аэродроме, у трапа самолёта меня встретил молоденький лейтенант и сопроводил к «командирскому» УАЗику, стоявшему неподалёку. В машине, которую командир части выслал лично за мной, уже «сидела» в полном составе эскадрилья из десяти, а может, двенадцати лётчиков. По их усталому и одновременно возбуждённому виду несложно было догадаться о недавнем завершении полёта.
Пропихнув меня на заднее сидение, лейтенант, со знанием дела открыл одну дверцу, другую и вдруг под общий хохот вмял своё щупленькое тельце третьим пассажиром на переднее кресло рядом с водилой. Водила по этому поводу произнёс короткую мужскую речь, и мы весело покатили по грунтовой дороге в расположение части. За рассказами о небесных курьёзах получасовой давности дорога пролетела совершенно незаметно. УАЗ подъехал к воротам КПП и «разметав» пристальное «око» роты охраны, въехал на территорию части.
У дверей гарнизонной столовой многострадальный командирский хэтчбек «выдохнул» лётный состав эскадрильи. В совершенно пустой машине остались только водитель, худенький лейтенант и я. Мы отъехали от столовой и через пару минут остановились у дверей персональной гостиницы командира части, где мне предстояло жить во время работы над росписью храма. Вручив ключи от отдельной комнаты с видом на полковую баню, лейтенант «отдал честь» и удалился.
Ощущение тверди под ногами после стольких часов, проведённых в зияющей пустоте неба, пробудило во мне зверский, не подобающий иконописцу аппетит. Я вышел на кухню. У плиты кашеварил военный лётчик, квартирующий по соседству.
– Вот, значит, как выглядят великие художники! – сказал он, не поворачивая головы.
«Кажется, меня здесь ждали» – подумал я и решил ответить собеседнику в том же шутливом тоне:
– Точно также легко определить лётчика в толпе людей, никогда не поднимавшихся в небо.
– Это как? – он обернулся и с интересом посмотрел на меня.
– Просто. По наличию третьего глаза!
Мы понравились друг другу, разговорились и в будущие дни пригубили не одну рюмку чая, встречаясь на кухне за дружеским ужином (если у моего собеседника не было ночных полётов).
Теперь разрешите Вам представить героя настоящего рассказа: полковник Российских ВКС Горшелев Антуан Олегович. Добряк средних лет, с огромной шевелюрой каштановых волос, тронутых первой сединой. Рост штурмовой, средний. Черты лица тонкие. Глаза печальные и внимательные. Вежлив, предупредителен. На шее крестик, и вот по какому случаю:
…Командир поредевшего штурмового звена подполковник Горшелев пятьдесят вёрст тянул подбитый, истерзанный штурмовик до аэродрома. Кое-как сел. Когда же выполз из кабины на руки товарищей и оглядел со стороны собственные крылья, крепко призадумался. Не верилось, что огрызок металла без хвоста, шасси, с пробитым фюзеляжем выпорхнул из рукавичек смерти и долетел до своих! На лицо было «обыкновенное ратное чудо».
«Да, тут без Бога не обошлось, – решил Антуан, – пора креститься!»
– Небо – это что? – спрашиваю.
– Небо? – Антуан замирает, – небо, как тебе сказать, это… мой дом. На Земле я в гостях. Томительно здесь, люди, вещи. А там! Знаешь, лечу я сегодня над перевалом, а внизу орёл, как кусочек старого времени, застыл, не шелохнётся, только крыльями чуть перебирает. Я кричу: «Коллега, посторонись!» А он в ответ: «Мир тебе, человек-птица!»
Боря, не поверишь, даже в автомобиле я руль порой на себя тяну. Эх, если б не гаишники!
…Помню, как-то полковник пришёл за полночь. Я сидел на кухне и распечатывал на ноут путевые заметки из блокнота. Увидев меня, он нахмурился, как-то неловко поздоровался, прошёл в свою комнату и закрыл дверь.
Утром следующего дня мы встретились на кухне. Ни о чём не спрашивая, я оглядел моего товарища и обратил внимание на припухлость век, верный признак бессонной ночи. Из приоткрытой двери его комнаты немилосердно несло прогорклым «ароматом» скуренного табака. Я знал, что сегодня полёты, и участливо поинтересовался:
– Антуан, как вы себя чувствуете?
– Неважно. В смысле, не важно всё это. Будете кофе?
Я принял приглашение, мы сели. Антуан положил растворимый порошок и начал заливать чашки кипятком. Вдруг он отставил чайник и произнёс:
– Какого.., прости Господи, Серёга попёрся за перевал! Себя убил, ладно, полтинник пожил, нашему брату и того достаточно, но лейтёху-то молодого зачем угробил? У того жена, два малыша. Теперь что, из ордена, как из топора, прикажешь мальцам кашу варить? Видишь ли, помочь союзничкам решил. Те обделались со страху и давай трындеть: «Русо, выручай!» Ему же нельзя было туда лететь, и он знал, что нельзя, интернационалист хренов!
Я закончил приготовление кофе и спросил:
– Это то, о чём сегодня Яндекс трубит?
– Ну да. Быстро разлетелось. Стоит где промашку дать, шакалы с блокнотами тут как тут – за уши не оттянешь!
Антуан механически помешивал сахар в чашке и рассеянно смотрел в окно. Над полковой баней набирало силы голубое гарнизонное утро. «Где он сейчас? – подумал я, – может, летят они бок о бок с погибшим другом над перевалом и, отработав боекомплект по условному или иному противнику, возвращаются домой с посадочным интервалом в пятнадцать секунд? А может, закадычный друг зазвал товарища погостить, да взглянуть на картографические особенности Того света. Бывает, в бою не разобрать – жив ты, нет ли. А лететь всё равно надо…»
Антуан закончил инструктаж молодых офицеров и неожиданно ночью съехал из номера. Утром на кухонном столе, за которым мы столько дней пили чай и собеседовали, я прочитал записку: «Боря, уезжаю не простившись. Выдалась оказия за Серёгу поквитаться. Помнишь, я рассказывал тебе про орла над перевалом? Не забывай его, дружище!»
Рассказ 2. Первое июня
Сегодня самое первое, самое «крохотное» июня – День защиты детей! Праздник в прошлом сентиментально-торжественный, ныне забытый совершенно и государством, и его взрослыми представителями. То ли детей не стало, то ли мы, растеряв российское прошлое, перестали думать о российском будущем? А может, что-то невзрачное, как похмелье, опутало житейские тяготы первого летнего дня? Так или иначе, нет детского праздника на Руси в 21-ом веке. Видимо, не нужны цветные мелки юным корифеям, с трёх лет свободно редактирующим мамину фотографию в последней версии ещё не русифицированной программы «Paint». Так решили родители.
…В далёкой и очень серьёзной российской воинской части, на территории неба, подконтрольной оперативной службе ПВО, выдалась дивная космическая амброзия. Солнце солировало!
Перед зданием гарнизонного клуба собрались нарядные молодые женщины (вы же понимаете – в таких частях служат только контрактники, и живут они не в казармах, а семейно в гарнизонном городке). Счастливые мамы, как цветущие ветви розария, возвышались над множеством празднично экипированных малышей. Играла музыка. Женщины-организаторы изобретали немыслимые соревнования для смышлёных, смешных и милейших карапузов. Кто-то прыгал через верёвочку, кто-то рисовал мелками на асфальте, кто-то картавил в микрофон – веселились все!
Глядя на праздник будущей осмысленной жизни, я невольно думал, что каждую минуту этот человеческий рай может вздрогнуть от рёва гарнизонной тревоги. Огромные папы с ружьями и гранатами на глазах притихших от ужаса малышей побегут на огневые точки, не успев даже попрощаться с любимыми крохами. А мамы, прижав к груди свои испуганные сокровища, побросают на асфальт всё лишнее – сумки с переодеванием, коляски, апельсины и помчатся, как сполохи вихря, в бомбоубежище, о котором им столько раз говорили заботливые папы…
Да продлит Господь мгновения земного рая! Быть может, тогда мы, наконец, забудем горькое правило теории Дарвина: ради выживания и благополучия следует всё время немножечко бояться. А наши души, одолевшие страх, станут лёгкими, как пепелы[1], поднимутся в небо над гарнизонными ПВО и полетят в будущий день «на разведку» всеобщего личного счастья!
Зимовка-жизнь
Грязный мартовский сугроб таял в лучах весеннего солнца. Из-под сугроба в широкую проталину стекал тоненький мутный ручеёк талой зажоры. «Как неприлично!» – вздыхал он, глядя на мокрую дорожку. Это был воспитанный сугроб. Несмотря на горечь прощания с миром (он прекрасно понимал, что его ждёт), сугроб хранил уважение к окружающей его территории.
Этой территорией была детская дворовая площадка, укатанная зеркалами весенних луж. Лужи добросовестно отражали яркое голубое небо, и печальный сгусток бурого снега казался лишним в палитре талой детской ойкумены. Это чувствовал сугроб и морщился от стыда при каждом всплеске солнца на голубой поверхности луж. «Поскорей бы уж, что ли, – бормотал он, припоминая свою короткую, наполненную трогательными событиями зимовку-жизнь.
…Снег валил вторую неделю, а дворник Семён пил. Пил Семён крепко, на работу выходил, пошатываясь, падал и подолгу не мог подняться. Старушки посмеивались: «встанет – не встанет». Семён им грозил почему-то не указательным, а большим пальцем. Не имея сил подняться, он уползал к себе в дворницкую и там раскатисто, на весь двор храпел. Обычно запой у Семёна продолжался неделю, но в этот раз пил Семён целых четырнадцать дней.
На пятнадцатый утром он вышел из дворницкой и давай расхаживать по двору. Мороз в тот день ударил под тридцать, а ему хоть бы что. Три часа без передыха снег грёб. Тогда-то и навалил Семён огромный сугроб возле песочницы. Решил он на следующее утро перебросать его на газоны, но детвора в тот же день «обкатала» сугроб, и получилась классная горка. Так сугроб начал своё общественное служение.
Резвые выдались в ту зиму детишки! Сколько их было – маленьких, больших, вредных, простодушных – всем сугроб охотно подставлял укатанную детскими салазками спину. И разговоры их помнил наперечёт, и повадки.
Вот, к примеру, строит мальчик снеговика, катает из снега шары, бегает домой за морковкой, а другой отсиживается в сторонке и, вроде бы, ни при чём. То́лько первый закончит свою работу, второй с криком вскакивает с соседней лавочки и в хлам разваливает белоснежное чудо, готовое вот-вот ожить.
Совершив акт несовершеннолетнего вандализма, разрушитель тотчас убегает и прячется где-нибудь в соседних дворах. А первый, отревев своё маленькое горе, катает шары заново.
«Нет, – размышлял сугроб, – из того, второго, строитель не получится. Разве что, революционер какой, или бандит». Конечно, сугроб не мог знать, кто такие революционеры и почему они разрушают то, что создали другие. Но кто такие бандиты, сугроб знал хорошо. Однажды на его глазах два взрослых парня отняли у женщины сумочку. Эта женщина потом долго сидела на скамейке и горько плакала, повторяя: «Бандиты, бандиты!..» На другой день мужчина спортивного вида приволок пару сопляков, укравших ту самую сумочку, и показал их пострадавшей женщине. «Они?» – строго спросил он и хорошенько встряхнул обоих. «Они, – подтвердила женщина, принимая из рук мужчины свою сумочку, – вы их отпустите, пожалуйста, им же больно». Мужчина разжал кулаки. Один из хулиганов бросился бежать, оборачиваясь и крича непристойные ругательства, а другой подошёл к женщине и, хлюпая носом, просил простить его. Мужчина в растерянности смотрел то на одного, убегающего прочь, то на другого, вытирающего рукавом слёзы. А женщина сказала: «Выходит, наш дворик – гора Голгофа! Надо же…». Что значит «гора Голгофа», сугроб не понял, но понял одно: есть такие места, где проявляется в человеке и хорошее, и плохое. И что это особенные места.
Всю зиму сугроб служил детворе первоклассной горкой. К его животику пристроили подходы, в подходах вырубили ступеньки, удлинили спуск. Всё это делали сами дети. А высокие сильные мамы стояли в стороне, болтая о каких-то безделушках, и ни разу не помогли малышам в делах капитального снежного строительства.
Время шло. Наступила весна. Странная она, эта весна. Согласитесь, когда приходит лето, оно не обрывает весенние цветочки, а любуется ими, украшает пестики да тычинки ягодками, чтоб ещё краше стало. Увы, после лета наступает коварная осень. Она срывает и топчет дождями летние труды, как тот злой мальчишка, что разбил снеговика. Конечно, осень, она красивая, особенно поначалу, но под старость уж очень зла! Только зима укрощает строптивую красавицу, прикрывает её наготу, покоит душу…
Так думал крохотный бурый сугроб, оглядывая прощальным взором подслеповатых карих глазёнок голубой простор детской площадки. Последние кусочки свалявшихся декабрьских снежинок таяли и убегали прочь в весёлом ручейке мартовского половодья. Сугроб закатил глазки к небу.
На землю падали крупные капли первого весеннего дождя. Ему же казалось, что в голубом небе беззаботно кружатся белые завязи и, как манна небесная, падают на воспалённую, выжженную солнцем землю.
«Как хорошо! – подумал сугроб, исчезая, – я в раю!»
Собеседники Бога
Он сидел в инвалидной коляске повышенной комфортности и медленно ждал смерть. Он понимал: ждать придётся, может быть, не один год, и тогда впереди ему предстоят многие дни унизительной беспомощности. Конечно, родственники и друзья нежно любят его, но любят скорее то восхитительное воспоминание, когда он, сильный, статный, как древний Архимед, держал в ладонях рычаги благополучия многих близких ему людей. Они кормились от него. Он же трудился и жертвовал здоровьем не столько ради собственного «я», сколько ради любви и ответственности перед дорогими ему людьми. К сожалению, вечный двигатель тридцатилетнего трудоголика, как правило, к полувековому юбилею заметно изнашивается. Приходится чаще обычного поновлять и смазывать детали. И что самое неприятное, наводить вынужденный лоск на места, утратившие свежесть. Так или иначе, прошло ещё пятнадцать лет после юбилейного «полтинника», в течение которых вечный движок, не выдержав первичных «ве́ковых» испытаний, откровенно развалился на части. А ещё год спустя потребовалась обыкновенная инвалидная коляска.
Так Гоше выпала последняя и недолгая величина земной жизни. Жизни, в которой, со слов любящих домочадцев, он «продолжал быть необходимым и желанным…»
Мы умиляется, наблюдая короткие параолимпийские дорожки и «счастливых» призёров, за спинами которых стоят физически полноценные помощники. Наша душа замирает в храме, глядя как «подходит» к причастию верующий прихожанин в инвалидной коляске. Мы вежливо отступаем в сторону, или стараемся ему помочь. А после литургии правим его колёса по ступеням паперти и помогаем довести коляску до ворот. Сказав пару ободряющих и поздравительных слов («С причастием!»), участливо передаём нашего брата-инвалида сопровождающим.
Мы возвращаемся к собственным заботам, краем глаза наблюдая, как машина с неприкрытым багажником, из которого торчит та самая инвалидная коляска, поспешно покидает стоянку.
«Круто!» – улыбаемся мы. Нам не приходит в голову, что храмовые туалеты не приспособлены для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями…
Обездвиженность – самая скорая дорожка к смерти. Тело инвалида сопротивляется этому скольжению в никуда, но как-то потешно. Нет драматургии. Всё всем ясно, вопрос только времени.
Однако, и в этом состоянии, представьте, есть свой смысл! Не надо прилагать мегатонны энергетических усилий, играя в фитнес с вечной жизнью. Человек с ограниченными житейскими возможностями получает право общаться с бессмертием на равных – он избран! Ему незачем бояться смерти. Боится опасности тот, кто надеется её избежать. Человеку же в инвалидной коляске не грозит ничего сверх того, что уже случилось.
Пунцовый распадок вечерней зари опустился за чёрные зубцы многоэтажек. В комнате как-то сразу стало темно и неуютно. Гоша включил лампу на рабочем столе. Через час постучит в дверь жена и, не дожидаясь ответа, войдёт с вечерней уткой и полотенцем.
Ходики на стене пробили десять.
«Господи, помилуй! – отозвалась Гошина душа, представляя любящие глаза жены, – благослови…»
Слово о смысле жизни
Приходит время, и мы задумываемся над смыслом собственной жизни. Наши отношения с окружающим миром больше не строятся по принципу натурального обмена: ты – мне, я – тебе. И пусть мы с годами становимся философами, не знающими конечного пристанища своим мыслям. Что за беда! Сказал же Сократ: «Я знаю, что я ничего не знаю».
Есть замечательный текст. Лекция профессора Московской Духовной академии Алексея Ильича Осипова «Почему Христос не родился императором?» Действительно, если бы Христос родился в венценосной семье и годам к двадцати взошёл на трон, сколько хорошего Он успел бы сделать за время Своего правления! Ведь процветало унизительное бесправие одних и олигархическая вакханалия других – рабство. Так нет же. Христос родился в семье простого плотника, до тридцати лет помогал отцу с матерью и только в течение следующих трёх пытался кого-то вразумить, кому-то помочь, кое-кого вылечить. Странно!
Абсолютное большинство человечества, населявшее Землю в те далёкие времена, понятия не имело о том, что Бог «гостит» на Земле. Когда же Христос явил свою Божественную Сущность – Воскрес и Вознесся на небо, четыре пожилых человека, как смогли, записали о Нём «воспоминания». И вскоре, за исключением лишь Иоанна, трое из них разделили мученическую кончину апостолов, свидетелей земной жизни Спасителя.
Да, такую жирную точку на Историческом пергаменте враг рода человеческого ещё не ставил!
…Смысл жизни никогда не открывается человеку ради удовлетворения его праздного любопытства – «хочу всё знать!» Это в телевизионном шоу почтенные знатоки соревнуются в количестве ячеек памяти, забитых, как в магазине «Дисконт», всякой всячиной. Если бы Сократ предложил свою кандидатуру на подобное мероприятие, его бы наверняка высмеяли: «Он же ничего не знает! И ведь знает, что ничего не знает, а в знатоки норовит. У – у, наглый антик!»
Впрочем, я думаю, Сократ и сам бы не согласился оказаться в компании любопытствующих интеллектуалов. Говорят, не к добру это.
Смысл жизни проявляется всегда неожиданно.
Так всплывает подводная лодка в чужих пределах, совершая кругосветное боевое дежурство. Мокрый корабельный корпус искрится в лучах солнца. Команда застыла в торжественном построении на хребте огромного симпатичного «морского чудовища». Груди матросов вдыхают йодистый аромат натурального воздуха естественной концентрации! Хочется жить!..
Но пора, пора на глубину, до следующего прозрения.
Так и Христос пришёл в мир не ублажить мир историческими свершениями доброго дяди, но исправить то внутреннее недомогание, которое тысячелетиями заставляло человека поступать противу естественного желания блага. Судите сами: каждый из нас хочет для себя мира, любви, процветания (патологические исключения не в счёт), и в тоже время почти каждый из нас совершает в жизни насилие и сеет злобу. Великий мудрец древности апостол Павел говорил: «Творю не то доброе, что хочу, но то злое, что ненавижу». Конечно, в словах апостола многое преувеличено, но формула человеческого неблагополучия им высказана предельно ясно.
Бионика, топ-наука о природе человека, открыла прямую связь внешних макропроцессов (поведение, расстановка приоритетов) с неприметной работой мельчайших наночастиц. Выходит, микроповреждения наших самых интимных органов (души, совести, сердечной интуиции) более губительны для нас, чем телесные макроизъяны. А ведь именно к малой харизме человеческого «я» ластится грех. Именно её старается лукавый разрушить в первую очередь. Потому Христос и пришёл не как трибун, но как Целитель.
Стёрлась во времени бесо́ва мета. Физическая смерть апостолов обернулась духовным рождением Церкви Христовой. В ней (как в «Частной клинике»!) Господь по сей день оперирует человеческий микрокосмос, совершая невидимую стороннему глазу работу.
Оттого мы отключаем голубой экран телевизора, набитый «по полное немогу» жёлтой патокой любопытства, и задумываемся о Смысле собственной жизни.
В такие минуты, друзья, будем к себе особо внимательны: на горней лужайке нашей интимной сущности, где пробиваются к солнцу заветные нано-цветочки, появился Хозяин!
Три мудреца
Три мудреца в одном тазу Пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, Длиннее был бы мой рассказ. «Мелодии Матушки Гусыни»(английская потешка 1765 г.,русский перевод Маршака)Грязные фиолетовые тучи толпились над поверхностью моря, выдавливая за горизонт тонкую прослойку чёрного воздуха. В эпицентре взъерошенной стихии, потеряв борозду – фарватер, метался вверх и вниз едва различимый металлический предмет, напоминавший огромный таз для стирки белья. В тазу сидели три человека. Капюшоны над их головами, широкие, словно царственные балдахины, и длинные седые бороды атрибутировали морских скитальцев как трёх затейливых мудрецов, которые (несмотря на штормовое предупреждение!) вышли с вечера в море.
Трудно сказать, зачем они это сделали. Может быть, желание пытливого ума испытать катарсис в опасную минуту и тем завершить (или опровергнуть) логику всех предыдущих построений? А может, таз (для определённости будем так называть овальное плавсредство наших героев) случайно сорвался с привязи именно тогда, когда мудрецы, выстелив медное дно простыми бамбуковыми циновками, расселись для беседы?
Впрочем, нет. Теория вероятности признаёт «случайное» как «системное исключение из общего принятого правила». Поэтому говорить о непредвиденности случившегося, если мы действительно хотим понять, что же всё – таки произошло – не стоит.
Говорят, мудрость – первейшая броня от искушений мира. Ещё говорят: «Мудреца можно осквернить, изранить его тело, даже убить, но мудрецу невозможно причинить зло». Когда же мудрецов трое – что значат в пути ураган и будущая смерть!
Давайте вслушаемся в их тихую беседу. Под грозовым балдахином житейской бури наверняка льётся разговор о вечном!..
– Как долго мы в пути?
– Ты хочешь знать количество предстоящего?
– Друзья, количество жизни человека всегда одинаково. Я исхожу из того, что рождение и смерть – две неоспоримые доминанты в любой судьбе. Житейские различия несущественны. Стоит ли интересоваться предстоящим?
– Брат, ты полагаешь: сколь наши бороды схожи, столь схожи и судьбы? Не кажется ли тебе, что наши бороды только следствия происходящих в нас процессов, но никак не их объяснение!
– Ты шутишь, брат. Но согласись: по температуре тела эскулап судит о болезни человека. Причинно-следственные связи тем и хороши, что мудрец может заглядывать в суть и справа, и слева. Так рождается предвидение, которое всем нам хорошо знакомо.
– Если количество бытия не имеет смысла, то объясните, как в таком случае понимать мудрейший из законов – закон перехода накопленного количества в новое качество? Ведь на этом утверждении зиждется логика развития всякой жизненной формы! Мне почему-то кажется, что на том свете Божественная мудрость оперирует аналогичными понятиями. А значит, восхождение личности бесконечно.
– Или нисхождение. Зло – камень, который трудно вкатить на вершину горы. Рано или поздно камень всё равно сорвётся. И если человек ко злу достаточно привязан, ему не поздоровится!
– Коллеги, вы чувствуете, как усиливается ветер, и поднимается уровень воды на палубе нашего корабля? Скоро к нам пожалует целое море!
– Что ж, нас ждёт новое качество, если верить собственным словам.
– Будем помнить: рыба ищет глубину, а мудрец – мудрость!
– И то правда. Постичь премудрость вечного можно, только остановив время!
– И то правда.
– И то пра…
Лёшенька
Лёшенька рос мальчиком скромным. К восьмому классу он не попробовал ни одной сигареты, не выпил ни одной кружечки пива. И девочек у него тоже не было, хотя по натуре Лёша был мальчик влюбчивый и внутренне ласковый. Но клятая застенчивость каждый раз, когда приближалась какая-нибудь девочка, бетонной стеной вставала на его пути. Он отводил глаза, фантазируя непринуждённое знакомство, а когда, наконец, решался взглянуть на девочку ещё раз, её уже рядом не было. Она бежала к другому мальчику, размахивая оранжевым рюкзачком.
В каждой ясельной группе, в каждом классе общеобразовательной школы есть своя элита. Элита образуется из наиболее наглых, «отвязанных» детей. В их понимании, окружающее большинство – это сцена, на которой они играют свой спектакль. А плох спектакль, или хорош – неважно. По совокупности моральных качеств (воля, смелость, решительность, ум, доброта) члены элиты далеко не всегда доминируют в своей среде. Но сплочённость, инстинкт стаи, присущий всем человеческим выродкам, является в детской среде непобедимым козырем, от которого элита выстраивает игру на поражение противника и, как правило, побеждает.
Лёша никогда не входил ни в одну группировку по одной простой причине: он не умел подчиняться. Не потому, что не хотел. Нет, чтобы хорошо подчиняться, надо бежать торопливо в строй, знать наизусть команды и нештатные ситуации. А Лёша всё время опаздывал. Он слушался, когда необходимость в сплочении переставала быть нужной. Он пробегал огромное расстояние, чтобы успеть встать в строй. Но строя на том месте, куда он вбегал, уже не было. Нет, решительно, идея элитарного послушания не уживалась с трепетной Лёшиной креативностью!
Однажды случилось вот что. Элита «шла на вырубку». Для тех, кто не понимает, объясняю, ребята шли бить лохов. Лёша в это время делал уроки. Он любил заниматься на кухне, потому что из кухонного окна виден был весь двор со всеми событиями дворовой жизни. Он уже заканчивал математику, как вдруг из-за угла соседней пятиэтажки показалась ватага элитных пацанов с металлическими прутьями в руках. Лёшу как сдуло с табуретки. Через минуту он уже шагал рядом, напоминая при́даный к римской когорте отряд лучников.
– Те чё надо? – огрызнулся на Лёху Пузырь (так звали толстого белобрысого хама из соседнего класса).
– Я с вами, – ответил Лёша, задыхаясь от ощущения важности происходящего.
– Видал, Пузырь, и этот попёрся! – хмыкнул Седой. Мальчик по прозвищу «Седой» учился на год младше и стал школьной знаменитостью после того, как прилюдно задрал платье англичанке. Дурёха покраснела помидором, да как откинется в обморок. Народу сбежалось! А Седой, как в воду канул. Не пойман – не вор.
Лёша в тот же вечер рассказал папе про геройство Седого. Отец взял Лёшину руку, больно сжал её своими огромными пальцами и сказал:
– Эх, Лёшка, храни тебя Бог от этих молодцов! Мне-то они полжизни испоганили.
Лёша слышал от матери о том, что отец как-то не сдержался и рубанул кайлом одного шутника. Тот помер. Отца посадили. На зоне мужиков с характером уважают, но не любят. Тяжко отцу пришлось. Один раз в одиночку против камеры стоял. Не сломали, но порезали изрядно.
Лёша тогда не понял слова отца. Списал на давнюю обиду.
«Эх, батя, глянь в окно, махни рукой сыну-то!» – кипишился Лёшка, шагая с крутыми пацанами и посматривая по сторонам, видит ли кто его геройство.
Ватага завернула за гаражи и вышла на пустырь, откуда начиналась промзона.
– Вон они! – крикнул Седой, завидев трёх ребят поодаль.
Злоумышленники рассыпались и окружили жертву.
– О – бана! Здорово, парни! Какие вы бледненькие! Седой, глянь, мне их жалко. Может, мочить через одного будем? – захохотал Пузырь, жонглируя арматурой.
– Не, Пузырь, им обидно станет, давай всех! – ответил Седой и ткнул одного из ребят прутом в бок.
Пока пираньи смаковали грядущее лакомство, они не заметили, как сами попали в окружение рослых пацанов из монтажной учебки, открывшейся год назад на соседней улице. То, что эти трое монтажники, Седой знал, но не предполагал наводку. И теперь шнырял глазами, выжидая момент сделать ноги. Но монтажники были настроены серьёзно. Пришло их не меньше пятнадцати, да и вооружение у них было похитрее «отечественного»: что-то типа самодельных нунчак из мягкого кабеля с длинным крепёжным винтом на конце и ещё что-то, напоминающее спираль, из тонкой сталистой полосы.
– Какая встреча! – начал было один из них, видимо, старший.
– Да чё тут париться, Дрозд, наших обидели! – выскочил вперёд рябой парень и, как фраер, с оттяжкой загасил сигарету о ближайшую ладонь «элитных» пацанов. Ближайшая ладонь, как вы, наверное, догадались, принадлежала Лёшке, который от неожиданности и смущения не почувствовал боль.
– Гляди, Дрозд, а ему хоть что! Может, он не настоящий? Давай проверим, – с этими словами рыжий плюнул Лёшке в лицо и с размаху ударил в живот…
«Лёша, Лёша, где тебя носит!» – повторяла мама, накрывая стол для ужина.
– Семён, иди есть! – она позвала отца, закончив приготовления.
– Лёшка-то где? – спросил отец
– А бес его знает! Ты ешь. Придёт Лёша, куда денется.
В двери раздался звонок.
– Ну вот и он, – выдохнула мать и подумала: «Что это он звонит, ключ же есть?»
Она торопливо подошла к двери и взялась за ручку.
– Ой, что-то не можется мне, не ладно, – охнула женщина, оборачиваясь к мужу, – Семён, помоги.
Но отец уже был рядом. Они вдвоём как-то дружно и неловко открыли дверь. На пороге стоял Лёшин классный руководитель и, комкая в руках шапку, произнёс:
– Лёшу убили. Пойдёмте…
Мерная икона
Часть 1.
– Эй, Федот, ты-т едешь, али «not»?! – крикнул вихрастый парень, проросший с товарищами, как семейка грибов-опят, сквозь открытый полог кабриолета.
– Езжайте без меня, – улыбнулся Федя, – я не могу.
– Ну как знаете, товарищ Фёдор, как знаете!..
Кабриолет наваристо заурчал и помчался прочь, поднимая облако глинистой пыли над грунтовой посадской дорогой. Так сверхзвуковой самолёт буравит толщу прозрачного неба, оставляя позади себя ворсистый клиновидный след. След медленно тает, как бы говоря: «Смотрите, здесь только что пролетела обитаемая комета с крыльями, и она прекрасна!»
Фёдор взмахнул по-птичьи руками, повернулся и пошёл к дому. Сегодня утром ему заказали мерную икону. Написать небольшую иконку – дело привычное, вот только со сроком беда. Заказали в четверг, а крестины в воскресенье! Выходит, на письмо – день, два дня на просушку олифы – не до рыбалки.
Федя снял со стеллажа заготовку иконной доски с ковчегом[2] и широкими под обрез полями. Отмерил 53 см (рост новорождённого), резаком рассёк левкас[3] и ножовкой с мелким зубом отрезал лишние поля сверху и снизу доски.
– Андрей, значит, вот как, – Фёдор медленно выговаривал слова, как бы вживаясь в звучание имени святого, которого ему предстояло написать.
Предстояло написать образ преподобного Андрея Рублёва.
Родители по святцам[4] имя малышу не подобрали. Почему? Может, потому, что всей семьёй мечтали: родится мальчик, быть ему Андреем в честь погибшего деда.
Дед Андрей Петрович был на селе иконописец, хороший иконописец. Попросили его как-то роспись поновить в куполе приходского храма. Настил для работы соорудили наспех, из того, что под рукой оказалось. Вот досочка-то под ним возьми и тресни. Ему б за перила ухватиться, а он краски держит, бросить не хочет. Так и разбился дед Андрей. Пол-то каменный, а высота, поди, метров тридцать была. Всем миром хоронили. Добрый он был. Народ такое не забывает. Поди, третий год пошёл, а всяк на селе его в записочках пишет: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем раба верного, иконника Андрея».
Такая история.
«Что ж, раньше-то не пришли? – выговаривал Фёдор заказчику. А тот: «Не случилось раньше. Выручай, Федя, денег – сколько скажешь».
– Да что деньги, кто ж Рублёва за деньги пишет? Сколько дашь – и Слава Богу, – отвечал Фёдор, почёсывая затылок, – ладно, иди, как-нибудь управлюсь, Бог даст.
Фёдор положил на рабочий стол иконную доску, достал с антресоли десяток увесистых книг и стал их просматривать. Образ преподобного Андрея больше известен как поясной, а тут нужна ростовая фигура. Пересмотрев книги, Фёдор остановился на «Новгородских таблетках»[5], выбрал одну из монашеских фигур и стал калькировать образ. Калька была уже почти закончена, как вдруг он остановил перо и произнёс вслух:
– Нет, буду рисовать с руки. Негоже Рублёва переводить с Антония.
Часть 2.
Древние говорили: «Главное в иконном деле – руку свою подпрятать под Бога». Это значит сработать икону так, чтобы на святом образе «не проступил» мо́рок[6] человеческих страстей и переживаний. Почему? Молящийся человек приходит в храм не любоваться церковным искусством, а поведать нужду Богу. Об этом часто забывают. Икона, как некая пиктограмма, должна указать прихожанину кратчайший путь – «Бог там!»
К примеру, входит в храм заплаканная женщина. У неё несчастье – муж сорвался с катушек и крепко запил, вторую неделю мучает себя и семью. Даже детей пришлось отвезти к матери, а то, не ровён час, прибьёт малышей. Трезвый-то он добрый, ласковый, а найдёт чума пьяная – хоть «святых выноси»!
Женщина оглядывается, не знает, куда свечу поставить, где сердце открыть.
– А ты, милая, поставь свою свечку-то Бонифатию. Он в энтом деле – первый помощник! – советует старушка за ящиком[7], – Ставь, ставь, он всё Богу нашему передаст!
Глядит женщина в писаный образ Бонифатия и беззвучно губами шевелит, просит, значит. Вот тут и становится икона иконой. Или нет. Выплакала она, сердешная, беду (всё не наедине), да пошла домой с надеждой на Бога. Значит, удалась икона. А если «очаровал» её Бонифатий: как живой, смотрит с иконы полными слёз глазами, жалеет её, бедную, будто говорит: «Не плачь, дщерь, ступай с миром, я тебе помогу!»
Кто знает, впорхнула молитва женщины в чертоги Божьи или «увязла» в писаных слезах Бонифатия?..
Иконописание – тонкое дело. Смотришь на древнюю икону и независимо от того, кто на ней изображён – думаешь о Боге. Наверное, древним тоже приходилось ломать голову над задачей «незримого» соприсутствия иконописца в святом образе. Потому иконы, писанные со страхом Божиим, издревле на Руси не подписывались.
Вообще, страх Божий – великое состояние души. Это не мирской трепет перед наказанием, не пугливое угодничество перед сильным, это – доверие. Высокое доверие души, малой частицы огромного Вселенского Духа, к своей «Митрополии». Доверие, которое метлой выметает из нас недобрые мысли и похотливые страсти, всё то, что противно Божественному первородству нашему.
Часть 3.
Похожие мысли кружились в голове Фёдора, когда он намечал фигуру преподобного Андрея. Линии ложились ладно. Фёдор даже удивился, глядя, как его резец без помарок наносили на левкас строгую графью[8] образа.
Вскоре работа подошла к цвету. Краски Фёдор принципиально готовил сам. Он пробовал несколько раз пользоваться готовой темперой, но палитра цветов, созданная не им, каждый раз уводила работу в сторону. Он не мог побороть искушение «блеснуть» цветовыми возможностями сочных фабричных красок, увлекался живописью и вскоре забывал, зачем взял в руки художество.
Когда же красочные смеси он творил, т. е. готовил сам, подбирая пигменты под замысел, колорит иконы просматривался уже заранее. Оставалось только выкрасить и прописать изображение. «Странно, – размышлял Фёдор, – «травяная зелёная» – хорошая заводская краска, но мёртвая, а смешаешь натуральную охру с глауконитом – полынью пахнет!»
Фёдор открыл холодильник, достал пару куриных яиц, вскрыл каждое с толстого торца и аккуратно отделил желток от белка (это надо делать очень тщательно, т. к. белок пенит краску). Затем разбавил желтковую массу белым столовым вином и добавил пару капель из кувшина с надписью «Святая вода»…
Время близилось к обеду.
– Федя, всё готово, можешь мыть руки, – прозвенел из кухни весёлый мамин голосок. Мама Феди в молодые годы пела в знаменитом Уральском хоре. Потом вышла замуж, переехала с мужем «в Европу», поближе к Москве. На новом месте прижилась, родила сына, а вот петь не перестала. Всё, что ни делала – делала с внутренней сердечной музыкой. Оттого всегда казалась лёгкой, как мажорная нотка. Когда Григорий бросил семью, польстившись на другую женщину, певунья не замкнулась в горе. И лишь наступало утро, она снова пела, пела ради сына. Такая была птица.
Соседские старухи ей вслед верещали: «Мужика потеряла, а сама – хыть бы что!» Маленький Федя спрашивал маму: «Мам, чего они на тебя зарятся?» Она отвечала: «А кто их знает, любят, наверное!..»
Часть 4.
– Мам, я потом! – бросил через плечо Фёдор и склонился с курантом* над будущей краской.
Когда готов рисунок и процарапана на левкасе графья, начинается живопись. Живопись может быть простой и сложной в зависимости от художественного замысла. Этот этап работы над иконой является, пожалуй, единственным, когда иконописец может проявить свои личные творческие качества.
На последнем же этапе, который именуется «пропись» (пропись деталей), работа, как и при нанесении рисунка, должна быть выполнена строго канонично, иначе икона не проявит себя.
Кстати о каноне.
Одни благоговеют перед понятием «канон», другие отмахиваются от него: «Не приведи, Бог!». А ведь Бог устами Своих угодников благоволит именно канону как древней основе всякого художественного творчества.
«Представьте, – говорил великий мыслитель XX-ого века о. Павел Флоренский, – художник держит на руках ларец, в котором собрано всё его жизненное творчество. Чем крупней художник, тем крупнее его ларец. Стоит такой художник посреди житейских дорог, да людям содержимое ларца показывает. Те смотрят, дивятся – лепота! Но не всем тот ларец виден за головами первых. Тысячи людей проходят мимо, а ларец примечают – единицы.
Вот вам другой случай. Из поколения в поколение работают по единому правилу сотни художников. Каждый из них не слишком одарён художеством, не сравнить с тем первым, это точно. Но складывают они свои скромные ларчики вместе. Сначала малая горка складывается, но скоро гора великая из ларчиков вырастает. Каждый художник добавляет к общему правилу ма-аленькое украшение, следок неповторимой личности своей. И от тех малых украшений искрится гора, как звёздное небо!
Вот ещё один мастеровой художник подходит к горе. Поднимается по ступенькам и кладёт свой ларчик на самую верхушечку. Виден его ларь далеко-далеко. Тысячи людей оглядываются, да свет от того ларчика примечают!
Вот, что значит канон. Канон – это традиция, очищенная от всего случайного. Это волшебный инструмент, которым умная рука и доброе сердце открывают дверцы в горние[9] мастерские, где творится Правда о Боге, а не эмоциональные фантазии гениев Европейской живописи. Работать в каноне – высокое наслаждение церковного художника и высокая мера его личной ответственности перед будущим.
Рукастый мазила, которому, что натурщицу раздеть, что Деву Марию намалевать (всё едино, платили б деньги) – то великая беда церковная. Поди, разбери «по одёжке», что у него в голове. Припасть к ручке «Благословите, батюшка!» – дело не хитрое.
Фёдор взял кисть и стал круговыми движениями плавить краску по левкасу. Понятие «плавь» – чисто русское. Византия не знала подобного метода наложения краски. Жидкая акварельная красочная масса под кружением кисти образует поверхность пульсирующего тона. И это не небрежная неровность, но способ заставить будущее изображение… «дышать». Да-да, именно дышать! Нижние красочные плави, укрытые позже многими лессировками[10] – это «лёгкие» будущей иконы.
Оттого древняя русская икона, несмотря на всю её каноническую условность, воспринимается как живая, но живая «не по плоти, а по духу».
Увы, сейчас мало, кто так пишет.
За работой время, которое, как правило, никогда никуда не спешит, начинает торопиться.
На улице стемнело. Фёдор включил настольную лампу и при электрическом тёплом свете оглядел работу. Икона шла нормально. При новом освещении он увидел некоторую неясность отдельных тональных отношений, но это было легко поправимо.
Федя решил не обижать маму и отправился, наконец, на кухню.
Часть 5.
Когда через двадцать минут он вернулся в мастерскую… его уже ждали.
У рабочего стола стояли два человека. Складки простых суконных монашеских мантий, длинные пологи капюшонов древнего образца, как чёрные реки, несли свои «воды» среди гористых неровностей иноческой одежды. Один из гостей казался старше другого. Впрочем, внешность монаха всегда обманчива.
– Здравствуй, Феодор, – распевно произнёс старший монах, – прознали мы, что ты в воспоминание Андрево икону пишешь. Так ли?
– Д-да… – с трудом ответил ничего не понимающий Федя.
– Вот же, Андрей-то, гляди, – монах указал на товарища лёгким касанием, – Рублёв, он и есть.
Федя больно ущипнул себя за ухо, он видение продолжилось.
– Господи, радость какая! – вскипело сердечко Фёдора. Он бросился к столу, – Икона ещё не закончена, осталась пропись…
– А то мы не видим! – засмеялся старший, взяв с рук Фёдора икону.
– Данила, что зря шумишь. Лучше дело скажи, – нарушил молчание второй монах, которого старший брат называл Андреем.
– Даниил Чёрный!.. – не веря своим глазам, пролепетал вконец смущённый Федя.
– Чёрный? Почему «чёрный»? – удивился монах, – Ах да, говорили мне, что писаны об нас с Андреем какие-то «Сказания…». Да много ль там правды?
– Ты вот что, Феодор, – перевёл на себя разговор Андрей, – когда мы уйдём, помолись отцу нашему богоносному Сергию. Он нас к тебе послал. Просил передать, что б шёл ты своей дорогой. А ежели какое препятствие повстречается на пути, не унывал и просил помощи у Бога. Да нас, грешных, в своих молитвах не забывал. Это для вас мы преподобные. Нам-то Господь указал место. Все мы учимся любить. Сначала на Земле, потом на Небе. Если тебе кажется, что Господь рядом с тобой, пришёл ради тебя и от большой к тебе любви, знай: не Господь с тобой рядом, а бес лукавый. Тебе самому идти до Бога надлежит, тебе самому! И не слушай «хитрецов крестопоклонных». Много их. И накормят, и спать уложат. Утром проснёшься, а крестик подменили. Не тот крестик, и надпись на нём не та…
Андрей замолчал и через плечо Даниила взглянул на икону.
– Лепно пишешь, толково. Только ешь меньше и икону люби. Познаешь великое от неё утешение!
И тут Фёдору стало плохо. От обилия нахлынувших чувств он рухнул было на пол, но Андрей подхватил юного изографа и бережно положил прямо поверх каких-то бумаг на диван…
P.S.
Когда Фёдор пришёл в себя, никого в мастерской не было. Он лежал на диване, боясь повернуться и оглядеть комнату целиком. Его страшила будущая правда о том, что дорогих сердцу гостей нет.
Фёдор медленно приподнялся, подошёл к столу и взглянул на…
Икона была дописана чьей-то невероятно сильной рукой и буквально искрилась художественным мастерством и молитвой. Он взял икону дрожащими от волнения руками и поцеловал край доски. «Господи, сподоби меня на такое письмо!» – вздох восторга и одновременно страха вырвался из его уст.
– Это и есть теперь твоё письмо, – ответил как бы ниоткуда голос Андрея.
Фёдор опустился на колени перед образом преподобного Сергия Радонежского и стал горячо молиться Богу.
Борины грёзы
Боря прикрыл ладошками полные слёз глаза.
– Боря, не три глаза, что случилось? – мама бережно опустила Борины руки.
– Мама, три… три… – Боря начал говорить, но слёзы вновь брызнули из его глаз.
– Боря, успокойся, пожалуйста, и не три глаза! – с ноткой строгости в голосе повторила мама.
– Мама, три…
– Что «три»? Объясни, наконец, что случилось?!
– Мама, три… ноль, мы проиграли три ноль! Мне страшно, мы проиграли!..
– О, Господи, всего-то!
В тот памятный вечер команда российских мастеров кожаного мяча проиграла малоизвестной сборной Уэльса с позорным для Российской империи счётом 0: 3. Для Бори полуторачасовое Национальное позорище стало худшим периодом его одиннадцатилетней жизни.
Боря «с детства» увлекался футболом и мечтал стать великим футболистом.
Как правило, такие мальчики посещают футбольные секции и школы. Но Боря об этом как-то не задумывался. Само прикосновение к мячу окрыляло его мечтательную натуру, и он часами гонял в полном одиночестве по двору коричневый ниппель, представляя вереницу окон дворового колодца как эллипс Большой арены в Лужниках, или, на худой конец, Estadio Santiago Bernabеu[11].
Однажды отец, уезжая в многомесячную командировку, снял на лето для мамы с Борей дачу в Подмосковье. Лишь только по приезду распаковали вещи, Боря взял мяч и побежал на край деревни. Он приметил в поле за коровником футбольные ворота, когда они с мамой съезжали с большака на деревенскую улицу. На самодельном футбольном пятачке с двумя покосившимися воротами никого не было. Боря по привычке предложил капитанам команд жребий. Его команде достались правые ворота и право первого удара по мячу. Игра закипела. Боря, сверкнув дриблингом, обыграл подряд трёх защитников противника и был готов пробить в дальнюю девятку, как услышал за спиной смех деревенских пацанов:
– Эй, ты, толстый, ворота не сломай!
Я совсем забыл сказать, что Боря действительно был упитанным мальчиком. Слава Богу, в одиннадцать лет едкие насмешки ещё не ранят глубоко и нестерпимо больно.
Боря на бегу попытался обернуться, но споткнулся о кочку и кубарем покатился по траве. Когда он встал, ребята уже подошли и встали в кружок, с любопытством рассматривая новичка.
– Ты чё, футболист? – спросил высокий рыжий парень с лицом в красно – коричневую кнопку.
– Да, – ответил Боря, – я занимаюсь.
Зачем он стал врать, ведь никто его к этому не побуждал? Очень захотелось казаться в глазах этих мальчишек большим и сильным. (Первый мужской звоночек прозвонил в его сердце, сработав на опережение неторопливого времени жизни.)
– А где занимаешься?
– В «Торпедо!», – Боря врал всё твёрже и естественней. Наверное, «кто-то» нашёптывал ему, подтрунивая над мальчишечьей гордостью: «Ну, давай, покажи им!»
– А за деревню будешь играть завтра с Дунинскими?
– Буду. Меня зовут Боря.
Парни чинно пожали друг другу руки. На том и расстались.
Всю ночь Боря ворочался и поскрипывал пружинами старой железной кровати. Мысль о том, что он завтра первый раз в жизни выйдет на поле не один, страшила и увлекала одновременно. Настал час, когда он должен проявить филигранную технику, которую поставил сам себе за годы тренировок «на разных стадионах мира». Он днями работал у стенки, обучал себя технике приёма мяча и точному пасу в одно касание.
Боря вспомнил мёртвую тишину трибун, он готовится бить то самое роковое пенальти в ворота сборной Англии. И тысячеголосый рёв восторга над его головой, когда после победного гола он покидал игровое поле!..
Воспоминаниям, казалось, не будет конца. Но вот пропели первые петухи. В рубленное окошко над Бориной кроватью впорхнул первый солнечный зайчик, но с мальчиком ему встретиться не удалось – Боря под утро крепко уснул.
…Команды выстроились в центре поля для приветствия. Судья в окружении двух капитанов бросает жребий. Приглядись, читатель, внимательно приглядись! Один из капитанов – наш… Боря! Да-да, своими ответами он произвёл на деревенских пацанов неотразимое впечатление, и судьба капитанской повязки была решена. «Веди нас, Борис, к победе!» – съёрничал голкипер Вовка. «Победа, победа!..» – хором закричали ребята, и Боря закричал с ними вместе, воинственно поднимая руку, перевязанную красной капитанской лентой.
Раздался свисток судьи, и игра началась. Команда «Бориной деревни» при каждом владении мячом играла только на Борю. Все с нетерпением ждали, что «Торпедо» вот-вот покажет столичный класс и накидает Дунинским покуда некуда. Но игра у Бори… не заладилась. Ему, привыкшему без помех контролировать ситуацию и самому распоряжаться мячом на каждом игровом пятачке, всё время мешал соперник. Оттого его отточенная техника распадалась на груду несвязанных друг с другом деталей. Мяч, который должен был катиться прямо под ногу, от чужого касания вдруг менял направление и переставал слушаться. С каждой следующей минутой товарищи по команде всё реже выискивали Борю и всё чаще организовывали атаки друг с другом.
Перед концом первого тайма Дунинцы ломанулись по центру, вышли к штрафной, и кто-то не слишком прицельно пробил по воротам. Мяч взвился в воздухе, чиркнул о Борину ногу, изменил направление и влетел в ворота родной деревни… Капитан «дуняшек» подскочил к Боре и демонстративно пожал ему руку под хохот и свист дунинских болельщиков.
– Замена! – кто-то крикнул со скамейки запасных. К Боре подбежал тот самый рыжий парень и, немного смущаясь, сказал:
– Борь, мы тебя меняем. Ты уж того, отдай повязку.
Боря механически развязал красную капитанскую ленту и пошёл с поля под оглушительный свист болельщиков обеих команд. Н-да, в Мадриде, помнится, всё сложилось иначе…
После ухода Бори игра выровнялась, подуставшие дунинцы стали всё чаще проваливать оборону и к концу матча отхватили покуда некуда.
– Вот что значит, вовремя произвести замену и удалить слабое звено! – умничал после матча голкипер Вовка…
Когда Боря вернулся домой, мама весело спросила сына: «Как сыграли?» Боря полез на печку и первый раз в жизни попросил маму: «Мама, не трогай меня, я расту…»
Голубая Вольва
Голубая Вольва выкатилась из толчеи городских улиц и юркнула в неприметную подворотню старого дома.
– Какая машина! – вздохнул сидящий неподалёку бомж, – Да…
– Голубенькая! Ах ты, рыбка… – улыбнулась Валя, рассматривая двор с балкона, увитого многоярусными цветами.
Яркое июльское солнце гравировало причудливый рисунок теней на фасадах окрестных домов. Оттого двор, утопающий в фиолетовой тени, казался глубоким колодцем, сквозь прозрачную воду которого можно было разглядывать жизнь дна.
…Голубая форель притулилась у газонной ограды. Она шевельнула плавниками-дверцами и вскоре оказалась в окружении группы из шести энергичных молодых людей. Валя обратила внимание, что пять разновеликих мужчин имели чёрные головные уборы, а единственная женщина, одетая в красный брючный костюм, была в ослепительно белой шляпе с широкими волнистыми полями. Компания двинулась к Валиному подъезду. «Интересно, куда это они?» – Валя поспешила в прихожую и приоткрыла дверь на цепочку.
Шторки лифта гулко лязгнули в глубине шахты, лифт стал медленно подниматься. «Два, три, четыре…» – отсчитывала она этажи и вдруг поняла, что компания направляется на пятый этаж! «Ой, это к кому же?» – не на шутку обеспокоилась Валентина, припомнив, что все соседи разъехались по дачам, и на пятом этаже она осталась единственным живым человеком.
Лифт грузно остановился, автоматические шторки открылись, и на площадку вышли шесть уже знакомых нам человек. Валя поспешила прикрыть дверь и стала в «глазок» наблюдать за происходящим. Один из мужчин, оглядев номера квартир, махнул рукой в сторону Валиной двери и негромко сказал: «Вот эта».
Валентина, как ужаленная, отпрянула от «глазка», рухнула на корточки и залепетала: «Свят, свят, свят!..» Никакой вины она за собой не знала, но бывает же такое: не виноват человек, а в историю попадёт – за сто лет не вымолить!
Компания подошла к её двери. Брякнул как-то особенно дерзко входной звонок. Валентина вздрогнула телом и, кутаясь в шерстяной платок, глухо отозвалась: «Кто там?..»
…Женщина «вычитывала» последние страницы нелепого, беспокойного сна, когда солнечный зайчик ударил лапкой по тоненькому лоскутному одеялу.
Краешек цветного лоскута зашевелился. Растрёпанное женское личико, надломив ссохшуюся корочку ночного елея, выпорхнуло и приоткрыло глаза. Зайчик провёл пушистым хвостиком по румяной щеке просыпающейся женщины и прыгнул в окно, оповещая солнце: «Она проснулась!»
Валя сладко потянулась, встала и вышла в прихожую. «Ну и приснится же такое!» – улыбнулась она и направилась было в ванную, как услышала шорох за дверью.
«Ой! – воспоминания ночи мгновенно вернулись к ней, – бред какой-то!»
Она на цыпочках подошла к двери и заглянула в «глазок». В это самое время шторки лифта реально захлопнулись, и кабина поплыла вниз. Валя побежала на балкон. Прячась за цветами и щурясь от яркого солнца, она стала вглядываться в фиолетовую июльскую «наледь» дворового колодца.
Красивая машина, напоминающая большую откормленную форель, тем временем ожила, шевельнула плавниками-дверцами и, вильнув пару раз хвостом, исчезла под низкой притолокой подворотни.
– Какая машина! – выдохнул бомж, глядя из-под руки на голубую Вольву, ускользающую поверх дорожной разметки в мутный водоворот городских улиц, – Да…
Сон рыбы
И снится Дарвину сон.
Он, большая начинённая остриями рыба, просыпается в зарослях гигантского камыша и медленно, шевеля плавниками, начинает движение с мелководья в зелёную глубину лагуны. Он долго спал. Его желудок переварил всё до последнего катышка от вчерашней охоты. То была охота! Вязкая серебристая гадина ускользала в розовую хлябь глинистого травертина и одновременно пыталась алмазной пилочкой зубов надкусить Дарвину трахею между передними плавниками. Но ему всё же удалось схватить этого мерзкого угря чуть ниже головы, сжать челюсти и завершить долгую изнурительную работу. Вкуснятину пришлось караулить несколько лун, пока не наступил благоприятный момент схватки.
Так думал Дарвин, впрочем, нет, не думал, но скорее ощущал причинно-следственную связь с прошлым, которая, как первая натуральная эманация, досталась ему в наследство от океанических прародителей.
Зелёная муть лагуны в этот ранний час была ещё пуста. Смешные простейшие микроорганизмы копошились возле куска хряща, недоеденного кем-то с вечера. «Интересно, кто его спугнул?» – подумал Дарвин и поймал себя на мысли, что рассуждает. Раньше он никогда не задавал себе никаких вопросов, а просто убивал и ел. Он совершал все действия рефлекторно потому, что анализировать происходящее ему было просто нечем! Теперь же, с появлением вариативного аппарата, он мог предвидеть свои действия, и это давало ему определённую свободу в выборе манеры охоты.
Где-то там наверху, за кромкой жизни, уже встало солнце и осветило зелёную глубь лагуны. Дарвин почувствовал, как натянулся внутри под позвоночником его простейший желудочно-кишечный тракт, сообщая на уровне бессознательного, что пора прекратить это аналитическое ничегонеделание и начать реально охотиться.
«Да, материя первична!» – напоследок сделал открытие Дарвин, раскрыл боковые плавники и устремился на глубину, где вчера приметил неказистого рачка, которым несложно было б поживиться…
Сон лётчика
Бабочка расправила прозрачные, увитые тончайшими перепонками крылья и вспорхнула над веткой дурно пахнущей сирени. Она не любила резкие запахи трав и цветов, потому что все эти запахи отвлекали её внимание от приятного ощущения собственной невесомости. «Пусть эти противные ароматы нюхают жирные гусеницы!» – хмурилась бабочка, перелетая с цветка на цветок в поиске мёртвой завязи. «Я абсолютна! – говорила она, – земное отсутствует в моём воображении. Я принадлежу небу!»
Пошёл дождь. Крупные капли, как зенитные снаряды, били по крыльям бабочки, пытаясь их намочить и сделать тяжёлыми. Клейкие ворсинки, конечно, как могли, сбрасывали влагу, но с каждой минутой им становилось это делать всё тяжелее. То тут, то там мокрые кусочки дождя, примяв ворсинки, добирались до перепончатых крылышек и смачивали мембраны. От этого мембраны становились вязкими и тяжёлыми. Их подъёмной силы уже не хватало, чтобы удержать бабочку в воздухе.
«Кажется, меня сбили…» – воскликнула бабочка, безуспешно пытаясь оторваться от земли.
К счастью, дождь скоро закончился и уступил место жаркому летнему солнцу. Лужи и ручейки, бегущие по склонам, просохли в одночасье. Крупная белая сирень и красные душистые маки, умытые щедрым дождём, благоухали, соревнуясь друг с другом в возможностях тончайших ароматов. А наша бабочка всё ещё лежала в подсыхающей грязи, прибитая к земле струями отшумевшего дождя. «Как мне плохо!» – печально говорила она.
Вдруг над бабочкой пронеслось что-то очень большое, похожее на огромную тучу.
– Ребята, – раздался женский голос человека, – собираем по одному букету для гербария и по одной бабочке для коллекции!
Что такое «коллекция бабочек» наша бабочка не знала, но помнила слова старой махаонши: «Оттуда не возвращаются!». Ей стало страшно. Конечно, может быть, они не возвращаются потому, что там очень хорошо. Но природная интуиция говорила ей, что это не так.
– Ой, бабочку нашёл! – крикнул мальчик и склонился над нашей героиней, держа в одной руке сачок, а в другой, брр! острый сверкающий предмет, похожий на иголку ёжика.
– Ну, Боря, смелее! – улыбнулась учительница, помогая мальчику половчее подцепить увязшую в грязи бабочку краешком сачка.
– Ирина Анатольевна, не могу, – выдохнул сокрушённо Боря, – жалко!
– Боря, если ты не соберёшь коллекцию, я буду вынуждена поставить тебе двойку! – строго сказала учительница.
Боря попробовал ещё раз аккуратно подцепить бабочку, но, отложив сачок, твёрдо сказал:
– Я этого делать не буду.
Учительница выпрямилась и стала огромная, как пирамидальный тополь с облетевшей по осени листвой.
– Ребята, кто готов вместо Бори подцепить эту бабочку?
– Можно мне! – из кружка собравшихся ребят на шаг вперёд выступил Яшка, двоечник, прогульщик и гроза всех девочек класса.
– Можно, Яша. Только будь осторожен, она ещё живая, не поломай крылья, мы будем их рассматривать в микроскоп.
Яшка наклонился над бабочкой, отвёл правую руку с сачком в сторону, чтобы наверняка прихлопнуть пленницу, как вдруг из куста сирени выскочила огромная собака и с лаем бросилась на ребят.
– Ой – ой – ой! – закричали школьники и помчались врассыпную. А этот Яшка, убегая (что за человек?!), взял и толкнул Борю прямо на собаку.
– Джексон, ко мне! – раздался мужской голос. Собака, не тронув Борю, послушно развернулась и подбежала к хозяину.
– Вы уж простите нас! – обратился мужчина к учительнице, которая, не успев убежать, так и осталась стоять неподвижно, как сухое дерево.
Мужчина нарвал букет сирени и на глазах испуганной бабочки, преподнёс его учительнице, ещё раз попросив прощение за реакцию собаки. Учительница поднесла к лицу сирень, улыбнулась и ответила:
– Спасибо, я вас прощаю!
У бабочки было такое впечатление, что на смену осени пришла сразу весна, и сухое дерево дало клейкие, как ворсинки на её крылышках, зелёные побеги!
А потом мужчина и учительница пошли вместе в человеческий домик, и все ребята побежали за ними. Только Яшка у самой калитки вдруг обернулся и зло посмотрел в сторону пленницы, размышляя, как ему поступить. Бедная бабочка зажмурилась и приготовилась к худшему. Прошла невыносимо долгая минута, но ничего не случилось. Бабочка открыла глаза и увидела пустую калитку. Этот подлый Яшка купился на сладкие пироги и побежал в дом вслед за ребятами.
«Пора! Они могут вернуться» – скомандовала сама себе бабочка. Она упёрлась лапками в подсохшую глинистую корку, напряглась изо всех сил и вытянула крылья из вязкой дорожной жижи, ломая «ледок» её твердеющей под солнцем поверхности.
Она попыталась оторваться от земли. Тяжёлые крылья с налипшими на них комьями глины отказывались слушаться и очень больно тёрли тельце в местах прикрепления. Подъёмной силы явно не хватало, чтобы поднять «аппарат» в воздух. И тогда бабочка решилась на отчаянный поступок. Кое-как доковыляв до небольшого обрыва, она приготовилась броситься вниз, надеясь, что воздух подхватит её и не позволит разбиться. Она зависла над обрывом, не решаясь сделать последний отчаянный шаг, и тут услышала совсем рядом противный, до боли знакомый голос:
– Вот она!
Прямо на неё бежал с сачком ухмыляющийся Яшка. Его толстые, как две гусеницы, губы лоснились от только что съеденного пирога. Второй рукой Яшка вытаскивал на бегу острую стальную иглу, совершенно не похожую на добрые иголки ёжика.
– Ага!..
В это мгновение бабочка бросилась с обрыва в пропасть. Она уходила в штопор, безуспешно пытаясь непослушными крыльями выровнять полёт. Только над самой землёй, почувствовав упругую подушку воздуха, она облегчённо взмахнула крыльями и вспорхнула над оврагом.
А на самом дне, в грязных разводах глинистого травертина барахтался Яшка. Увлечённый погоней, он не успел затормозить, свалился в овраг и застрял в топкой жиже. Злой Яшка с высоты бабочки казался маленьким причудливым насекомым, попавшим в сети печальных обстоятельств. «Ничего, выберется!» – улыбнулась наша героиня и, сделав над оврагом круг дамского любопытства, направилась к белой сирени, поблагодарить её за чудесное избавление от человеческого зла.
Ма-аленькая трагедия
Моцарт обращается к Сальери:
– Сальери, музыки твоей давно не слышал я. Что нового ты написал? Порадуй! А вот и инструмент.Раздвигает гардину, за которой стоит разобранный настройщиком белый кабинетный рояль
– Ах, да, он не настроен. Жаль! Тебя послушать я хотел сегодня.Сальери:
– Так встретимся мы завтра! Я принесу два-три последних сочиненья. Хочу давно их показать тебе, но ты всё занят… Я слышал, ты пишешь Реквием?В сторону:
– Ах, только бы успеть…
Моцарт:
– Вот-вот, и я лишь думаю о том, чтобы в каденцию его финальной части включить два-три аккорда Лакримозы. Проверь, устал, проскальзывает тема.Сальери:
– Ах, Моцарт, Моцарт, выпьем что-нибудь! Вино пьянит, но силы возвращает.Моцарт:
– Да – да, Сальери, выпьем что-нибудь. Ты помнишь, как у Пушкина в финале, тебе играю я на фортепьяно, а ты в слезах, оплакиваешь друга? Нет-нет, не друга – самого себя! Ведь гений и злодейство – две вещи несовместные, ты помнишь?Сальери:
– Да-да, прекрасно помню. Ты уходишь. А может быть, как птица улетаешь, склевав с ладони дружбы гений друга. Меня оставив с подлостью вдвоём…Моцарт:
– Ах, не печалься так, Сальери, полно! Послушай лучше мой Реквием.Пытается играть на расстроенном фортепиано:
– Какой кошмар!
Моцарт уходит.
Сальери:
– Когда б я мог вот так перед толпою пленять умы музЫкою безгрешной, я б не завидовал и не искал бы в смерти союзницу для подлости! Теперь же всё кончено. Лети, мой милый Моцарт, Твоя музЫка в рай тебя проводит! А нам верни житейские пределы, Чтоб мы искусство смерти почитали…Уходит.
Входит настройщик.
Настройщик:
– Опять они раздвинули гардину!
Занавес
Сказка о мальчике, который в детстве боялся ветра
На третьем этаже микрорайона Орехово-Борисово жил-был мальчик. Он очень редко выходил из дома, потому что больше всего на свете боялся ветра. Как только воздух вокруг приходил в движение, мальчику казалось, что к нему приближается злой волшебник, повелитель ветра, который поднимет его высоко-высоко и унесёт туда, где нет ни мамы, ни Орехова, ни Борисова…
И тогда мальчик, не доиграв в машиниста, бросал новенький серебристый локомотив и бежал домой. А ветер свистел ему в спину и похвалялся: «Всё равно я тебя достану!»
Шло время. Стёпочка вырос, кое-как окончил школу (он часто пропускал уроки, боясь выходить из дома, когда дул ветер), хотел поступить в институт, даже подал документы, но, как назло, в день первого же экзамена подул очень сильный ветер, и учёбу пришлось отложить.
А по осени всех, кто не поступил в институт, приглашали в армию. Пригласили и Стёпу.
Вы, наверное, уже догадались – в день призыва поднялся сильный ветер. Стёпа вздохнул, отложил повестку и остался дома. А утром следующего дня за ним пожаловали три человека, которые уже поступили в армию, потому что в детстве научились не бояться ветра. Военнослужащие взяли Стёпу под руки и пошли с ним вместе в райвоенкомат. Они шли через парк, и за всю прогулку над ними не шелохнулась ни одна веточка!
Стёпа честно рассказал военному комиссару причину своей неявки на сборный пункт. Военком был человек тёртый, поэтому решил, что Стёпа шутит. А так как весёлые люди выживают в трудных условиях гораздо чаще, чем плаксы и нытики, он определил Стёпу в десантные войска.
На поезде, которым управлял новенький серебристый локомотив, привезли нашего героя в Псковскую десантную дивизию. Переодели, посадили в самолёт и предложили совершить краеведческую прогулку по родной Псковской окраине. Стёпа с радостью согласился. Взлетели. Один офицер (видимо, гид) стал во время экскурсии то и дело открывать парашютный люк самолёта, наверное, для того, чтобы Стёпа получил особенное удовольствие от прогулки.
Степан с ужасом глядел на ревущий ветер и ждал, что вот-вот произойдёт то, чего он боялся многие годы: злой волшебник через люк ворвётся в корпус самолёта, схватит Стёпочку и унесёт далеко-далеко от родной дивизии… Однако, на этот раз всё обошлось благополучно.
Совершив посадку, гиды разошлись по своим делам. И только старший сержант Горшков не захотел оставлять Стёпу одного. Он пригласил его на плац для отработки строевого шага против всякого ветра.
Действительно, тотчас подул сильный ветер, завыл, закружился на бетонной равнине!
Стёпа в ужасе застыл с высоко поднятой ногой, потом прервал упражнение и помчался к ближайшей казарме, но его опередил всё тот же старший сержант Горшков.
– Ты чё? – спросил Стёпочку добрый наставник и показал, как вращается тело, если применить к нему упражнение «мельница». А чтобы Стёпа лучше усвоил это полезное упражнение, Горшков потрудился несколько раз.
…Очнулся Степан на верхней койке совершенно другого здания. Попытался пошевелиться и открыть глаза, но резкая боль сковала тело. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, прислушиваясь к разговору, который происходил прямо под ним:
– Ты чё, маэстро, ты же чуть не убил парня!
– Да ладно, оклемается.
– Ну, гляди, если сегодня не встанет, пойдёшь под трибунал.
Стёпа встал.
Пока он сутки лежал в забытьи, «злой волшебник» подхватил его безжизненное тело и унёс высоко-высоко в небо.
– Открой глаза и ничего не бойся! – шепнул ветер.
Стёпочка открыл глаза и увидел тысячи ангелов, а среди них каких-то ребят в потёртых голубых камуфляжах. Они стояли на белой тверди облаков и вглядывались в небесного новобранца.
– С Богом! – волшебник потянул кольцо, и над головой будущего ВДВ-эшника взвился купол, сшитый из обрывков материи, пропитанных кровью шестнадцатилетней давности…
Степан приближался к земле, барражируя на «предельно малой» скорости свободного падения. Так дети сползают с мягкой перины, не сразу нащупав ножками пол. Над куполом парашюта трепетали и рвались в небо гвардейские ленты с надписью: «ВДВ – Псков, 6-ая рота[12]». А ветер кружился рядом и поправлял парашютные стропы, чтобы они не путали друг друга.
Майор Салютин
Часть 1. «Ефрейтор Алексеев»
– Фу-ты, Господи, ну и приснится же такое!
Я отбросил одеяло и, как по тревоге, выпорхнул из кровати.
– Когда же эта сволочь перестанет, как короед, выедать мои сны?
… В армию я попал по собственному желанию. Просто бросил институт и решил временно изменить жизнь. В военкомате меня (как недоумка Высшей школы) определили в школу сержантов.
Помню первое «фронтовое» утро: «Рота, 45 секунд, подъём! Выходи строиться!» Как ошпаренные, мы бежали в строй, надевая на ходу непривычное обмундирование. «Равняйсь, смирно! Правое плечо вперёд – шагОм – м–Арш! Рота, бегОм!»
Задыхаясь и растягивая строй, непривычные к десятикилометровой «пробежке» курсанты на финише напоминали ватагу пьяных молодцов, вытаптывающих утренний холодок после ночной попойки. Сержанты, как служебные собаки, «лаяли», подгоняя нас, только что не били. Когда в полуобморочном состоянии мы вернулись в казарму, я заметил, что ступня правой ноги буквально горит в новой кирзухе. Я разулся, осмотрел сапоги. На левой подошве был «выгравирован» привычный 43-ий номер, а на правой… 41-ый! Ковыляя, подошёл к сержанту, объяснил случившееся. «Ничего, значит, у кого-то твой правый. «Сейчас будет построение, всё решим, – ответил сержант, – ты пока обуйся, потерпи». На построении никто не признался в подмене. «Не переживай, значит, каптёрщик перепутал, щас заменим!»
В правом 41-ом я проходил и пробегал… ровно три месяца. В конце концов, на дневном построении под палящим июльским солнцем от духоты плаца и боли в правой ступне я потерял сознание и рухнул на асфальт аккурат при выносе знамени части.
Вообще, я оказался плохим курсантом. Правильно говорят: беда не приходит одна. Охромев на правую ногу, я что-то упустил в уставном распорядке, и моя дисциплина захромала в целом. Поэтому единственным курсантом, которому по окончании школы не присвоили воинское звание «младший сержант», оказался… я. Но так как вторая нога была в порядке, я всё же получил половину вожделенных лычек, которых, однако, хватило только на звание «ефрейтор».
Для прохождения дальнейшей службы советское командование направило меня в одну из радиолокационных частей, расквартированных под Ленинградом. Иронией судьбы я оказался в отделении младшего сержанта Горшкова, прибывшего со мной из учебки. Правду говорят: хочешь узнать человека – дай ему власть. Горшков на второй день забыл, что мы с ним «из одной миски щи хлебали», и стал меня гонять, зарабатывая насмешливые очки у грозных дембелей.
Этого я стерпеть не мог! Так начались мои хождения на гарнизонную гауптвахту. Отсижу, выйду, на другой день обратно…
Часть 2. «Комсомольское собрание взвода»
Повестка: «Объявление строгого выговора ефрейтору Алексееву за неуставные действия, направленные на подрыв воинской дисциплины».
В ленинской комнате расселись тридцать моих товарищей. Вести собрание взялся сам замполит роты майор Салютин.
После короткого вступительного слова о моих «достижениях» по службе майор поставил вопрос на голосование.
– Кто за?
Первым руку поднял Горшков, с ним ещё двое. И всё. Салютин нахмурился и пошёл по рядам:
– Так, Ерёменко, помнится, мать твоя должна приехать. Увольнение заслужить надо!
Рука Ерёменко отрывается от тела и медленно ползёт вверх, изгибаясь, как змея.
– Так, Мельниченко, кому я простил три наряда вне очереди? Может, не стоит тебя жалеть?
Рука Мельниченко медленно отрыва…
Из тридцати человек (Человек же!) только два моих близких друга не подняли руки.
– Ты выйди пока, мы тут без тебя оформим протокол, – сказал Салютин, не оборачиваясь ко мне. Я вышел.
Вдруг слёзы брызнули из моих глаз. Я побежал в конец коридора, где был спасительный сортир, и там, привалившись к подоконнику, дал волю чувствам. «Что мне твой грёбаный выговор, подавись, шкура! Как они-то могли, товарищи мои?! Мы же вместе вроде…» Я не мог успокоить сердце. Даже когда подсохли глаза, я ещё долго задыхался от внутреннего волнения и бесчисленное количество раз повторял про себя:
«Как мне им теперь в глаза-то смотреть? Срам какой вышел между нами!..»
Этот случай надолго изменил мою душевную температуру. Я перестал переживать за человека, перестал жалеть его. Я наблюдал происходящие вокруг события так, как наблюдает птица, кружащая в небе над полем битвы. Однако, месяца через полтора ко мне вернулось обычное, чуть восторженное расположение духа, но тут произошла другая история, которая захлопнула сердце уже до самого конца службы.
Часть 3 «Свидание»
Незадолго до дембеля из Москвы приехала мама в надежде меня повидать и вместе погулять денёк по Ленинграду. То, что мама ждёт меня на КПП, объявил всё тот же майор Салютин. И прибавил: «Я хочу присутствовать при вашем свидании с матерью. В противном случае свидание не разрешаю». Т. к. не прошло суток, как «ваш покорный слуга» в очередной раз расстался с гауптвахтой, майор имел все формальные поводы встречу запретить.
Когда мы с замполитом вошли на КПП в комнату для свиданий, мама бросилась ко мне, а майор тактично отошёл в дальний угол. Безучастно отсидев в стороне время первых эмоций, он приблизился и завёл с мамой душевный разговор. Говорить он умел! Нахваливая мои гены и общее развитие, Салютин сокрушался о том, что внутренняя несобранность не позволяет мне быть образцом солдата, что он, мой старший товарищ, об этом горько сожалеет и просит материнской помощи в становлении меня как верного защитника Родины. Он говорил долго и страстно. Я поначалу злился на его лицемерие, но потом, охваченный пафосом монолога, пристыжено опустил голову. Мама же была от Салютина в полном восторге.
– Боря, какие у тебя командиры! – всплакнула она и попросила, – Товарищ майор, я понимаю, мой сын провинился, но, будьте так любезны, помогите с увольнением в город! Я ведь больше не смогу приехать…
Майор Салютин, выслушав просьбу, принял торжественную позу и сказал:
– Галина Георгиевна, положение сложное, но, поверьте, я сделаю всё, от меня зависящее, чтобы ваш сын получил увольнительное распоряжение!
На том свидание закончилось. Мама, счастливая и окрылённая надеждой на скорую встречу с сыном, уехала в гостиницу.
Мы возвращались в расположение роты молча. Неожиданно Салютин замедлил шаг и спросил меня:
– Ефрейтор Алексеев, помните, я обещал вашей матери поспособствовать вашему увольнению?
– Да, помню, товарищ майор, – бодро ответил я.
– Так знайте, я первый буду против!
P.S.
Вышагивая комнату, я пытался понять, почему этот майор, исчезнувший из моей жизни тридцать с лишним лет назад, вторую неделю неотступно снится? Может, во мне самом что-то не ладно? И хотя дело прошлое, никуда горе-замполит, похоже, не делся! Сидит, клещ, в моей обиженной памяти, да ножками сучит. Как же от него избавиться?
– А ты прости!
Я обернулся на голос, но в комнате, кроме меня и мутной Луны за припорошенной снегом балконной дверью, не было никого.
– Прости его, наконец! – требовательно повторил голос.
– После всего, что было, вот так взять и простить? – переспросил я невидимого собеседника.
Мы оба призадумались и замолчали.
Я первый прервал затянувшуюся паузу и с облегчением выдохнул:
– Что ж, пожалуй!..
Свобода воли
Ураганный ветер метал из стороны в сторону рой белых, студёных пчёл. Скрипело старое дерево с выщербленным стволом, готовое вот-вот переломиться и упасть на припаркованные вблизи автомобили. Я шёл, вернее, вдавливал тело в клейкую колкую массу, готовую оторвать меня от земли, закружить и унести в турбулентном потоке стихии. Моё лицо, перевязанное шарфом, превратилось в навершие снеговика с угольками глаз, не хватало только морковки для носа. «Интересно, видит меня сейчас кто-нибудь? – развлекал я собственный ум, чтобы не заснуть от мерных завываний ветра, – вот упаду, и занесёт меня, да так, что мама родная не сыщет!»
До дома было ещё далеко. Я, как мог, экономил силы. «Присядь, Толян, вздохни чуток. Ветер, авось, утихнет, тогда и ступай дальше» – шепнула в ухо не тающая на кожице снежинка. Речь её мне показалась странной.
Из снежного вихря выступил знакомый угол соседского дома. «Ага, значит, уже недалеко» – мелькнула мысль. Поворачивая за угол, я поскользнулся и упал в рыхлый сугроб. В это же самое время с крыши прямо на меня обрушился огромный пласт снежной наледи. Острые сколы льда, как ножами, вспороли снег и не дотянулись до тела всего сантиметров десять. «Да, – пронеслось в голове, – не упади я на ровном месте, прибило б точно». Рыхлая мокрота сугроба, как могла, погасила скорость падающей наледи и фактически спасла мне жизнь. Но праздновать спасение оказалось рано. Предстояло ещё как-то выбраться из-под завала. Во-первых, льдина похоронила меня заживо, и я очутился в полной темноте. Вес льдины был на вскидку не меньше полутора-двух тонн. К сожалению, она не раскололась при падении. О том, чтобы разбить её на какие-то части – нечего было и думать. Дышать становилось всё тяжелее. Я стал раскапывать снег наугад, но через несколько минут выбился из сил и остановился. В мокрых перчатках пальцы сводило от холода, и я боялся их отморозить. Положение становилось критическим.
И тут…
Вокруг меня всё вздрогнуло и зашевелилось! Я ощутил, что перемещаюсь вместе с сугробом и льдиной. Мою волю сковал ужас. Представьте, вас вместе с окружающим мраком влечёт неведомая сила и, как бельё в стиралке, вращает вперемешку с мокрым снегом!
Да, это был огромный бульдозер, которому понадобилось именно в метель расчищать улицу! Отвал бульдозера сгрёб с сторону кучу «человеческого снега» и, урча, дал задний ход.
Я лежал в огромной куче снега без сознания, как забытая кукла. Во все стороны торчали мои холодеющие конечности. Милостью Божьей вскоре я пришёл в себя, выбрался из завала, тупо поглядел на притихший неподалёку жёлтый бульдозер и, пошатываясь, поплёлся домой.
Ветер стих, остаток пути я прошёл без приключений. Дома меня встретила жена и помогла сухим полотенцем растереть заиндевевшие кисти рук. Кровь медленно возвращалась в капилляры. Так, наверное, возвращаются домой фронтовики, настороженно оглядывая путь, как бы стараясь предугадать, что ждёт их в родном доме. Через двадцать минут ко мне вернулось спокойное расположение духа и возможность осмыслить невероятное приключение, которое час назад стряслось со мною.
Я припомнил слова моего учителя: «В каждое мгновение жизни ты – невольный соучастник в битве добра и зла. Арена битвы – твоя душа. Бог не оставил тебе возможность уклониться от борьбы и просто положиться на волю небес. Он дал тебе великое оружие – «свободу воли». И пусть ты в духовной битве ты не так хитёр, как бес, и не так искусен, как ангел), именно твоя свобода воли решает исход поединка. Я знаю в жизни случаи, когда ангел уже поверг беса, уже занёс над ним свой карающий меч, но свободная воля человека тычет вверх жирный большой палец. Ангел печально опускает меч, а бес, кувыркаясь, отбегает в сторону и хохочет над незадачливым соперником. Вместе с ним хохочет и владелец большого пальца в окружении весёлых подельников, заполнивших трибуны. Что ж, так решила его свободная воля.
Или другой случай. Ангел теснит беса (в честном бою у беса нет шансов). Вдруг бес хватает лапкой горсть песка и бросает в глаза ангелу. Ослеплённый ангел на миг становится беспомощным. Бес хвостом подсекает соперника, замахивается трезубцем и вонзает все три острия в белое тело ангела. Над трибунами слышится многоголосое «Ах!..» Но что это? Бес отскакивает и корчится в судороге, припав к ограждению арены. Ангел встаёт невредимый, отрясает песок с подкрылок и склоняется в благодарном поклоне перед человеком, который, торжественно вытянув вперёд руку, указывает большим пальцем в небо. Так решила его свободная воля!»
Перечитав в памяти слова учителя, я живо представил себе, что на самом деле произошло час назад.
Уже неделю мы были с женой в ссоре. В ссоре правых не бывает, и меня угнетало сознание вины перед дорогим мне человеком. В тот вечер я твёрдо решил прекратить эту бессмысленную ссору, даже сходил на исповедь. Окрылённый духовной поддержкой я отправился домой и уже репетировал покаянную речь, как поднялся сильный ветер. Всё вокруг изменилось. Я оказался в эпицентре невероятного кружения стихии, но продолжал упорно идти. И тогда бес (а кто ещё?) столкнул с крыши эту страшную льдину. Пока она летела, ангел (а кто ещё?) повалил меня в сугроб, который и спас мою жизнь. Но бес, видимо, вошёл в раж и не обратил внимания на то, что я, придавленный льдиной, готов был уже признать собственное бессилие. Он умыкнул где-то бульдозер и решил, как можно скорее завершить задуманное. Почему так? А вот почему.
Когда я пошёл домой, я посмотрел на часы – было начало восьмого. В 19.50 по первому каналу начинается ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Мне приходилось несколько раз смотреть эти передачи, и я никак не мог понять, почему нормальные люди вдруг срываются на крик, брань. Андрюша пытается их развести, но они, как кошки, опять вгрызаются друг в друга, да так, что святых выноси! «Ох, неспроста это!» – подумал я тогда.
Видимо, бес торопился в Останкино на телепередачу и хотел всё поскорее закончить. Он даже не убедился в «благополучном» окончании дела и не сделал обязательный в таких случаях контрольный выстрел.
Когда я воскрес из завалов снега, мой мучитель уже умчался, ветер прекратился, и я без новых приключений дошёл до дома.
Вот оно, оказывается, что…
Когда мне открылся смысл случившегося, сердце моё затрепетало от радости и умиления. Я обнял и нежно поцеловал мою любимую женщину. А на её шутливый вопрос: «Что случилось?» искренне попросил прощение.
P.S.
Вы не поверите!
Только что, когда я перечитывал текст и исправлял строчные ляпы, моё ухо обожгла оттаявшая наконец снежинка. Да-да, та самая, которая нашёптывала в пути: «Присядь, Толян…»
Отпустил-таки бес!
Садко и Софьюшка
Часть 1. Детские игры.
О взаимоотношениях трёх разумных стихий – человека, моря и берега – можно говорить и писать бесконечно.
…Волна выкатилась из моря и поползла, как раздувшаяся от гнева кобра, к ногам человека.
– Ух ты, – встрепенулся человек, робея перед набегающей горизонтальной массой.
– Не боись! – выдохнула волна, не дотянув до человеческих пят каких – то полтора метра.
Или, например, так:
Огромная волна вспенилась вдалеке и грузно перекатывается через пороги. Кажется, остановить её невозможно! Минуту спустя, потеряв сакральную связь с материнской глубиной моря, она мелеет и покорно приплёскивает песчаную отмель нежнее пеночки утреннего кофе.
– Эх-х-х-не-выш-ш-шло… – выдыхает волна и пятится назад.
(Кстати, вы замечали, как вслед за убегающей волной пятится по песку её мокрая тень?)
Берег торжествует победу, искрясь на солнце миллиардами песчинок, которые только что едва не превратились в морское дно. Но торжество берега не долгое. Вот уже следующая волна клокочет бурунами: «У-у-у-меня-получится!» и так же, как её предшественница, стремится отвоевать полоску прибрежной отмели. Но и её ждёт разочарование. И снова ненадолго торжествует берег.
Хозяин моря царь Окиян поглядывает из коралловых глубин на одиозные усилия волнистой ряби и хранит олимпийское спокойствие. Он знает: вода по капле точит всякий камень, а уж волн-то в Его «сундуках» достаточно!
Вот потеха! Волны одна за другой ползут на берег, как маленькие карапузы, перебирая под собой пухлыми пенистыми лапками, а мать, натянув полозки, с улыбкой возвращает их обратно.
Море всегда возвращает волну, чтобы не случилось беды. Оно знает: стоит волне заглядеться на берег секундой дольше, миллионы крохотных песчинок, как стая голодных пираний, набрасываются на пенистую шалунью и безжалостно её поедают. А потом, сытые и довольные, они, искрясь на солнце, смыкают мокрые животики так плотно, что хоть бегай, хоть катайся на велосипеде – не провалишься!
А теперь вспомним картину Айвазовского «9-ый вал».
О, это резвятся уже не милые карапузы, а «детишки» постарше. Они обучены всем премудростям морской охоты и своё не упустят. Даже мать-Море порой волнуется, глядя на потешные игры своих высоколобых умников. А шуму-то сколько! Бедный кораблик, как мячик для пляжного волейбола, то взлетает вверх, то стремительно падает вниз, и, кажется, вот-вот больно ударится о дно. Нет! Кто-то в затяжном прыжке вытаскивает верную свечу. И игра продолжается.
Но вот Ветер-ветрило повелевает небесному грому протрубить: «Довольно!» И на горячие головы разыгравшейся «детворы» проливаются накопившиеся в облаках материнские слёзы умиления.
Вы когда-нибудь видели море в грозу?
Штормовое брожение масс успокаивается, огромные валы мерно покачивают линию горизонта. И если чудом уцелел какой-нибудь кораблик, то капитан уже не читает молитву о спасении на водах, а, раскурив трубку, велит юнге поднести ковш лучшего рома из кладовых корабля. «Жорж! – кричит он юнге, – мы уцелели, три тысячи…!»
Часть 2. Садко
Игры завершены. «Детишки» большие и малые рассаживаются за родительским столом. По всему видно, аппетит они нагуляли на славу!
А на столе-то чего только нет: три корабля с полным корабельным снаряжением, штук сорок шлюпок, яхт рыбацких и всевозможных вельботов, а по мелочам – не сосчитать!
Во главе собрания на тронном возвышении два брата сидят: Ветер-ветрило и царь Окиян. Сидят, на детишек поглядывают, трапе́зу не начинают, будто ждут кого.
И точно. Ползёт, переваливается по дну огромный ком чудищ морских. Тут и осьминожки, и рачки всякие, и коньки морские, и каракатицы.
– Обнаружили? – спрашивает царь Окиян сошку морскую.
– Повсюду искали, отец наш, ох, повсюду. Старались, как могли! – отвечает челядь истошно и пискляво.
– Обнаружили или не обнаружили?! – сердится царь.
– Обнаружили, отец наш, обнаружили, не гневайся, получай подарочек! – отвечает за всех с поклоном вертлявая каракатица.
Расступились чудища и вынесли наперёд ряженого в кафтан человека.
– Играй, Садко! – крикнул брат Ветер, – Не привык я без движения столовничать!
Садко оглядел пирующих, взмахнул рукой и ударил по струнам. Да так крепко ударил, что порвал все четыре разом.
– Эх ты, неумеха поганый! – Окиян нахмурил брови и залпом осушил кубок с водой из Красного моря. Оттого его щёки раздулись и стали пунцовые, – Как смеешь ты, смерд, нам с братом трапе́зу печалить?!
– Виноват, владыко, отпусти на час, вернусь и струны новые принесу.
– А коли не вернёшься, что тогда?
– А тогда – не пить мне воды вовек и от жажды умереть, коли слово нарушу.
Переглянулись братья и отпустили Садко.
…Сидит Садко на берегу, смотрит на волны. Струны он отыскал, да знает, не отпустят братья его второй раз, при себе оставят. А коли плохо сыграет, не потешит «публику», так на съедение морским чудищам отдадут. Вот ведь задача: и живым остаться, и на свет Божий вернуться?
Эх, не поплыви он второго дня на корабле, послушай жену Софьюшку – не сидел бы сейчас у врат морских, да слёз горьких не лил.
Тут пришла ему в голову мысль…
– Вернулся? – басовито хохотнул царь Окиян.
– Как обещал, великий царь, вернулся, – Садко молодецки топнул сапожком и как бы невзначай наступил на плюгавую каракатицу. Та взвизгнула, выпустила облако пепельно – чёрного дыма и обиженно отползла в сторону.
– Вот это по-нашему! Играй! – брат Ветер выпорхнул из-за стола и молодецки пошёл по кругу.
Садко заиграл Камаринскую, да так ладно, что и царь Окиян, и дети, и прислуга царская, все повскакали со своих мест и закружились, переплясывая друг друга.
А Садко только того и надо. Стал он играть ещё быстрее, ещё громче.
Первым повалился на дно морское гигантский осьминог, запутав щупальцы в клешнях огромного краба. Краб никак не хотел падать на спину, оттого разозлился и не на шутку сжал клешни, как при охоте. От нестерпимой боли осьминог совершенно вышел из себя и стал несколькими свободными щупальцами хлестать всех вокруг. Сочные удары многометровых конечностей с ядовитыми присосками навели ужас на танцующих дельфинов, касаток и невиданных глубоководных чудищ. Началась паника. Ломая столы с дорогими угощениями, морская братия кинулась врассыпную. Музыка стала не слышна за визгом, бульканьем, ударами хвостов и плавников друг о друга!
Часть 3. Софьюшка
Садко закинул гусли за спину, изловчился и обхватил руками набирающего скорость дельфина. Дельфин метнулся в сторону, но Садко вжал тело в его скользкую спину и чудом сохранил равновесие.
– К людям! – прокричал он. – Скорей!
В испуганных зрачках дельфина вспыхнул на мгновение свет канувших в Лету тысячелетий. Он понял, вернее, почувствовал, что хочет от него человек и, как верный конь, помчался к берегу.
– Отченька благой, помози! – шептал Садко, из последних сил стараясь не расцепить немеющие пальцы рук. Дельфин ещё прибавил скорость. Через двадцать минут он как торпеда взлетел над волнами. Садко успел вдохнуть грудью воздух, пропитанный сладким ощущением прежней солнечной жизни.
Дельфин сбавил скорость и, мягко шелестя плавниками, подплыл к берегу.
– Софьюшка, да как же ты здесь оказалась? – воскликнул Садко, выходя на берег.
София поклонилась мужу в пояс, потом подошла к дельфину, застывшему, как огромный валун, на мелководье и погладила его скользкий нос:
– Спасибо тебе, дружок. Возвращайся с миром, Бог с тобою!
Что-то очень знакомое ещё раз окликнуло память дельфина. Он внимательно посмотрел Софьюшке в глаза и, отталкиваясь плавниками от мелководья, попятился в море.
Выдавим, потом посмотрим, или сначала посмотрим…
«Я прогуливаюсь по аллее правительственного санатория в Сочи. Мне навстречу идёт Каганович и сходу начинает разговор:
– Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете?
– Ставим «Белые ночи» по Достоевскому.
– А идея там какая, идея?
– Идея в том, что человек не должен убивать человека.
– Это не наша идея, не наша! – Категорично отвечает Каганович и быстро удаляется».
(Из воспоминаний Фаины Раневской)«По капле выдавливать из себя раба»…
Антон Павлович, поясните, пожалуйста: как правильнее при этом сложить руки – опустить и прижать их к телу или наоборот, словно крылья, развести в стороны? И главное, как нам, обретая свободу, сбросить злобную шкурку нашего «я» и выпорхнуть на волю добрыми? Ведь не дай Бог, зло окажется в открытом доступе – что тогда?
Зла в мире до появления человека не было. Зверь убивает зверя не из ненависти к нему, но исполняя закон вида. Когда же зверь сыт, он не опасен. А человек?
Человек обязан каждую минуту доказывать своё принципиальное отличие от зверя. «Легко!» – говорит он, плотно позавтракав, и выходит охотиться на зверя, или другого человека по целому ряду незначительных интеллектуальных прихотей.
Например, «сравнение количеств» – у него больше чем у меня. Братоубийственная революция под лозунгом «грабь награбленное», разве это не бессмысленная мясорубка человеческой плоти? Пройдёт совсем малый исторический срок, и среди победителей образуются новые разноимущие, и вновь повторится ужас самоуничтожения.
Однако, худшее из всех вожделений человека – это стремление к власти. Ради сладковатого ощущения верховенства над вассалом властелин, не задумываясь, совершает преступление против блага. Более того, такие преступления сами же вассалы из страха перед господином объясняют исторической и имперской необходимостью.
Антон Павлович, простите, но я ничего не понимаю! Кого мы должны вытапливать из себя, прыгая, как караси, на раскалённой жаровне естественного отбора? Кто поручится за то, что мы, обретая личную свободу, этой свободой распорядимся во благо? Не станем ли мы этакими метастазами зла, освобождёнными от всех моральных и гражданских обязательств? Ведь человек, провозгласивший абсолютную свободу, может превратиться в странное существо: с одной стороны – зверь (потому что понятие человека предполагает исполнение Заповедей, первая из которых – «не убий»), с другой стороны – не зверь (зверю не присуще бессмысленное «кровожадство»).
Думаю, дедушка Дарвин на такой эволюционный гибрид явно не рассчитывал. Если бы старик дожил до перестройки и поглядел на последнюю российскую разновидность homo, именуемую – «либерал – демократия», наверное, он, как честный человек и порядочный учёный, обратился бы к потомкам с речью:
– Друзья, послушайте меня. Даже, если на самом деле человек произошёл от обезьяны – это неправда! Обезьяна при всех разительных сходствах с человеком всё равно стать им не может по одной простой причине – не приведи Бог!..
А мы добавим: «Видимое «благородство» интеллектуального звероподобия – обман историка-вассала!»
Антон Павлович, простите, но под «худой» крышей – всё не на ветру…
Кыргыз – road
Часть 1
Чуйская долина. Огромное озеро земли с остроконечными берегами снеговиков Тянь-Шаня. Райская обитель человека-земледельца и скотовода…
Полуразрушенная подвеска старенького «Фольксвагена» вытряхивала из нас чувство брезгливости к мелькавшему за ветровым стеклом неухоженному самострою торговых павильонов «а ля Америка». Унылый видеоряд напоминал скорее ломаные картонные пазлы, чем помещения, созданные человеком для какой-либо разумной цели. Клубы дорожной пыли не позволяли открыть в салоне окна, а палящее киргизское солнце, обнаружив отсутствие кондиционера, выжигало автомобиль изнутри вместе со всем его содержимым. Так жарят в мангале мясо, завернув его предварительно в металлическую фольгу, чтобы не потерять сок.
– Господи, когда же всё это кончится? – жена прикрыла лицо руками.
«Н – да, презентация отдыха в Киргизии прошла не слишком удачно», – подумал я, глядя в наливной затылок молодого кыргыза-водителя, который, как ни в чём ни бывало, крутил авторадио в поисках шансона.
Наш путь лежал из столичного аэропорта «Манас» в горы, на побережье главной природной жемчужины киргизского края – горного озера Иссык-Куль. О том, что Иссык-Куль – место волшебное, мы наслышаны были вполне. Долго откладывали поездку, накапливали любопытство. И в один прекрасный день, «запамятовав» житейские дела и тяжбы, улетели в Киргизию.
Кыргызстан, как теперь гордо величают свою родину бывшие советские граждане, оказался страной в целом гостеприимной, не смотря на то, что многие русские покинули эту землю, не одолев проснувшегося в киргизах национального самосознания. Киргиз прост, наивен, в меру подозрителен и, как всякий малый народ (хотя таковым ни один кыргыз себя не считает), самолюбив и социально раним. Показать перед русским своё превосходство в чём-либо, для киргиза – нежнейшая радость. На все достижения цивилизации (города, аэродромы, сельхозтехника) киргиз заносчиво глядит поверх гривы своей длинноногой лошади, цокает языком и размышляет так: «Молодец я, кыргыз, сколько имею, сколько умею!..» То, что благодаря русской национальной политике в столичном Бишкеке имеется оперный театр, монументальный центр города, современный цирк и прочее, киргиза не напрягает совершенно. Он искренне считает себя источником социального блага потому, что у него есть кобыла, отара овец и плетёный дом круглого типа, который защищает от ветра и его самого, и его семью, и всю киргизскую цивилизацию. Примерно также рассуждают и прибалты. Разница в том, что киргиз действительно так считает, а прибалт лукавит, закрывая глаза на собственную неправду.
Позже мы узнали, что из Манаса на Иссык-Куль ведёт вполне сносная объездная дорога. Почему водила отправился в предгорье через городок с названием Кант, так и осталось для нас загадкой. Этот «маленький киргизский каприз» провалил стартовое знакомство с Тянь-Шанем, зато обозначил нижайшую отправную точку, в сравнении с которой любое отличие – благо.
Действительно, миновав Кант, мы через пару селений оказались в полях предгорья и вдохнули чарующий аромат альпийских лугов, струящийся с гор в долину. Снеговики, которые на протяжении всей дороги более походили на мираж, чем на действительность, теперь стояли перед нами, как исполины. С высоты снежных вершин они вглядывались в крохотных путников, посмевших приблизиться к их подножию.
Мы остановили машину. Глубокий внутренний восторг пьянил нас.
– Господи, какая красота! – жена взмахнула руками и, как птица, сделала несколько быстрых шагов, упреждая полёт.
– Э-э, это что. Вот въедем в горы, там точно летать захочешь! – рассмеялся водила, обнажая девственную фиксу, явно не тронутую дантистом.
– Так едем же! – воскликнула жена, прильнув к видоискателю фотоаппарата…
Часть 2
Покатые спины альпийских лугов как огромные морские валы пенились и оседали по сторонам ущелья. Через час езды мы остановили машину у небольшого хозяйства. Новенькая юрта, как невеста, трепетала на ветру красным расшитым полотном, укреплённым вместо двери. Неопределённых лет киргизская женщина возилась с корзинами возле скотника.
– …Какая прелесть!.. – я проследил взгляд разомлевшей от восторга жены и обнаружил выводок маленьких жеребят, упрятанных в крытый полуразвалившийся загон. На длинных хрупких ножках покачивалось восемь крохотных тельц с крупными, почти взрослыми головами. Жеребята были настолько милы, что и у меня перехватило от восторга дыхание!
– Можно, я к ним подойду? – попросила жена хозяйку.
– А то, иди, милая, – ответила киргизка по-русски почти без акцента.
Жена, как птица, «спорхнула» от машины и в одно мгновение очутилась перед загоном. Жеребята, не привыкшие к стремительности окружающего мира, сгрудились в комок, напоминающий испуганную «сороконожку». Жена протянула руку сквозь прутья загона и попробовала дотронуться до ближайшего жеребёнка. Тот потешно мотнул головой и рассерженно ударил копытцем о землю.
– Ого! Какие мы грозные! – улыбнулась жена и вопросительно поглядела в сторону хозяйки.
– Постой спокойно, они привыкнут, – ответила женщина, – ты добрая, лошади это понимают.
Действительно, не прошло минуты, как тот же «сердитый» малыш боднул ворсистым лобиком раскрытую ладонь жены, требуя ласку. Жеребята оживились и, расталкивая друг друга, вытянули мордочки, полные любопытства. Я хотел прокомментировать это событие, но жена свободной рукой подала умоляющий знак и остановила меня на полуслове.
Тем временем двое мужчин стали загонять табун лошадей на ферму. Лошади не хотели слушаться, разбегались, перепрыгивали плетёные тыны, но уверенные крики людей с одной стороны и жалобные «детские голоса» с другой, всё же заставили строптивых мам приблизиться к загону, где на них накинули упряжь и по очереди повели на дойку. Когда закончилась дойка последней кобылы, выпустили жеребят. Мамы чинно разобрали своих детёнышей и подпустили к сосцам. К одной лошади присосались сразу два малыша. Я спросил у киргиза, почему так? «Э – э, – ответил он и показал рукой в сторону реки, бегущей в низине ущелья, – видишь?» И правда, на другом берегу, в зарослях камыша бродила рослая пегая кобылица. Она, как цапля, перебирала длинными ногами заросли травы, не обращая никакого внимания на призывные крики погонщиков.
– Ах, ты, мама, мама! – вздохнула жена и, повернувшись к хозяйке, спросила – выходит, её детёныша кормит другая?
– Да, милая. Брошенного кормит первая, которая ближе, так у них заведено. У людей бы так! – улыбнулась киргизка.
Но вот кормление окончилось, и табун в полном составе чинно стал спускаться к реке. Трудно словами передать восторг и трепетание наших душ при созерцании каждого шага этих удивительных животных.
Гривы вздрагивали в такт плавному скольжению тел; морды, одинаково развёрнутые в профиль, напоминали графику колесниц на греческих вазах. Мы чувствовали, как призывное ржание спутанного у воды жеребца извлекает из нас что-то глубокое и манит вслед царственным кобылицам…
Нет-нет, пора в путь! Отведав сладкого парного молока и купив баклажку настоящего кумыса, мы отправляемся дальше.
– Благодарю за кумыс, – я прощаюсь с хозяином дома.
– Кымыз – так правильно! – отвечает он и поднимает правую руку ладонью вверх, осязая незримой энергией гор нашу будущую дорогу.
Семён-сочинитель
В небольшой комнате, освещённой единственной догорающей свечой, сидел за столом человек и размашисто писал на листах писчей бумаги. Его всклокоченный вид, небрежно накинутая на тело одежда, скулы, обтянутые бугристой, «нестираной» кожей, и впалые небритые щёки выдавали образ отверженного безумца, если бы не одно «но». Этого человека никто не отвергал, и он не безумствовал. Это был известный на всю округу чудак. Старушки чинно замолкали, когда он проходил мимо, а мальчишки весёлой ватагой провожали чудака до булочной и обратно, крича наперебой: «Семён, соври что-нибудь!»
Родился Семён сорок четыре года назад кудрявым статным мужчиной, но годы застольного труда наклонили его величавый профиль. Жил он один, семьёй так и не обзавёлся. Девушки хмыкали и отворачивались, когда выслушивали от Семёна вместо слов ласки рассказы о межпланетных путешествиях и загробных приключениях. Правда, с одной из них по имени Валя он дошёл-таки до ЗАГСа, но войти внутрь с избранницей сердца не удалось. У Центрального входа, чуть заступив за порог, любимая Валя посмотрела ему в глаза, чмокнула в щёку и сказала: «Дальше – без меня!»
Казалось, он увлёк спутницу изложением преимуществ низкого старта, когда азимут выбран настолько удачно, что можно выйти за основные рубежи гравитации почти в два раза быстрее, чем обычно. А это – колоссальная экономия топливного ресурса! Что смутило Валю, почему она не пошла дальше, так и осталось для Семёна загадкой.
Впрочем, он не слишком переживал о нестроении личной жизни. Как говорят, на любовь и дружбу тоже требуется время. Именно отсутствие свободного времени не позволяло Семёну обрести нормальный человеческий быт. Судите сами. Первую половину дня он тратил на вычитывание текста и правку, или, как он называл этот процесс – предполётную подготовку.
Затем наступало время обеда. Можно было не обедать и пойти подарить кому-нибудь цветы. Но Семён не позволял себе даже этого. Если же он отступал от биорекомендаций штатного психолога (в роли которого, как правило, выступал сам), то только для того, чтобы лишний раз проверить комплектацию бортовых самописцев, «подзарядить вечное перо», или что-нибудь подобное.
Главной своей обязанностью Семён считал создание рукописного факсимиле того круга задач, которые ему приходилось решать в одиночку, один на один с вечностью. Проще говоря, он напоминал никому ненужного писателя, разгуливающего без спасительного скафандра по дну собственной фантазии. Писателя, который пытается вытолкнуть на поверхность житейского водоёма концепцию собственного «я». Творца, который всеми силами пыжится преодолеть мерцающую глубину забвения, наивно полагая, что там, на поверхности уже собрались моторные лодки, океанские лайнеры, яхты и вельботы. И на каждом плавсредстве люди, люди, люди, огромное количество людей, которые с нетерпением ждут грандиозное событие – всплытие восхитительного авторского «я»!..
Шло время. Количество исписанных листов росло и уже не умещалось в пухлых пачках на антресоли шкафа. Шкаф стоял неустойчиво, пачки рукописей часто падали, разлетаясь веером по комнате. Семён забывал нумеровать страницы, поэтому каждый раз после падения одной, или нескольких пачек сутками вычитывал разрозненные листы, чтобы восстановить их порядок.
Однажды в комнату постучали.
– Кто там? – не отрывая глаза от рукописи, спросил Семён.
– Скажите, пожалуйста, здесь проживает Семён Гольфстримович? – ответил вопросом на вопрос вежливый мужской голос.
Семён обернулся и, хотел было направиться к двери, но увидел прямо перед собой незнакомца в чёрном плаще и коричневой велюровой шляпе.
– Простите, как вы вошли?.. – осведомился наш герой, немного растерявшись.
– Это неважно. Давайте сразу о деле.
Гость оглядел комнату и, не ожидая приглашения, сел в старенькое кресло, с которого только что поднялся Семён. Хозяин, не смея возразить, присел на корточки возле стола и приготовился слушать.
– Скажите, вам не надоело быть посмешищем окрестных мальчишек и героем подъездных пересудов? Короче, я готов приобрести всю вашу писанину и заключить с вами очень выгодный договор на владение всеми будущими произведениями. Понимаете? Всё, что вы напишите – будет принадлежать мне. За это я плачу хорошие деньги!
При последних словах гость достал из нагрудного кармана плаща толстую пачку пятитысячных купюр и небрежно бросил её на стол поверх исписанных листов.
– Я не часто вхожу к людям так запросто. Последний раз, помнится, имел удовольствие заказать Реквием одному шалопаю. Я не люблю людей, в них слишком много жалости к себе.
– Тогда почему вы не явились Бродскому? – поинтересовался Семён, – то-то был чудак, похлеще Моцарта!
– Йося? Он сам ко мне пришёл! Я первый раз увидел человека, любовь которого совершенно очистилась от жалости к самой себе. Мы долго беседовали. Тогда же и сговорились.
– Кто вы?
– Э-э, об этом потом как-нибудь. Ну что, по рукам?
– По рукам!
Когда утихли восторженные вибрации восклицательного знака, Семён ощутил внутренний холодок, скользнувший вслед принятому решению. Незнакомец исчез, исчезли все пачки рукописей и черновиков с антресоли шкафа.
«Может, оно и к лучшему», – подумал Семён. На пустом столе лежала вызывающе толстая пачка ассигнаций. Он дотронулся пальцем до верхней купюры. Приятное скольжение человеческой кожи по лощёной поверхности новенького денежного знака заставило его задуматься. «И что же теперь, – спросил он сам себя, – выходит, я продан?..» Сочинитель прогнал неприятную мысль, сел за стол и попытался что – то писать. Но на первой же букве «Вечное перо» скользнула по листу и разломилось надвое.
– Р-рэ-кви-и-эм! – неприятный раскатистый крик, как крохотная шаровая молния, влетел в приоткрытую форточку и заметался по комнате. Пламя свечи вздрогнуло и погасло. Семён встал, подошёл к окну и взглянул на двор. Кроме двух играющих детей во дворе никого не было. На сухой ветке единственного нераспустившегося дерева сидел огромный чёрный ворон и коричневым клювом чистил крыло, поглядывая по сторонам.
День рождения
В жизни каждого человека один-единственный раз в году наступает довольно странный день. С раннего утра без умолку звонит телефон. Люди, многие из которых ещё вчера относились к вам, мягко говоря, холодно, ныне рассыпаются в комплиментах. Каждый из корреспондентов желает крепкого здоровья и личных успехов, даже если эти успехи конфликтуют с интересами самого комплиментатора. Этот особый день называется «День рождения». И хотя настоящий день рождения давно канул в Лету, его клоны ежегодно испытывают ваше самолюбие льстивыми речами и заверениями.
«Ну, зачем же так едко! – скажете вы. – Зачем добрых и искренне любящих людей заведомо чернить, как недостойных льстецов и подхалимов! Тень напрасного осуждения – это бумеранг. Он будет преследовать вас повсюду, стараясь разрушить хрупкий мир согласия. Как ложка дёгтя портит целую бочку мёда, так толика подозрительности готова испортить огромный окружающий мир добра. Стоит ли вредить самому себе?
Вы правы. Ежегодные дни рождений мы празднуем для того, чтобы научиться желать друг другу благо, не полагаясь на собственную выгоду. И ещё для того, чтобы, услышав речь добра, не ёжиться от горьких сомнений, а с лёгким сердцем вдыхать аромат любви, исходящий от близкого, или малознакомого человека.
У меня сегодня День рождения! В приподнятом настроении сажусь за рабочий стол, открываю почту и вижу ворох новых писем.
– Ого, – думаю я, – кому-то я стал интересен!
Читаю: меня поздравляют портал Мэйл.ру, какие-то малознакомые ресурсы и проч. Поначалу возникает чувство брезгливости: заздравную поют компьютеры, а не живые люди. Пометив поздравительные депеши, я решительно кликаю «Удалить!» и облегчённо выдыхаю, как после генеральной уборки.
Но проходит совсем немного времени, и становится обидно – в почтовом ящике не осталось ни одного хорошего обо мне слова. Одни обязательства и платежи.
«Вернуть, что ли? – закрадывается мысль, – может, этот «льстец-компьютер», этот кусок нашпигованного проводами железа передал мне поздравительное письмо, заготовленное человеком для человека? И написал его вовсе не треножка-транзистор, а живой влюбчивый программист. Именно он заложил в программу этот мажорный текст, радуясь нашей гипотетической встрече в будущем! А я?.. Бросил в корзину лучший алгоритм, когда-либо созданный вдохновенным гением человека!
И так-то тепло стало у меня на душе! Я зримо представил фотоны человеческого добра, летящие по коннекторам мобильной связи на мой личный праздник. Ощутил поздравительную интонацию виртуальных адресатов как дружеский привет из собственного будущего!
До вечера мне дарили подарки и говорили добрые слова. Заздравная почта утреннего дисплея украсила наступивший День рождения радугой благого человеколюбия.
И пусть крохотный атом моего «я» появился на свет много лет назад, сегодня произошло иное событие – рождение личности. Личности, свободной от скверны недоверия и пошлой подозрительности (ах, кабы чего не вышло!). Личности, ощутившей соприсутствие Бога, Его неизреченную милость и доброту как высшую правду о назначении человека!
Ссора
«Как нехорошо, как нехорошо!..» – повторял он, чувствуя, что теряет последние рубежи самообладания, рубежи, за которыми можно уберечься от «трассирующих очередей» словесного человеческого гнева.
Он видел, как его редуты, некогда стройные и сверкающие на солнце длинными, изящными стволами орудий, превращаются в кипящую лаву неуправляемой материи. И тогда (да, это произошло именно тогда) его подсознание протрубило последний смертельный сбор. Бессмысленный и беспощадный одновременно…
– Какое сегодня число? Как хорошо, когда никого нет рядом, не надо обмениваться словами, не надо тратить взгляды на пустую болтовню умов, а можно просто, как сейчас, лежать и смотреть в небо, пересчитывать облака и ни о чём, совершенно ни о чём не думать…
Что произошло? Почему надо мною так много неба? И ещё какой-то мёртвый запах? А где Маша? – ему вдруг припомнилось, как оба они, ненавидящие друг друга и перепачканные липкой крикливой грязью, метались по дому. Как падали и разбивались их любимые предметы и понятия. Две ветхие интеллигентные кожицы валялись в ногах, разорванные шпорами и каблуками, заваленные осколками битой словесной керамики и хлопьями сажи из выжженных сочинений о будущем.
«Боже мой, мы с Машей опять поссорились!» – где-то в самой глубине мозга вспыхнул бледный огонёк памяти о случившемся. И тотчас небо стало серым, а вместо облаков угол зрения заполнила одна густая фиолетовая туча. Вот-вот прольются слёзы; слёзы человека, растоптавшего собственное благополучие…
И причём тут Маша? Да, она была не права, по-женски эгоистична и вздорна, ну и что? Кто дал мне право мои красавцы-редуты отдавать на растерзание обиженному самолюбию? Почему ребро (всего-то одно ребро!) стало палкой, а вернее, нунчакой в умелых лапках злобного карлика-беса и снесло первым же ударом добрую половину моих полушарий?!
Действительно, вскоре хлёсткий солёный дождь промыл глазницы.
Мёртвое озеро житейской смуты осияла разноцветная радуга, а над водой показалась маленькая крылатая фигурка. Она парила очень-очень далеко и в деталях была совершенно неразличима. Но он знал, что это… конечно, это была его Маша!
Помните знаменитую фразу из кинофильма «Берегись автомобиля»: «Зритель любит ходить на детективы, приятно чувствовать себя умнее автора».
Что ж, хорошая ссора даже на плохой детектив не тянет. Всем всё ясно заранее. Как говорится: «Милые ругаются – только тешатся!»
Тешатся?
Нет, не тешатся они – злобу чужую тешат!
Мы знаем: добро должно побеждать зло, иначе мир рухнет. Вот только искусанный злобой победитель порой пугливым становится. Будем помнить об этом…
Старая фотография
Передо мной открытка со старой фотографией на обложке. Эту драгоценную открытку я привёз с Кубы четыре года назад. С тех пор все четыре года всматриваюсь и пытаюсь мысленно включиться в разговор, на ней запечатленный.
Два мудреца, Эрнест Хемингуэй и Фидель Кастро, увлечённо беседуют среди рыбацких сетей и судовых канатов. Какая-то смуглая женщина на дальнем плане варит им кофе. Фотография помечена 1960-ым годом…
Молодой, тридцатичетырёхлетний Кастро, окрылённый годовщиной победы революции на Кубе, и старик Хэм за один год до самоубийства… О чём могли так заинтересованно говорить два великих современника? Положим, Кастро был интересен Хемингуэю как личность, перевернувшая уклад огромного острова. Хэм наверняка умом и нюхом писателя понимал, что остров Куба – это только взлётная полоса Кастро, его земная роль шире. Он видел в Кастро восходящее солнце. Хэм прожил трудную жизнь и не был легкомысленным Икаром. Но сейчас, стоя в двух шагах от Солнца, он не страшился попалить свои крылья. А молодой мудрец Фидель, чуть прикрыв глаза, чтобы не выдать внутреннее волнение, пил из уст Хемингуэя коллекционное вино мудрости, так необходимое молодому революционеру.
Уж не знаю, «винный ли сбор» великого литератора оказал влияние на великого реформатора, или что ещё, но (друзья мои!) Фидель провёл революционные преобразования в стране так, как нашим ленинцам учить-не переучить. После свержения проамериканского режима Батисты в 1959-ом году, новая кубинская власть не репрессировала НИ ОДНОГО человека. Более того, имущество, которое имели зажиточные кубинцы, было сохранено и не экспроприировано. Фидель сказал: «Хотите – оставайтесь и будем вместе строить новую Кубу, хотите – уезжайте!» Как у нас говорят: «Скатерью дорога!» Многие тогда покинули остров Свободы, но не многие из них остались живы. Власть, разрешив бегство, ни в чём, естественно, беглецам не помогала. У кого-то были свои катера, лодки, кто-то просто вязал плоты. Все бежали в США. Но море часто штормило. Утлые судёнышки с «мигрантами» переворачивались. Говорят, даже акулы вскоре приметили этот печальный фарватер и ждали новые и новые партии беглецов. А тут ещё вожделенной Америке надоело возиться с кубинскими перебежчиками, и она придумала «Правило сухой ноги». Что это такое: навстречу кубинцам, пытающимся пристать к американскому берегу, была развёрнута специальная бригада полиции, которая поворачивала все плавсредства обратно, нимало не заботясь, что с ними станется. Лишь крохи беглецов умудрялись обмануть кордон и пристать к берегу. На них-то и распространялось правило: человека, который смог коснуться американского берега хоть одной ногой, полиция не трогала и принимала как беженца.
Я побывал практически везде, где останавливался или заходил выпить стаканчик мохито Эрнест Хемингуэй. Помню забавный случай. Мы с женой поднимаемся в номер 511 одного из лучших отелей старой Гаваны – Ambos Mundos, где Хемингуэй регулярно останавливался в течении семь лет. Пристенно, как в воинских пирамидах, красуются удилища, спиннинги, есть оружие. На небольшом рабочем столе стоит Его пишущая машинка с набранным на полстраницы текстом, в дальнем углу – простая кровать и прикроватная тумбочка с телефоном…
На фоне старой Гаваны, чуть прикрытой оконными гардинами, невольно начинаешь «оседать в Хэма». Время замирает и незаметно проскальзывает обратно. Вот-вот войдёт великий писатель и попросит заварить кофе. Вдруг звонит телефон! Этот старый чёрный телефон действительно звонит! Как бы глубоко я не «окунулся в старика», мой слух вздрагивает от назойливого перезвона и «просыпается». С минуту во мне борются два времени. Одно молодое, настоящее, второе… Нет, второе вскоре разваливается на отдельные артефакты быта и исчезает вослед уходящей в никуда вечности.
Девушка-экскурсовод подходит к телефону, снимает трубку и по-испански кому-то весело отвечает. Последнее колечко дыма от времени старого Хэма тает, и я понимаю – на том конце провода «завис» другой человек, не Хэм…
Мартовское великодушие или…
Правильно потратишься – не в убытке будешь!
(Житейская мудрость)Приближается женский праздник. Т. к. праздник этот международный, я заметил, что в отношениях между народами наметились какие-то новые тенденции. Люди устали от злости. Всем надоело из года в год творить обратное желаемому. Ещё великий мудрец древности апостол Павел сказал: «Творю не то доброе, что хочу, но то злое, что ненавижу».
Сколько можно убивать соседей по планете в надежде на лучшую личную жизнь? Ведь нас может стать совсем мало. А хозяйство-то большое! И если в России порой можно встретить в Подмосковье целину, а в сибирской глуши – промзоны и горы мусора, то, например, в Испании не распаханы под виноградники только водоёмы и горные вершины. Кто же за всем этим будет следить, если каждый мужчина армейского возраста возьмёт в руки оружие и заведёт спор «до кровянки» с таким же мужчиной с противоположной стороны поля – кому рвать цветы для любимой?
Растут эти цветы на нейтральной полосе между государствами (или дачными сотками), ничьи и сказочно красивы! Вы только представьте, что будет, если спор окажется неудачен для обоих?
Не бывать этому! Не надо иллюстрировать мужскую солидарность примером лающих друг на друга собак. Человек – не собака. Лучшее, что в нас есть – это способность понять нужду другого, понять и простить человека, если он по какой-то причине оступился. Давайте же не ради мартовской цифры «8», ради нас самих возвысим ум над житейской враждой и порадуемся личному счастью незнакомых нам людей. Вы только представьте, сколько миллиардов мужчин уступят друг другу цветы на нейтральной полосе? Собирай – не хочу! И никаких очередей, толкотни, ругани…
Настенька
Жили-были дед Никифор, да бабка Лукерья. И была у них…
Привёз как-то старший сын Степан дочурку Настеньку на летние каникулы, так сказать, в родовой пятистенок. Настя, городская девочка шести с половиною лет, поначалу дулась на отца, а с дедом-бабкой и вовсе не разговаривала. Чуть что – крик, слёзы.
Стал Степан обратно в город собираться. «Отец, пора мне, – говорит, – дел в городе, сам знаешь, невпроворот. Настюха пусть с вами поживёт, да на молочке посвежеет!» Сказал, сел за руль – только его и видели.
Остались Никифор, Лукерья и Настенька втроём. Бабка внучке то молочко поднесёт, то яичко сварит – всё одно, не ест девчонка ничего, в окошко глядит, да слёзки вытирает. Дед смотрит с печки и хмурится: «Угомонись, Лукерья! Проголодается, сговорчивей станет». А бабка Настеньке улыбается, говорить с ней пробует, потом выпорхнет в сени, сядет на лавку и ревёт от обиды.
Так прошёл день. Наступил вечер.
– Хочу смотреть телевизор! – заявила Настенька, нарушив сопливое молчание.
– Ох, беда, – всплеснула руками бабка, – нету, милая, у нас этого телевизора. Был один, да поломался давно, а антенна с крыши упала ещё прошлой весною, буря была…
Старуха хотела ещё многое рассказать внучке про то, каким он был, этот телевизор, как в дом попал по случаю окончания посевной. И то, как отличился её Никифор с бригадой, сам председатель подарил им этот телевизор! А ещё о том, как пол деревни собиралось по вечерам в их пяти стенах, толклись, курили и смотрели по очереди в экран. Тогда же Гагарин полетел в открытый космос, а когда вернулся, шёл по красной дорожке. И сам Хрущёв встретил его и обнял, как сына. Оба они стояли и плакали, а может, это только казалось, уж больно в избе накурено было.
– Хочу смотреть телевизор! – повторила медным голоском Настенька.
– Никифор, своди Настюшу к Ельниковым, пусть поглядит там свой телевизор, а я им молочка передам, – затарахтела Лукерья.
Дед знал, что спорить с бабкой не было никакого человеческого смысла. Хоть бы раз она отступилась – и – и, куды там! Никифор нежно любил свою Лукерью и во всём шёл ей навстречу, хотя частенько не считал её правой, а своё соглашательство – правильным.
На дворе было уже темно. Дед взял фонарик и повёл внучку к Ельниковым короткой дорогой через огороды.
– Ой, – вдруг вскрикнула Настенька, – жжёт!
Дед обернулся и увидел, что девочка, засмотревшись на первые звёзды, набрела на заросли крапивы, хотела было рукой их раздвинуть, но обожглась и вскрикнула.
– Деда, больно! – Настя потёрла ноготочками укушенное место и вопросительно поглядела на Никифора.
– Ты, Настенька, не три, пройдёт, иди за мной следом, тут недалече, – дед пошёл чуть медленнее, то и дело оборачиваясь на аккуратно идущую след в след внучку. «Да, – подумал дед, – где беда постучится, там и любовь откликается».
– Тебе не холодно? – спросил он, останавливаясь передохнуть у соседской оградки.
– А скоро ещё?
– Пришли, Настенька, пришли.
Они вошли в ароматную большую горницу. Над печкой сушились первые грибы. Лёшка, внучок тётки Авдотьи, развешивал под притолокой на верёвке карасиков, которых наловил сегодня на пруду. В углу на тумбочке, покрытой расписной скатёркой, стоял большой чёрный телевизор.
– Авдотья, принимай гостью! – весело хохотнул Никифор и бережно проводил рукой вперёд девочку, смущённую встречей с незнакомыми людьми.
– Тебя как зовут? – спросил Лёша, оглядывая гостью.
– Н-настя.
– Это ты из города приехала? Во здорово! Пойдёшь завтра на рыбалку?
– …ага, – Настя первый раз после приезда улыбнулась и посмотрела на деда, как бы спрашивая: «Это хороший мальчик?»
– Вот и славно! – улыбнулся Никифор в ответ, – ну, смотрите тут свой телевизор, а я пойду. Авдотья, пусть Лёшка потом проводит Настеньку. Да, вот табе молоко от Лукерьи, велела кланяться.
Дед вышел из сеней в огород и побрёл к дому. Звёзд набежало в небе – тьма! «Всё будет хорошо, – думалось по дороге Никифору, – всё слюбится…»
Лёша чинно проводил Настеньку до калитки и взял с неё слово, что она ни за что не проспит, а он будет ждать её у этой самой калитки в пять утра. «Клёв – штука ранняя!» – сважничал на прощанье Лёшка и побежал домой.
Лукерья встала затемно, до рассвета. Уже много лет её мучили особенно под утро тяжкие сны: годы войны, как не выключенные днём уличные фонари, высвечивали адову похлёбку того времени. А постоянно ноющая старческая боль выгибала суставы за уровень женской терпимости. Каждый вечер, засыпая на своей старой скрипучей кровати, Лукерья понимала, что боль поднимет её рано. Оттого она старалась выдумать ворох дел на завтра. Так ей легче было встать, размять суетой тело и на время забыть о боли. А Никифор спал. Он вернулся с войны контуженный на голову. Его героическая голова частенько болела, но странная вещь: ночью боль отступала, и он спал сном младенца. Сны кружились над ним лёгкие, как ангелы. То ли души погибших товарищей слетались в сонных видениях, то ли и вправду ангелы Божии любовно глядели на него с неба. Так или иначе, каждое утро Лукерья укоряла спящего мужа: «Никифор, вставай, лежебока, Победу проспишь!» Никифор тот час открывал глаза и со старческой сноровкой поднимался, как по тревоге.
Лукерья подошла к кроватке, на которой спала Настенька, и сквозь темень горницы различила мерцание двух испуганных хрусталиков.
– Настенька, ты что не спишь?! – шёпотом всхлипнула старуха.
– Где я? – пискнула Настя и недобро посмотрела на Лукерью.
– Ты дома, милая, дома. У деда с бабой, ласточка моя! – запричитала Лукерья, не меньше девочки испуганная происходящим.
Настя оглядела внимательно бабушку, перевела взгляд на горевшую в Красном углу лампадку и, видимо, припомнив события вчерашнего дня, спросила:
– А сколько сейчас время, уже пять?
– Да что ты, милая, и четырёх ишо нет, вишь, как тёмно в оконце, – Лукерья присела на край Настиной кровати и бережно взяла её детскую испуганную ручку в свою шершавую, огрубевшую от вил и ухватов ладонь. Настя руку не отдёрнула. И даже была приятно удивлена, почувствовав, как её ночной страх исчезает в глубоких бороздах старой кожи. Может быть, Настя в ладонях Лукерьи ощутила себя будущей женщиной, тёплой и родной, как мама.
– Бабушка, мне Лёша велел в пять проснуться, а то он без меня уйдёт на рыбалку! – чиркнула Настя фразой, как спичкой, о вялые уши Лукерьи.
– Уж так прям и велел? – Лукерья ласково сощурила глаза и добавила, – спи, Настенька, ещё ночь на дворе.
– А ты меня разбудишь? – допытывалась Настя.
– А как же, обязательно разбужу, ангел мой. Не уйдёт твой Лёшка без тебя. – Лукерья прикрыла острые девичьи плечики одеялом и на цыпочках вышла в сени. «Господи, помилуй нас, грешных, огради от всякого зла…» – нашёптывала старушка, всхлипывая от внезапно нахлынувшего на неё счастья.
Тем временем сквозь редеющий сумрак ночи прокрался первый лучик утреннего солнца. Старые ходики на стене пробили пять раз. Настенька спала глубоким сном Спящей красавицы. Лукерья чуток посидела у кроватки, поглядела на молочно-розовый румянец царственных ланит юной принцессы и, вздохнув, легонько тронула Настю за плечо. К удивлению Лукерьи Настя сразу открыла глаза. С полминуты она лежала неподвижно, не моргая. Потом широко улыбнулась и спросила:
– Уже пять?
– Пять, милая, пять, вставай! Поди, твой Лёшка уж за оконцем мается, да две удилины за спиной прячет! – Лукерья нарочито весело тараторила, заметив, как смыкаются Настины глазки, не доспавшие целое утро. Настя сладко потянулась.
– Да ты совсем большая! – ахнула Лукерья, глядя на растянувшуюся во всю кровать девочку, – вставай, я тебе кашки заварила, молочка согрела.
– Бабушка, я потом! – Настя, как ветер, пронеслась мимо Лукерьи, наддавила плечиком старую, крашеную суриком дверь и выбежала на крыльцо.
Утро, как студёная колодезная вода, брызнуло ей в лицо первыми лучами ещё холодного солнца. Опершись на калитку, стоял Лёшка, и как только Настенька подбежала, проворчал:
– А, проспала! Жди тебя тут всё утро!
– Неправда! – ответила Настя с вызовом, – я давно встала. Это тебя не было!
– Ладно, пошли уж, – добродушно просопел Лёшка, и дети вприпрыжку, обгоняя друг друга, побежали на пруд.
Так в милых заботах и восторженных впечатлениях прошли первые четыре дня деревенской жизни городской девочки Насти. На пятый пожаловали родители.
Жена Степана Ольга работала гримёршей в одном из московских театров. Громоздким словом «театр» трудно назвать небольшую творческую студию актёров, но студийный меценат старался, чтобы всё в студии было по-взрослому. Поэтому на четырнадцать актёров приходилось двадцать пять человек студийного персонала и в их числе два гримёра, одним из которых и была Ольга. Постоянные разъезды труппы отрывали Олю от семьи, поэтому воспитывал Настю отец.
В Степане рано открылся пластический дар художника. Промыкавшись в сельской школе до девятого класса, он всё бросил, и, поскандалив с родным пятистенком, уехал в Москву. Работал разносчиком товара в ларьках, снимал где-то в Бирюлёво угол у бабки-процентщицы, а по вечерам ходил в какие только мог студии рисунка и живописи. Домой в деревню писал дежурные агитки, мол, всё хорошо, даже замечательно: сыт, одет, снимаю большую светлую комнату. Это была чистая неправда, но старики верили и, простив своего «блудного сына», утешались прочитанным. Домой Степан наезжал крайне редко. Для этого ему приходилось одалживать у товарищей не слишком заношенные вещи и деньги на подарки. Погостив пару дней, Степан, ссылаясь на дела, уезжал, зато потом с неделю ел материны пирожки и пил деревенскую простоквашу. В институт поступил легко. Экзамен по живописи прошёл с особой похвалой комиссии. Конечно, уважаемая комиссия не знала, что аттестат о среднем образовании Степан приобрёл на Арбате у документального ханыги. Однако дело сошло, подделку не различили, так Стёпа стал студентом факультета Худграфа одного из Московских художественных институтов. Учился старательно и хорошо, насколько хватало сил после житейской борьбы за существование. На третьем курсе познакомился с Олей. Она работала лаборантом на параллельном потоке. Оба после второго курса записались в летний стройотряд. Там же и влюбились друг в друга, а через год поженились. Степан к тому времени оставил случайные заработки и, мирно простившись с хозяйкой-процентщицей, переехал в комнату общежития института. Родители Оли помогли молодым с ипотекой. Ничего не мешало появлению на свет нового человека. И Настенька, взяв ситуацию в свои крохотные ручки, как говорят, «не заставила себя ждать».
Ко времени нашего повествования Степан и Оля окончили институт. Оля гримировала лицедеев в театральной студии. А Степан выполнил несколько заказных работ, заработал кучу денег и купил хорошую светлую мастерскую, о которой много лет назад пророчески писал своим доверчивым родителям.
– Мама! – закричала Настя, увидев у калитки родителей с красивыми городскими пакетами, в которых, несомненно, находились подарки, – ура, мама приехала! – повторяла Настя, сбегая с крыльца. А дед с бабкой спешно накрывали стол и ставили самовар.
– Как я по вас соскучилась! – лепетала Настенька, прижимаясь то к отцу, то к матери.
– Это за четыре-то дня? – усмехнулся Степан.
– Да, папа, знаешь, сколько мы тут с дедушкой прожили? И ещё с бабушкой!
– А мы за тобой, – сказала Оля и внимательно посмотрела на дочь.
– Как за мной? Я же ещё…
Не станем перечислять всё то, что намеревалась высказать родителям Настя. Давайте пожалеем собственное время и заглянем на час вперёд:
– Мама, я никуда отсюда не поеду – пожалуйста, не увозите меня!
– А как же подготовительные курсы в школу? Ты записана, мы деньги отдали, – как можно мягче обратился к дочери Степан.
В это самое мгновение в окне мелькнула взъерошенная голова Лёшки. Настенька вежливо отставила недопитую чашку с молоком и выпорхнула из комнаты.
– Это они чего, за тобой приехали? – смущённо спросил Лёша, не глядя на Настю.
– Лёша, домой! – послышался через огороды резкий, как крик совы, голос тётки Авдотьи.
Дети стояли по обе стороны калитки и глядели в небо. Чуть поодаль тёплый июльский вечер кутал в махровые сумерки хрупкие фигурки двух молоденьких ангелов. Их клейкие крылышки переливались в лучах вечерней зари мягким изумрудом.
Дед Никифор попивал чай, да поглядывал в окошко. Но за седыми прядями тумана подслеповатый старый человек, как ни вглядывался, не мог различить первую взрослую печаль на глазах четырёх маленьких пришельцев из будущего.
Ищите интонацию!
Писать о любви следует строфой стихотворной! Рифма, как аккомпаниатор, ведёт голос солиста. Остаётся только не забыть текст и не отвлечься на что-нибудь во время исполнения. Проза же (как литературный размер для чувствительных декламаций) сложна и путана.
Зашёл я как-то к старому учителю литературы Афанасию Гавриловичу и с порога спрашиваю:
– Афанасий Гаврилович, научи писать прозу про любовь. Так писать, чтоб сердце человеческое в ответ встрепенулось и заговорило! Как только ни пробовал я, нет, чувствую, не ро́бят мои литеры трепета человеческого!
– Ты погодь, Мишаня, не капитись, – улыбнулся Гаврилыч, – любовная проза – это не «сю-сю-сю» двух персонажей, это, Мишань, тайна! Такая, что все слова порой ни к чему бывают. Ты вот что, попробуй писать без слов! – учитель затянулся табачком из своей знаменитой на всю школу янтарной трубки.
– Как это? – переспросил я.
– А так, – Гаврилыч выдохнул, поднял указательный палец вверх и добавил, – тут важна интонация!
Я вернулся домой, сгорая от литературного нетерпения. Не снимая пальто, подбежал к письменному столу и включил компьютер.
– Что-то случилось? – поинтересовалась жена из кухни, накрывая стол для позднего ужина.
– Ты ешь, я потом!
«Интонация… Вот оно что!» – пульсировал в моей голове добродушный голос Гаврилыча. Голос манил. Я наблюдал издалека, как он пишет в строчку на классной доске какие-то иероглифы любовного содержания, а мы, поглядывая друг на друга, хихикаем «в стол», как великовозрастные обалдуи.
Но постепенно дурь возраста оседает. Вот поднимается Никита Лобзев:
– Как красиво! Нам бы так!.. – Никита обводит взглядом притихшие ряды, открывает хрестоматию и читает отрывок из «Капитанской дочки», где Гринёв, он же Никита Лобзев, объясняется в любви Машеньке Мироновой.
…Я выдохнул и поставил жирную точку.
– Или иди спать, или читай! – послышался из гостиной голос жены. Веки мои слипались совершенно. Я набрался сил и прочитал ещё не остывший текст о любви молоденькой девочки к старому учителю литературы, любви, которой суждено было тайно родиться и также тайно умереть в сердце будущей женщины. Первая любовь не выбирает…
Я закончил чтение. Старый напольный Брегет пробил три часа ночи, наполнив гостиную бархатным перезвоном. Жена полулежала на диване, откинув голову на подлокотник. Глаза её бродили по потолку и, казалось, что-то высматривали среди пожелтевшей от времени побелки.
– Спасибо, Миша, – наконец, произнесла она, – ты тронул моё сердце. Разве я когда-нибудь рассказывала о своей первой любви? Твоя влюблённая девочка – это я тридцать лет назад! Я не помню, как выглядел мой возлюбленный учитель литературы, помню только, как он частенько поднимал вверх указательный палец и таинственным голосом нам выговаривал: «Ищите интонацию!..»
Примечания
1
Пепела – бабочка (груз.)
(обратно)2
Мерная икона – в Древней Руси XVII–XVIII веков икона, которую создавали ко дню крещения ребёнка.
(обратно)3
Ковчег – в иконописи углублённое среднее поле на лицевой поверхности иконной доски.
(обратно)4
Левкас – в иконописи название грунта, представляющего собой мел, размешанный на животном или рыбьем клею с добавлением льняного масла.
(обратно)5
«Новгородские таблетки» – В Новгородском музее хранится девятнадцать двусторонних икон (таблеток). Святцы или т. н. таблетки (то есть небольшие иконки, написанные на туго пролевкашенной основе) широко применялись лишь на Руси.
(обратно)6
Морок – белый солевой налёт на поверхности стенной живописи.
(обратно)7
Ящик – церковный ларёк в храме.
(обратно)8
Графья (графить) – нанесение контуров рисунка на левкас или сырую штукатурку.
(обратно)9
Курант – орудие для растирания чего либо.
(обратно)10
Лессировка – наложение прозрачного красочного слоя.
(обратно)11
Футбольный стадион в Мадриде, домашняя арена футбольного клуба «Реал Мадрид» – справка для тех, кто не слишком хорошо разбирается в футболе (вставлено по просьбе Бори).
(обратно)12
1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. По данным федеральных сил, потери боевиков составили до 500 человек.
(обратно)


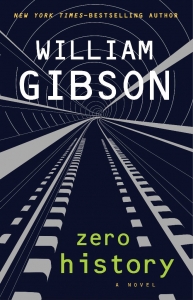







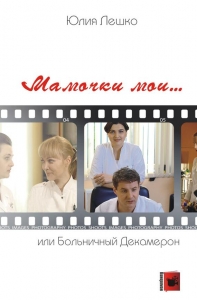
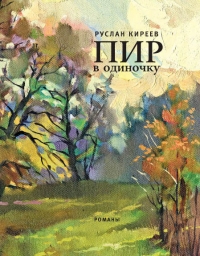
Комментарии к книге «Ищите интонацию. Сборник коротких рассказов», Борис Алексеевич Алексеев
Всего 0 комментариев