Джон Бойн
Написано красиво и мощно, со сдерживаемой страстью. «История одиночества» — история одного человека и целой страны разом. Удивительной глубины книга.
Джойс Кэрол ОутсДжон Бойн погружается в темную и тревожную католическую историю, создавая из этого литературное сокровище. Отважная, честная и неожиданная книга.
Джон БэнвиллРоман удивительной архитектурной легкости. Несмотря на сложность и тяжесть темы, он словно парит. Бойн создал великолепного героя. Одран Йейтс — не просто хороший человек и добрый священник, он чувствует свою ответственность за грехи тех, кто рядом, он взваливает на себя неподъемный груз чужих проступков и прегрешений. Ни один писатель, наверное, сегодня с такой глубиной и печалью не описывает чувство вины, как делает это Джон Бойн.
Джон ИрвингС исключительной ответственностью и вниманием Бойн исследует тему, от которой большинство уклоняются, предпочитают не видеть. Это смелый, злой и мощный роман, проливающий свет на темную главу в истории Ирландии.
The Daily MailНеотразимая история о власти, лжи, самообманах. То, что произошло в ирландской Католической церкви, легло в основу этой ошеломительной книги. Некоторые из нас уже давно задавались вопросом, а что было бы, если бы писатель-виртуоз обратился к этой теме. Теперь мы знаем ответ.
Джозеф О’КоннорДжон Бойн привносит совершенно свежий взгляд на историю. Он однозначно один из величайших мастеров в современной литературе.
Колум Маккэнн.История одиночества
Жизнь легко описать, но нелегко прожить.
Э. М. ФорстерГлава 1 2001
До середины жизни я не стыдился, что я ирландец.
Пожалуй, стоит начать с того вечера, когда я пришел к сестре на званый ужин, а она забыла о своем приглашении; наверное, тогда-то и проявились первые признаки ее безумия.
В тот день состоялась инаугурация Джорджа У. Буша на первый срок американского президентства, и когда я появился в доме сестры на Грейндж-роуд в Ратфарнеме, то застал Ханну прилипшей к телевизору — передавали отчет о церемонии, в полдень прошедшей в Вашингтоне.
К своему стыду, я почти год не бывал у сестры. После суматошных визитов из-за смерти Кристиана я вернулся к прежнему стилю нашего общения: редкие разговоры по телефону и еще более редкие трапезы в кафе «У Бьюли», напоминавшем нам о далеком-далеком детстве, в котором мама баловала нас угощеньем и водила смотреть рождественскую витрину универмага Швицера[1]. В магазине Клери нас обряжали к первому причастию, а потом в кафе мы объедались сосисками с фасолью и жареной картошкой, и нам дозволялось заказать по огромному пирожному с кремом и запить его апельсиновой фантой. От Дандрамской церкви автобусом 48А мы, вцепившись в поручень передних сидений, через Милтаун, Рейнлаф и горбатый мост Чарлмонт ехали в самый центр, к старому кинотеатру «Метрополь» за станцией «Тара-стрит», куда однажды нас повели на «Мятеж на Баунти» с Марлоном Брандо и Тревором Ховардом, но тотчас вытолкнули из зала, едва гологрудые таитянки, стыдливо прикрытые лишь цветочными гирляндами, в каяках поплыли к изголодавшимся матросам. Тем же вечером мама написала в «Ивнинг пресс», требуя запретить этот фильм. У нас католическая страна или нет? — вопрошала она.
За тридцать пять лет кафе «У Бьюли» почти не изменилось. Я, знаете ли, склонен к ностальгии, иногда она просто изводит. Я переношусь в уютное детство, едва увижу сиденья с подголовниками, готовые принять всевозможных дублинцев. Вот седые, гладковыбритые пенсионеры, благоухающие «Олд Спайсом» и облаченные в уже ненужные костюмы и галстуки, читают деловые новости «Айриш таймс», которые не имеют к ним никакого отношения. Вот замужние дамы в компании лишь романа прелестной Мейв Бинчи[2] балуют себя утренней чашечкой кофе. Вот студенты Тринити-колледжа, шумные и живые, ошалелые от собственной молодости и общества друг друга, поглощают кофе огромными кружками и вгрызаются в булки с сосисками. Вот горемыки, от кого отвернулась удача, за цену чашки чая надеются купить себе час-другой теплоты. Горожан всегда привлекало благодатное и неразборчивое гостеприимство Бьюли, которым иногда пользовались и мы с Ханной: вот мужчина средних лет и его вдовствующая сестра; опрятно одетые, они ведут негромкую беседу и по-прежнему любят пирожные, но фанту уже не пьют, опасаясь за желудок.
Ханна позвонила мне загодя, и я тотчас принял приглашение. Наверное, ей одиноко, подумал я. Ее старший сын, мой племянник Эйдан, вечно пропадал на лондонских стройках и дома почти не показывался. Звонил он Ханне, по-моему, еще реже меня. И потом, с ним было тяжело. В один прекрасный день он, веселый и дружелюбный мальчишка, этакий скороспелый затейник, вдруг превратился в угрюмого квартиранта в родном доме, и злоба, без всякого уведомления начавшая отравлять его юную кровь, с годами ничуть не уменьшилась, но лишь росла и разбухала, уничтожая все, с чем соприкасалась. Рослый, ладно скроенный, от скандинавских предков он унаследовал гладкую кожу и светлые волосы, и женщины, к которым он, похоже, был ненасытен, в мгновение ока сдавались без боя. Чего скрывать, из-за него одна несчастная девушка угодила в беду, когда оба еще не доросли до водительских прав, и разгорелся скандал; в результате после жуткой свары между Кристианом и отцом девушки, окончившейся вызовом полиции, ребенка отдали на усыновление. С тех пор об Эйдане я ничего не слыхал. Он всегда на меня поглядывал с этаким презрением. Однажды на каком-то семейном празднике он, в подпитии, прижал меня к стене и, подперев языком щеку, чуть ли не вплотную придвинулся к моему лицу; от него так несло табаком и спиртным, что я отвернулся.
— Слушай, тебе не кажется, что ты профукал свою жизнь, а? — вполне дружески спросил Эйдан. — Неужто никогда не хотелось отмотать назад и начать заново? Чтоб все по-другому. Чтоб стать нормальным человеком, а не тем, что ты есть.
Я покачал головой и ответил, что суть моей жизни — чувство глубокого удовлетворения, и выбор мой, хоть сделан в юные годы, остается неизменным. Выбор мой неизменен, повторил я, и пусть племянник считает его никудышным, он придает моей жизни ясность и смысл, коих, к сожалению, лишено существование самого Эйдана.
— Вот тут ты не ошибся, Одран, — сказал он и, отшагнув, выпустил меня из заточения. — Но все равно я бы не смог быть тобой. Уж лучше застрелиться.
Да уж, Эйдан никогда не пошел бы моим путем, и я этому рад. Дело в том, что он лишен моего простодушия и неспособности к сопротивлению. Даже в детстве в нем угадывался мужик, каким мне никогда не стать. Поговаривали, в Лондоне Эйдан жил с женщиной старше себя, матерью двоих детей, что мне казалось очень странным, ибо от собственного ребенка он отказался.
Нынче в доме Ханны остался лишь юный Джонас, бука и молчун, в беседе вечно разглядывавший свои ботинки и перебиравший пальцами, точно неуемный пианист. От чужих взглядов он вспыхивал и предпочитал уединенно читать в своей комнате, но если я спрашивал его о любимых писателях, Джонас отмалчивался либо, словно бросая отчаянный вызов, называл совершенно незнакомого мне иностранца — какого-нибудь японца, итальянца или португальца. Прошлым мартом на поминках по его отцу я, желая разрядить гнетущую атмосферу, спросил Джонаса, чем это он занимается взаперти — может, вовсе не читает? Это была шутка, я не имел в виду ничего дурного, но едва слова, которые слышали еще три-четыре человека, в том числе Ханна, слетели с моих губ, как я уразумел всю их пошлость, а бедный парень покраснел и поперхнулся лимонадом. Я от всей души хотел извиниться, что так его оконфузил, но этим все только усугубил бы, поэтому промолчал и оставил парня в покое, но, видимо, тогда-то наши отношения разладились, ибо он, наверное, решил, что я намеренно его унизил, чего у меня, конечно, не было и в мыслях.
В описываемое время Джонасу сравнялось шестнадцать и он готовился к выпускному экзамену, для него не представлявшему никакой сложности. Он всегда был умницей, раньше сверстников заговорил и научился читать. Кристиан, когда был жив, все любил повторять, что с такими мозгами сын его запросто станет врачом или адвокатом, премьер-министром Норвегии или ирландским президентом, но я всякий раз думал: нет, не это предназначено мальчику. Не знаю — что, но только не это.
Иной раз Джонас мне казался потерянным. Он никогда не говорил о друзьях. У него не было девушки, он никого не приглашал и сам не ходил на школьные рождественские танцы. Он не вступал в клубы, не занимался спортом. Только школа и дом. По субботам отправлялся в кино, обычно на иностранные фильмы. Помогал по дому. Наверное, он одинок, думал я. А уж я-то знаю, каково быть одиноким мальчишкой.
После смерти Кристиана, мужа и отца, и отъезда Эйдана, сына и брата, в доме обитали только Ханна и Джонас, и я, мало что зная об их жизни, мог только догадываться, что женщине за сорок и дерганому подростку вряд ли есть о чем поговорить, и потому, наверное, тишина в их жилище и заставила Ханну снять трубку и позвонить старшему брату: может, как-нибудь заглянешь к нам на ужин, Одран? А то мы совсем тебя не видим.
В тот вечер я приехал на новой машине. В смысле, на своей новой подержанной машине — «форд-фиеста» 92-го года. Я купил эту малышку всего неделю назад и гордо рассекал в ней по городу. Припарковавшись перед домом Ханны, я открыл слегка провисшую калитку в черной облупившейся краске. Что же это Джонас ею не займется? — подумал я. Хоть еще мальчишка, но теперь, без Кристиана и Эйдана, он единственный мужчина в доме. А вот сад смотрелся вполне прилично. Посадки благополучно пережили холода, и ухоженные клумбы сулили поведать все сокрытые в них тайны, едва наступит весна, которой я всегда жду не дождусь, ибо люблю солнце, хотя коренной ирландец и редко могу под ним погреться.
Когда это Ханна заделалась садоводом? — раздумывал я. Похоже, что-то новенькое.
Я позвонил, на шаг отступил и, задрав голову к освещенному окну второго этажа, заметил промелькнувшую мужскую тень. Наверное, Джонас услыхал машину и увидел, что я подхожу к двери. Мне хотелось, чтобы он отметил «фиесту». Что плохого, если дядька слегка выпендривается? Проскочила мысль, что надо быть повнимательнее к парню, ведь, как ни крути, я его единственный дядя, а теперь, без отца и брата, ему, скорее всего, потребно мужское влияние.
Ханна отворила дверь и, чуть согнувшись, пыталась рассмотреть, кого это принесло в столь поздний час. Я тотчас вспомнил покойную бабушку — в сестре проглядывала женщина, какой она станет лет через пятнадцать.
— Ох ты! — покивала Ханна, узнав меня. — Мертвые восстали.
— Ага, — улыбнулся я и, подавшись вперед, чмокнул ее в щеку.
От сестры пахло лосьоном и кремом, какими пользуются женщины ее возраста. Я распознаю этот запах всякий раз, когда мамаши пожимают мне руку, приглашают у них отужинать и спрашивают, как мои дела и не сильно ли бедокурят их сынки. Не знаю, как называются эти лосьоны и кремы. Вроде это даже не лосьоны. В телерекламе их обзывают как-то иначе. Каким-то современным словцом. Но я вообще так несведущ в женщинах и их жизни, что моего незнания хватило бы на древнюю Александрийскую библиотеку.
— Рад тебя видеть, Ханна. — Я вошел в прихожую, снял пальто и повесил его на пустой крючок рядом с сильно поношенной пальтушкой сестры и коричневой замшевой курткой, явно принадлежавшей Джонасу.
— Входи, входи. — Ханна провела меня в гостеприимно теплую комнату. Горевший камин навеял мысль об уютных вечерах перед телевизором, из которого Энн Дойл рассказывает, как поживает Берти, вернется ли Братон и что поделывает бедолага Эл Гор[3], выброшенный на помойку.
На телевизоре стояло фото в рамке: маленький Катал смеется, словно перед ним, беднягой, целая жизнь. Раньше я не видел этого снимка. Катал, растрепанный, в коротких штанишках, стоит на морском берегу — сердце разрывалось от его смеющейся мордашки. В жизни Катала был только один морской берег, и непонятно, зачем Ханна выставила напоказ воспоминание о том ужасном времени. Где она вообще нашла эту фотографию?
— Как там пробки на дорогах? — из другого конца комнаты спросила сестра.
Я посмотрел на нее и не сразу ответил:
— Никаких пробок. У меня новая машина. Долетел с ветерком.
— Новая машина? Слишком шикарно. Это дозволяется?
— Не из автосалона. — Мысленно я приказал себе не считать машину новой. — В смысле, новая для меня. Подержанная.
— А так можно, да?
— Можно. — Я усмехнулся, не вполне ее понимая. — На чем-то нужно ездить, правда?
— Наверное. Кстати, который час? — Ханна глянула на часы, потом на меня: — Сядь, пожалуйста. Я нервничаю, когда ты стоишь столбом.
— Охотно. — Я уселся, а сестра вдруг шлепнула себя по губам и потрясенно на меня уставилась.
— Господи боже мой! — выговорила она. — Я что, пригласила тебя на ужин?
— Пригласила. — Лишь теперь я сообразил, что в комнате пахнет скорее воспоминанием об ужине, нежели обещанием трапезы. — Ты забыла?
Ханна смущенно сощурилась, отчего лицо ее сделалось необычайно чудным, и помотала головой:
— Ничего я не забыла. Хотя нет, похоже, забыла. Мне казалось… разве мы говорили не про четверг?
— Нет. — Я точно помнил, что мы условились на субботу. — Но возможно, я что-то перепутал. — Мне не хотелось, чтобы сестра себя чувствовала виноватой.
— Да нет, ты ничего не перепутал, — покачала головой Ханна, жутко расстроенная. — Не знаю, что со мной творится, Одран. Я прям сама не своя. Не перечесть, сколько раз за последнее время я напортачила. Миссис Бирн уже сделала мне выговор — мол, встряхнись, собери мозги. Вечно она зудит. Что я, нарочно, что ли? Я не знаю, как перед тобой оправдаться. Ужина нет. Полчаса назад мы с Джонасом поели, и я приготовилась смотреть телевизор. Может, сделать тебе бутерброд с колбасой? Сгодится?
Я подумал и кивнул:
— Это было бы здорово.
Потом я вспомнил, как всю дорогу у меня урчало в животе, и попросил, если не трудно, сделать два бутерброда. Запросто, ответила сестра, какие проблемы, она ведь полжизни только тем и занималась, что сооружала бутерброды с колбасой для двух оглоедов, что наверху.
— Двух? — переспросил я. Может, в окне я видел тень старшего брата Джонаса? — А что, Эйдан приехал?
— Эйдан? — удивилась сестра, замерев со сковородкой в руке. — Нет, ты прекрасно знаешь, что он работает в Лондоне.
— Ты сказала — для двух оглоедов.
— В смысле, для Джонаса.
Я оставил сестру в покое и повернулся к телевизору.
— Ты видела новости? Эти янки совсем взбаламутились, да?
— Еще все нервы нам измотают! — Ханна перекрикивала шипенье масла в сковородке, куда положила куски колбасы. — Я полдня пялилась в телик. Как по-твоему, от этого малого будет хоть какой-нибудь толк?
— Он еще не начал, а его уже все ненавидят. — Днем я мельком видел обзор новостей, и меня удивили толпы, протестовавшие на улицах американской столицы. Все говорили, что победы на выборах не было. Может, и не было, но соперники шли голова в голову, и инаугурация Гора не оказалась бы легитимнее.
— Знаешь, кто мне нравился? — девически мечтательным тоном спросила Ханна.
— Кто? Кто тебе нравился?
— Рональд Рейган. Ты помнишь его фильмы? По субботам их иногда показывают по Би-би-си-2. Пару недель назад был фильм, там Рональд Рейган играет железнодорожника, с ним происходит несчастный случай, и Рейган очухивается на больничной койке, ему ампутировали обе ноги. «Где мое остальное? — вопит он. — Где остальное-то?»
— Ну да, — сказал я, хотя не видел ни одной картины с участием Рейгана и разговоры о его киноролях меня ставили в тупик. Говорят, жена его была жуткая стерва.
— Он всегда так выглядел, словно за все в ответе, — продолжила сестра. — В мужчинах мне это нравится. Кристиан был такой же.
— Верно, — согласился я. Кристиан и вправду имел такой вид.
— Ты знаешь, что у него был роман с миссис Тэтчер?
— У Кристиана? — поразился я. Нечто невероятное.
— Да нет, у Рейгана, — раздраженно пояснила сестра. — По крайней мере, такие слухи. Дескать, они крутили любовь.
— Ну не знаю. — Я пожал плечами. — Вряд ли. Она слишком черствая для романа.
— Хорошо, что этот Клинтон убрался, — сказала Ханна. — Грязный паскудник, правда?
Я неопределенно качнул головой. Меня самого мутило от Билла Клинтона. Политика его мне нравилась, но озабоченность спасением собственной шкуры напрочь убила доверие к нему. Грозит пальцем, непроницаемый вид, все отрицает. И ни слова правды.
— Еще этот оральный секс, — сказала Ханна, и я изумленно вытаращился. Сестра никогда не произносила ничего подобного, я даже подумал, что ослышался, но уточнять не стал. Что-то мурлыча, Ханна перевернула колбасу на сковородке. — Ты поклонник кетчупа или коричневого соуса?
— Кетчупа.
— Кетчуп закончился.
— Ладно, коричневый соус вполне сойдет. Я уж забыл, когда последний раз его пробовал. Помнишь, отец все подряд ел с ним? Даже лосося.
— Лосося? — Ханна подала мне тарелку с двумя аппетитными бутербродами. — Разве лосось когда-нибудь успевал вырасти?
— Изредка случалось.
— Такого не припомню. — Сестра уселась в кресло и взглянула на меня: — Ну как бутерброды?
— Что надо.
— Надо было накормить тебя ужином.
— Пустяки.
— Не знаю, что у меня с головой.
— Не переживай. — Я попробовал сменить тему: — Что у вас было на ужин?
— Курица с вареной картошкой. Вернее, пюре. Кристиан любит пюре.
— Джонас, — поправил я.
— Что — Джонас?
— Ты сказала — Кристиан.
Ханна растерянно покачала головой, словно не вполне меня поняв. Я хотел объяснить, но тут наверху скрипнула дверь и на лестнице раздались тяжелые медленные шаги. Через секунду появился Джонас; он мне кивнул, улыбнувшись застенчиво, но радушно. Не мешало бы ему постричься, подумал я, грех скрывать такие красивые скулы под отросшими патлами.
— Как поживаете, дядя Одран? — спросил Джонас.
— Спасибо, хорошо. По-моему, с нашей последней встречи ты еще больше вымахал.
— Растет без удержу, — сказала Ханна.
— Ну разве что чуть-чуть, — возразил Джонас.
— А что это за прическа? — Я старался говорить дружески. — Сейчас так модно?
Джонас пожал плечами:
— Не знаю.
— Ему надо срочно постричься. — Ханна развернулась в кресле: — Почему не сходишь в парикмахерскую, сынок?
— Схожу, если дашь три с полтиной. У меня ни гроша.
— Отстань. — Ханна вернулась в прежнюю позицию. — Мне и без того хлопот хватает. Вот я тебе расскажу, Одран. Собери мозги, говорит мне миссис Бирн, а не то… Кто бы говорил, я-то на этой работе на восемь лет дольше ее.
— Да, ты рассказывала. — Я доел бутерброд и принялся за второй. — Посидишь с нами, Джонас?
Он покачал головой и прошел в кухню:
— Я просто хотел попить.
— Как учеба?
— Хорошо. — Джонас заглянул в холодильник и недовольно сморщился.
— Вечно уткнется в книгу, — сказала Ханна. — Такие мозги надо на что-то тратить.
— Ты уже решил, кем хочешь стать? — спросил я.
Племянник что-то пробурчал, но я не расслышал. Наверное, какую-нибудь дерзость.
— Этот парень будет, кем захочет. — Ханна не отрывала глаз от Джорджа У. Буша, произносившего инаугурационную речь.
— Я точно не знаю. — Джонас вернулся в гостиную и скользнул взглядом по телевизору. — Филологическое образование ни к чему не готовит, но как раз филология меня интересует.
— По моим стопам не пойдешь, нет? — спросил я.
Джонас потряс головой и, слегка покраснев, незло рассмеялся:
— Вряд ли, дядя Одран. Уж извините.
— Еще неизвестно, как у тебя все сложится, — сказала Ханна. — А вот дядя твой сотворил себе благородную жизнь.
— Я знаю, — ответил Джонас. — Я не хотел…
— Я просто пошутил, — пресек я извинения. — Тебе всего шестнадцать. Наверное, в наше время всякий шестнадцатилетний юноша, выбравший мое поприще, напрашивается, чтобы друзья его съели живьем.
Джонас посмотрел мне в глаза:
— Вовсе не поэтому.
— Ты знаешь, что в газете напечатали его статью? — спросила Ханна.
— Ну, мам! — Джонас бочком двинулся к двери.
— Что-что? — удивился я.
— Статью, — повторила сестра. — В «Санди трибьюн».
— Вот как? — нахмурился я. — И на какую тему?
— Да это не статья. — Джонас залился румянцем. — Рассказ. В общем, чепуха.
— Что значит — чепуха? — вытаращилась Ханна. — В кои-то веки наше имя появилось в газете.
— Значит, рассказ? — Я отставил тарелку и повернулся к племяннику: — Литературное произведение?
Джонас кивнул, избегая моего взгляда.
— И когда напечатали?
— Пару недель назад.
— Что ж ты не позвонил? Я бы хотел прочесть. Все равно молодец. Стало быть, рассказ. Так ты этим хочешь заниматься? Писательством?
Джонас пожал плечами; казалось, он смешался не меньше, чем от моей необдуманной реплики на поминках. Чтобы еще больше его не смущать, я отвернулся к телевизору.
— Ну что ж, удачи, — сказал я. — Это великая цель.
Джонас вышел из комнаты, а я усмехнулся и взглянул на сестру, углубившуюся в программу передач.
— Надо же, писатель.
Ответ меня слегка озадачил:
— От Брау-Хед до Банбас-Краун[4] пешком далеко. — Потом сестра отложила журнал и уставилась на меня, словно впервые видела. — Ты так и не рассказал, что случилось с мистером Флинном.
— С кем? — Я порылся в памяти, но не отыскал в ней никаких Флиннов.
Ханна тряхнула головой — мол, неважно — и прошла в кухню, оставив меня в недоумении.
— Я заварю чай, — сказала она. — Выпьешь чайку?
— Выпью.
Когда Ханна появилась с двумя чашками кофе, я промолчал. Видно, сестра о чем-то задумалась; выглядела она рассеянной.
— Все хорошо, Ханна? — спросил я. — Ты на себя не похожа. Тебя что-то беспокоит?
Сестра помолчала, затем подалась вперед и прошептала:
— Я не хотела говорить, но раз ты сам начал… только между нами… по-моему, Кристиан нездоров. Его мучают головные боли. Но разве он пойдет к врачу? Поговори с ним, меня он не слушает.
Я просто онемел. О чем это она?
— Кристиан? — выговорил я наконец. — Но ведь он умер.
Ханна посмотрела на меня, словно я хлестнул ее по лицу:
— А то я не знаю. Я же его хоронила. Зачем ты напоминаешь?
Я растерялся. Может, я недослышал? Я тряхнул головой. Ладно, бог с ним. Я выпил кофе. В девять часов начался обзор новостей, я посмотрел, как Билл с Хиллари, попрощавшись с нацией, садятся в вертолет, и сказал, что и мне, пожалуй, пора.
— Надолго не пропадай. — Ханна не встала и вообще не сделала попытки меня проводить. — В следующий раз накормлю тебя обещанным ужином.
Я кивнул и безропотно вышел в прихожую, затворив дверь гостиной. Когда я натягивал пальто, на площадке второго этажа появился босой Джонас.
— Уходите, дядя Одран?
— Да, Джонас. Надо бы нам беседовать почаще.
Он кивнул и, медленно спустившись по лестнице, протянул мне свернутую газету.
— Вот, если хотите, — сказал Джонас, глядя в сторону. — Это мой рассказ. В «Трибьюн».
— Замечательно. — Меня тронуло его желание дать мне газету. — Вечером прочту и верну.
— Не надо. Я купил десять экземпляров.
Я улыбнулся и спрятал газету в карман.
— Я бы сам купил, если б знал.
Джонас переминался, нервно поглядывая на дверь гостиной.
— У тебя все в порядке? — спросил я.
— Да.
— Похоже, тебя что-то беспокоит.
Джонас шумно засопел.
— Я хотел кое о чем вас спросить, — сказал он, избегая моего взгляда.
— Ну спрашивай.
— Насчет мамы.
— А что такое?
Джонас сглотнул и наконец посмотрел мне в глаза:
— По-вашему, все в порядке?
— С мамой?
— Да.
— Она выглядит немного усталой. — Я взялся за щеколду. — Может, ей нужно хорошенько выспаться. Это, наверное, никому не помешает.
— Погодите. — Джонас придержал дверь. — Она заговаривается и все забывает. Не помнит, что папа умер.
— Годы берут свое. — Я распахнул дверь, прежде чем он успел мне помешать. — Нас всех это ждет. И тебя тоже, но еще не скоро, так что не волнуйся. Холодно-то как, а? — Я вышел за порог. — Иди, а то простудишься.
— Дядя Одран…
Не дав ему договорить, я зашагал прочь. Джонас посмотрел мне вслед и закрыл дверь. Кольнуло виной, но я не мог ничего с собой поделать. Хотелось домой. Я подошел к машине и тут услышал стук по стеклу. Я оглянулся — Ханна раздернула тюлевые шторы и что-то крикнула.
— Что? — Я приложил руку к уху. Сестра поманила меня ближе.
— Где мое остальное? — выкрикнула она и, расхохотавшись, задернула шторы.
Я уже понял, что с Ханной неладно и грядет нечто, от чего все мы еще хлебнем горя, однако эгоистически отбросил эту мысль. Через неделю позвоню, решил я. Приглашу сестру в кафе «У Бьюли» на Графтон-стрит. Угощу яичницей, пирожным и кофе с лохматой белой пенкой. И вообще постараюсь заглядывать почаще.
Я стану хорошим братом, каким, вероятно, не был раньше.
Прежде чем ехать домой, я решил наведаться в Инчикор, хоть было уже поздновато. Конечно, выходил крюк, но меня тянуло заглянуть в церковь и побыть в святилище — копии грота Лурда, города, который я никогда не видел, да и не хотел увидеть. Я не выношу эти паломнические места — Лурд, Фатима, Междугорье, Нок, — которые выглядят фантазией впечатлительного ребенка или бредом пьяницы, но Инчикор не привлекал паломников: простенькая церковь и святилище со статуей. Вечерами я частенько туда наезжал, если вдруг охватывало беспокойство.
По пустым дорогам доехал я быстро, припарковался и вошел в открытые ворота. Светила яркая рябая луна, но вот я свернул за угол и вдруг услышал то ли плач, то ли мучительный стон, донесшийся со стороны грота. Я замешкался, пытаясь определить природу этого звука. Если там забавлялась молодая парочка, я не желал этого видеть и даже знать об этом; я уже был готов вернуться к машине и ехать домой, но тут понял, что слышу не страстные вопли, а затаенные безудержные рыдания.
Я осторожно двинулся вперед и, присмотревшись, увидел лежащую ничком фигуру, будто распятую: руки-ноги раскинуты в стороны. Первая мысль — здесь совершили преступление. Кто-то убил человека перед гротом инчикорской церкви. Но тут фигура шевельнулась и, приподнявшись, встала на колени, и я понял, что человек живехонек и молится. Это был священник в черной сутане, подолом которой играл ветерок. Коленопреклоненный человек вскинул руки к небесам, а потом сжал кулаки и замолотил себя по голове с такой безумной яростью, что я уж хотел вмешаться, рискуя тем, что и сам пострадаю от его горя или помрачения. Он чуть повернулся, и в лунном свете я разглядел его лицо. Молодой человек, лет на десять, а то и больше, моложе меня. Где-то слегка за тридцать. Темная копна волос, внушительный нос с широкой переносицей. Человек вскрикнул и вновь рухнул наземь. На сей раз стоны и рыдания его звучали глуше, но по спине моей пробежал холодок, когда я посмотрел в сторону и заметил еще одну фигуру.
Почти невидимая, в углу грота взад-вперед раскачивалась старуха лет под семьдесят, по лицу ее, искаженному мукой, струились слезы. Когда она попала в свет, я заметил, что они со священником чем-то похожи, а разглядев внушительный нос, понял, что старуха — его мать.
Вот так оно и продолжалось: молодой человек лежал ничком, умоляя мир положить конец пытке, а его мать мучительно дрожала и озиралась, словно ожидая, что небеса разверзнутся и Господь немедля призовет ее к себе.
Жуткое зрелище. Оно меня чрезвычайно расстроило. Наверное, другой на моем месте подошел бы к этой паре и попытался утешить, но я в страхе поспешно ретировался, ибо ощутил надвигавшийся ужас, справиться с которым мне не по силам.
Прошло больше десяти лет, но эти два эпизода помнятся, словно все было на прошлой неделе. Джордж У. Буш сгинул. А я помню, как Ханна, сидя в кресле, говорила, что ее покойный муж страдает ужасной головной болью, и помню мать с сыном, рыдавших в инчикорском гроте. Я помню, что, вернувшись к уюту своей одинокой постели, я совершенно определенно понял: знакомый мир и моя вера в него заканчиваются, но никто не знает, что придет им на смену.
Глава 2 2006
Пятью годами позже меня выдворили из Теренурского колледжа, в котором я жил и работал двадцать семь лет. Я уже давно осознал, что абсолютно счастлив в укрытии высоких стен и запертых ворот сего частного образовательного анклава, и перемена образа жизни стала для меня потрясением.
Вообще-то я не собирался задерживаться в Теренуре так надолго. Когда в середине 1979 года я после семи лет учебы вернулся из Рима в Дублин, моему имени сопутствовал скандальный душок, но меня наконец-то возвели в сан и определили школьным священником, посулив скорое получение прихода. Однако новое назначение почему-то так и не состоялось. Вместо этого я получил диплом о высшем образовании и стал преподавать английский язык и попутно историю. Кроме учительства, я заведовал библиотекой, а еще ежедневно в половине седьмого утра служил мессу для неизменной кучки пенсионеров, которые так и не выучились от души поспать либо опасались не проснуться вообще. Восьмидесятые годы сменились девяностыми, кои уступили место двадцать первому веку, и моя востребованность в роли духовника молодежи печально снизилась, ибо студенты считали духовную жизнь все менее важной.
В нашей регбийной школе, элитарном заведении на южной окраине Дублина, обучались дети состоятельных родителей — застройщиков, банкиров и бизнесменов, полагавших, что их счастье никогда не закончится, — и я, плохо разбиравшийся в спорте, постарался развить свой интерес к нему, ибо иначе в Теренуре не выжить. В целом я ладил с ребятами, поскольку не запугивал их и не лез к ним в друзья (две распространенные ошибки моих коллег), и потому сохранял устойчивость на зыбучем песке отношений с первокурсниками и выпускниками. Заносчивые юнцы частенько бывали высокомерны и грубы с теми, кому не повезло с привилегированным рождением, но я всеми силами старался их очеловечить.
Телефонный звонок секретаря архиепископа Кордингтона раздался днем в субботу, и если я встревожился, то лишь потому, что неверно истолковал причину вызова.
— Меня одного вызывают? — спросил я отца Ломаса. — Или всех скопом?
— Только вас, — невероятно сухо ответил секретарь. Кое-кто из окружения архиепископа зол на весь свет.
— Как вы думаете, это надолго?
— Его преосвященство примет вас во вторник в два часа, — сказал секретарь (что я счел как «нет») и повесил трубку.
В Драмкондру я ехал с тяжелым сердцем — а ну как спросят, были ли у меня подозрения насчет Майлза Донлана и, если были, почему я о них не доложил? Что мог я сказать, коль беспрестанно задавал себе этот вопрос и не находил ответа?
— Отец Йейтс! — улыбнулся архиепископ, когда я вошел в его личный кабинет, изо всех сил стараясь не выказать угнетенность от окружающей роскоши. На стенах висели картины, которым самое место в Национальной галерее. Возможно, оттуда их и взяли, пользуясь должностными привилегиями. На толстенном ковре можно было выспаться, как на перине. Все вокруг вопило о процветании и расточительстве, противоречивших обетам, которые мы оба давали. Богатство епископальной резиденции, хоть гораздо меньшего размаха, слегка напоминало Ватикан, и я вновь мысленно перенесся в 1978-й, когда целый год служил трем богам одновременно: утро и вечер отдавал рабским обязанностям, дни посвящал учебе, а в сумерках стоял под открытым окном дома на Виколи-делла-Кампанья, снедаемый тоской и непонятным желанием.
Почему за двадцать восемь лет боль ничуть не стихла? — спрашивал я себя. Неужто нет лекарства от травм, полученных в юности?
— Здравствуйте, ваше преосвященство. — Опустившись на колено, я приложился к массивному золотому перстню на правом безымянном пальце архиепископа и по приглашению хозяина проследовал к паре кресел перед камином.
— Рад тебя видеть, Одран, — сказал архиепископ, рухнув в кресло.
Джим Кордингтон, на два года раньше меня окончивший Клонлиффскую семинарию, когда-то был лучшим полузащитником дублинской команды по херлингу, но теперь обленился и разжирел. Я помню, как на поле Холи-Кросс он мчался, точно ветер, и никто не мог его остановить. Что же с ним произошло за эти годы? — думал я. Некогда точеное лицо обрюзгло и пошло красными пятнами, нос покрылся сетью прожилок. Улыбаясь, Джим имел обыкновение слегка бычиться, и теперь стоило ему пригнуть голову, как возникали ряды подбородков, наслаивавшихся друг на друга, как витки радужной меренги.
— Я тоже, ваше преосвященство, — сказал я.
— Будет тебе, кончай ты с этим «преосвященством», — отмахнулся архиепископ. — Для тебя я Джим. И здесь мы одни. Официоз прибережем для другого случая. Ну, как поживаешь? Все хорошо?
— Да, — ответил я. — Как обычно, весь в трудах.
— Давненько мы не виделись.
— По-моему, с прошлогодней конференции в Мэйнуте.
— Да, наверное. Слушай, ты же в этой знатной школе, да? — Архиепископ поскреб щеку, и чуть отросшая щетина заскрипела под его пальцами. — А ты знаешь, что и я учился в Теренуре?
— Знаю, ваше преосвященство, — сказал я. — То есть Джим.
— Наверное, сейчас там все по-другому.
Я кивнул. Конечно, все меняется, все.
— Ты не слышал о таком священнике — Ричарде Кэмуэлле? — спросил архиепископ, подавшись вперед. — Жуткая была личность. Имел привычку за ухо вытащить ученика из-за парты и отвесить мощную оплеуху, от которой тот летел кубарем. Одного парня он схватил за лодыжки и вывесил из окна шестого этажа, а во дворе весь класс вопил: «Отче, отче, не бросайте его!» — Архиепископ усмехнулся и покачал головой. — Да уж, мы трепетали перед священниками. Некоторые были истинным кошмаром. — Он нахмурился и, посмотрев мне в глаза, выставил палец: — Но святым кошмаром. Тем не менее святым.
— Если нынче прибегнуть к подобным методам, парни дадут сдачи, — сказал я. — И будут правы.
— Насчет этого не знаю. — Архиепископ пожал плечами и откинулся в кресле.
— Вот как?
— Мальчишки — ужасные создания. Им нужна дисциплина. Ты лучше меня это знаешь, потому как весь учебный год проводишь с ними пять дней в неделю. Вот вспомню, как в школе меня лупили, и удивляюсь, что вообще остался живой. И все равно счастливое было время. Чертовски счастливое.
Я кивнул, прикусив губу. Хотелось многое сказать, но страх меня удерживал. Всего год назад один теренурский учитель, мирянин, не священник, за какую-то дерзость шлепнул четырнадцатилетнего подростка по уху, а тот врезал ему кулаком и сломал бедняге нос. Парень был щуплый, но крепкий и заносчивый. Его отец возглавлял отделение международного банка, и мальчишка вечно хвастал, сколько воздушных миль он накопил. В мое время его взашей выгнали бы, но теперь, конечно, все иначе. Учителя, хорошего человека, но абсолютно непригодного к работе уволили, родители подали на него в суд, а школа выплатила парню четыре тысячи евро — компенсацию за «душевную травму».
— Моя бабушка жила на выезде из Теренура, — продолжал архиепископ. — Неподалеку от моста через Доддер. К нашему дому был ближе Гаролд-Кросс, но я полжизни провел у бабушки. Ох, как она готовила! Из кухни не вылезала. За шестнадцать с лишним лет родила четырнадцать детей, представляешь? И никогда не жаловалась. Всех вырастила в домике из двух комнат. Уму непостижимо. В двух комнатах муж с женой и четырнадцать детей. Сельди в бочке, скажи?
— Наверное, у вас полно кузенов, — сказал я.
— Со счету сбился. Одни кузен работает механиком в «Формуле-1». На переобувке, знаешь? Гонщик заезжает сменить покрышки. На все про все, рассказывал кузен, дается ровно сорок секунд, иначе прощайся с работой. Представляешь? Я бы все еще искал баллонный ключ. Не сказать, что я часто вижусь с родственниками. Ты не поверишь, сколько времени отнимает эта работа. Считай, тебе повезло, Одран, что тебя не повысили.
Ответить было нечего. Я с отличием окончил семинарию, и меня отобрали для обучения в Епископальном ирландском колледже в Риме, где в 1978 году мне вдруг предложили одну должность, ставшую благом и проклятьем. Если б я благополучно завершил курс, меня ждало бы быстрое продвижение по служебной лестнице, однако еще до окончания учебного года я лишился своей работы, а напротив моего имени появилась черная несмываемая метка.
Мои однокашники по семинарии были весьма амбициозны, а меня карьера прельщала мало — не припомню, чтоб даже в юности я очень стремился к высоким постам. По-моему, с самого начала было ясно, кому уготовано архиепископство, а кому (как парню всего на курс старше) красная шапка кардинала. Я хотел одного — стать хорошим священником и хоть чем-то помогать людям. На мой взгляд, это было вполне амбициозно.
— Но ты доволен своей жизнью? — спросил архиепископ.
— Да, — кивнул я. — В большинстве ребята славные. Я стараюсь с ними ладить.
— Не сомневаюсь, Одран, не сомневаюсь. Со всех сторон я слышу о тебе только хорошее. — Он посмотрел на часы: — Ох ты, уже сколько натикало. Давай по стаканчику?
Я покачал головой:
— Спасибо, нет.
— Да ладно тебе! Я-то приложусь. Не заставляй меня пить в одиночестве.
— Не могу, ваше преосвященство, я за рулем.
— Пф!
Архиепископ пренебрежительно отмахнулся, словно трезвое вождение было какой-то новомодной причудой, выбрался из кресла и подошел к буфету, где стояла бронзовая статуэтка дублинского архиепископа Джона Чарльза Маккуэйда, на похоронах которого в 1973 году присутствовали все семинаристы. Содержимому буфета позавидовал бы бар «У Слэттери» на Рэтмайнз-роуд. Из бутылки, стоявшей в углу, архиепископ налил себе добрую порцию виски, слегка разбавил содовой и, звучно кряхтя, вновь уселся в кресло.
— Придаст мне сил на остаток дня. — Он подмигнул и отхлебнул из стакана. — После тебя прибудет делегация монахинь, вот уж кара Господня. Что-то насчет новых туалетов в монастыре. Но откуда взять деньги на уборные, если ежедневно названивают священники и требуют скоростной интернет? А это штука недешевая.
— Можно поделить, — предложил я. — Часть денег — священникам, часть — монахиням.
Архиепископ расхохотался, в ответ я вежливо улыбнулся.
— Прекрасно, Одран, прекрасно! Ты всегда был скор на шутку, верно? Слушай, а как ты насчет небольших перемен?
Сердце мое упало. Я готовился к одному разговору, но, похоже, предстоял совсем другой. Меня переводят? После стольких лет? Но я полюбил огороженные поля для регби, длинную подъездную аллею к главному корпусу, тишину моего коридора и покой моей маленькой комнаты, безопасность класса. Я страшился возможного разговора, но беседа оказалась еще хуже. Гораздо хуже.
— Я бы не хотел ничего менять, — сказал я. Все же стоило попытаться. Вдруг он сжалится? — Работа моя не закончена. Многим ребятам нужна помощь.
— Ну, работе вечно нет конца-краю, — ответил архиепископ. — Дело просто переходит от одного к другому. Я хочу послать в Теренур замечательного парня, думаю, ему это будет очень полезно. Отец Муки Нгезо. Может, встречал?
Я покачал головой. Из молодых священников я мало кого знал. Да их и было не так много.
— Он чернокожий, — сказал архиепископ. — Наверняка ты его видел.
Я не понял, была эта характеристика чисто фактологической или несколько уничижительной. Можно ли сегодня говорить «чернокожий» или тебя сочтут расистом?
— Я не… — начал я, не зная, как закончить предложение.
— Он прекрасный парень, — повторил архиепископ. — Несколько лет назад приехал из Нигерии. Ты смотри, что творится: раньше мы посылали своих ребят в миссии, а теперь миссии присылают нам своих парней.
— Выходит, мы превращаемся в миссию? — сказал я.
Архиепископ помолчал и кивнул:
— Я, видишь ли, об этом не задумывался. Наверное, так оно и есть. Этакий странный пас, верно? Знаешь, сколько в этом году я получил заявок на место священника от дублинской епархии?
Я покачал головой.
— Одну, — сказал архиепископ. — Одну! Представляешь? Я встретился с соискателем, и он абсолютно не годился. Придурок какой-то. В разговоре все время грыз ногти и хохотал. Все равно что беседовать с койотом.
— С гиеной, — поправил я.
— Ну да, с гиеной. Я так и сказал. В общем, я дал ему от ворот поворот и велел подумать, есть ли у него призвание к нашему делу, и уж тогда снова поговорим, а он расплакался, и я чуть ли не на руках вынес его из кабинета. В приемной ждала его матушка, и я понял, что это она его настропалила.
— Всех нас настропалили наши матушки, — брякнул я необдуманно.
Архиепископ покачал головой:
— Ну так-то уж не надо, Одран, а?
— Я просто хотел сказать…
— Ладно, ничего. — Архиепископ снова глотнул из стакана, на сей раз от души, и прикрыл глаза, смакуя вкус, а затем проговорил: — Майлз Донлан.
Я уставился в пол. Вот этого разговора я и ждал.
— Майлз Донлан, — тихо повторил я.
— Я полагаю, ты читаешь газеты, смотришь новости?
— Да, ваше преосвященство.
— Шесть лет. — Архиепископ присвистнул. — Как по-твоему, он выживет?
— Он немолод. А в тюрьме, говорят, не жалуют… — Я не смог произнести это слово.
— А что, никакие слухи до тебя не доходили, Одран?
Я сглотнул. Слухи, конечно, доходили. В Теренуре мы с отцом Донланом долгие годы работали бок о бок. Если честно, он всегда мне не нравился: в нем было что-то неприятное, а о ребятах он говорил, словно они одновременно его притягивали и отвращали. Но слухи, однако, доходили.
— Я не очень хорошо его знал, — уклонялся я от ответа.
— Не очень хорошо знал, — негромко повторил архиепископ, в упор глядя на меня. Я отвел взгляд. — А вот скажи, Одран, если б ты слышал разговоры о нем или о ком-нибудь другом, как ты бы поступил?
Честный ответ — никак.
— Наверное, я бы поговорил с этим человеком.
— Поговорил бы с этим человеком. А со мной ты бы о нем поговорил?
— Вероятно, да.
— Ты бы обратился в полицию?
— Нет, — тотчас ответил я. — По крайней мере, не сразу.
— Не сразу. А когда?
Я тряхнул головой, пытаясь понять, что он хочет услышать.
— Честное слово, Джим, я не знаю, что бы сделал, кому и когда рассказал и рассказал бы вообще. Я бы рассудил по обстановке.
— Ты бы рассказал мне, вот что ты бы сделал. — Тон моего собеседника стал угрожающим. — Мне и больше никому. Неужто не видишь, как газеты на нас ополчились? Мы утратили контроль. И должны его восстановить. Репортеров надо прижать к ногтю. — Он глянул на статуэтку архиепископа Маккуэйда. — Думаешь, он бы терпел это безобразие? Нет, позакрывал бы типографии. Перекупил бы аренду студии и разогнал телевизионщиков.
— Сейчас другие времена, — сказал я.
— Паршивые, вот какие. Однако я отвлекся. О чем мы говорили?
— О нигерийском священнике, — напомнил я, радуясь смене темы.
— Ах да, отец Нгезо. В общем, он хорош. Черен как ночь, но это неважно. Он не один такой. В округе Доннибрук три парня из Мали, два кенийца и еще один из Чада. Говорят, в следующем месяце место викария в Тёрлсе займет малый из Буркина-Фасо. Ты когда-нибудь слышал об этой стране? Я — нет, но, выходит, есть такая.
— Кажется, она где-то повыше Ганы? — Я мысленно представил карту мира.
— Не знаю и знать не хочу. Хоть на одной из лун Сатурна, мне все равно. Нынче берем, понимаешь ли, что дают. Пускай юный Нгезо попытает счастья в Теренуре. Ему нужно сменить обстановку, к тому же он заядлый болельщик регби. Ты-то не особо интересуешься игрой, да?
— Кубковые матчи я не пропускаю, — возразил я.
— Вот как? А я думал, ты равнодушен к спорту. Нгезо поладит с ребятами, а им весьма полезно соприкоснуться с иной культурой. Ты не против освободить ему место?
— Я проработал там двадцать семь лет, ваше преосвященство.
— Я знаю.
— Школа стала мне домом.
Архиепископ вздохнул и, пожав плечами, слегка улыбнулся:
— У нас нет дома. То есть своего собственного. Ты это знаешь.
Легко тебе говорить, подумал я, покосившись на бархатные мебельные покрывала и тюлевые шторы.
— Я буду скучать по школе, — сказал я.
— Тебе не помешает на время оставить учительство и вернуться к церковной работе. Всего лишь на время.
— Поймите, ваше преосвященство, я никогда не служил в приходе.
— Джим, — лениво поправил архиепископ. — Джим.
— Я даже не представляю, где я мог бы начать. Вы-то куда хотели меня направить?
Архиепископ потупился и шумно засопел, на лице его промелькнуло легкое смущение.
— Ты, наверное, догадываешься, — сказал он. — Это, конечно, временно. Просто мне нужно кем-нибудь заменить Тома.
— Какого Тома?
— А как ты думаешь — какого?
— Тома Кардла? — вытаращился я.
— Вообще-то он сам тебя предложил.
— Он сам?
— Идея была моя, отец Йейтс, — жестко сказал архиепископ. — Но все варианты обсуждались в его присутствии.
В это верилось с трудом.
— Мы с ним виделись в прошлую пятницу. Он и словом не обмолвился.
— А я с ним виделся в субботу утром. Он заглянул ко мне на разговор. И он считает, тебе это будет по нраву. Я согласился.
Я не знал, что сказать. Быть не может, чтобы Том обсуждал ситуацию с Джимом Кордингтоном, сперва не поговорив со мной. Ведь мы с ним давние и очень близкие друзья.
В 1972 году мы с Томом Кардлом в один день прибыли в семинарию и сидели рядом, когда каноник рассказывал о распорядке нашей жизни на ближайшее время. Том, деревенский парень из Уэксфорда, был чуть старше меня — на прошлой неделе ему сравнялось семнадцать. Я сразу понял, что в Клонлиффе ему не по себе. Он излучал безысходное отчаяние, что сразу к нему расположило — не из-за того, что я пребывал в схожем состоянии, а просто я боялся одиночества и решил как можно скорее завести себе друга. Я уже скучал по Ханне и, хоть еще совсем мальчишка, предвидел, что мне может понадобиться конфидент, потому и выбрал Тома. Вернее, мы выбрали друг друга. Стали друзьями.
— Как ты? — примеряясь к христианскому милосердию, спросил я, когда мы распаковывались в отведенной нам келье (поскольку на ознакомительном собрании мы сидели рядом, нас и поселили вместе). Крохотная комната не впечатляла: узкий проход между койками, притиснутыми к стенкам, один платяной шкаф, на тумбочке тазик с кувшином, на полу ведро. — Чего-то ты маленько сбледнул.
— Самочувствие паршивое. — Его сильный провинциальный говор меня порадовал — я не горел желанием квартировать с дублинцем. Но когда я узнал, что он из Уэксфорда, рана в душе моей вновь открылась, ибо при всяком упоминании этого графства волной накатывала печаль.
— После дороги? — спросил я.
— Наверное. Всего растрясло. Мы приехали на папином тракторе.
Я опешил:
— На тракторе из Уэксфорда в Дублин?
— Ну да.
Я вздохнул и покачал головой:
— Да разве это возможно?
— Мы ехали потихоньку. Часто ломались.
— Да уж, не хотел бы я оказаться на твоем месте. Тебя, кстати, как зовут?
— Том Кардл.
— А меня — Одран Йейтс.
Мы пожали руки, Том взглянул на меня, и мне показалось, что он вот-вот расплачется.
— Ты рад, что ты здесь? — спросил я. В ответ он что-то неразборчиво буркнул. — Тут клево, не бойся. Пару лет назад сюда поступил один мой знакомый, так он говорил, здесь весело. Не одни молитвы и всякое такое. Каждый день игры, спорт, хоровое пение. Тут классно, вот увидишь.
Том кивнул, но, похоже, я его не убедил. Он открыл чемодан со своим барахлишком — рубашки, штаны, исподнее и носки. Сверху лежала роскошная Библия, и я взял ее посмотреть.
— От мамы с папой, — сказал Том. — Вроде как на прощанье.
— Наверное, дорогущая. — Я протянул ему фолиант.
— Возьми, если хочешь. Мне она без надобности.
Я рассмеялся, полагая, что он шутит, но лицо его было серьезно.
— Нет-нет, она твоя, — сказал я.
Том пожал плечами, взял Библию и небрежно бросил ее на тумбочку. За все годы он лишь раз-другой открыл эту книгу.
— В этом приходе Том прослужил всего года два, — сказал я. Столь скорая замена удивляла: и без того за последние двадцать пять лет Том сменил немало мест. Ты живешь на чемоданах, говорил я.
— Восемнадцать месяцев. Приличный срок.
— Наверняка он только обустроился.
— Он нуждается в перемене.
— Конечно, это не мое дело, — начал я, прикидывая, не поможет ли робкое непокорство сорваться с крючка, — но бедняга Том уже достаточно наездился. Наверное, было бы справедливо оставить его в покое, не правда ли?
— Как там у Шекспира? — широко ухмыльнулся архиепископ. — Не наше дело задавать вопросы?
— «Им надлежит не вопрошать, но исполнять и умирать», — поправил я. — Теннисон, «Атака легкой кавалерии».
— Разве не Шекспир?
— Нет, ваше преосвященство.
— Я был уверен, это Шекспир.
Я промолчал.
— Но суть не меняется, — холодно сказал архиепископ. — Тому Кардлу надлежит не вопрошать. — Он глотнул из стакана и добавил: — Это касается и Одрана Йейтса.
— Извините. Я лишь хотел…
— Не волнуйся. — Архиепископ прихлопнул ладонью по подлокотнику и снова улыбнулся — да уж, он умел развернуться на пятачке. — Конечно, тебе понадобится время, чтобы привыкнуть. Эти прихожане, которые каждый божий день дудят тебе в уши. И в первые два месяца море чая, на который зазывают старые склочницы, чтобы тебя оценить. — Он смолк и оглядел свои идеально ухоженные ногти. — А еще тебе придется опекать служек. Но ты умеешь общаться с мальчишками.
Я застонал. Я знал, как управиться с подростками пятнадцати-шестнадцати лет, но никогда не имел дела с восьмилетней мелюзгой. Если откровенно, шумная детвора меня раздражает. На службах дети вечно егозят, а родители — ноль внимания.
— Может, кто-нибудь другой за ними приглядит? — спросил я. — Эти малыши ужасные непоседы. Боюсь, у меня не хватит терпения.
— Так воспитай его в себе. — Улыбка архиепископа опять угасла. — Воспитай, Одран. Впрочем, Том их усмирил, тебе не о чем беспокоиться. — Джим рассмеялся: — Знаешь, как эти служки его прозвали? Сатана! Прости меня, Господи, но это смешно, да?
Я оторопел:
— Это ужасно.
— Будет тебе, они же дети. Безгрешные, когда не врут. Мальчишки всегда выдумывают прозвища. Помнишь, в семинарии мы тоже награждали священников кличками?
— Да, но не столь жуткими.
Повисло молчание; архиепископ явно еще что-то удумал.
— Тут еще кое-что, — сказал он.
— Да?
— Вопрос щекотливый. Не для огласки.
— Разумеется.
Архиепископ поразмыслил и тряхнул головой:
— Нет, не к спеху. Скажу в другой раз. — Он прикрыл веки, и я уж решил, что он собрался вздремнуть, но глаза его вдруг распахнулись. — Все хотел спросить — твой племянник пишет книги, верно?
Я кивнул, удивленный и слегка встревоженный столь резкой переменой темы:
— Да, Джонас.
— Джонас Рамсфйелд. Ничего себе имечко. Отец его швед, что ли?
— Норвежец.
— Нынче парень не сходит с газетных страниц, да? Я тут как-то видел его в вечерних новостях, он говорил о своей книге. Кажется, ее экранизируют?
— Да, верно.
— Похоже, он знает свое дело. Говорил очень хорошо. А ведь совсем молодой. Сколько ему?
— Двадцать один.
— Вот что называется дар Божий, — покивал архиепископ.
— Не знаю, хорошо ли все это в столь юном возрасте.
— Ничего, удачи ему. Правда, я не читал его книги.
— Их всего две.
— Вот обе и не читал. А ты, наверное, прочел?
— Да, конечно.
— И что, хорошие? Я слышал, там полно матерщины. И сплошь про то, как парни с девками кувыркаются. Что это вообще за книги? Грязное чтиво?
— В них все не так уж плохо, — улыбнулся я. — Наверное, он сказал бы, что передает живую речь. И что пишет не для стариков вроде нас.
— А молодежи нравится, да? Но ведь это не творчество, скажи? Не литература. Не помню, чтобы У. Б. Йейтс отплывал в сучий Византий или Пэдди Кавана рассуждал о сраной слякоти Монахэна[5].
Опешив от грубых слов, я изготовился к защите племянника:
— Но вы сами сказали, что не читали его книги.
— Необязательно есть кошатину, дабы убедиться, что она тебе не по вкусу, — парировал архиепископ. — И раз уж мы об этом заговорили, лучше тебе помалкивать и не афишировать свое родство с ним. Это будет неприглядно.
В голове роилась сотня ответов, но я прикусил язык.
— Послушай, Одран, я понимаю, для тебя все это как гром среди ясного неба. — Подавшись вперед, архиепископ вернулся к теме, которую я счел закрытой, но, видимо, она не давала ему покоя: — Однако мы с Томом все обсудили, и он полагает, что ты — лучшая кандидатура. Он в тебе абсолютно уверен. И я тоже. Доверься мне, хорошо?
— Конечно, ваше преосвященство. Просто я удивляюсь, что Том меня рекомендовал, вот и все. Не поговорив со мной.
— А зачем ему говорить? — Архиепископ откинулся в кресле и, великодушно улыбнувшись, развел руки: — Ведь вы лучшие, ты и старина Сатана, верно?
Представить, что мальчишки боялись и ненавидели Тома Кардла, было трудно, тем более что я-то знал, каким он был в семнадцать лет.
В первый вечер, устроившись в келье, мы спустились в Большой зал и сели рядом за стол. И сейчас я помню тот ужин. Кусок камбалы с растаявшим маслом, миска жареной картошки, в центре стола горшок с фасолью. Четырнадцать голодных мальчишек по кругу передавали горшок и его содержимым сдабривали еду, чтобы забить ее вкус. Уже обвыклись все, кроме Тома, лицо которого вновь обрело нормальный цвет, но сохраняло выражение сердитого испуга. Все мы еще были друг другу чужие. В один прекрасный день всех нас матушки усадили перед собой и объявили о нашем предназначении, и вот мы здесь, готовые посвятить свои жизни Господу. И это здорово, думали мы. Лишь Том не выглядел счастливым.
Потом мы вернулись в нашу келью. Стесняясь один другого, переоделись в пижамы; в девять часов свет погас, но сквозь тонкие блеклые шторы к нам еще заглядывало солнце. Закинув руки за голову, я смотрел в потолок и думал, что вот началась моя новая жизнь. Готов ли я к ней? Да, мысленно ответил я. Ибо во мне была вера, иногда трудно постижимая. Но она была.
— У тебя есть братья и сестры? — спросил я, когда молчание стало тягостным.
— Девять душ, — со своей койки ответил Том.
— Много. Ты какой по счету?
— Последний. — Он будто поперхнулся. — Самый младший. Поэтому я должен стать священником. Две сестры уже монахини. А у вас в семье много детей?
— Только я и сестра. Еще был брат, но он умер.
— Ты рад, что ты здесь? — спросил Том.
— Конечно. У меня призвание.
— Кто тебе сказал?
— Мама.
— Она-то откуда знает?
— Однажды она смотрела «Программу для полуночников» и ей было Богоявление.
Я услышал какой-то звук — то ли фырканье, то ли сдавленный смех.
— Господи Иисусе, — сказал Том, и я прям вытаращился. Как-то на уроке географии один парень так сказанул и схлопотал ремня — десять ударов по каждой руке. Больше он так не говорил. — Мудня какая-то.
— Не бойся, — наконец ответил я. — Тут хорошо. Наверняка.
— Чего ты заладил? Кого ты хочешь убедить, меня или себя?
— Просто хочу помочь.
— Похоже, ты большой оптимист, да?
— Думаешь, тебе здесь не понравится?
— Нет, — резко сказал он. — Я тут чужой. Мне здесь делать нечего.
— Тогда зачем приехал?
— Потому что здесь безопаснее, — после долгого молчания проговорил Том.
Больше он ничего не сказал. Мы отвернулись каждый к своей стенке, но от возбуждения и мыслей я еще с час не мог уснуть и потом вдруг услышал, что Том плачет, уткнувшись в подушку; я хотел подсесть к нему и успокоить, сказать, что все будет хорошо, однако не решился.
— Ну что, договорились? — спросил архиепископ Кордингтон. — Попробуешь?
Я покорно вздохнул:
— Коль вы этого желаете…
— Молодец. — Архиепископ положил тяжелую руку мне на колено. — Помни, это не навечно, и не тревожься. Всего несколько лет. А потом я верну тебя в твою школу, обещаю.
— Правда? — обнадежился я.
— Слово чести, — улыбнулся архиепископ. — Может, получится скорее. Как только все рассосется.
— Я не понял. Рассосется — что?
Архиепископ замялся.
Вся эта проблема с заявками. Новые кадры появятся скоро, к бабке не ходи. И тогда ты вернешься в Теренур. Окажи мне услугу, Одран, пригляди за этим приходом, а там не успеешь оглянуться, как будешь на прежнем месте. Ну ладно. — Он тяжело встал. — Вынужден тебя прогнать, если только не хочешь послушать жалобы восьми монахинь на плачевное состояние удобств.
— Нет, спасибо, — рассмеялся я.
— Благодари Тома Кардла. — Архиепископ прошел к столу. — Это все он. Да, кстати, как твоя сестра? — Вопрос его остановил меня в дверях. — Ты говорил, она хворает.
— Уже давно. Мы делали что могли, но, видимо, придется определить ее в лечебницу. Там ей обеспечат уход.
— Прости за вопрос, а что с ней такое?
— Ранняя деменция. Мы наняли сиделку, однако она уже не справляется. Иногда сестра меня узнает. Бывает — и нет.
— Может, и к лучшему, что она не знает о сыне, — проворчал архиепископ. — Обо всей этой его матерщине. Кажется, он тоже с приветом? Где-то я об этом читал.
Я опешил, словно он вдруг плюнул мне в лицо, но архиепископ на меня не смотрел и, похоже, не ждал ответа; он рылся в бумагах на столе, готовясь к приему следующих посетителей. Я молча вышел, прикрыв за собой дверь, в коридоре я встретил восемь монахинь, которые расступились, словно Черное море, и приветствовали меня идеально слаженным хором:
— Доброго дня, отче.
Вот так вот. Никаких вестей от архиепископа больше не было, но о чем еще говорить, если решение принято. Мне оставалось лишь собрать манатки, невзирая на то что из-под меня выдернули четверть века моей жизни.
Глава 3 1964
Вначале нас было трое, потом стало четверо, затем пятеро, а потом вдруг опять трое.
Три года я был у папы с мамой единственным ребенком, но в силу своего малолетства не мог оценить всей прелести этого положения. По всем меркам, я был милый дитя: беспрекословно засыпал и ел, что давали. В детстве у меня что-то случилось с глазами, и родители, испугавшись, что я ослепну, повели меня к окулисту в больнице на Холлс-стрит, но все прошло само собой без всяких последствий.
В 1958 году появилась Ханна — мяукающее существо, которое временами орало благим матом, провоцируя ссоры между родителями: мама кричала, что у нее уже нет сил, а папа смывался в пивную. Малышка отказывалась от еды, тогда ее тоже показали врачу, и тот сказал, что ребенок должен есть, иначе погибнет.
— А то я этого не понимаю, — ответила мама, озираясь с видом человека, уразумевшего, что здесь ему помощи не дождаться. Из угла я наблюдал, как в ней растет досада. — Я вам не полная идиотка.
— А вы не пробовали ее умаслить, миссис Йейтс? — спросил врач.
— Это как?
— Моя жена частенько умасливала наших детей, чтоб поели. Этот способ творит чудеса.
— Будьте любезны, растолкуйте смысл слова «умаслить». И расскажите, как это действует.
Врач улыбнулся:
— «Умаслить» означает убедить человека сделать то, к чему он не расположен.
— Девочке семь месяцев, — сказала мама. — Я не уверена, что она поддастся силе моего убеждения. Пока что не поддавалась.
— Старайтесь, миссис Йейтс. — Врач раскинул руки, словно раскрывая тайны вселенной. — Старайтесь. Хорошая мать не оставит попыток до полного успеха.
От этих слов мама тихо взбеленилась, но смолчала, запуганная трехкомнатными апартаментами в доме на Дартмут-сквер, медной табличкой на входе и гонораром в сорок пенсов за визит. Как и в случае с моей слепотой, со временем проблема с кормежкой сама собой уладилась; наверное, Ханна наконец-то хорошенько проголодалась, ибо начала послушно есть, и в доме вновь воцарился мир.
Я полюбил девочку сразу и только с ее появлением понял, как сильно мечтал о младшей сестре или братце. Когда я входил в комнату, Ханна переставала плакать и, медленно поворачивая голову, следила за всяким моим движением, убежденная, что если отвернется, то пропустит нечто важное. Она хныкала, когда я уходил, и хлопала в ладоши, вновь меня увидев.
Конечно, мама не работала, никто бы ей не позволил. До замужества она служила стюардессой в «Аэр Лингус», что в то время было вроде статуса кинозвезды, и позже любила рассказывать о встречах с шикарными личностями. Однажды на рейсе Брюссель — Дублин она подавала ланч Рите Хейворт, в другой раз помогла застегнуть барахливший ремень Дэвиду Нивену, летевшему из Лондона на премьеру фильма.
— Мисс Хейворт была красавица, — рассказывала мама. — Такие длинные рыжие волосы. Очень вежливая. Все поигрывала черным мундштуком и никому не отказывала в автографе. Всю дорогу читала — то журнал «Лук», то киносценарий. На ланч подавали мясо или курицу, она выбрала курицу. А мистер Нивен был одет с иголочки, я в жизни не видела таких костюмов, и, как все артисты, все повторял: «Кошмарно, кошмарно». Такой непоседа, все мотался по салону. И пил в три горла.
Потом маме пришлось бросить работу, поскольку в те годы «Аэр Лингус» не нанимала замужних женщин. Мамина мать, которую я никогда не видел, говорила, что только сумасшедшая пожертвует высшим обществом ради двухквартирного домишки в Чёрчтауне, но мама отвечала, что именно этого и хотела, да в те времена это был удел всех женщин: школа, работа, замужество, увольнение, семейные хлопоты.
— Самой потрясающей была встреча с принцессой Маргарет в Хитроу, — рассказывала мама. — Она шла по аэропорту и хлопками в ладоши разгоняла толпу. С первого взгляда было ясно, что это самый невоспитанный человек на свете, ни капельки шика. Но, как ни крути, она принцесса, и мне казалось, будто я умерла и очутилась в раю. Так жалко, что при себе не было фотоаппарата.
С моим отцом она познакомилась в танцзале на Парнелл-сквер, куда тот пришел с парой друзей. Он был в своем лучшем твидовом костюме в черно-белую полоску, а его густая темная шевелюра — набриолиненные волосы зачесаны назад — напоминала борозды свежевспаханного поля. Изо рта у него свисала сигарета, будто приклеенная к нижней губе, столбик пепла все рос, но не падал — отец всегда успевал стряхнуть его в пепельницу. Они с мамой одновременно углядели друг друга, и отец тотчас направился к ней, на полуслове оборвав разговор с приятелями.
— Ты танцуешь? — спросил он.
— А ты приглашаешь? — последовал традиционный ответ.
— Приглашаю.
— Тогда, пожалуй, я танцую.
И едва они начали танец, как мама поняла, что сорвала джекпот, ибо заполучила партнера, у которого ноги росли откуда надо. Кавалер не шаркал, не спотыкался, не вспоминал, какой рукой взяться за талию дамы. Он уверенно вел партнершу, которая и сама была не из последних танцоров, и впечатленная публика следила за красивой парой. Мужчины перебрасывались замечаниями о классной штучке в объятиях Билли Йейтса, а женщины неодобрительно хмурились: мог бы выбросить сигарету, что за бескультурье?
— Как тебя кличут? — спросил отец.
— С утра звали Глория Купер. А тебя?
— Уильям Йейтс.
— Как поэта?
— Иначе пишется.
Мама рассказывала, что сразу же мысленно прикинула: Глория Йейтс. Звучит неплохо, решила она.
— Мы раньше не встречались, Глория Купер?
— Думаешь, ты смог бы меня забыть?
— Уела. А чем ты занимаешься, когда не танцуешь?
— Я стюардесса в «Аэр Лингус».
Отец помолчал и сделал пируэт. Он был сражен.
— Вон как, стюардесса?
Обычно его партнерши оказывались кондитершами или студентками педучилища. Одна девица сказала, что собирается в монастырь, и отец выронил сигарету изо рта. Другая ответила, что от его вопросов веет нафталином, и он, процедив: «А, ну пока», бросил ее посреди «Ответь мне» в проникновенном исполнении Фрэнки Лэйна.
— И как ты заполучила такую работу?
— Подала заявление.
— Лихо.
— А ты чем занимаешься?
— Я актер.
— Где тебя можно увидеть?
— Ты смотрела «Отныне и во веки веков»?
— Фильм?
— Ну да.
— Конечно. Он шел в «Адельфи».
— Так вот в нем я не снимался.
Мама рассмеялась:
— А где ты снимался?
— Пока нигде. Но когда-нибудь снимусь.
— Ну а сейчас-то где работаешь, Берт Ланкастер?
— Кладовщик табачного склада «Плэйерс» на Торговом причале.
— Значит, сигареты получаешь бесплатно?
— Со скидкой.
— Ты остряк.
— А иначе нельзя.
Об их первой встрече мама больше ничего не рассказывала, только добавляла, что отец испросил разрешения заглянуть к ней в следующий вторник, и она не без гордости ответила, что дома будет не раньше семи, поскольку рейс из Чампино прибывает в пять; отец улыбнулся, потом рассмеялся и покачал головой, словно гадая, стоит ли вообще ввязываться в эту историю.
Через полгода они сговорились о свадьбе и вскоре обвенчались в церкви Благословенного Таинства на Бэчелорз-Уок, фуршетом отметили событие в отеле «Сентрал» на Эксчекер-стрит, затем взяли такси и рванули в аэропорт к парижскому рейсу. В самолете, рассказывала мама, она увидела, как две знакомые стюардессы вводят новенькую в курс дела, и ее охватила печаль, словно пришло понимание, что, возможно, она совершила непоправимую ошибку.
— Ты скучала по небу? — как-то спросил я маму, которая с тех пор не покидала Ирландию и лишь однажды в семьдесят восьмом вместе с Ханной слетала ко мне в Рим.
— Конечно, скучала, — огорченно поежилась мама. — Но я поняла, чего лишилась, когда уже ничего не изменишь. Так оно всегда и бывает, правда?
Маленький Катал появился через полтора года после Ханны. Мне уже стукнуло четыре, и по поведению родителей я смекнул, что братец стал не вполне желанным сюрпризом. Надо было выплачивать ипотеку, а работа на табачной фабрике не сулила золотых гор. Однако пару лет мы впятером кое-как перебивались, пока отец не решил бросить фабрику и добиться успеха на актерском поприще.
Никто не ведает, откуда в нем взялась тяга к лицедейству. Своих бабушек и дедушек я толком не знал, поскольку все они умерли, когда мне еще не исполнилось и пяти, но доподлинно известно, что папина мать была рьяным организатором фестивалей классической музыки, и, возможно, именно это привлекло его к огням рампы. В детстве он раз-другой пел в хоре на рождественских представлениях в театре «Гейти»[6]. Позже стал ходить в драмкружок в Ратмайнсе, и театральная зараза в нем еще больше окрепла. Не уведомив маму, отец уволился с табачной фабрики. «С великой радостью я швырнул заявление мистеру Бенджамину, — сказал он. — Мне всегда претило горбатиться на еврея». Теперь отец ходил на все подряд прослушивания и подрабатывал в дандрамском пабе, что мама сочла ужасным понижением. Одно дело укладывать сигаретные блоки в ящики и грузить их на поддоны, которые потом развезут по газетным и табачным киоскам, и совсем другое — трижды в неделю разносить пинты «харпа» и «гиннесса» посетителям «Орлиного гнезда».
— Мне бы только заполучить приличную роль, — говорил отец, величественным жестом принцессы Маргарет отметая мамины жалобы на нехватку денег. — И тогда уж мы заживем.
А потом случилось нечто знаменательное. Отца утвердили на роль молодого Кови в пьесе «Плуг и звезды», постановка Театра Аббатства[7], спектакли которого в то время шли на сцене Национального театра на Перс-стрит, поскольку пожар уничтожил его собственное здание. На прослушивании были Мак Дирмада[8] и лично Шон О’Кейси; видимо, отец показался хорошо, ибо ему предложили стать дублером Иншина О’Дувана[9], тогдашнего любимца публики. Предложение вызвало в отце двоякие чувства: прекрасно, что талант его оценен, но гадко быть на подхвате у никчемного актеришки. Однако удача вновь ему улыбнулась: лондонский «Олд Вик» предложил О’Дувану роль Лаэрта, и тот смылся, даже не попрощавшись, а у Мака Дирмады не осталось иного выбора, как перевести отца из дублеров в основной состав. О’Кейси вроде как сомневался, но все равно не было никого другого, кто в столь короткий срок освоил бы роль.
— Вот оно! — известил нас отец, радостно потирая руки. — И это лишь начало. На таких классных ролях делают карьеру. Я еще окажусь в лондонских театрах. А то и на Бродвее.
— Тоже мне Лоуренс Оливье выискался, — сказала мама, раскладывая по тарелкам рыбу с картошкой, ибо мясо нам было не по карману.
— Не выступала бы! — Отцовский восторг не сникал. — Поглядим, что ты запоешь, когда станешь женой самого знаменитого ирландского актера.
Главные роли Джека и Норы Клитроу получили Онь О’Сулевань и Катлин Ни Вярань[10], и теперь мы беспрестанно слышали: Оуэн — то, Кэтлин — се, а от отца разило спиртным, когда он возвращался домой и выступал перед публикой, с каждым днем все больше терявшей интерес к его рассказам о закулисной жизни.
— А что, пьянка неотъемлема от подготовки роли? — однажды спросила мама.
— Тебе не понять, Глория, — сказал отец. — После репетиции всегда надо заглянуть в пивную, выпустить излишек сценической энергии. Все актеры так поступают.
— Так поступают пьяницы, — возразила мама. — А у тебя семья.
— Ох, замолчи, женщина.
— Не замолчу. Хочешь, чтобы я вернулась в «Аэр Лингус», что ли?
— Да кто тебя туда возьмет? — засмеялся отец.
— Одинокую женщину возьмут. А я скажу, что ты меня бросил.
Отец всерьез перепугался и пригрозил позвонить приходскому священнику; ты блефуешь, сказала мама, сама блефуешь, ответил папаша, и уже к вечеру в нашей гостиной возник отец Хотон, невероятно угрюмый человек с лицом истукана острова Пасхи, а мы — я, Ханна и Катал — подслушивали под дверью, представляя, как мама с папой сидят рядышком, вконец обескураженные таким оборотом событий.
— Ты не считаешься с потребностями мужа, Глория? — елейно спросил отец Хотон. — Жизнь его круто изменилась. Мало кому выпадает шанс просто побывать в Национальном театре, не говоря уж о том чтобы выйти на его подмостки.
— Я не против актерства, отче, но против пьянки, — сказала мама. — У нас очень мало денег, и тратить их на выпивку, когда в семье пять ртов…
— Пожалуйста, тише, Глория, — перебил отец Хотон. — Я человек терпеливый, но не выношу женского ора.
Мама смолкла и потом уже говорила как побитая.
— Уильям, ты постараешься приходить домой пораньше, правда? — спросил священник.
— Конечно, отче. Я постараюсь. Обещать не могу, но постараюсь.
— Я не требую обещаний, твое желание постараться само по себе ценно. А ты, Глория, не будешь так наседать на мужа, верно?
— Я постараюсь.
— Нет, обещай.
— Обещаю, отче.
— Вот умница. К сварливой жене мужчину не тянет. Сохраняй нрав веселым, ужин разогретым, и тогда не будет неприятностей в сем доме, да благословит Господь всех его обитателей.
Какое-то время так оно и шло. Отец получил вольную делать что ему заблагорассудится, и маме оставалось лишь с этим мириться. К чести отца, сперва он весьма старался помогать по дому, однако регулярные выпивки не прекратились, а его похвальба знакомством со знаменитостями стала беспардонной.
Наверное, я был слишком мал, чтобы оценить спектакль, — мне сравнялось всего девять лет, — но мама взяла меня на премьеру «Плуга и звезд», оставив Ханну и Катала на попечение соседки, миссис Рэтли, и я, невзирая на свой юный возраст, мог бы непредвзято сказать, что отец играл хуже всех. Он не произносил, а выкрикивал свои реплики и часто уходил вглубь сцены, разворачивая партнеров спиной к публике. В начале третьего акта, когда Кови и дядя Питер приносят весть о восстании, а Бесси Бёргес предсказывает разгром бунтовщиков у здания главпочтамта, отец забыл текст. Я точно помню, что в разгар спора Кови с Флутером он, углядев меня в четвертом ряду, подмигнул мне, и его партнеру Филиппу О’Флинну пришлось повторить свою реплику и как-то спасать эту сцену.
Когда наконец дали занавес и актеры один за другим вышли на поклон, отцу похлопали, мягко говоря, вяло, а с галерки его даже освистали. На банкете О’Кейси сторонился отца, и тот заявил, что у драматурга свинское воспитание. Однако наутро рецензент «Ивнинг пресс» изрубил отца в мелкий фарш, присовокупив, что если когда-нибудь еще раз увидит подобную постановку на сцене Национального театра, он сожжет это здание. Через день-другой Дирмада снял отца с роли, но этим беды не закончились, а только усугубились, ибо половину следующего спектакля отец провел в «Оленьей голове», где чередовал пинты «Гиннесса» со стаканами виски, а потом зашагал на Пёрс-стрит, через служебный вход проник в театр и в середине третьего акта, в стельку пьяный, в повседневной одежде, выперся на сцену и съездил по морде новому исполнителю своей роли. Постановка обрела фарсовые черты, когда миссис Гоган и ее чахоточная дочь Моллсер разнимали двух юных Кови, на авансцене устроивших драку, а зрители скребли в затылках — может, новый эпизод добавлен для пущей комичности?
Что там сказал поэт Йейтс о беспорядках, сопровождавших первую постановку пьесы более тридцати лет назад? И вновь вы опозорились! Что-то в этом роде. Правда, адресовалось это не исполнителям, а публике. Конечно, поэт не мог и представить, что такое возможно сказать актерам. Не знаю, какие мысли одолевали О’Кейси, но, думаю, малоприятные.
С тех пор отец больше никогда не выходил на сцену. Протрезвев, он пытался извиниться перед Дирмадой, но тот не захотел с ним встречаться. Отец поехал в дом О’Кейси на Северной окружной дороге, но его не приняли. Он написал покаянное письмо в «Ивнинг пресс», но ему ответили, что не станут подрывать реноме газеты бреднями фигляра. Через неделю отец получил уведомление о пожизненном запрете появляться на подмостках Театра Аббатства. Стараясь обо всем забыть, он было сунулся на прослушивания в другие дублинские постановки, но продюсеры еще в дверях говорили ему, что скорее остынет ад, чем они рискнут взять человека с этакой репутацией.
— Дело не в том, что ты пьяный вылез на сцену и черт-те что устроил, — без обиняков сказал один продюсер. — Это еще можно пережить. Но ты паршивый актер, и вообще непонятно, как ты очутился в театре. Сам-то сознаешь, что ты полная бездарь?
— Может, вернешься на табачную фабрику? — спросила мама, когда денег у нас почти не осталось. — Нужно одеть Одрана к первому причастию, у Ханны башмаки совсем износились, Катал из всего вырос.
— Все из-за тебя! — прорычал отец, прикладываясь к бутылке, — теперь он не ходил в пабы, а напивался дома.
— Я-то здесь при чем, Уильям Йейтс? — Мама еле сдерживалась.
— От тебя никакой поддержки.
— Это я тебя не поддерживала?
— Ну что ты за жена? Да уж, промахнулся я с выбором.
— Постыдился бы при детях. — Мама опешила от его бездонной злобы.
— А они мои? Сдается, я женат на шлюхе.
Мама в слезах убежала наверх, а мы, дети, расплакались на диване.
У всех соседей телевизоры были, а у нас нет — не разрешал отец. Он говорил, что в сериалах снимаются актеры, которых не взяли в театр и кино, и что скорее он сядет на пособие по безработице, чем пойдет на телевидение. Я знал, что это вранье: отец послал резюме для участия в мыльной опере «Улица Толка»[11], но ему даже не ответили.
Когда его приперло окончательно, то есть не осталось денег на выпивку и еду, отец пошел на поклон к мистеру Бенджамину, и тот взял его на работу, но с жалованьем, как у начинающего подмастерья. Другие работники, с кем отец не так давно «тепло» распрощался, теперь, конечно, злорадствовали. Он им не отвечал, просто ушел в себя, канул в нечто кошмарное.
И вот в конце лета 1964 года нас стало не пятеро, а трое.
Отец по-прежнему сильно пил, и мама беспрестанно с ним ругалась — какой смысл зарабатывать, если все деньги оседают в кассе паба Дейви Бирна или пропиваются в облицованном мозаикой баре Муллигана на Пулбег-стрит? Мама, спору нет, была резка, но отец даже не защищался. Наверное, в нем иссякли силы.
А потом мама устроила нам Большой сюрприз — недельный отдых в поселке Блэкутер, графство Уэксфорд, оплаченный ею из специально прибереженных денег. Мы сняли домик у миссис Харди, вдовы, которая вместе с сыном, странным парнем, изъяснявшимся загадками (теперь-то я понимаю, что он, видимо, был слегка тронутый), и тремя спаниелями, один брехливее другого, обитала в соседнем домишке.
Ханна, Катал и я не верили своему счастью, когда на вокзале Коннолли сели в поезд и тот через Брей, Глендалох, Арклоу, Гори и Эннискорти привез нас в Уэксфорд, где мы впятером втиснулись в двуколку, загруженную нашими чемоданами, и покатили к нашему сказочному отпускному дому. Помнится, жилье было самое заурядное, но мы захлебнулись радостью, увидев собак, с которыми можно наперегонки гонять на просторах полей, и кур, которых по утрам можно кормить на заднем дворе миссис Харди.
— А собаки не охотятся за курами? — однажды спросил я хозяйку.
— Они знают, что им за это будет, — покачала головой миссис Харди.
Я сразу ей поверил, поскольку уже убедился в ее крутом нраве.
В доме мама с папой заняли комнату поменьше, где стояла двуспальная кровать, а мы втроем разместились в большой комнате с двумя койками у стен — Ханна спала одна, а я вместе с Каталом. Было тесновато, но весело, мы хихикали и брыкались. Мне казалось, что я на вершине счастья.
Днем мы гуляли в полях или брали извозчика и ехали в Куртаун, где на ярмарке катались в электрокарах, съезжали с винтовой горки и скармливали монеты «одноруким бандитам». Я пристрастился к комиксам и прямо разрывался между специальными летними выпусками «Бино» про Дэнниса-мучителя и ребят с Бэш-стрит и «Бизером» про Банановую кодлу и Полковника Моргало. Мы ели сахарную вату и покупали надувные игрушки. Один раз отец повел меня в местный кинотеатр на «Дракулу», но, едва увидев вампира, я завизжал как резаный, опрокинул коробку с попкорном и успокоился только на солнечной улице. Иной раз мы устраивали пикник на пляже Карраклоу, до посинения плескались в море, строили замки и крепостные рвы из песка, потом хрустевшего на бутербродах с сыром и луком, которые мы запивали теплой баночной фантой и «сидоной»[12], и чувствовали себя богами, сошедшими с небес.
Может быть, на том пляже я встречал Тома Кардла? Туда приходили семьями, а его ферма стояла неподалеку от дюн, через которые мы перебирались ради первого взгляда на синюю воду, искрившуюся всеми цветами радуги. Может, там был и он, последыш, чья судьба уже при его рождении была написана на обложке Библии, он, кто не изведал любви к иному человеческому существу? Может быть, мы перебрасывались шутками, когда в компании местных мальчишек я гонял мяч по пляжу? Возможно ли, что в прошлом мы были равно чисты? Возможно. Конечно, возможно. Но разве теперь это важно? Все смыто приливами.
Ссора, разрушившая мою семью, произошла в наш пятый вечер в Уэксфорде. Мы с Ханной пытались научить Катала играть в лудо[13], но братец учиться не желал, а хотел побегать со спаниелем миссис Харди, заглянувшим к нам на огонек, и тут мама бросила безобидную реплику, мол, она всегда мечтала о таком отдыхе, и еще добавила:
— Надо так отдыхать каждый год.
— Отдых стоит денег, — сказал отец.
— Как и выпивка.
— Закрой хайло, сука драная.
Мы обомлели. Злобы в отце накопилось изрядно, но он как-то исхитрялся не выпускать ее наружу, и даже когда это не вполне удавалось, то не сквернословил. Не сказать, что отец позволял о себя вытирать ноги, но всякий раз, как мама начинала его пилить, он просто замыкался, порой надолго. Сейчас-то я понимаю, что отец пал жертвой депрессии. Не о такой жизни он мечтал.
Шпильки, которыми обменивались мать и отец, трудно повторить и еще труднее забыть. Мама беспощадно, слово в слово, процитировала рецензента, угрожавшего поджечь театр, если Уильям Йейтс еще раз появится на сцене. Да что ты понимаешь в искусстве, парировал отец, ты, никчемная выскочка, ухватившаяся за свой шанс.
— Что?! — взревела мама. — Я свой шанс проморгала! Сейчас работала бы на трансатлантических линиях! А то и управляла бы «Аэр Лингус»! И не была бы твоей подстилкой!
— Я желал малого! — проорал отец. Жгучая злоба его перекипела в горькую жалость к себе и потребность найти виноватого. Скорчившись на стуле, он закрыл руками измазанное соплями лицо. Видя его муку, я и маленький Катал заплакали, а Ханна побледнела и застыла, прикусив кончик языка. — А ты меня обобрала. — Он оглядел нас: — Все вы меня обобрали.
— Мы у тебя не взяли ничего! — выкрикнула мама. Терпение ее лопнуло. Она схватила тяжелую кастрюлю и бешено грохнула ею по столу, потом еще и еще раз; спасаясь от жуткого шума, Катал зажал руками уши, Ханна опрометью вылетела из комнаты. — Ничего! Ты жалкий неудачник! — взвизгнула мама. — Паршивый человек, никудышный муж и отец! Мы ничего не взяли!
— Ты отняла у меня самое любимое! — завопил отец, взад-вперед раскачиваясь. — Единственное, что я любил. А если с тобой так поступить? Понравится тебе?
— Да забирай! — гаркнула мама и, шваркнув кастрюлю на пол, ринулась к двери. — Забирай все, Уильям Йейтс! На кой оно мне сдалось!
В ту ночь Катал спал с мамой, а отец улегся вместе со мной, но теперь никто уже не хихикал и не брыкался босыми ногами. Я лежал натянутый как струна, а потом вдруг услышал нечто, меня взбаламутившее и напугавшее: мой отец, взрослый мужчина, что-то бессвязно бормотал и плакал в подушку. Пройдут годы, и в свою первую ночь в Клонлиффской семинарии я услышу точно такие же звуки, доносящиеся с койки Тома Кардла.
Не помню, в котором часу я проснулся, но уже вовсю светило солнце, а в гостиной отец, пребывавший в удивительно лучезарном настроении, наливал в мои любимые красные прозрачные кружки горячий шоколад, который у нас считался лакомством и подавался лишь по праздникам; мама уединилась в саду. Сидя в шезлонге, она демонстративно читала «Сельских девушек» Эдны О’Брайен, ибо знала, что портрет красивой женщины на задней обложке доводит отца до белого каления. Он говорил, что писаку эту давно надо прищучить за грязный треп.
— Привет, сынок! — Отец ухмылялся, словно накануне ничего не произошло. — Выспался?
— Не особенно.
— Что, нечистая совесть замучила?
Я на него уставился, не зная, что ответить.
— Я собираюсь поплавать, — сказал отец. — Пошли вместе?
— Чего-то не хочется.
— Да ладно тебе, — наседал отец. — Вдвоем-то, знаешь, как здорово.
Я помотал головой и сослался на усталость. По правде, после вчерашних событий мне вовсе не хотелось тащиться на пляж и лезть в холодную воду. Перед глазами еще маячил отец, который, туда-сюда раскачиваясь, обвинял нас в своих неудачах, а в ушах стоял грохот маминой кастрюли о стол. Я не желал общаться с родителями.
— Точно не пойдешь? — Отец обнял меня за плечи. — Гляди, второй раз не позову.
— Точно, — сказал я.
Отец, похоже, слегка расстроился и повернулся к моему четырехлетнему брату, игравшему в уголке:
— Тогда придется тебе, Катал. Иди надень плавки.
Словно пес, всегда готовый к прогулке, братишка оставил игру и побежал переодеваться в ванную, откуда появился с ведерком и лопаткой.
— Это не понадобится. — Отец забрал у него игрушки и отставил их в сторону. — Мы просто поплаваем. Вдвоем. Играть не будем.
Через минуту они ушли; Ханна еще не встала, и я один смотрел, как они шагают по тропинке, сворачивают к пляжу и скрываются за деревьями, но вскоре отвлекся на ослика, совершавшего утренний променад по лугу, и задумался, не сочтет ли он меня лучшим мальчиком на свете, если удастся раздобыть пару кусков сахара, а то и яблоко ему на завтрак.
Помнится, часа через два к дому подъехал полицейский, уроженец, судя по выговору, графства Мейо. Так уж заведено: из родных мест полицейских направляют в другие графства, где они не знают тех, кого надо арестовать или огорошить дурной вестью. Я слонялся по палисаду, мама в кухне готовила обед, но, увидев полицейскую машину, вышла на крыльцо.
— Ступай в дом, Одран, — сказала она, комкая посудное полотенце. Я не шелохнулся, однако повторного приказа не последовало. — Заблудились, командир? — Мама широко улыбнулась, как будто удачно пошутила.
— Да нет. — Полицейский пожал плечами и огляделся с таким видом, словно предпочел бы оказаться в любом другом месте, только не здесь. Мне показалось, он похож на Джона Уэйна. — Погода, однако, славная.
— Прелестная, — согласилась мама. — Как думаете, дождя не будет?
— Да кто ж его знает. — Полицейский глянул на меня и поморщился, отчего лоб его избороздили глубокие морщины.
— Не пойму, что за выговор у вас. Откуда вы родом? — спросила мама, и даже мне, мальчишке, этот разговор показался странным. Полиция не заявляется ради светской беседы. А то ей больше делать нечего.
— Уэстпорт, — ответил полицейский.
— Я знала одну девушку из Уэстпорта. Мы вместе работали в «Аэр Лингус». Она боялась высоты и никогда не смотрела в иллюминатор. Я все гадала, зачем она вообще пошла в стюардессы.
Полицейский рассмеялся, но, смутившись, сделал вид, что закашлялся.
— Вы миссис Йейтс? — спросил он.
— Да.
— Может, войдем в дом и присядем?
Мама надолго закрыла глаза. Даже сейчас я думаю, что прошло не меньше полуминуты, прежде чем она вновь взглянула на полицейского, открыла дверь и провела его в дом. Я готов поклясться, что за эти тридцать секунд она постарела на десять лет.
Вот что известно: на пляже какое-то семейство — мать, отец и двое близнецов — устанавливало тент от ветра и заметило мужчину с мальчиком, весело плескавшихся в волнах. Негоже такому малышу заплывать в этакую даль, сказала мамаша, но муж ее смекнул, что дело неладно, и бросился на помощь. Неважный пловец, вскоре он обессилел, однако ему показалось, что мужчина топит ребенка — раз за разом насильно удерживает под водой, не давая глотнуть воздуха. Когда мальчик больше не всплыл, мужчина погреб в открытое море и пропал из виду. Тело ребенка — лицо в воде, руки раскинуты — прибило к берегу. Глава семейства вытащил его на песок, но было уже поздно. Маленький Катал утонул, а часа через два прилив вынес на берег и тело Уильяма Йейтса. На пляже собралась половина местных полицейских, из Уэксфорда примчалась «скорая помощь», но ей оставалось лишь доставить трупы в больничный морг Куртауна, где на улицах, залитых полуденным солнцем, по-прежнему торговали сахарной ватой и сталкивались электрокары, выписать свидетельства о смерти и связаться с похоронным бюро.
А вот что непонятно: что же там произошло? Отец свел счеты с жизнью? Охваченный депрессией изгой, на табачной фабрике он упаковывал сигареты, хотя мечтал на сцене Театра Аббатства сокрушаться о бедном Йорике или в Королевском театре на Друри-лейн обучать красноречию Элизу Дулитл? Значит, это было самоубийство? Да, теперь я в этом уверен. Вместе с тем произошло убийство? И на этот вопрос ответ — да. Но почему он решил с собой забрать своего ребенка? Сперва он сманивал меня, но я отказался, и тогда он взял маленького Катала. Но зачем? Какой в этом смысл? Что толку? Разве это стерло бы отзыв рецензента «Ивнинг пресс» или открыло двери в дом Шона О’Кейси на Северной окружной дороге? Превратило бы Кэтлин Бэррингтон и Элизабет Тейлор в сценических партнерш?
За прошедшие годы я размышлял об этом бессчетно и вот к чему пришел: мой отец был не в себе, он был болен и никогда не удумал бы такое, будь жизнь к нему чуточку добрее. Что, если б у тебя забрали твое самое любимое? — в тот вечер спросил он маму. Лишь больной, человек не в своем уме способен такое задумать. Так говорю я себе, потому что при ином ответе передо мной разверзнется море боли, которое поглотит меня с той же легкостью, с какой Ирландское море поглотило моего младшего брата.
Несусветный мир, в котором страдают дети.
Я представляю, как маленький Катал барахтался, не доставая песчаного дна, как отцовские руки утягивали его под воду и он вскрикивал, считая это какой-то новой игрой. Испуганный, но послушный, он верил, что так и надо, а потом вдруг понял: происходит нечто странное, чего он не переживет, понял, что пришла его смерть и ему уже никогда не играть со спаниелями миссис Харди. Я представляю, как он пытался глотнуть воздуху, но в голове его помутилось, и вода хлынула ему в легкие. Говорят, утонуть — безболезненная смерть, но почему я должен этому верить, разве кто-нибудь из утопленников вернулся, чтобы поведать сию байку? Когда малыш обмяк и сдался, отец, наверное, опомнился и осознал весь ужас содеянного; теперь ему оставалось широкими взмахами поплыть к горизонту, он понимал, что вскоре силы его оставят, дыхание иссякнет, вода сомкнется над его головой и он наконец-то обретет хоть кроху покоя.
Так я думаю. Но знать не дано.
И вот вначале нас было трое, потом стало четверо, затем пятеро, а потом вдруг опять трое.
Мы вернулись в Дублин, теперь мама была не женой, но вдовой, которую потеря ребенка преобразила неузнаваемо. Она ударилась в религию, надеясь в Боге найти облегчение боли и утешение. Ежедневно перед школой она отводила меня и Ханну в церковь Доброго Пастыря, где прежде мы высиживали только короткую воскресную заутреню, и заставляла молиться за маленького Катала, но никогда за отца, чье имя после похорон не произнесла ни разу. Вечерами, когда по телику передавали молитву «Ангел Господень», она заставляла нас встать на колени и по четкам отчитать все пятьдесят молитв да еще «Богородица Дева, радуйся», что мы пытались исполнить без смеха, но не всегда, Господи, прости, успешно. Потом мать отвела меня к отцу Хотону и сказала, что я выразил желание стать церковным служкой, чего у меня не было и в мыслях, но я оглянуться не успел, как меня уже обмеряли для стихаря и сутаны. В нашем доме статуэтки Богоматери были повсюду. На стенах висели картинки «Святого сердца», которое я называл «Спитым сердцем», пока мать не надрала мне уши за богохульство. Наша соседка миссис Рэтли, ездившая в Лурд исцеляться, привезла нам святой воды в пластиковой бутылке в форме распятия, и мы с сестрой ежеутренне, а также перед сном должны были себя ею орошать и просить Бога, чтоб позаботился о маленьком Катале, пригрел и уберег, доколе не наступит час нашего благодатного воссоединения. Жилье наше, прежде вполне светское, превратилось в молельный дом, и однажды в мой день рождения, мне стукнуло десять, посреди ночи мать влетела в мою спальню, зажгла свет и, пробудив меня от сладких снов, изумленно уставилась мне в лицо, а потом объявила: только что ей было великое Богоявление, за которое все мы должны быть благодарны. Оно снизошло во время «Программы для полуночников», и мать, сорвавшись с места, помчалась ко мне, чтобы заглянуть в мои глаза, и вот теперь она поняла, что не ошиблась. Она видела знак на моем лице. Она его осязала, держа меня в объятиях.
— Я знаю твое предназначение, Одран, — известила мать. — Тебе предначертано стать священником.
И я подумал, что она, вероятно, знает, что говорит. Ведь меня так воспитали — верить всему, что сказано мамой.
Глава 4 1980
Я сразу увидел, что вагоны битком набиты, и сердце мое екнуло: неужто два с половиной часа придется стоять, покуда кружным путем через Килдэр и Атлон поезд доберется до Голуэйского вокзала?
Накануне я вернулся из Норвегии, куда ездил на свадьбу Ханны и Кристиана Рамсфйелда, и за неделю совершенно вымотался. Конечно, я мог бы уклониться от поездки через всю страну, но мне показалось, что снять телефонную трубку и выдумать отговорку потребует еще больших усилий, поэтому я уложил в чемодан свежую смену белья и, плохо выспавшись, утром приехал на станцию Хьюстон и сел в поезд, идущий на запад.
В Норвегию я ездил один, мама ехать категорически отказалась, поскольку Кристиан был не католиком, но, как большинство его соотечественников, лютеранином, то есть в маминых глазах почти сатанистом. Кроме того, мама рассчитывала, что дочь ее станет монахиней в аббатстве Лорето в Ратфарнеме, ибо ей тоже предназначена церковная жизнь. Ханна идею высмеяла, в доме начались свары, и когда не подействовало заклинание именем покойного Катала, стало ясно, что мамины старания успехом не увенчаются.
— Тебе мало бедняги Одрана? — выкрикнула Ханна, когда однажды я попытался примирить враждующую пару. — Он готов растоптать собственную жизнь, потому что боится тебе прекословить!
— Ну уж ты скажешь! — Меня задели ее слова. Ханна так никогда и не признала, что я в высшей степени соответствовал пути, по которому меня направила мама.
— Потаскуха ты, и больше никто! — гаркнула мама, не жалея ничьих ушей. — Перед любым готова растопыриться!
— А что, нельзя, что ли? — подбоченилась Ханна. — Чего ж добру пропадать? Меня не убудет.
— Ну хоть ты ее вразуми, Одран! — взмолилась мама, но что я мог сделать, если сестра уже заявила, что скорее умрет, чем станет монашкой, что отныне вообще не будет ходить в церковь и вместо воскресных заутрень станет ездить в кино.
Ханна и Кристиан познакомились в Ирландском банке на площади Колледж-грин, где сестра училась на кассира по обмену валюты и день-деньской переводила в доллары и фунты скудные сбережения молодых людей, надеявшихся, что удача им улыбнется за границей, где, по слухам, была работа, которой в Ирландии днем с огнем не сыщешь. В Тринити-колледже, расположенном на другой стороне площади, Кристиан изучал философию и ежедневно в обеденный перерыв обменивал пару сотен норвежских крон.
— Может, вам обменять всю сумму целиком? — на четвертый день спросила Ханна. — Ведь всякий раз вы платите комиссионные.
— Но тогда я лишусь возможности каждый день вас видеть, — улыбнулся Кристиан, и сестра потом рассказывала, что у нее закружилась голова, когда она поняла, что нравится этому симпатичному и уверенному светлоликому блондину, манера одеваться которого посрамила бы любого ирландского парня.
— Не подумай, что он таскает меня лишь в кафе «Паршивый осел», — говорила Ханна. — Мы ходим на спектакли и концерты, а на прошлой неделе он повел меня в Национальную галерею на выставку скандинавской живописи. Без дураков, Одран, он все знает про эти картины.
Они встречались с год, и вот однажды мама, стиснув зубы, пригласила их на ужин, однако где-то между долькой дыни, вишенкой на зубочистке и жареным барашком сцепилась с Ханной. Кристиан, спокойный и невозмутимый, не стал ввязываться в спор, чем еще сильнее озлобил маму, и она его больше не приглашала, но ему это было абсолютно никак. Тогда я жил в Риме, а потому в трапезе не участвовал, но, думаю, спор разгорелся из-за религии, как оно обычно и бывает в Ирландии.
На свадьбе в Лиллехаммере, родном городе Кристиана, что в паре часов к северу от Осло, была куча сердечных веселых Рамсфйелдов с именами, одно другого непроизносимее. Минускулы и ангстремы, пересекающие или украшающие гласные, надвое делили «о» или венчали «а». Труднопроизносимые сочетания «дж» и «к» в моем исполнении всех смешили, хотя, на мой слух, я все выговаривал точно так же, как и те, кто меня поправлял. Отец Кристиана умер. Надо же такому случиться, он тоже утонул, правда, никого с собой не забрал, — несчастный случай на озере Мьёса, только и всего. Года за четыре до этого он фактически развелся с матерью Кристиана, и Беата Рамсфйелд вновь вышла замуж — за человека, которому светила Нобелевская премия по химии. Узнав о повторном браке, мама заявила, что женщина эта живет в грехе, ибо Господь не расторг ее союз с покойным мужем и она была не вправе совершать новое таинство венчания. Вопрос этот сложный, а я не желал дискутировать с мамой.
Ханна ничуть не расстроилась ее отсутствием, но я огорчился, поняв, каких прекрасных впечатлений она себя лишила: поездка с уморительным дядюшкой Кристиана и двумя юными кузенами, чудесная церковь посреди парка Сьондре, напоминающего мультфильмы Уолта Диснея, посещение музея под открытым небом Майхауген и пешие прогулки в окрестностях Лиллехаммера. Сестра, похоже, обрадовалась, что мамы не будет, а вот я жалел, что в одиночку провожу шесть восхитительных дней в этой удивительной и очаровательной стране, один угощаюсь бараньими ребрышками «пиннекьот», тушеной ягнятиной «форикол», коричневым сыром «брюнуст», которые на вкус несравнимо лучше, чем на слух, и все запиваю безмерными дозами «аквавита» и «мьида»[14], от которых наутро раскалывается голова, абсолютно свободная от мыслей о новой жизни в сане священника.
Кристиан мне понравился сразу — умница, культурный. Он обожал горы, окружавшие его родной дом, и хотя до конца своих дней Кристиан жил в Дублине, они с Ханной намеревались рано или поздно уехать в Норвегию. Но планам этим было не суждено сбыться, ибо едва Кристиан отметил сорок второй день рожденья, как его вдруг скосила мозговая опухоль, а еще через год стал угасать рассудок Ханны. Но тогда, в 1980-м, они были чудесной парой, полной жизни и красоты, безумно влюбленными друг в друга; им было отпущено всего двадцать совместных лет, и это выглядит необъяснимой жестокостью того, кто вершит наши судьбы, — сущности, которую я называю Богом и которая по собственной прихоти разрушает наше счастье, однако требует безоглядной веры своей паствы.
И вот я снова был дома, вдали от вершин национального парка Рондане и Тропы Пер Гюнта; все еще переполненный восторгом, я решил на неделю отложить визит к озлобленной маме и пока что съездить на запад страны.
Я медленно прошел через шесть вагонов, но казалось, что в пятничный полдень все столичные студенты вознамерились на выходные покинуть город. В последнем вагоне я расстался с надеждой, покорно вздохнул и, закинув чемодан на багажную полку, встал в закутке возле дверей. Привалившись к стенке, я открыл роман, который вчера начал читать в аэропорту Осло, — о юноше, замыслившем выпустить на волю медведей венского зоопарка[15]. За книгой воздушное путешествие пролетело незаметно; может быть, то же самое произойдет и с железнодорожной поездкой.
— Энтони! — В четырехместном отделении немолодая дама, волосы которой были собраны в старомодный пучок, окликнула мальчика, сидевшего напротив нее. — Иди ко мне на колени, пусть отче сядет.
— Не хочу. — Мальчишка засунул палец в нос.
Я мысленно взмолился, чтоб его оставили в покое.
— Ничего-ничего, — сказал я, покосившись на попутчиков. — Не страшно, если я немного постою. Наверное, после Килдэра или Талламора станет посвободнее.
— Садитесь на мое место, отец! — из середины вагона крикнул человек, по возрасту годившийся мне в дедушки. Он встал и начал собирать свои пожитки: банановую кожуру и сегодняшнюю «Айриш индепендент», с первой страницы которой скалился премьер-министр Чарли Хоги, — его кривая ухмылка обещала, что вскоре он окончательно опустошит карманы ирландцев.
— Нет-нет, — поспешно сказал я и замахал руками. — Не надо. Прошу вас, сидите. Мне и здесь хорошо.
— Да чего там, садитесь, отче, — подала голос сильно беременная женщина у дверей.
— Я первая предложила место отцу! — на весь вагон гаркнула дама с пучком, словно я уже стал ее собственностью. — Энтони, сейчас же встань — или я с тобой поговорю по-другому. — Теперь в центре внимания оказался мальчишка — к нему повернулись головы всех пассажиров: мол, что это за несносный ребенок, который не уступает место священнику, и что это за мамаша, допускающая этакое безобразие? — Он прекрасно посидит у меня на коленях, — тон дамы мгновенно утратил злобность и стал подобострастным, — нам ехать-то всего до Атлона.
— Право, не стоит, — отнекивался я, но мальчишка уже залез на мамашины колени, не оставив мне иного выбора, как занять освободившееся место. Багровый от всеобщего внимания, я хотел одного — схватить чемодан и через вагоны убежать в дальний конец поезда.
Я ехал в Голуэй повидать Тома Кардла. Мы не виделись с конца 1977 года, когда я отбыл в Рим. Из Италии я писал Тому длинные письма — рассказывал свои новости и выспрашивал сплетни о семинарии, где ему оставалось учиться еще год. «Как у тебя с итальянским?» — однажды поинтересовался он, и я тотчас ответил открыткой: «Прекрасно, тут я как рыба в воде». В письмах его сквозили грусть и скука — Том сокрушался, что последний год мы проведем порознь, и добавлял: дублинцам всегда достается все самое лучшее, они возглавляют все епархии и пекутся о земляках. Злобность его удивляла и ранила, я-то думал, он за меня порадовался, когда я попал в число избранников, кому оказали великую честь. Том писал, что его переселили в келью Барри Шэнда, легендарного пердуна, поскольку прежний сосед Барри, веселый парень О’Хай из графства Керри, бросил пятый курс и сбежал с девицей, снабдив нас прекрасной пищей для толков и пересудов.
Вскоре после возведения в сан Том сообщил, что его распределили в тот же приход, где он был на практике, — «богом забытую дыру у черта на куличках», как он выразился, — и даже через тысячу двести миль, разделявших нас, я слышал гадливость, с какой он цедил название графства Литрим.
Впрочем, у меня отлегло от сердца, когда через месяц-другой Том написал, что все не так уж плохо, что есть громадная разница между положением практиканта и викария, должность которого дает преимущества, о каких он даже не подозревал. Литрим — болото безбожья, где овцы гораздо интереснее людей, уверял Том и далее сообщал, что нашел себе новые увлечения — какие, не уточнял — и теперь жизнь его выглядит не такой уж скверной. «А какой почет, Одран! — добавлял он. — Здесь мы как боги! Никакого сравнения с тем, как к нам относились последние семь лет».
Тон писем был оптимистичен, но не прошло и года, как Тома вдруг перевели в приход Голуэйской епархии, что для меня стало полной неожиданностью. Обычно новому священнику дают три-четыре года обжиться. А вот Тома переместили почти сразу.
Мы переписывались весь 1978-й, который у меня выдался хлопотным. Я поведал о пожалованной мне чести, Том выспрашивал подробности, но я не мог их сообщить, ибо покров секретности скрывал мой распорядок дня. А потом наступил сентябрь, и он писал, наверное, каждый день, желая узнать о том, чего не могли или не желали сообщать газеты, — верны ли слухи о заговоре?[16] Мой друг не догадывался, что я в опале и так же далек от информации, как и он. Так продолжалось весь октябрь, ноябрь и вплоть до Рождества, когда в Ватикане все понемногу улеглось. «Том, я ничего не могу рассказать, — снова и снова отвечал я. — На устах моих печать».
Я прикидывался важной шишкой, хотя на самом деле вообще ничего не знал, ибо в ту роковую ночь, о которой говорил весь мир, не я ли покинул свой пост? Не я ли поддался самым низменным инстинктам? Не я ли себя опозорил, когда был унижен женщиной, даже имени которой никогда не узнаю, и бросил хорошего человека умирать в одиночестве?
Когда после римской эпопеи я вернулся в Ирландию, можно было возобновить наше общение живьем, и мы сговорились о нынешней встрече, которую я ждал с большим нетерпением. В Теренурском колледже я уже отработал пару месяцев и вроде как там прижился. С ребятами я ладил, и после моей крайне неудачной пробы себя в роли тренера по регби они весьма деликатно посоветовали: «Отче, может, вам заняться тем, что вы умеете?» В спортивном костюме я побрел в библиотеку к тем ребятам, кому хватило духу признаться в своем равнодушии к спорту, и там почувствовал себя в своей тарелке. Место тренера занял преподававший счетоводство отец Майлз Донлан, и это, как выяснилось, было страшной ошибкой, за которую по сию пору расплачиваются колледж и невинные ребята.
О своей римской должности я не распространялся, однако слух все же просочился, и коллеги начали задавать вопросы, но я помалкивал, дабы не разжигать их страсть к пересудам. Однажды прямо посреди урока Гарри Маллиган, толковый парень, который уложил весь зрительный зал своим озорным исполнением роли Основы в рождественском спектакле «Сон в летнюю ночь», поднял руку:
— Отче, правда ли, что в ночь, когда умер папа, вы были рядом с ним?
Я так растерялся, что собственный ответ заставил меня улыбнуться, невзирая на серьезность вопроса:
— Чей папа?
— Вы священник? — спросил меня голосок, и я взглянул на своего соседа справа — хорошо одетого маленького мальчика, выглядевшего очень усталым.
— Да, — сказал я. — А ты?
Мальчик помотал головой, а я посмотрел на женщину и девочку, сидевших напротив; все понятно: мать и близняшки. Все трое друг на друга похожи.
— Помолчи, Эзра, — велела женщина.
— Ничего-ничего, — сказал я. — Наверное, его заинтересовало вот это. — Я постучал указательным пальцем по своему пасторскому воротничку, нынче казавшемуся туговатым; воротничок издал звук, словно кто-то легонько стукнул в деревянную дверь.
— Ему все интересно. — На столик, разделявший нас, женщина положила лицом вниз раскрытую книгу.
— Он еще маленький, — сказал я. — Сколько ему, семь?
— Нам обоим семь, — быстро ответила девочка.
— Неужели?
— Наши дни рождения двадцать пятого декабря.
— Надо же, как вы подгадали, — улыбнулся я. — Получаете парные подарки?
Не поняв моего вопроса, девочка нахмурилась, потом озадаченно посмотрела на мать.
— Вы читали, не будем вам мешать, — сказала женщина.
— Вы тоже читали. — Я взял ее книгу, глянул название, потом оторвал уголок газеты и использовал его как закладку. Женщина открыла рот, словно собираясь что-то сказать, и я уразумел всю бестактность своего поведения. Кто я такой, чтобы учить ее манерам? — Извините, — смутился я, но она отмахнулась — право, пустяки, и тут Эзра зевнул во весь рот. — Похоже, он устал.
— У нас был долгий перелет. Не терпится попасть домой.
— Куда ездили?
— Навестить маму и ее мужа.
Фраза показалась странной, но потом я смекнул: мать — вдова или разведена. Вновь вышла замуж, как Беата Рамсфйелд.
— Маму и ее мужа, — покивал я. — Приятная поездка?
— Долгая. Полтора месяца. Слишком долго.
— Позвольте узнать, где они живут?
Женщина чуть улыбнулась:
— В Иерусалиме.
— Прекрасный город.
— Бывали там? — спросила она, и мне послышался какой-то неуловимый иностранный акцент.
— Нет, — сказал я.
— Тогда откуда вы это знаете?
— Я слышал, что город очень красивый. Мои знакомые в нем жили. Надеюсь, и я когда-нибудь съезжу. — Разглядывая меня, женщина кивнула, и я вдруг забалаболил: — Я вообще мало где бывал. Только в Италии. И еще в Норвегии. Только что вернулся. Расскажите про Иерусалим. Он такой, каким я его представляю?
— Откуда мне знать, что вы себе нафантазировали, — сказала она, и я засмеялся, но осекся — может, это никакая не шутка?
— Наверное, там очень тепло.
— А, вы про погоду, — кивнула женщина. — Да. Бывает тепло. Иногда сыро.
— Вы не хотите, чтобы вас отрывали от чтения? — спросил я. У меня сложилось впечатление, что, в отличие от других попутчиков, ей нет дела до меня.
— Пожалуйста, извините, — уже мягче сказала женщина, покачав головой. — Я тоже устала, вот и все. Я не хотела показаться невежливой. Долгий перелет. Семь часов.
Я кивнул на детей:
— Для них чересчур долго.
— Они-то совсем не против. Всего второй раз летели на самолете и были в восторге.
— А в первый раз куда летели?
Женщина широко улыбнулась, открыв ослепительно-белые зубы, — такая улыбка превратила бы свирепого пса в ласкового кутенка.
— В Иерусалим, куда же еще?
— Обычно я соображаю лучше. — Я смутился из-за собственной тупости.
Я побарабанил пальцами по столу, женщина смотрела на пейзаж, проплывавший за окном. Я стушевался и подумал, что лучше, наверное, продолжить чтение.
Кто-то похлопал меня по плечу. Старик с банановой кожурой и газетой.
— Я иду в вагон-ресторан, отче, — сказал он. — Принести вам сэндвич?
— Нет, благодарю. Я не голоден.
— Сэндвич вам не помешает, — не унимался старик. — С чем вы любите, с ветчиной или индейкой? Или, может, хотите тост с капелькой малинового джема?
— Перед дорогой я пообедал, правда. Вы очень любезны.
Старик кивнул и, подмигнув мне, ушел. Дама с пучком слышала этот обмен репликами; казалось, она слегка расстроена тем, что я общаюсь не с ней, а с матерью близнецов.
— У Энтони в сумке есть чипсы «Тейто», — сказала дама. — Дайте знать, если проголодаетесь.
— Нет! — в ужасе взвыл мальчик, и дама наградила его чувствительным шлепком.
— Замолчи! — приказала она.
— Что вы, не надо, — сказал я, расстроенный этой сценой. — Я не люблю чипсы, — успокоил я Энтони, который, испепеляя меня взглядом, прикидывал, стоит заплакать или нет.
— Если передумаете, отче, только скажите, — не отставала дама.
— Не передумаю. Но все равно спасибо. Вы очень добры. И ты, Энтони.
— Такое часто бывает? — немного погодя прошептала моя визави. — Вас все время пытаются накормить?
— К несчастью, да, — ответил я. — При желании я мог бы вообще не ходить за продуктами.
Позже я всякий раз вспоминал этот эпизод, слыша байку о Джеке Чарлтоне, который за все покупки расплачивался чеком. Кто же предъявит к оплате автограф знаменитого футболиста? Нет, его обрамят и повесят на стену. Джек вообще обходился без денег. Но вот соседка моя покачала головой, словно хотела сказать: с какой стати людям так себя вести? Этакая незаинтересованность была мне внове, она меня даже заинтриговала. Что-то не видно почтения, о котором писал Том Кардл, тут скорее недоверие.
А в 1980-м кто имел хоть малейший повод не доверять священнику?
— Вы считаете его родиной? — спросил я, вдруг охваченный желанием одолеть разделявшую нас преграду.
— Простите?
— Я об Израиле, — пояснил я. — Это ваша родина?
На секунду женщина задумалась.
— Мать считает его родиной, — сказала она. — И отчим. А я, пожалуй, нет. Я была там всего два раза. Нелепо называть его родиной.
— Не любите туда ездить?
— Авиабилеты очень дорогие. Мне не по карману.
— Понятно.
— На эту поездку я долго копила. Чтобы Эзра и Бина повидались с бабушкой.
— Бина. — Я улыбнулся, глядя на девочку, которая, по примеру брата, уснула. Вообще-то мальчик привалился к моему плечу, и я поерзал, отстраняясь. — Красивое имя.
— Оно означает «разум», — сказала женщина. — И еще «мудрость».
— А вас как зовут? — спросил я.
— Лия. Что, похоже, означает «усталость».
— Одран. — Я ткнул себя пальцем в грудь. — Честно скажу, я понятия не имею, что это означает. Мне всегда хотелось побывать в Израиле. — Я слегка лукавил, поскольку об этом особо не думал. — И в Сиднее. Мечтаю увидеть Австралию. Ну, может, когда-нибудь удастся.
Лия рассмеялась, и дама с пучком ожгла ее взглядом: надо же, флиртует со священником.
— Это очень разные страны, — сказала Лия.
— Согласен, — кивнул я. — Но образ Австралии чем-то меня привлекает.
— Иногда образ лучше реальности. — Лия помахала рукой, словно разгоняя мираж. — Вот об этом мы спорили с мамой. Мечта выше реальности.
— Маму не переспоришь, — сказал я. — Уж я-то знаю, поверьте.
— Не переспоришь.
— Значит, образ еврейской родины вас не прельщает? — заинтересованный, я подался вперед.
— Моя родина здесь. Ирландия. Да, родилась я в другом месте, но после войны мы с мамой приехали сюда.
— А отец? — Я сам не понимал, почему спрашиваю о том, что меня не касалось. — Ваши родители познакомились здесь? Да нет, что я, ведь вы уже родились.
— Мама выжила, — просто сказала Лия, глядя мне в глаза. — Отец — нет.
— Я таки взял вам, отче, булочку с ветчиной и сыром. — Старик, вернувшийся из вагона-ресторана, положил прозрачный сверток на столик. Я недоуменно вытаращился, все еще переваривая слова Лии. — И бутылочку «Севен-ап». Вы любите «Севен-ап»? Меня от него пучит, но я пью, не могу удержаться. И вот еще чипсы «Кинг». «Тейто» не было. «Тейто», конечно, лучше, но у них только «Кинг».
— Я же сказала, у нас есть «Тейто», — влезла дама с пучком.
— Ну пусть съест и то и другое.
— Энтони, угости отче чипсами.
— Нет! — заорал мальчик.
— Сейчас я с тобой поговорю.
— Моё! — не сдавался Энтони.
— Кушайте, отче, — сказал старик. — Может, еще принести шоколадку?
Сам того не ожидая, я грохнул кулаком по пластиковому столику. Вышло не хуже, чем у мамы, шестнадцать лет назад злобно колотившей кастрюлей о стол.
— Я же сказал, не надо еды! — рявкнул я. — Я поел перед дорогой. Вы меня не слышите, что ли?
Опешивший старик попятился; он так растерялся, словно я дал ему тумака. Дама с пучком буравила его взглядом, как будто во всем виноват он один. Лия молча наблюдала за сценой. Испуганные дети ее проснулись. Я закрыл глаза и выдохнул.
— Извините, — сказал я, глянув на старика. — Прошу прощения. Мне очень жаль, правда.
— Все в порядке, отче. — Старик смотрел в пол, избегая взглядов других пассажиров. — Не переживайте.
— Сколько я вам должен?
— Что вы, ничего.
Я не настаивал.
— Простите, — повторил я.
Старик улыбнулся и, тряхнув головой, сел на свое место.
— Бедняга просто хотел оказать вам услугу, — сказала дама с пучком, явно решив поквитаться со мной за отказ от ее чипсов.
Хоть бы они не трогали меня, подумал я. Все эти люди. Хоть бы дали мне кроху покоя.
— Вы не любите привлекать внимание, — сказала Лия.
Я помотал головой:
— Не люблю. Вот в Риме легко оставаться неприметным. Там каждый второй встречный — священник. А здесь… бывает чересчур…
— Вас уважают, только и всего.
— Но за что? Они меня не знают.
Лия провела пальцем по горлу, и я кивнул, удивляясь, что белый пластиковый ошейник может вызывать такое почтение. Близнецы вновь уснули — Эзра привалился к окну, Бина прижалась щекой к материнскому плечу.
— Я хотел спросить… — начал я, но Лия покачала головой:
— Лучше не надо.
— Хорошо.
— Прошло тридцать пять лет. — Лия пожала плечами. — Я стараюсь об этом не думать.
— Получается?
— Нет, конечно.
— А у матери с отчимом?
— Что вы лезете с такими вопросами? — Лия подалась вперед, ошарашив меня резкой переменой тона. — Кто дал вам право?
— Простите. — От стыда свело живот. — Я не хотел…
— Я знаю, чего вы хотели сказать, что во всем есть смысл. Дескать, все это входит в Божий замысел.
Я покачал головой:
— Никто не ведает Божьего замысла.
— Вы же знаете, что его нет.
— Кого? — не понял я.
— Бога.
— Ах, так.
— Поймите правильно. — Лия усмехнулась, заметив, что слова ее меня покоробили. — Все эти законы, которые вы сочинили, эта ваша идея добра, великодушия и милосердия, все это хорошо. Если вам нравится ходить в черном, носить воротничок и наряжаться по воскресеньям, кому это мешает? Но Бога нет. Откуда ему взяться? Вы сами себя дурачите.
Она говорила абсолютно спокойно, словно учила ребенка простейшим арифметическим действиям или азбуке. И я не нашелся с ответом. Она изведала жизнь, какой я никогда не узнаю. Поезд замедлял ход, Лия разбудила детей и принялась собирать вещи.
— Извините, если я вас огорчил.
— Ничуть. Вы не можете меня огорчить, — ответила она и, двинувшись к выходу, добавила: — Ешьте свой сэндвич. Старик выказал вам уважение. Но все может измениться. И тогда уже не будет еды для вашей братии. Оголодаете.
В Голуэй я приехал к вечеру. Том сказал, что пасторский дом отыскать непросто, поэтому мы условились встретиться в пабе О’Коннела на Эйр-сквер. Когда я вошел в бар, все головы повернулись ко мне; оглядывая насмешливые лица, я искал и не находил своего двойника — человека под тридцать в черном одеянии.
— Одран! — услышал я и в дальнем конце бара разглядел Тома, сидевшего за пинтой пива и номером сегодняшней газеты. Я обрадовался, стараясь не выказать удивления, что друг мой, как и все вокруг, в джинсах и ковбойке. — Ты чего так вырядился? — ухмыльнулся он. Ну хоть сними воротничок.
— Не стоит. — Я пожал ему руку. — Как поживаешь?
— Потихоньку. Что выпьешь?
— Фанту.
— Да ладно тебе.
— Пить хочется.
— Я знаю, чем утолить твою жажду. Садись.
Том отошел к стойке, заученным жестом вскинул два пальца и тотчас получил «пиво с прицепом» — две пинты «Гиннесса» и пару стаканчиков виски. Я раздраженно выдохнул. Почему все за меня решают, что мне есть и что пить?
— Ну и как это было? — усаживаясь, спросил Том, а я подумал, что со стороны мы, вероятно, производим странное впечатление; я-то полагал, здесь мы лишь встретимся и тотчас уйдем.
— Ты считаешь, все нормально? — обеспокоенно спросил я. — У нас не будет неприятностей?
— С кем?
— С епископом.
Том рассмеялся, отхлебнул пиво и рукой отер густые пенные усы.
— Окажись он здесь, предложил бы повторить за его счет.
— Никаких повторов, Том. Мне и этого вполне хватит.
— Ночь еще молода. Мы тоже.
— У меня была трудная неделя. Я притомился.
— Ну да, сестрина свадьба. Как все прошло?
— Очень весело.
— Каков новобрачный?
— Молодец. Вправду приятный парень.
— Поди, хорошо обрести нового братца.
Я замер, не донеся кружку до рта. Неумышленная грубость реплики меня резанула.
— Извини, — сказал Том. — Я неудачно выразился?
— Нет-нет, ничего.
Том усмехнулся и, пожав плечами, посмотрел на двух парней, в углу состязавшихся в дартс. Видимо, один угодил в яблочко, потому что подпрыгнул, сграбастал напарника и закружил его в радостном танце. Я заметил, что Том слегка помрачнел.
— Ну и как это было? — повторил он, отвернувшись от игроков.
— Поездка?
— Ватикан.
— Сплошь политика.
— Не удивляюсь. И здесь-то епархии — точно осиные гнезда. Воображаю, что творится в Риме. А каков новый парень?
— Кто?
— Сам. Начальник.
— Решителен, — сказал я. — Честолюбив. Хочет все изменить, ничего не меняя.
— Это был бы фокус. С ним можно похохмить?
— Нет.
— Почему?
— Он ни с кем не сближается. Ужасно умный. И грозный. А временами робкий. Одно лицо для мирян, другое для курии. Но иначе, наверное, нельзя. На дворе 1980-й. Другая жизнь.
— Ты бы не хотел остаться при нем?
— Я же говорил, нас берут только на год.
— Зато какой год, Одран! Лучшего нельзя и желать.
— Это как посмотреть, — сказал я. Видимо, в глубине души мне было приятно, что меня считают участником драмы. И даже отчасти ее причиной. Я будто намекнул, что есть моменты, которыми нельзя поделиться.
— Знаешь, чем я занимался в тот вечер, когда умер Папа? — Том опустошил пинту залпом, словно заправский выпивоха.
— Чей папа? — переспросил я, как тогда на уроке.
— Наш общий.
— Ну и чем же ты занимался?
— В Литриме спорил с парочкой моих прихожан. Они пришли ко мне за наставлением в супружестве…
— Вот этого я боюсь как огня, — сказал я. — Что мы с тобой знаем о браке?
— Оба мои ровесники, — продолжил Том, игнорируя мой вопрос. — Он — крестьянский сын, возжелавший малевать…
— Стать маляром?
— Да нет, художником. Живописцем. Как Ван Гог или Пикассо.
— Понятно.
— Я спросил, видел ли кто его работы, и он сказал, что несколько лет назад выставлял свои картины в приходском зале, а потом возил их в Дублин показать одному галеристу, но получил от ворот поворот: дескать, он еще не готов, надо развивать свой стиль. Тут влезла девица: дублинцы только о себе и думают, на остальных им плевать. Видел бы ты ее, Одран. Накрасилась, словно шла не к викарию, а на дискотеку. Юбка коротенькая — одно название. — Том присвистнул и покачал головой. — А ноги прям из подмышек растут.
— Как это? — опешил я.
— Ну, такое выражение, — рассмеялся Том. — Не слыхал, что ли? В общем, о девице этой ходила молва, что слаба на передок, но, видно, жениху было пофиг. Ну вот, сидят они, ухмыляются, и я вижу, что все это им невмоготу, а потом заводят старую песню — почему нельзя просто жениться без всей этой муры, и я отвечаю, что многие пары находят очень полезным поговорить о разных аспектах супружеской жизни, прежде чем идти под венец. Траты на хозяйство, чистота в доме, отношения… ну, ты понимаешь…
— В постели, — договорил я. По-моему, надо называть вещи своими именами, ведь мы, в конце концов, не дети.
— Да, это самое. — Том вроде как смутился и поерзал на стуле.
— В подобных вопросах я совсем не разбираюсь, — сказал я. — Очень надеюсь, что мне не придется давать таких наставлений.
— Как это — не разбираешься? — удивился Том. — Или нас не натаскивали?
— Наши познания чисто теоретические. Мы не ведем свою бухгалтерию, за нас это делает Церковь. Не убираем свои жилища, для этого есть экономки. А что мы знаем о сексе?
— Не все такие невинные агнцы, как ты, — раздраженно бросил Том, и я удивленно нахмурился — с чего это он так заговорил? Мы знакомы с семнадцати лет, и он, помню, признался, что еще даже не целовался с девушкой. — Суть в том, что за наставлением парочка явилась, поскольку не было других вариантов. Отец Трелони, приходский пастор, ясно сказал, что в своей церкви их не обвенчает, покуда не прослушают курс о супружеской жизни, ну и куда им было деваться? В общем, я хотел как можно скорее покончить с этой бодягой. Желая разрядить обстановку, я сказал, что от одной обязанности невеста избавлена — после свадьбы не надо хлопотать о перемене фамилии.
— Почему это? — спросил я. На столе появились две новые пинты, а я даже не заметил, когда Том их заказал.
— В том-то и штука. — В два глотка Том опорожнил стаканчик виски и, буркнув «Твое здоровье», приложился к новой пинте. — Парня звали Филип О’Нил, ясно? А девицу, по чистому совпадению, Роза О’Нил. Однофамильцы, понимаешь? Слава богу, никакие не родственники, хотя в Литриме, если подопрет, женишься и на кобыле. Но тут О’Нил женился на О’Нил. Такое, значит, бывает. Фамилия-то распространенная.
— Понятно. — Я хохотнул, словно над смешным анекдотом. Видно, подействовало спиртное. На голодный-то желудок. В поезде я не мог даже смотреть на тот сэндвич с ветчиной и сыром.
— Ну вот, я, стало быть, пошутил, а девица, вся из себя такая, вдруг заявляет, что и не собиралась после замужества менять фамилию. Чего? — говорю. Вы обязаны взять имя мужа, это закон. А она ржет! Смеется мне в лицо, Одран. Нет такого закона, говорит, и если надо, она принесет Ирландскую конституцию, чтоб я показал статью, где это прописано.
— Она права, — сказал я. — Закона нет. Но так заведено.
— Так и я о том же! — вскипел Том. — Жена берет имя мужа. И не надо, говорю, кивать на Дублин, я знать не хочу о всякой ерунде. А она опять ржет — дескать, ей это без разницы, после свадьбы она оставит свою фамилию, и дело с концом. Но вы же О’Нил, говорю. Да, отвечает, и что из того? Да то, говорю, что у вас все равно будет фамилия мужа.
— Ну вот и прекрасно, — сказал я.
— Она аж взбеленилась, сука подзаборная.
Я изумленно вылупился. Мне не послышалось? Том как будто не заметил, что только что сказал, и продолжил:
— Тут вклинивается парень — мол, Роза абсолютно права, им недосуг соблюдать древние правила, они уже все обсудили и решили: после свадьбы он останется Филипом О’Нилом, а она — Розой О’Нил. Так и сказал: жена не будет менять фамилию. Ты понимаешь, Одран, в чем тут разница?
— Не в фамилиях, конечно. Он имел в виду…
— А то я не знаю, что он имел в виду! — рявкнул Том. — Я буду сам по себе О’Нил, а Роза сама по себе О’Нил, заявил он. И если у нас родятся дети, они получат обе фамилии.
— О’Нил-О’Нил, что ли? — спросил я.
— Так он сказал.
— А если они назовут сына Нилом?
— Что?
Меня это рассмешило до слез. Ничего нелепее я в жизни не слышал.
— Чего ты веселишься, Одран? — спросил Том, но от его серьезной физиономии меня еще больше разбирало. — По-твоему, это смешно? Когда девка издевается надо мной, священником?
— Они же молодые, Том. — Выпивка определенно подействовала, одарив меня чудесным настроением. — Из вредности перечат старшим. Юнцы к этому склонны.
— Я сам молодой, Одран.
— Да какой ты молодой!
— Мне двадцать пять!
— Мы — другое дело. У нас иная жизнь. Такие всегда будут моложе нас.
От ярости Том просто задыхался.
— Я не понимаю, зачем они вообще решили венчаться, если уж такие современные, — наконец проговорил он. — Таинство превращается в фарс.
— Ты им это сказал?
— Сказал, но им в одно ухо влетело, в другое вылетело. Теперь они женаты. И предохраняются резинками, я знаю точно, мне аптекарь сказал.
— Ты расспрашивал…
— Эту парочку надо упечь в тюрьму. — Том побагровел. — Я натравлю на них полицию. И аптекаря надо посадить. Всех в кутузку! — гаркнул он.
— Успокойся, пожалуйста. — Я похлопал по столу. — На нас смотрят.
— Да ну их! Том отвернулся, его буквально трясло от злости.
— Зачем ты мне это рассказал? — после долгого молчания спросил я.
— Чтоб ты знал, что, пока ты гулял по Риму и развлекался, я общался с таким вот народом, и это несправедливо, мне бы тоже хотелось очутиться в Риме. Я тебя не виню, Одран, но в одном эта сука Роза О’Нил права: дублинцы все себе захапали, ни крохи не оставив другим.
— По крайней мере, теперь ты получил большой приход. — Я надеялся этим угомонить Тома, ибо вовсе не хотел все выходные выслушивать его жалобы на жизнь. — Поди, рад, что распрощался с Литримом?
Том помрачнел.
— При мне не поминай Литрим. Сволочное место.
Так мы и сделали. Литрим не поминали. Вообще-то прошло больше двадцати пяти лет, прежде чем мы снова о нем заговорили, но к тому времени было уже слишком поздно.
Глава 5 1972
Мне было шестнадцать, когда в двух домах от нас обосновалась семья англичан, заставив половину Брэмор-роуд изнемогать в неодобрительном любопытстве. Конечно, новоселы всегда порождают сплетни. Пару лет назад улица яростно обсуждала шестидесятилетнего немца — где был и чем занимался во время войны. Он служил охранником в концлагере, утверждали одни; нет, говорили другие, он участвовал в заговоре против Гитлера и после провального покушения бежал в Швейцарию. Однако особая нелюбовь приберегалась для англичан. Стоит допустить сюда одну семью, как следом хлынет поток других, а мы и без того потратили немало сил, чтобы вытурить британцев из Ирландии.
Прошел слух, что в семействе новых заморских соседей двое детей. Вдовец мистер Гроув имел двенадцатилетнего сына Колина, который, бедолага, однажды отважился сообщить мне, что мечтает стать балетным танцовщиком. У разведенки Ребекки Саммерс, сожительницы мистера Гроува, была семнадцатилетняя дочь Кэтрин, которая вечно ходила в короткой юбке и кедах и соблазнительно сосала леденец на палочке. По чести, не такая уж красавица, она обладала этакой опасной аурой, сулившей беду, стоит ей в нужное время оказаться в нужных руках, и меня это волновало даже больше, чем маму.
— Они живут в грехе! — объявила миссис Рэтли которую чрезвычайно расстроило столь близкое соседство англичан, а потом чуть не хватил удар от новости, что пара даже не жената. — И где — в Чёрчтауне! Могли ли вы подумать, миссис Йейтс, что доживете до такого дня?
— Куда там! — печально покивала мама.
— Страна катится в тартарары. Вы загляните в «Ивнинг пресс». Сплошь душегубство и смертоубийство.
— И не говорите, — согласилась мама.
В гостиной я корпел над ирландской грамматикой, пытаясь уразуметь сослагательное наклонение, и был вынужден слушать их беседу. Я бы охотно закрыл дверь, но мама не разрешала мол, уединение навеет мысли, вовсе не нужные в моем возрасте.
— Я-то думала, с отъездом Шэрон Фарр это закончилось, — разорялась миссис Рэтли. — Выходит, все только начиналось.
— Не произносите это имя в моем доме, — твердо сказала мама, пристукнув чашкой. — У нас тут ушки на макушке, миссис Рэтли.
Я обиделся. Это про меня, что ли? Мне уже шестнадцать, я не ребенок. Правда, задняя дверь тоже открыта, а в саду играет Ханна. Наверное, мама имела в виду ее, решил я.
— Вы уж простите, миссис Йейтс, но я вам так скажу: все пошло кувырком, когда Фаррам разрешили остаться. Надо было гнать их поганой метлой.
Я театрально закатил глаза, как умеют лишь подростки. Шэрон Фарр прославилась своей историей с испанским студентом. В летние каникулы городские улицы были забиты крикливыми стаями смуглых красавцев, которые тараторили на родном наречии, хотя прибыли изучать английский язык. Программу обучения организовала церковь, и потому многие семьи взяли студентов на постой; мне ужасно хотелось завести собственного испанского любимца, но мама отказала, единственный, наверное, раз воспротивившись воле священника.
— Тогда дом уже не будет моим, — сказала она. — И потом, кто знает, какие у них привычки.
А вот Фарры взяли на постой брата и сестру, и чуть позже среди школьников пронесся слух, обраставший новыми живописными подробностями: у Шэрон Фарр безумный роман с постояльцем, рослым красавцем, который на год ее моложе, их уже видели на берегу реки, где они изображали бутерброд. Шэрон Фарр — оторва, говорили мы. Всегда готова. Даст все, что попросишь, и даже больше.
А затем пополз слух, что Шэрон Фарр беременна.
Если б в шестичасовых новостях передали, что Ханна отправилась в Феникс-парк и совершила покушение на президента Хиллери, мама ужаснулась бы меньше.
— Эта девица всегда была несносной, — повторяла она. — Вечно хороводилась с парнями. Я сразу сказала, что затея с испанскими студентами добром не кончится. Ведь говорила я?
Драма набрала обороты после того, как Шэрон Фарр, у которой уже обрисовался живот, сбежала в Испанию, — никто не знал, с парнем или без него, но все решили, что с ним, — и с той поры о ней не было ни слуху ни духу. Миссис Фарр стала персоной нон грата и, отправляясь в местный супермаркет «Бешено низкие цены», не отрывала глаз от земли. Отец Хотон, удостоверившись, что несчастные родители пришли на службу, говорил о Шэрон Фарр в своей проповеди; я помню неистовую злобность его речи, поданной с темпераментом персонажа шекспировской пьесы. Я представил, как дома пастырь репетировал монолог перед своей экономкой, а та режиссировала. Скверная, в общем, история. Вспоминая те времена, я понимаю, что сострадание было чуждо людским душам, особенно когда дело касалось жизни и устремлений женщины. В этом отношении, да и в других тоже, за сорок лет в Ирландии мало что изменилось.
— Отец Хотон знает, что творится в восьмом доме? — спросила мама.
Миссис Рэтли покачала головой:
— Я этак ненароком ему сказала, когда после воскресной заутрени прибирала в ризнице. (Она была из тех, кто хлопочет за церковными кулисами и считает день удачным, если удалось поболтать со священником.) Он ответил, что в курсе дела и доложил архиепископу Райану, но изменить ничего нельзя.
— А если обратиться в полицию?
— Это не такое преступление, чтоб его признали в суде. А жаль.
— А наши дети? — вскинулась мама. — Какой пример у них перед глазами? Я должна думать о Ханне и Одране.
— Отче сказал, что не станет ее причащать, если она заявится на службу.
— А его, этого мистера Гроува?
— Его причастит. Потому как женщина эта воспользовалась горем несчастного вдовца.
— А что она вообще такое? — спросила мама.
— Наверное, мы обе прекрасно знаем, что она такое, миссис Йейтс. Есть одно словцо, не правда ли?
— Да уж, миссис Рэтли.
— И нам оно очень хорошо известно, верно?
— Верно, миссис Рэтли. Отче еще что-нибудь сказал?
— Он шибко расстроен всем этим. Говорит, женщины обращаются в хищниц, когда на что-нибудь нацелятся.
— Или на кого-нибудь, — добавила мама. — Бедный отец Хотон. Наверное, он потрясен всей этой историей.
— О да. Только, боюсь, бесполезно отказывать в причастии. Они так и так не собираются ходить на службы. Они же оба протестанты. Так что им ни жарко ни холодно.
— О времена! — Мама воздела руки к небесам, словно эта новость ее добила окончательно. — В Париже мы живем, что ли? Или в Нью-Йорке?
Они меня достали. Я встал и вышел из комнаты.
Кэтрин Саммерс с ее леденцами, кедами и короткими (в любую погоду) юбками сразу же меня привлекла, но мы с ней и двух слов не сказали до того дня, когда на велике я катил домой и увидел, как она выходит из кинотеатра «Классика» на Гарольдс-Кросс. День стоял теплый, и Кэтрин была так одета, что на нее вылупился бы и слепой. Я глянул на афишу — чего она смотрела-то? На всех сеансах шел «Крестный отец». Этой картины я не видел, но много чего о ней слышал; там что-то про мафию, а еще, говорили в школе, в середине фильма есть одна сицилийская сцена, которую нужно видеть своими глазами, иначе не поверишь, что она есть, но тогда подобные фильмы мне, конечно, смотреть не разрешали. Я притормозил и поехал следом за Кэтрин, разглядывая ее ноги, а когда понял, что больше замедляться нельзя, а то грохнусь, рванул вперед, удовлетворенный отпечатавшимся в памяти кадром, который позже проявлю и хорошенько рассмотрю.
— Одран Йейтс, ты, что ли? — окликнули меня, и от неожиданности я чуть не угодил под машину.
— Я самый. — Я подъехал к тротуару, притворившись, что лишь сейчас заметил соседку, хоть от смущения лицо мое горело. Я отер лоб — дескать, нынче жарко, вот и взопрел. — Как оно ничего?
— Лучше некуда. — Кэтрин улыбнулась и заученным жестом откинула волосы с лица. Потом из сумки достала свое неизменное лакомство и протянула мне, точно дрессированной собачке, заслужившей награду: — Хочешь леденец?
Я замешкался, покусывая губу. Легкая соблазнительная улыбка Кэтрин, ее чуть высунутый дразнящий язычок напомнили о Еве, в Эдемском саду угостившей Адама яблоком, но вопрос «брать или не брать» не стоял. Желудок мой скукожился, словно я летел с «американских горок», а шевеление в штанах грозило выставить меня на посмешище. Я взял леденец и сунул его в рот, как лейтенант Коджак[17].
— Ходила в кино? — спросил я. Мы шли по улице, левой рукой я катил велосипед. Я где-то вычитал, что женщина должна идти дальше от дороги: если вдруг какая-нибудь машина вылетит на тротуар, ценой своей жизни кавалер спасет даму от гибели.
— Ага, — сказала Кэтрин. — Жалко, здесь только один зал. В Лондоне во многих кинотеатрах не меньше трех залов.
— Значит, ты из Лондона приехала?
— Да. Бывал там?
— Я нигде не бывал. Один раз поехал на Северный берег и вляпался в неприятность.
— На Северный берег? — Кэтрин сморщила носик, а выговор ее напомнил мне Антею Редферн из телевизионного шоу «Игра поколений». — В смысле, на ту сторону Лиффи?
— Точно, — кивнул я.
— Ну и как там?
— Особой разницы нет, — сказал я. — Только там бедные, а здесь богатые. Тут автобусы с четными номерами, там — с нечетными.
— Здесь богатые? — удивилась Кэтрин. — То есть ты богатый?
— По сравнению с теми, да.
— А чем занимается твой отец?
— Ничем. Он умер. Утонул на пляже Карраклоу, когда мне было девять.
— Где это?
— В Уэксфорде.
Кэтрин замолчала, и мне очень понравилось, что она не стала выражать соболезнование. Она ведь не знала моего отца; она и меня толком не знала.
— Он оставил тебе состояние? — спросила Кэтрин.
— Нет, но он был застрахован. Мама работает в магазине.
— В каком?
— Клери на О’Коннел-стрит.
— О, я была там, — сказала Кэтрин. — Чудесные шляпы. Только дорогие. А что она делает?
— Не знаю, как-то не спрашивал. До замужества работала в «Аэр Лингус», но после папиной смерти ей сказали, что она слишком старая для стюардессы.
Мы шли молча, и я пытался придумать, что бы такое сказать. Кроме Ханны, у меня не было знакомых девчонок, и я понятия не имел, о чем с ними говорить. В моей школе Святого де ла Салля девочки не учились. Кэтрин, похоже, молчание не тяготило, она что-то мурлыкала себе под нос, а вот мне было неловко.
— Фильм-то хороший? — наконец спросил я.
— Какой фильм?
— «Крестный отец».
— Да, ужасно хороший, — закивала Кэтрин. — Правда, страшно жестокий. Про итало-американскую семью гангстеров, которые воюют с другими гангстерами, там беспрестанно стреляют, но все мужики жуткие красавцы.
— Вон как? Ну не знаю. — Почему-то мне хотелось выглядеть скептичным.
— Там играет Джеймс Каан. Знаешь его?
— Нет, — признался я.
— Ой, он просто классный. Такой, короче, неотразимый негодяй. А его младшего брата я бы так и съела. Не помню, как его зовут. Кстати, парням тоже есть на кого посмотреть. Например, Дайан Китон. Знаешь ее?
— Ни с кем из кинозвезд я не знаком, поскольку вращаюсь в иных кругах, — улыбнулся я, пытаясь сострить. Кэтрин задумалась, а потом рассмеялась, запрокинув голову.
— Я поняла, — сказала она, и на секунду показалось, что я разговариваю с принцессой Анной. — Ужасно смешно. А ты забавный.
Я нахмурился, еще не зная, как отнестись к такой характеристике.
— Там есть сицилийская сцена? — спросил я.
— Есть. А почему ты спросил?
— Что-то я про нее слышал.
— Наверное, это эпизод, когда Майкл женится на смазливой сицилийской дурехе и та прям перед камерой раздевается. Обнажает грудь, — серьезным тоном сказала Кэтрин и расхохоталась. — Удивительно, как здешняя цензура это пропустила. Мужики в зале вопили и улюлюкали, грязные скоты. Можно подумать, никогда сисек не видели.
— Понятно. — Я прятал глаза, жалея, что затеял этот разговор.
— А ты какой последний фильм смотрел? — Кэтрин ткнула меня пальцем в бок, и я аж подпрыгнул. Даже не вспомнить, когда последний раз был в кино.
— «101 далматинец», — сказал я. — Перед Рождеством мама водила нас с сестрой в «Адельфи».
Кэтрин опять рассмеялась (похоже, она была смешлива) и шлепнула меня по руке:
— Я серьезно!
— Что — серьезно?
— Какой последний фильм ты смотрел?
— Я же только что сказал.
«Может, она еще и глуховата?» — подумал я, но Кэтрин перестала улыбаться и, внимательно посмотрев на меня, вынула леденец изо рта; серебристая нитка слюны, протянувшаяся от ее нижней губы к вишневому овалу, приковала мой взгляд.
— Извини, я думала, ты шутишь, — сказала Кэтрин. — Значит, «101 далматинец». Ну и как тебе картина?
— Здоровская. Там, понимаешь, куча собак, и одна злая старуха задумала их похитить…
— Да, я знаю сюжет, — перебила Кэтрин. — Как-нибудь сходим в кино вместе. Надо расширять твои горизонты, Одран. Как думаешь, в Дублине покажут «Последнее танго в Париже»? Говорят, здесь его запретили. В Вест-Энде «Танго» идет во всех кинотеатрах. Можем сесть на паром и устроить вылазку.
Казалось, сейчас голова моя лопнет. Я слышал о «Последнем танго в Париже», о нем слышали все. В школе не было парня, который не мечтал бы его посмотреть. Стоило помянуть сперму, как весь класс заходился в истерике.
— Ты покраснел, Одран? — лукаво спросила Кэтрин.
— Вовсе нет, — возразил я. — Просто жарко.
— Верно, по жарище не хочется топать пешком, — согласилась она. — Может, подвезешь?
— Как это? — Я обомлел от ужаса и желания.
— Ну как-как — я пристроюсь сзади и ухвачусь за тебя, чтоб не свалиться. Давай, а то пешком далеко, а денег на автобус нет.
— Ладно. — Я понял, что деваться некуда. Кэтрин Саммерс попросила ее подвезти, и мне оставалось лишь согласиться.
Вдвоем на велике от Гарольдс-Кросс до Чёрчтауна — это что-то, скажу я вам. Я налегал на педали, и майка моя насквозь пропиталась потом. Я боялся представить, каково это моей пассажирке, но она, похоже, не брезговала. Всю дорогу Кэтрин крепко держала меня за пояс, на ухабах вцепляясь еще крепче; когда с холма мы ринулись на Ратфарнем-роуд и я бросил педали, раскинув ноги, точно крылья, она восторженно взвизгнула, а потом уткнулась мне в плечо и засмеялась в самое ухо. Один раз ее сплетенные пальцы коснулись моего голого живота, и я чуть не врезался в дом. Потом мы свернули на Брэмор-роуд и я заметил своего однокашника Стивена Данна, у которого, когда он увидел нас, буквально отвисла челюсть.
— Как дела, Стивен? — не удержавшись, завопил я, и Кэтрин повторила мой выкрик, неумело подражая ирландскому выговору. Стивен, не сводивший глаз с нашего тандема, налетел на фонарный столб и шлепнулся наземь, точно Чарли Чаплин в своих фильмах, и мы с Кэтрин зашлись смехом. Уже возле дома Саммерсов я увидел миссис Рэтли, катившую продуктовую сумку на колесиках. Соседка вперилась в нас, но я отвернулся. Ей-то какое дело? Пускай смотрит сколько влезет.
— Здорово! — Кэтрин соскочила с велосипеда и откинула волосы. — Еще покатаешь?
— Да. Если захочешь.
Она помолчала, беззастенчиво оглядывая меня с головы до ног. Я устыдился своих ребячьих шортов и майки с Дональдом Даком. Выгляжу как сосунок. Но, видно, моя непритязательность чем-то ее привлекла.
— Конечно, захочу, Одран, — улыбаясь, кивнула Кэтрин. — А что такого?
Через день-другой я подметил, что мама меня сторонится. Видимо, миссис Рэтли напела ей о нас с Кэтрин, вот она и расстроилась. Я знал, что новые соседи ей не по нраву. Она не любила тех, кто живет в грехе. Ей не нравились девушки с леденцами во рту, разгуливающие в коротких юбках и кедах. И она не питала любви к англичанам, которые, по ее словам, отвернулись от папы, позволив старому жирному королю жениться на уличной девке[18]. В моем случае мама не могла прямо спросить о Кэтрин Саммерс — этим она признала бы, что ей известно о нашем знакомстве. Она предпочла сформулировать вопрос иначе:
— У тебя все в порядке, Одран?
Я кивнул: спасибо, все прекрасно.
— Как учеба?
— Хорошо.
— Тебя что-нибудь беспокоит?
— Мировая нищета. Голодающие страны. Атомные бомбы.
Мама нахмурилась и покачала головой:
— Не пытайся острить, Одран. Чрезвычайно гадкая черта.
Мне это было безразлично, поскольку вовсе не ей я хотел понравиться.
Совсем не безразлично мне стало в четверг через две недели, когда мама работала во вторую смену, длившуюся с полудня до девяти вечера. В нашем саду Кэтрин раскинулась в шезлонге: голые ноги с ярко-красными ногтями, запрокинутое лицо, молившее солнце о капельке загара, неизменный леденец во рту. Я был одет впечатляюще: джинсы из универмага на Талбот-стрит, унесшие почти все содержимое копилки, и футболка с «битлами», поскольку Кэтрин уже поведала, что в двадцать один год выйдет за Джорджа Харрисона — «самого красивого мужчину на свете, да еще тонкой души человека, хотя при такой-то внешности это совсем не важно».
— Тебе никогда не хотелось жить в теплом климате? — спросила она. — Я думала, в Лондоне паршиво, но здесь еще хуже. Хорошо бы жить в Испании.
— Ты осторожнее с этими испанцами, — предостерег я. — Шэрон Фарр — наглядный пример.
— Кто это?
Я поведал ей всю историю, не краснея и не пугаясь дерзких слов. Две последние недели я очень старался выглядеть старше, чем себя ощущал.
— Вот шалава, — выслушав меня, сказала Кэтрин. — Наверняка мужик был роскошный. Они все такие.
— Кто?
— Испанцы. Мигели, Хуаны и прочие. — Кэтрин помолчала и добавила, медленно перекатывая слоги: — Иг-на-сио.
— Меня это не колышет. — Я вновь решительно подчеркнул свою гетеросексуальность. То же самое я сказал о Джордже Харрисоне, хотя даже я, абсолютно равнодушный к мужской красоте, был вынужден признать, что в лице его есть нечто, свидетельствующее о благосклонности Творца.
— Нет, ты и вправду забавный, Одран, — покачала головой Кэтрин. — Ну, чем займемся? Так и будем весь день сидеть или чего-нибудь учудим?
— А чего тебе хочется? — спросил я. — Можно включить телик, только смотреть особо нечего. Кажется, сейчас идут «Салливаны»[19] — такая нудятина, хоть вешайся. Или могу соорудить сэндвич с джемом.
— Сэндвич с джемом? — Кэтрин потянулась, сняла ненужные солнечные очки и закинула руки за голову. — Да уж, Одран Йейтс, ты знаешь путь к девичьему сердцу. Сэндвич с джемом! Мать-то ведает о твоих грязных помыслах?
Не сдержавшись, я рассмеялся:
— Ну не знаю, что еще тебе предложить. — Я был так наивен, что и на самом деле не знал.
— А я тебе подскажу. — Кэтрин смотрела мне в глаза.
— Давай.
— Покажи мне свою комнату. Я еще не видела.
Я нервно сглотнул, припоминая, в каком виде моя спальня. Носки на полу. Трусы. Плавки, повешенные сушиться. На них буква «К» — что-то вроде дизайнерской метки, но все ребята говорили, это означает «коротыш». Давно хотел их выкинуть.
— Вообще-то у меня там беспорядок… — сказал я.
— Так давай превратим его в кавардак. — Кэтрин встала, прошла в кухню и оглянулась. — Ты идешь или мне одной осматривать твою комнату? Страшно подумать, что я могу там найти.
Я кинулся следом, сердце мое так бухало, что, казалось, вот-вот выскочит наружу, а Кэтрин об него споткнется и растянется на полу. Я нагнал ее уже наверху — она без труда отыскала нужную дверь, где под обрамленной картинкой из комиксов была табличка «Комната Одрана», и вошла внутрь.
— Так. — Кэтрин неспешно огляделась. — Вот, значит, твое лежбище, где… — она перешла на шепот, — все… и… происходит.
— Ага. — Я подхватил шмотки, валявшиеся на полу, столе и кровати, и запихнул их в шкаф.
— У тебя много книг.
— Я люблю читать.
— Гляди-ка, скрипка. Ты не говорил. Почему?
— Мама считает, мое исполнение напоминает вопли кошек, которых топят.
— Сыграешь для меня?
— Нет.
— Ладно, никто не заставляет. А это что?
На стене висел плакат с изображением огромного оранжевого пса, вывесившего непомерно длинный красный язык.
— Плуто.
— Ну да, так я и думала. Похоже, ты загадочная личность, Одран. — Кэтрин подошла ко мне вплотную, но я не отступил.
— Правда?
— Ты когда-нибудь целовался с девушкой?
Я помотал головой.
— А хочешь?
Я кивнул.
— Ну так давай.
Я и дал.
— Ты не умеешь целоваться, — сказала Кэтрин.
— Неужели.
— Попробуй вот так.
Я попробовал.
— Уже лучше. Может, приляжем?
Она улеглась на мою односпальную кровать, я пристроился рядом; вопреки вздымавшемуся возбуждению я нервничал и трусил, не вполне понимая, что от меня требуется.
— Чего тебя заклинило на Уолте Диснее? — между поцелуями спросила Кэтрин.
— А тебя чего заклинило на похабных фильмах? — парировал я. Она рассмеялась и притянула меня к себе.
Не знаю, сколько мы так лежали, наверное, не очень долго, но я вроде как начал постигать всю поцелуйную мороку, и Кэтрин это, похоже, нравилось, чего не скажешь про меня, поскольку я ужасно боялся что-нибудь не так сделать. Одна моя рука забралась к ней под майку, и ей позволили провести небольшое исследование, в то время как рука Кэтрин скользнула вниз и приступила к собственному небольшому исследованию. Все это приятно и сильно будоражило, но я пребывал в смятении и больше всего хотел, чтобы гостья моя ушла, хотя, конечно, не посмел бы облечь это в слова. Я не желал всего этого, я был к нему еще не готов, хотя не счесть ночей, когда я лежал в этой самой постели и грезил о том, что сейчас происходило. Ну да, я был чист и жил в чистые времена. Вырос в чистом доме. Я был почти влюблен в Кэтрин Саммерс, но что-то во мне желало, чтобы она перестала меня целовать и трогать изящными длинными пальцами, а встала бы и сказала: «Что ж, все было очень мило, но теперь можно обеспокоить тебя сэндвичем с джемом?» — и мы бы сошли вниз и сели играть в «Монополию». Кэтрин закрыла глаза, издала тихий утробный стон и перекатилась на спину, явно намекая, что я должен лечь сверху, и я, совершенно ошеломленный тем, что творилось у меня между ног, последовал ее указанию и почти обрадовался — почти, но не вполне, — когда без уведомления распахнулась дверь и на пороге возникла мама, из-за очередной мигрени отпросившаяся с работы.
Секунд на двадцать все замерли, потом Кэтрин спорхнула с кровати, оправила юбку, майку и полезла в карман за угощением.
— Здравствуйте, миссис Йейтс, — вежливо сказала она. — Хотите леденец?
Если память не изменяет, все это случилось в четверг, но отец Хотон, как ни странно, появился у нас только в следующий вторник. Мама со мной почти не разговаривала, чему я был очень рад, поскольку вовсе не хотел говорить о том, что она видела. Я пребывал в растерянности и отнюдь не чувствовал себя молодцом, который вволю целовался с девушкой, лапал ее за грудь и позволил ей трогать себя там, куда раньше никто не добирался, а потом взгромоздился на нее и достиг такой твердости, что если бы только ему расстегнули ремень, мигом случилась бы катастрофа.
Напротив, я был в смятении, но не из-за стыда, а оттого, что физическая близость, о которой я мучительно грезил наяву, оказалась не для меня. Я-то думал, что вожделею любую женщину, но вот выпал шанс, и все во мне воспротивилось. И дело не в том, что я желал другую девушку или вообще парня, ничего подобного. Просто я хотел, чтобы меня оставили в покое. Не мешали думать. Читать. Задаваться вопросами о себе, чего никогда не делали мои родные и друзья. Я даже прикидывал, не утопиться ли мне, но это, конечно, был перебор, крайность, в какую всегда бросает растерянного юнца.
Отец Хотон пришел во вторник ближе к вечеру, и я подумал, что уже второй раз за неделю сопровождаю чужого человека в свою комнату. Когда в прихожей раздался его голос, я понял, что он явился по мою душу, но не почувствовал ни злости, ни обиды. Если честно, я ждал его визита и этим отличался от сверстников, которые предпочли бы провалиться сквозь землю. Но я безоговорочно верил этому человеку и надеялся на его помощь.
Да, я ему верил.
— Куда можно сесть, Одран? — спросил он, оглядывая комнату. — Давай я сяду вот на этот стул, а ты на кровать, хорошо?
Я кивнул. Отец Хотон сел к столу, за которым обычно я делал уроки, и в окно посмотрел на идеально ухоженный сад миссис Рэтли. Потом с улыбкой взглянул на меня, и я сел напротив него, стыдливо уставившись в пол.
Сколько же ему было лет? Тогда мне казалось, лет шестьдесят пять, но сейчас я думаю, что не больше сорока. Он был болезненно худ, ты сразу отмечал его выпиравшие скулы и глубоко запавшие глаза.
— Как поживаешь, Одран? — спросил он.
— Хорошо, отче.
— С учебой порядок?
— Да, отче.
— Молодец. Какие у тебя любимые предметы?
— Наверное, английский, — подумав, ответил я. — Чтение и все такое.
— Ну да, чтение. А в чем хромаешь?
— В географии. И в ирландском.
— Трудный язык.
— Он никогда мне не давался, отче.
— Я тоже не блистал по этому предмету. Ну и что? Вот как-то обхожусь. А ты не думал на лето съездить в ирландскую глубинку, чтоб подучить язык?
— Нет. Мама говорит, там всякая шваль собирается.
— Что правда, то правда. Со всей страны съезжаются парни. И девицы. Непутевые. Это негоже, верно?
— Да, отче.
Пастор вздохнул и снова огляделся; взгляд его задержался на отцовой фотографии на прикроватной тумбочке: рекламный снимок из «Плуга и звезд», отец в роли юного Кови. Мама хотела ее убрать, но я взбунтовался — первый раз в жизни настоял на своем и победил. И это была единственная вещь в комнате, к которой мама не прикасалась во время уборки, раз в неделю я сам стирал с рамки пыль.
— Наверное, скучаешь по нему, Одран? — Отец Хотон показал на фото. — Как-никак мужчина в доме. Отец. Наверняка скучаешь.
Я кивнул.
— А я вот никогда не видел своего отца. Ты знал об этом?
— Нет, отче.
— Ну вот, теперь знаешь. Он умер за месяц до моего рождения. Сердечный приступ, прямо на главпочтамте, в очереди за маркой.
— Сочувствую, отче.
— Ну да, ну да. — Пастор вздохнул и отвернулся, задумавшись о своем. Потом снова взглянул на меня и вроде как улыбнулся: — Ты знаешь, зачем я пришел, Одран?
Я помотал головой, хотя прекрасно знал.
— Твоя мама считает, нам надо кое о чем поговорить. Ты не против, нет? Согласен поговорить со мной?
— Конечно, отче.
— Я, знаешь ли, тоже когда-то был мальчиком, не смейся (я и не смеялся). Я понимаю, каково быть подростком. Сейчас у тебя нелегкое время. Уроки, учеба. Ты растешь. И кроме того, есть всякие… скажем так… отвлечения.
Я молчал. Решил, что не пророню ни слова и отвечу лишь на вопросы в лоб. Пусть он говорит, что считает нужным, я буду слушать, и только.
— Бывает, что ты отвлекаешься, Одран? — спросил пастор. Я шумно сглотнул и пожал плечами. — Отвечай, мальчик.
— Иногда, — сказал я.
— И на что отвлекаешься?
— Ну так, не могу сосредоточиться. — Я старался угадать с ответом. Вдруг вспомнились минуты ожидания субботней исповеди, когда я не столько выискивал свои истинные грехи на прошедшей неделе, сколько измышлял проступки, которые устроят священника. Ругнулся. Надерзил маме. Ни с того ни с сего швырнул камнем в мальчика.
— А что тебе мешает сосредоточиться, Одран? — Пастор озабоченно подался вперед: — Расскажи. Все останется между нами. Маме я не передам. Твои слова не выйдут дальше этой комнаты. Что мешает сосредоточиться?
Я понимал, какого ответа он ждет, но не мог заставить себя говорить на слишком постыдную тему.
— Телик, — сказал я. Вроде ответ не хуже любого другого.
— Телик?
— Да.
Пастор задумался.
— Ты много смотришь телевизор, Одран?
— Да, — признался я. — Мама говорит, чересчур много.
— Она права?
— Не знаю.
— И что ты смотришь, Одран?
— Что показывают.
— Ну например? Назови свою любимую передачу.
— «Вершина популярности».
— Так. По-моему, это музыкальная передача?
— Да, отче.
— Ты любишь музыку?
— Люблю, отче.
— А кто тебе нравится? Какие исполнители?
— «Битлз».
— Я слышал, они распались.
— Да, — сказал я. — Но они опять соберутся. Все так говорят.
— Хорошо бы, конечно. Кто еще тебе нравится?
— Элтон Джон. Дэвид Боуи.
— Еще кто-нибудь?
— Сэнди Шоу.
— Кажется, я ее знаю, — обрадовался пастор. — Она выступает босиком, да?
— Да, отче.
Помолчав, отец Хотон сглотнул, на его тощей шее дернулся кадык.
— И тебе это нравится, Одран? Любишь смотреть на ее босые ноги?
Я пожал плечами и отвел взгляд:
— Не знаю.
— А по-моему, знаешь.
— У нее есть хорошие песни.
— Вот как? Однажды я ее видел по телевизору. На конкурсе Евровидения. Ты смотришь этот конкурс, Одран?
— Да, отче.
— Ты видел ее выступление?
— Видел, отче. Это было несколько лет назад.
— И что скажешь?
— Она спела классно.
— Хочешь знать, что я о ней думаю?
— Да, отче.
— Сказать?
— Да, отче.
— На мой взгляд, она грязная девка. — Пастор еще больше подался вперед: — Из тех, у кого ни стыда ни совести. Выставляет свои прелести напоказ всему свету. Кто на такой женится, скажи на милость?
Я покачал головой:
— Не знаю, отче. — Мне захотелось, чтобы он ушел.
— И таких немало, ты согласен? Этих грязных девок. Я сам вижу бесстыдниц, что нагло разгуливают по городу. Во что превратился наш приход! На воскресную службу они являются в таких нарядах, что мне кажется, будто я заснул в Чёрчтауне, а проснулся в Содоме и Гоморре.
— Разом в обоих, отче? — рискнул я спросить.
— То есть в Содоме или Гоморре. Решил пошутить, Одран?
— Нет, отче.
— Надеюсь. Ибо сейчас не до смеха. Ой не до смеха. Речь идет о твоей душе. Ты это понимаешь? О твоей бессмертной душе. Сидишь тут, прикидываешься ангелочком, а сам мечтаешь удрать к телевизору, чтобы пялиться на грязных девок! Так, Одран, да? Смотри мне в глаза!
Я медленно поднял голову, и пастор вместе со стулом придвинулся ближе.
— Ты ужасный, правда? — тихо спросил он. — Такое личико… — Пастор вздохнул и ласково погладил меня по щеке. — Я знаю, ты борешься. Все мы боремся. Я здесь, чтобы помочь тебе в твоей борьбе, милый мальчик. — Сложив руки на коленях, он сверлил меня взглядом и долго молчал. — Мама рассказала мне, что у тебя было с той англичанкой.
— Ничего не было, отче! — крикнул я, но он вскинул руку, приказывая замолчать:
— Не лги мне. Твоя несчастная опозоренная мать все рассказала. Подумать только, как ты поступаешь с семьей, которая отдавала тебе все самое лучшее. Мало бедной женщине того, как сгинул твой отец? Мало ей, что с собой он забрал невинного мальчугана? Так что нечего врать, будто ничего не было. Я этого не потерплю, слышишь?
— Да, отче, — промямлил я, испуганный его громким пронзительным голосом.
— Ты мне расскажешь, что у тебя было с той грязной англичанкой. Говори, что ты с ней вытворял.
Я сглотнул, подыскивая слова.
— Она захотела посмотреть мою комнату.
— Ну еще бы. И что там она делала?
— Разглядывала книги. Скрипку. Плакаты.
— Она тебя соблазняла?
— Простите?
— Она соблазняла тебя, Одран? Не прикидывайся, будто не понимаешь.
Я кивнул.
— Ты ее целовал?
Я снова кивнул.
— Тебе понравилось?
— Я не знаю.
— Не знаешь?
— Нет.
— А если подумать?
— В общем, понравилось.
Пастор шумно засопел и поерзал на стуле. Худое лицо его раскраснелось.
— Что было потом, Одран? Она что-нибудь тебе показала?
Я мысленно взмолился, чтобы он от меня отстал.
— Наверное, свои маленькие груди?
Я заметил, какие у него желтые зубы. Он их когда-нибудь чистит?
— Она показала тебе свои груди, Одран? Просила, чтобы ты их потрогал?
Желудок мой куда-то ухнул. О чем он спрашивает?
— Нет, отче.
— А она тебя трогала? Трогала вон там? — Он кивнул на мою промежность. — Расскажи, что она делала? Трогала тебя? А ты себя трогал? Ты показал ей, что у тебя есть? Ты же скверный мальчик, да? Конечно, скверный. Наверное, чем только не занимаешься в этой комнате, а? Один в темноте. Когда рядом никого. Ты занимаешься скверностью, Одран? Давай расскажи.
Я заплакал. Комната кружилась, я думал, что сейчас упаду в обморок. Отец Хотон еще что-то говорил и говорил, но я его почти не слышал. Он подсел ко мне на кровать, обнял и притянул к себе и зашептал в ухо, что грязные девки хотят совратить всех милых хороших мальчиков, что нам надо быть сильными, верить друг в друга и искать утешение в тех, кого мы знаем и кому доверяем, а он мой друг и я всегда могу ему довериться, ведь ничего страшного не случилось, я просто немного пошалил. Потом я, наверное, и впрямь упал в обморок, а когда очнулся, то лежал на кровати, комната была пуста, дверь закрыта.
Со стены ухмылялся Плуто, непристойно вывесив язык, — казалось, он хочет меня слизнуть и живьем проглотить; я вскочил с кровати, в клочья изорвал треклятого пса и затолкал обрывки плаката в мусорную корзину. Потом опять сел на кровать и надолго задумался. Я все разложил по полочкам: одно — сюда, другое — туда, где оно и хранилось многие годы. Затем в ванной умылся, спустился в кухню и увидел, что мама сидит за столом и плачет.
— Что с тобой, мам? — спросил я.
— Я счастлива, Одран. — Мама подняла на меня заплаканные глаза. — Вот и все. Я счастлива. Отец Хотон подтвердил, что я не ошиблась: тебе предназначено стать священником. Ты ему это сказал, Одран? Сказал, что хочешь быть священником?
Я, почти что несмышленыш, стоял возле плачущей мамы. В потоке воспоминаний о том времени всплывает множество мелких деталей, но я хоть убей не помню, что я тогда ответил. Знаю только, что вскоре автобусом я прибыл в Клонлиффскую семинарию, куда Том Кардл добрался на папашином тракторе.
Что сталось с отцом Хотоном? Ну, через пару недель он погиб. Направляясь в парк Святого Стефана, переходил Доусон-стрит, но не посмотрел по сторонам и стал уже не первой жертвой автобуса одиннадцатого маршрута, спешившего в Драмкондру[20].
На похоронах его были толпы людей. Толпы.
Глава 6 2010
Помни, это не навечно, и не тревожься. Всего несколько лет. А потом я верну тебя в твою школу, обещаю.
Так в 2006-м говорил архиепископ, а сейчас уже, конечно, кардинал Кордингтон, когда я прибыл на аудиенцию в Апостольский дворец. С тех пор минуло четыре года, но я по-прежнему служил викарием в бывшем приходе Тома Кардла, и ничто не предвещало возвращения в любезный моему сердцу Эдем. Все мои ученики окончили школу и теперь сидели в аудиториях Тринити-колледжа, или по евробилету, запрятанному в рюкзак, катили в поезде «Париж — Берлин», или служили в папенькиных банках и агентствах недвижимости, гадая, будут ли здесь прозябать до рождения собственных сыновей, преемников семейного бизнеса.
Один парень, его я помнил смутно, погиб — по автостраде М50 пьяный летел в Дун-Лэаре[21] и угробил себя, свою подружку, ее сестру и сестриного приятеля. Похороны состоялись в теренурской церкви, и священник, тот самый отец Нгезо, четыре года назад занявший мое место, проникновенно говорил о приверженности покойного ленстерскому регбийному чемпионату, что, вероятно, было слабым утешением для трех убитых горем семей, чьи жизни разбились вдребезги. Другой парень вышел в финал телевизионного конкурса талантов, и о нем трубили все газеты, суля, что с хорошим продюсером в ближайшие годы он заработает миллионы. Еще один парень был арестован — на дискотеке изнасиловал девушку; он утверждал, что ничего не было, но я, помня развязность и хамство, какие он насаждал в своем привилегированном окружении, сомневался в невиновности этого павлина. Я внимательно следил за ходом судебного разбирательства и порадовался, что меня не вызвали охарактеризовать подсудимого. Парня признали виновным, но папаша его, разумеется, нажал нужные кнопки, и тот даже дня не отсидел в тюрьме. Судья заявил, что парня ожидало блестящее будущее и было бы жаль лишить его еще одного шанса; приговор — общественные работы. Сто часов. Вот вам разница между преступлениями, совершенными на южном и северном берегах Лиффи. На другой день первые страницы газет пестрели снимками ухмылявшегося парня и несчастной изнасилованной девушки, в слезах покидавшей здание суда. Хотелось взять канистру бензина, спички и пройтись по всем этим школам за высокими оградами, где на подобного сорта ублюдков молятся только потому, что однажды они прорвались через сто сорок метров регбийной лужайки и приземлили мяч за белой линией.
Тем не менее я скучал по всему этому. И ужасно хотел вернуться.
Я боялся представить, в каком состоянии сейчас библиотека, моя библиотека. Книги не на своих местах, все разделы смешаны. Нынче все уверяют, что страдают модным недугом, неврозом навязчивых состояний, но я-то определенно был ему подвержен, когда дело касалось обустройства моей библиотеки. Вечерами школьники разбредались по домам, а я получал истинное наслаждение, прибираясь в читальном зале, расставляя все по своим местам. Так я отдыхал. И теперь тщеславно думал, что новый библиотекарь наверняка не оценил мою любовь к порядку.
А мне пришлось свыкаться с приходской жизнью, отдельные стороны которой — скажем, пасторские — все больше и больше нравились. Моя связь с Господом крепла, чего вовсе не было в школе. Молитва для меня стала важнее порядка в книгохранилище. Больше времени я уделял себе и размышлениям о причинах, по которым счел себя пригодным для церковного поприща. Долгие часы я проводил с Библией, пытаясь пробиться к пониманию ее смыслов. Я думал о нашей Церкви — о том, что вызывало гордость за нее и что тревожило. Благодаря всему этому я ощущал себя человеком лучше и достойнее, но эгоистически тосковал по своей прежней жизни.
В общине нас было трое — пожилой приходский священник отец Бёртон, тихий, преданный делу трудяга, и мы, его помощники, отец Каннейн и я. Отец Бёртон жил отдельно, компанию ему составляла лишь экономка — внушительная женщина, опекавшая его, точно ребенка; она стирала, готовила и с властностью швейцарского гвардейца отваживала незваных гостей. Мы с отцом Каннейном, лишенные подобной роскоши, соседствовали в двух скромных помещениях церковного флигеля. Не скажу, что мы ладили, и, уж поверьте, моей вины в том нет. Отец Каннейн был моложе меня, лет тридцати с хвостиком, и хотел говорить лишь о регби и футболе, боксе и скачках. На мой взгляд, он бы лучше справился с ролью спортивного репортера «Айриш таймс», нежели викария в Северном Дублине, а его, в свою очередь, раздражала необходимость бок о бок работать с человеком на двадцать лет старше и позорно несведущим в захватывающей спортивной жизни.
— Как это вы не знаете, кто такой Рафа Надаль? — изумлялся он, перед тем испросив мое мнение, удастся ли кому-нибудь перещеголять Роджера Федерера в титулах, добытых на турнирах Большого шлема. — Он знаменит на весь мир.
— Он футболист? — Я валял дурака, ибо прекрасно знал, кто такой Надаль, но досада коллеги меня забавляла. И потом, нечего выпендриваться — видали, «Рафа». Друзья они, что ли? — Играет за «Манчестер Сити»?
— За «Манчестер Сиси». — Каннейн любил ввернуть словцо, которое, он считал, меня покоробит. — Надаль — теннисист. Испанец.
— Ну и ладно.
— И вы, значит, о нем не слышали?
— Я плохо разбираюсь в теннисе, — сказал я. — Вот мой племянник Эйдан — ярый болельщик «Ливерпуля». Во всяком случае, был им в детстве.
Я понятия не имел, чем сейчас интересуется Эйдан, поскольку не видел его десять лет, прошедших с похорон Кристиана, на которых он сидел бесчувственным букой, хотя был близок с отцом. В тот день он без конца величал меня «отче», и в тоне его слышалось презрение, меня огорчавшее, ибо я не сделал ему ничего дурного. Этакую грубость я оправдал его тогдашним состоянием. В последующие годы я неоднократно пытался восстановить наши отношения, но безуспешно, и теперь даже не знал, работает ли он по-прежнему на лондонских стройках.
— «Ливерпуль»? — процедил отец Каннейн, весь скривившись, точно проглотил отраву. — Нынче 85-й год, что ли? «Ливерпулю» давно кранты. Ему вовек не подняться.
Уроженец Уэксфорда, то бишь земляк Тома Кардла, по какой-то необъяснимой причине он был страстным поклонником «Вест Хэм Юнайтед», причем любовь его граничила с религиозным исступлением. Стены его квартирки были увешаны портретами футболистов, а сам он, точно подросток, разгуливал в красно-синем шарфе. Родился он в округе Феррикерринг — это милях в десяти от того места, где мой отец свел счеты с жизнью. Как-то раз подвыпивший Каннейн рассказал мне о своих детских и юношеских годах: в соревнованиях по троеборью он победил в плавании, потом учился на инженера в Лимерикском университете, но бросил его и стал студентом философского факультета в Мэйнуте, а в двадцать два года, получив божественный знак, поступил в семинарию.
— А в чем выразился этот божественный знак? — спросил я.
— Однажды я бродил по Синноттскому холму и вдруг узрел неопалимую купину, а потом разверзлись облака и раздался глас Божий, изрекший: «Слушай, будь другом, ступай в священники». — Каннейн помолчал, наслаждаясь моей ошалелостью, расхохотался и ткнул меня в плечо: — Да шучу я, Одран! Ничего, что я вас по имени? Когда мы вдвоем, можно без церемоний, а? Ладно, расскажу, если угодно. По правде, я думать не думал о священстве. В детстве даже не был служкой. Конечно, родители водили нас на мессы — куда денешься, иначе ни один покупатель не заглянул бы в их магазин, — но для них и меня это было просто традицией. Не скрою, в юности я был бабником и выпивохой, мне в голову не приходило стать священником. Но вот что случилось. Мой брат Марк, старше меня ровно на год, разбился на мотоцикле. В уэксфордской больнице его подключили к реанимационному аппарату. Никто не знал, выкарабкается он или нет. Врачи не могли сказать, сохранилась ли мозговая активность. Мы с Марком всегда были очень близки, дико близки, и вот когда дела стали совсем плохи, сижу я в больнице, напрочь раздавленный, а потом дай, думаю, зайду в церковь, хуже не будет. Ну, пришел, встал на колени и попросил Его, чтобы вернул нам Марка живым и здоровым, а уж я тогда сделаю для Него что угодно. И что-то я почувствовал, Одран. Внутри меня что-то шевельнулось, ей-богу. Где-то глубоко-глубоко. И тут я понял: если хочу, чтоб мне вернули брата, я должен навсегда завязать с бабами и посвятить себя служению Господу. В больницу я вернулся как будто заново рожденный.
— И как ваш брат? — История меня заинтриговала, поскольку сам я не пережил подобного откровения; мне просто сказали, что я предназначен к служению, и я даже не пытался это оспорить. — Он поправился?
— Нет, умер, — покачал головой Каннейн. На лице его промелькнула тень непреходящей боли. — Это было ужасно. Бедняга скончался. Но я не мог взять назад свое слово. И я не винил Его в том, что случилось. То, что во мне шевельнулось, оно никуда не делось, а потому я отправился к епископу Фернсскому и спросил, как мне быть. Он дал мне номер телефона, и вот через десять лет я здесь. Что скажете?
Что тут скажешь? Все мы пришли к служению разными путями. И не мне их обсуждать.
— Как вы считаете, Одран, — помолчав, спросил Каннейн, — кто нынче станет чемпионом в «Формуле-1» — Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель?
По сравнению с Теренуром, где все подчинялось строгому учебному расписанию и лишь во время каникул персонал себя чувствовал капельку вольготнее, моя приходская жизнь была разнообразнее, что казалось преимуществом.
На неделе я встречался с прихожанами и занимался административной работой. Если на выходные намечалась свадьба, готовился к венчанию, а перед тем, господи ты боже мой, давал наставление в супружеской жизни. Случалось, какой-нибудь старик захворает и я его навещал на дому; приходилось соборовать или помолиться за душу того, кто был при последнем издыхании или медленно угасал от недуга. По пятницам распределялись мессы между служками, а вторники я приберегал для своих непременных еженедельных поездок. Коллеги мои о них не знали и даже не интересовались, куда это я исчезаю.
По вторникам я садился в автобус (это было удобнее, чем ехать машиной), который останавливался неподалеку от лечебницы Ханны, и около часа проводил с сестрой, то и дело выпадавшей из реальности. Она могла вспоминать события из нашего детства, не упуская ни одной самой мелкой детали, а потом вдруг начинала рассказывать о женщине, вместе с которой мотала срок в тюрьме Маунтджой, хотя ни разу в жизни не имела дела с полицией. Или могла спросить, ждет ли в коридоре премьер-министр, мол, она получила документы, о которых он просил. Ты уселся прямо на них, Одран, встань, а то изомнешь! С Джонасом мы договорились, что вдвоем нет смысла навещать Ханну, поэтому он приезжал по средам и субботам, если не отлучался на встречу с читателями или какой-нибудь литературный фестиваль, что, на мой взгляд, происходило излишне часто и вряд ли шло ему на пользу.
Однако нынче была среда, а значит, не нужно ехать к сестре, чтобы вытаскивать ее из омута помраченного сознания. На сегодня у меня намечалась встреча с прихожанкой Анной Салливан. Я был с ней немного знаком — она и еще три женщины, тоже не первой молодости, ухаживали за цветами и после утренней мессы пылесосили в церкви. Недавно она отвела меня в сторонку и спросила, нельзя ли на неделе со мной повидаться, и я, разумеется, ответил согласием. Было заметно — что-то ее беспокоит.
— Можно я с собой прихвачу Эвана? — сказала она.
— Кого?
— Сына своего.
— Ах да. — Я смутно припомнил парня лет шестнадцати, кого, наверное, силком тащили на субботние службы и кто, скорее всего, через год-другой вообще не появится в церкви. — Конечно, конечно.
— И еще мужа моего Шона.
— Как он поживает? Что-то его не видно на службах.
— Сейчас не до этого, отче. Есть дело поважнее.
— Что ж, буду рад помочь, если смогу. В среду в четыре вас устроит?
Она кивнула; я видел, как ей нелегко признаться в семейных неурядицах, и от души надеялся, моих возможностей хватит, чтобы помочь в ее бедах.
— Что вам принести, отче? — спросила Анна.
— Не понял?
— Может, печенюшки? Шоколадные любите?
Я еле удержался от смеха:
— Нет-нет, спасибо, Анна. Сами приходите, и все. Если оголодаем, печенье у меня найдется.
— Ну ладно, — сказала она и поспешила прочь.
Разумеется, дверной звонок звякнул точно в означенное время, и на пороге возникла Анна Салливан в выходном платье и со свежей укладкой; рядом, уставившись в землю, переминался Эван, а вот Шона было не видно.
— Вызвали на работу, — объяснила Анна, пока я готовил чай. — У брата моего что-то не заладилось на стройке. Он ведь архитектор, вы знаете, отче? Шон частенько у него прорабом.
Я только улыбнулся, не поверив ни единому слову, и не стал расспрашивать. Таким как Шон беседы со священниками неинтересны, ну и бог-то с ним, я даже не рассчитывал, что он придет.
— Рад тебя видеть, Эван. — Я постарался выказать дружелюбие тому, кто был явной причиной визита.
— Угу. — Не поднимая глаз, парень возил кроссовками по полу, словно исполнял одиночный танец.
Я вглядывался в его лицо, пытаясь отыскать следы этакого страдания, свойственного нынешней молодежи, которая так выглядела, словно последнюю пару лет изнемогала на рудниках или в концлагере, но ничего не находил. Я видел абсолютную безмятежность. И скуку. Как ни странно, Эван совсем не походил на свою некрасивую мать, но тут я вспомнил: кто-то — да чуть ли не сама Анна — говорил мне, что он приемыш. Передо мной был симпатичный парень, светлые волосы его разделял прямой пробор, как у музыкантов молодежных ансамблей, которых часто видишь по телику. Он слегка напоминал Джонаса. Джонаса в юности. Как оба моих племянника, пошедших, скорее, в отца, Эван смахивал на скандинава. Может, его биологические родичи и впрямь из тех краев?
— Итак, чем могу помочь? — спросил я, раскинув руки.
Анна смущенно отвела взгляд, словно уже раскаялась в своем визите.
— Да вот… Эван, — сказала она.
— Вовсе нет. — Эван широко улыбнулся, показав белейшие зубы, на щеках его образовались ямочки. — Это все мама.
— Значит, дело касается вас обоих, — усмехнулся я.
В ответ Эван слегка хохотнул, но Анна покачала головой и поджала губы.
— Обо мне речи нет, — возразила она. — Речь о нем.
— Да нет, я в полном порядке, — спокойно парировал Эван.
— Везет тебе, — сказал я, и парень окинул меня насмешливым взглядом, словно прикидывая, как со мной поступить.
— Сколько вам лет, отче? — спросил он.
— Что за вопросы, Эван! — возмутилась Анна.
— Ничего-ничего, — успокоил я. — Мне пятьдесят пять.
— Наверное, следите за собой? — продолжил Эван. — На вид вам сорок с хвостиком.
Я открыл рот, но не нашелся с ответом. А что тут скажешь-то?
— Мой отец ваш ровесник, но выглядит кошмарно. Жирный боров.
— Эван! — прикрикнула Анна.
— Это правда. Не подумайте, отче, что я за глаза поливаю папашу. Я ему это в лицо говорю. Беспрестанно жрет и совсем не двигается. Я боюсь, как бы с ним чего не случилось. А он лишь смеется. Я люблю отца, но он и впрямь жирный боров, а я не хочу, чтобы его хватил инфаркт.
— Ты прекратишь или нет? — взвилась Анна. — Честное слово, отче, я не знаю, что на него нашло. Шон вовсе не жирный.
Эван пожал плечами:
— Жирный.
— Нет!
— Он как бочка.
— Так вы ради этого пришли? — спросил я. — Беспокоитесь об отце?
— Вовсе нет, — подалась вперед Анна. — У нас Эван чудит.
— Давайте так, — сказал я. — Вы расскажете, с чем вы пришли, и, что бы там ни было, я постараюсь помочь.
— Я не могу, отче. — Анна отвернулась. — Просто не могу.
Я прикрыл глаза и выдохнул. Перед внутренним взором возникла теренурская библиотека. Все бы отдал, чтоб сейчас там оказаться. На полках хаос. Морская трилогия Уильяма Голдинга в неверном порядке. Романы Клэр Килрой вперемешку с рассказами Клэр Киган. Вот именно в такие минуты я мечтал заняться разбором книг, а не вытягивать из кого-то проблемы, которые наверняка не смогу решить. И чего народ ко мне ходит, когда я ничего не смыслю в жизни?
— Вы в надежном месте, — сказал я, подражая психоаналитикам из телефильмов. Только вчера я посмотрел подряд шесть серий, в которых мощно сыграл Габриэл Бирн. — Можете говорить о чем угодно. Все останется в этих стенах.
Анна глубоко вдохнула, набираясь решимости. Выпрямилась и посмотрела мне в глаза. Ну наконец-то.
— Отче, разговор об Эване.
В этот момент я прихлебнул чай и чуть не прыснул. Анна, кажется, не поняла, что я смеюсь, а вот парень смекнул и осклабился:
— С вами все в порядке, отче?
— Извините. Не в то горло попало.
— С ним что-то не так, — продолжила Анна.
— Все так. По крайней мере, со мной, — перебил Эван. — Наоборот, все лучше некуда.
— Наоборот! — передразнила Анна, покачав головой.
— Что не так-то?
— Хватит уже, Эван! Чего ты выставляешься?
— Я всего-навсего сказал «наоборот», — недоуменно пожал плечами Эван.
— Веди себя как подобает.
— А я что делаю? Отче, разве я себя плохо веду?
Я не ответил и обратился к Анне:
— Что конкретно вас беспокоит?
— У него есть… друг, — после долгой паузы выговорила она.
Озадаченный, я переводил взгляд с матери на сына. У Эвана есть друг. Ну и славно. О чем тут беспокоиться? В теленовостях об этом сообщать, что ли?
— Друг, — повторил я.
— Хороший друг, — уточнила Анна.
— Очень, очень и очень хороший, — поддержал Эван.
— Вы меня запутали, — признался я.
— Они проводят слишком много времени вместе, — поспешно сказала Анна.
— Разве это необычно для друзей? — удивился я.
— Да ладно вам, отче. — Эван слегка утратил спокойствие, в тоне его сквозило раздражение. — Чего дурачком-то прикидываться?
— А если я не прикидываюсь? — Что бы там ни было, пока что я владел ситуацией. За долгие годы работы я приноровился к подросткам. Они меня не пугали. Я знал их как облупленных. Им меня не обескуражить, хоть вывернутся наизнанку.
— Это нехорошо, — сказала Анна.
— Что — нехорошо?
— О боже ты мой! — Эван театрально вздохнул и откинул прядь со лба. Я заподозрил, что этот жест он долго оттачивал перед зеркалом. — У меня есть друг. Его зовут Одран. Мы встречаемся. Вот и все. Мир не рухнул и прочее.
— Я тоже Одран, — сказал я.
Эван молчал, удивленно хлопая глазами.
— Не знаю, что я должен ответить? — наконец сказал он, в противной американской манере превратив утверждение в вопрос.
— Тот Одран голубой, — доложила Анна.
— Это не прилагательное, а существительное, — поправил ее Эван.
— Чего? — обернулась к нему Анна.
— Ты слышала.
— Видали, даже не скрывает. — Анна перевела взгляд на меня: — Ни капли стыда.
— Понятно, — сказал я. — Этот Одран твой одноклассник?
— Вот еще! — Эван негодующе фыркнул, словно я зачислил его в Ку-клукс-клан.
— Но он учится? Или уже взрослый?
— Блин! Конечно, учится. Он не шалопай какой-нибудь. Просто из другой школы. Нормальной. Куда и девочек берут.
Я переваривал новость и, признаюсь, был смущен.
— Тебе не нравится твоя школа? — спросил я.
— Нет, конечно. Там одни дикари. Все разговоры о регби, дрочке и манде.
Анна задохнулась, и я прикрыл глаза, чтобы не смотреть на нее. Пусть я неплохо разбираюсь в подростках, но обычно их матушки не сидели рядом, когда те говорили о подобных вещах.
— Полегче, Эван, — сказал я.
— Виноват, — тотчас извинился он. — Сказал, не подумав.
— Да уж.
— Я к тому, что в школе Одрана ребята не зациклены на всякой фигне, понимаете? И не обмирают от страха.
— А что, в твоей школе ученики напуганы?
— Вы уж извините, отче, но, по-моему, все скопом наложили в штаны.
— Из-за чего?
— Из-за того, что умнее, чем кажутся.
Я задумался.
— Что-то я не понял, — сказал я.
— В нашей школе не идиоты, — пояснил Эван. — И вы, и я это знаем. Там смышленые ребята. Образованные. Из хороших семей. И всем им хватает ума понять, что через два года учеба закончится и нынешние короли регби до конца дней своих будут конторскими крысами либо станут учительствовать в этой самой школе. Каждый обделался от мысли, что его маленькой драгоценной жизни вот-вот придет конец, тогда как у всех других, для кого мир не ограничен школой, она только начнется.
Я кивнул. Все верно. Ничего нового. Я многажды был тому свидетелем.
— И как это связано с твоим другом? — спросил я.
— В общем-то, никак, — помолчав, сказал Эван. — Я просто говорю, что он учится в другой школе. Вы спросили, не одноклассники ли мы. Нет. Вот короткий ответ.
— Он голубой, — повторила Анна.
— Может, хватит уже? — насупился Эван.
— И у вас сложились отношения? — спросил я, игнорируя реплику Анны.
— Ну, мы не женились и все такое. Хотя — да. Сложились. — Эван замялся, словно раздумывая, стоит ли делиться своими мыслями, и все же добавил: — Он классный.
— И вас, Анна, это беспокоит? — обратился я к его матери. Та смотрела в пол, лицо ее отражало душевную муку.
— А вас бы не беспокоило, что ли?
Я пожал плечами:
— Спроси вы об этом десять лет назад, я бы, наверное, ответил иначе. Видите ли, мой племянник — гомосексуалист.
— Перестаньте, отче, — отмахнулась Анна. — Не надо.
— Это правда.
— Быть такого не может.
— Это правда, — повторил я, не зная, как еще ее убедить. — Чистая правда.
— Будет вам. Мне от этого не легче.
Эван смотрел заинтересованно.
— Я не сочиняю, — пожал я плечами.
Года два назад Джонас признался, что он гомосексуалист, но тогда я не очень понял, какого отклика он ожидает. Кажется, я не нашелся, что ответить. Я был растерян и слегка смущен, но не гомосексуальностью его, а тем, что в нем вообще есть какая-то сексуальность. Для меня он оставался мальчишкой, меня слегка коробило от мысли, что он кого-то желает или кто-то желает его, тем более что мне подобные страсти были чужды, и я не хотел говорить на эту тему. Нет, я, конечно, попытался. Я спросил, как он это понял, и Джонас ответил, что знает об этом с девяти лет, когда его растревожило видео Take That — клип песни «Молись». «Наверное, во всем виноват Марк Оуэн», — сказал он, я не понял, что он имел в виду, и не хотел выяснять. Но все же спросил, не заблуждается ли он в своей ориентации, и тогда Джонас поведал, что пару лет назад впервые в жизни влюбился в студента, по программе обмена приехавшего из Сиэтла. Они очень сблизились, много времени проводили вместе, и однажды на чьей-то квартире Джонас признался ему в своих чувствах. Вышло скверно. Тот, кого он считал другом, обошелся с ним очень жестоко. Настолько жестоко, что племянник мой все еще не оправился (и я это видел), распаляясь злобой к человеку, нанесшему травму молодому парню, который, уступив своему влечению, слишком сильно влюбился. Я не представлял, каково это — услышать, что кто-то меня любит. Но если бы вдруг кто-нибудь мне признался, я, думаю, по-доброму отнесся бы к тому человеку, независимо от его пола. Вряд ли на свете есть что-нибудь лучше такого признания.
— У него даже девушки никогда не было. — Анна ожгла сына взглядом.
— Ты-то откуда знаешь?
— Ты никого не приводил к нам на чай.
Эван рассмеялся:
— Мам, нынче никто не водит девушек на домашнее чаепитие. Отче, у вас когда-нибудь была подружка? В смысле, когда вы были в моем возрасте.
Я призадумался. Ну да, Кэтрин Саммерс. Она считается?
— Вроде как была, — сказал я. — Ничего серьезного.
— И вы приводили ее на чай?
— На роль гостьи она не очень годилась. — Я представил, как Кэтрин и мама сидят за столом и, угощаясь котлетами, пытаются завязать беседу: мама говорит о паломничестве в Лурд, а Кэтрин — о том, что она сотворила бы с Аль Пачино, попадись он ей в руки.
— Ну вот, — сказал Эван.
— Не понимаю, что ты имеешь против девушек? — спросила Анна.
— Я ничего не имею против них. У меня в друзьях полно девушек.
— Так выбери себе одну и гуляй с ней.
— Сама выбирай и гуляй, если хочешь. Я уже выбрал спутника. Сразу с двумя гулять не могу. На эту роль я не гожусь.
— Вот видите, отче? — обратилась ко мне Анна. — Понимаете, что мне приходится терпеть? У него на все готов ответ.
Я кивнул. Повисло молчание. Эван оглядывал комнату, взгляд его задержался на книжных полках.
— А как дела с учебой? — спросил я. — Ты уже решил, кем хочешь стать, когда вырастешь?
Эван презрительно скривил губы и вновь откинул прядь. Похоже, это был его любимый жест и он не упускал случая его использовать.
— Когда вырасту? — саркастически переспросил он.
— Слушай, кончай эту хрень. — Я сам удивился, услышав себя; Анна таращила глаза, и даже во взгляде Эвана читалось изумление. — Ты не знал, что ли? Ну и прекрасно. Да, ты еще юнец.
— Есть кое-какие мыслишки, — сказал Эван.
— Какого рода?
— Целая куча.
— Ну например? Мне интересно, правда.
— Я бы хотел стать театральным режиссером. Наверное, звучит дико, но мне нравится эта профессия.
— Когда последний раз ты был в театре? — спросил я.
— Вчера.
Я усмехнулся. Молодец. Уел меня.
— И что смотрел?
— «Бог резни» Ясмины Реза[22]. В театре «Гейти» решили сделать передышку от бесконечного повторения «Плуга и звезд», «Тени стрелка» и «Поля»[23].
— Мой отец играл в «Плуге и звездах», — сказал я. — В Театре Аббатства.
— Правда? — вылупился Эван. Он явно был впечатлен, что польстило моему тщеславию.
— Он исполнял роль юного Кови. В рецензиях его очень хвалили. Ну и как вчерашняя постановка?
— Вам стоит посмотреть самому, отче, — ухмыльнулся Эван. — Там один актер снимался в сериале «Скорая помощь», а другой играл Дугла в «Отце Теде»[24]. В спектакле две жуткие супружеские пары. Их жизни пустые. Они пекутся о всякой ерунде и друг перед другом выпендриваются, какие они свободные. В двух словах не расскажешь. Это же искусство, понимаете?
— Тут никакого подвоха, Эван. Я просто хотел узнать, тебе понравилось?
Эван пожал плечами:
— Ну да.
— Он ходил с этим Одраном, — вставила Анна.
— А ему понравилось?
— Он не понимает театр. — Эван нахмурился, словно пытаясь уразуметь, как такое возможно. — Говорит, в тишине ему не по себе. Предпочитает кино. Всякие там крутые боевики. Брюс Уиллис. Том Круз. И прочая мура.
— Так ему понравилось или нет?
— Наверное, понравилось.
Я решил, что пора перейти к сути дела:
— Анна, вас тревожит дружба Эвана с Одраном?
— Да, отче. Места себе не нахожу.
— Не называйте это дружбой, пожалуйста. — Теперь в тоне Эвана слышалась досада. — Это не дружба.
— Вы не друзья?
— Друзья, конечно. Но это не то. У нас отношения. Возможно, это ненадолго, мы очень молодые, но мы не просто… какие-то там приятели.
— Вы можете это прекратить, отче? — спросила Анна.
— Нет. И не стал бы, даже если б мог.
Анна опешила.
— Я не понимаю, Анна, чего вы от меня хотите, — улыбнулся я. — Эвану шестнадцать лет. Тебе ведь шестнадцать? — уточнил я.
— Да.
— Ну вот, и он дружит с парнем. Они вместе ходят в театр, а не грабить Ирландский банк.
— Я их застукала, отче! — воскликнула Анна, чуть не плача.
И тотчас возникла картинка: мама входит в комнату, Кэтрин Саммерс выбирается из-под меня, угощает маму леденцом. Вызывают отца Хотона.
Отец Хотон. От воспоминания свело живот. Я никогда о нем не вспоминал. Изо всех сил старался забыть.
— Хватит, Анна! — почти заорал я. — Сейчас же перестаньте!
— Отче!
— Эван, ты, я вижу, умный парень. Тебе не приходило в голову познакомить маму с этим Одраном? Втроем сходили бы в кафе или еще куда-нибудь.
— Боюсь, они не поладят, — хохотнул Эван.
— Конечно, нет, если толком их не познакомить. Слушай, хочешь начистоту? Совсем начистоту. Хочешь или нет?
Видимо удивленный моей горячностью, Эван помешкал, но все же кивнул.
— Я говорил честно, — добавил он.
— Тебе нравятся парни, да? Тебя к ним тянет?
Эван отвел взгляд и уставился на фотографию на стене, сделанную за день до смерти моего отца. На фоне домика миссис Харди мама и отец улыбаются в объектив, мы — Ханна, Катал и я — стоим перед ними, рты наши разъехались до ушей.
— Да, — наконец ответил Эван. — Наверное.
— Ну вот, Анна, вам нужно с этим примириться.
Наступило долгое молчание. Я разглядывал Анну. От роившихся мыслей лицо ее подергивалось. Она посмотрела на меня, затем на сына. Я представил, как они с мужем мучительно пытались завести собственного ребенка, потом долго искали приемыша, через какие мытарства прошли. Как любая женщина, она инстинктивно восставала против инакости и хотела, чтобы все было как у всех, потому что всякая инакость до смерти пугала, но вот слова сказаны, и куда уж яснее, и Анна, к ее чести, откликнулась по-доброму.
— Ну что ж поделаешь, сказала она, сдерживая подступавшие слезы. — Мир стал другим, да, отче?
— Да, Анна. — Я взял ее за руку. — Точнее не скажешь.
— Можно спросить, отче? — сказал Эван, когда они с Анной собрались уходить.
— Пожалуйста.
— Джонас Рамсфйелд ваш племянник, я верно понял?
— Верно. — Я тщеславно улыбнулся: да, я причастен к знаменитости.
— Ух ты! — Весьма впечатленный, Эван покачал головой. — А какой он?
— Умный. Спокойный.
— Он ваш единственный родственник?
— Еще есть племянник Эйдан.
— А тот какой?
— Злой.
Эван задумчиво покивал, а затем сказал, выделяя каждое слово:
— Джонас Рамсфйелд действительно хороший писатель. — Он как будто хотел подчеркнуть искренность своей оценки.
— Да, — согласился я.
— Вы передадите ему мои слова?
— Передам.
— «Шатер» — мой самый любимый роман.
— Немного развязный, но хороший.
— Это моя самая любимая книга, — повторил Эван. — Он к вам приезжает?
— Сюда? — Я покачал головой. — Очень редко. Боюсь, столь близкое соседство церкви его отталкивает. Но мы видимся. А почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Значит, вы ему скажете, что я считаю его очень хорошим писателем?
Я рассмеялся и обещал непременно передать. А что такого?
Настала пятница — день собрания служек. Все два года, что Том Кардл работал в приходе, они были в его ведении. Вообще-то Том приглядывал за служками во всех одиннадцати приходах, которые сменил за двадцать восемь лет священства. Одиннадцать приходов! С трудом укладывается в голове. Нечего и говорить, что сия обязанность легла на мои плечи, когда я принял должность.
— Я не управлюсь с этими треклятыми мальчишками, — сказал отец Бёртон. Служек он считал неизбежным злом, терпел их присутствие в алтаре, но почти никогда с ними не общался. — Вечно во все суют нос и забывают, на какую мессу их назначили.
И отец Каннейн от них отказался. Мол, ему и без этой своры нытиков-сопляков хватает забот. Оставался я. И потом, архиепископ Кордингтон лично просил меня принять сию обязанность.
Однако задача эта не тяготила. Каждую пятницу в четыре пополудни человек двадцать мальчиков в возрасте от семи до двенадцати собирались в приходском зале. У них строго соблюдалось старшинство. На собрании я вставал в конце зала, ребята рассаживались в два ряда по бокам от меня. Слева ближе всех ко мне сидел самый старший, Стивен, за ним его почти ровесник Кевин. Эти двое приглядывали за младшими и одергивали болтунов. И тому и другому недавно стукнуло двенадцать, и я ожидал, что со дня на день они уйдут; оба уже стеснялись своих ролей, но им было жалко расставаться с частью своего детства. Пусть еще совсем юнцы, они интуитивно чувствовали, что это станет началом множества перемен, уготованных в жизни. Старшинство служек определялось не возрастом, но стажем. Справа ближе всех ко мне сидели самые младшие и боязливые.
Надлежало распределить двадцать три мессы: три ежедневные будничные и пять субботних. Некоторые мессы — скажем, заутрени, которые служил я, — могли обойтись одним мальчиком; на десятичасовую службу отец Каннейн брал двоих, чтобы потом не прибирать в алтаре самому; на каждую из субботних месс назначались три служки. О праздничных пасхальных и рождественских мессах я умолчу. Ну вот, я шел вдоль рядов, каждый мальчик выбирал себе мессу, потом мы читали молитву и расходились по домам. Работа непыльная.
В нынешнюю пятницу я подъехал к приходскому залу, когда почти все мальчики уже собрались и под навесом прятались от жуткого ливня, какого в Дублине давно не было, а уж наш-то город, видит бог, солнцепеком не славится. Я выскочил из машины и, прикрыв портфелем голову, побежал к мальчикам; под навесом я достал из кармана ключи и огляделся, уже начиная злиться, что меня заставляют ждать.
— Может, войдем в зал, отче? — сказал Дара, который в иерархии служек занимал срединное положение и сидел в начале младшего ряда, но был готов к повышению, как только Стивен с Кевином соберутся с духом сказать нам «прощай». — А то льет как из ведра.
— Немного дождя еще никому не мешало, Дара, — ответил я.
— У вас же есть ключи, — сказал Карл.
— Подождем. — Я старался не обращать внимания на пронизывающий ветер, орошавший нас брызгами.
Вот так мы и мокли. Мальчишки наверняка простудятся и на неделю слягут, но я недвижимо стоял чуть поодаль от них, сжимая ключи в кулаке. Конечно, ничего не стоило отпереть дверь, запустить ребят в зал и спастись от этого библейского потопа. Но я не мог. Пока что.
— Отче, пожалуйста, — сказал смешной длинноволосый мальчик в одной футболке. — Я насквозь промок.
Я улыбнулся и, дрожа от холода, покачал головой:
— Еще немного. Минутку-другую.
Я смотрел на дорогу, оглядывая машины. Ну давай же! — заклинал я. Наконец я увидел черный БМВ, который, даже не притормозив, свернул с дороги и подъехал к приходскому залу. В тепле машины водитель, отец одного из служек, разговаривал по мобильнику — видимо, завершал какую-то денежную сделку, заставляя ребят и их наставника мокнуть под холодным дождем.
Наконец он вылез из машины, бипнул сигнализацией и подбежал к нам. И вот лишь теперь я мог выбрать нужный ключ, вставить его в скважину и отпереть дверь. Мальчишки ринулись внутрь и, отряхиваясь, точно лохматые собаки, расставили стулья в два ряда. Заняв свое место в конце зала, я раскрыл тетрадь с расписанием служб, а человек, всех нас заставивший ждать, уселся в углу и стал отправлять эсэмэски с мобильника, с которым ни на секунду не расставался. Я уже хотел начать, но тут человек поднял руку:
— Извините, отче, мне надо по-маленькому. — Он встал, собираясь выйти в коридор, где располагались туалеты. Провожая его взглядом, я вздохнул, но в дверях он обернулся и нетерпеливо сморщился: — Ну что же вы?
— Сейчас вернусь, ребята. — Я вышел в коридор и ждал, пока человек справит нужду.
— Фу, хорошо, — ухмыльнулся он, выйдя из туалета. — Думал, лопну.
Теперь мы могли вернуться. К ребятам.
Теперь, когда все собрались — двадцать мальчиков и мирянин, который проследит, что ни с кем из них не случится плохого, что я никого не стану лапать, не отведу в туалет и не заставлю спустить штаны, — можно было начать. Теперь, под наблюдением, я мог спросить: «Понедельник, шесть тридцать утра?» — а Стивен мог ответить: «Я возьму, отче», и далее по всей недолгой рутинной процедуре распределения месс.
Столь безграничным недоверием я был обязан своим старинным друзьям. Надо ли удивляться, что по пятницам я возвращался домой, сгорая от стыда?
Глава 7 1973
Через двенадцать лет американцы наконец-то перестали бомбить Камбоджу. В Техасе Билли Джин Кинг, сильнейшая теннисистка мира, в трех сетах одолела Бобби Риггса, некогда первую ракетку среди мужчин. Английская королева приехала на открытие Сиднейской оперы, которую на Беннелонг-Пойнт выстроил архитектор-датчанин, на церемонию не явившийся. Той же осенью, когда мир воевал, состязался и строил, в Дублине восемнадцать юношей впервые прошли через ворота Клонлиффской семинарии, покидая детство и вступая в жизнь, которая в равной мере окажется благодатной и одинокой; они выбрали стезю, что в трудные времена станет их тылом и поддержкой.
Восемнадцать человек. Никто не знал, что достигнут максимум. В Мэйнуте было около сорока новичков, и по всей стране, от Корка до Белфаста и от Карлоу до Уотерфорда, уйма юношей в разной степени восторженности покидали свои семьи, отправляясь в церкви Святого Финбарра, Святого Иосифа, Святого Патрика, Святого Иоанна. И это не считая тех, кто вступил в религиозные ордены, — облатов, которые в Лимерике основали приют и содержали образцовую ферму, снабжавшую братию свежайшими продуктами; лазаристов, не забывавших о Дне всех святых; редемптористов, которые в Голуэе открыли психиатрическую лечебницу; францисканцев, в Килларни управлявших семинарией. Сколько послушников дали тридцать два графства в одном только 1973 году? Триста? Пятьсот? Тысячу? Представить, что нынче такие же толпы молодых ирландцев устремляются в семинарии, — все равно что гадать о жизни на Марсе: не исключено, но весьма сомнительно.
Кроме дублинцев, составляющих, конечно, большинство нашего курса, были ребята из других графств. Джордж Данн, которого из-за ямочки на подбородке мы прозвали Кирком Дугласом, приехал из Килдэра; Клонлиффскую семинарию он выбрал потому, что неподалеку жили его дед с бабкой. Шеймус Уэллс был родом из Керри; год назад его родители умерли, он хотел уехать подальше от Дингла и оттого подал прошение не епископу Кейси, но архиепископу Райану. Мик Сёрр из Корка всегда мечтал жить в Дублине, чем, видимо, так обидел епископа Луси, что в проповеди тот обозвал его сопливым ренегатом.
Морис Макуэлл из дублинского района Гласневин ужасно заикался, но никто над ним не подтрунивал, и он был благодарен за столь обыкновенную человечность, поскольку в его прежней школе дня не обходилось без издевок. Больше всего доставалось от учителей, рассказывал Морис, — когда он не мог сразу выговорить ответ, педагоги начинали орать и он заикался еще сильнее; дошло до того, что половину уроков он проводил в коридоре или изоляторе.
И был, конечно, Том Кардл. Из Уэксфорда.
Мы с ним опасливо сдружились. Дублинцы держались вместе, обособляясь от всех прочих. Ребята из Корка и Керри, исторически враждовавших, друг к другу приглядывались. Среди нас была пара близнецов, что меня крепко удивило, но удивление мое неизмеримо возросло, когда я узнал, что вообще-то их трое, однако третий брат, не выказавший склонности к священству, устроился на работу в молочной компании. Еще был башковитый парень из Темплеогу, который написал книгу о Фоме Аквинском и надеялся когда-нибудь ее издать. А вот Конор Смит, дублинец с Дорсет-стрит, не продержался и года. Матушка его плакала, провожая сына в семинарию, и рыдала, забирая обратно. Нас осталось семнадцать.
Конечно, все мы по-разному приноравливались к семинарской жизни, но вот я особых тягот не ощущал. Возможно, у кого-то сложилось впечатление, что меня силком отправили в эту жизнь, что мама, искавшая утешения, толкнула меня на этот путь, не справляясь о моем собственном мнении. Что ж, до некоторой степени это справедливо, но все это не отрицает того, что с первой секунды в семинарии я себя почувствовал на своем месте. Понимаете, я был верующим. Я верил в Бога, Церковь и способность христианства улучшить наш мир. Я верил, что священство — благородное призвание, что в профессии этой достойные люди, желающие насаждать добро и милосердие. Я верил, что Господь не просто так меня выбрал. Мне не приходилось выискивать в себе эту веру, она была частью меня. И я думал, это навсегда.
В нашей тихой клонлиффской общине, пропитанной духом познания, мне было хорошо, и по ночам меня не терзали грезы о Кэтрин Саммерс, актрисе Эли Макгроу или о ком-нибудь другом, подобные вещи не слишком меня волновали. Может быть, это какой-то душевный или физический изъян, не знаю. Нет, вру: был случай, когда подобные материи едва не поглотили меня целиком.
Пятью годами позже. В Риме.
Вставали мы рано — выскакивали из постелей в шесть утра, когда в коридоре раздавался похожий на йодль клич отца Мерримана по прозвищу Шмель. Мы его так окрестили, потому что он буквально летал по семинарии, потирая ладони и басовито гудя.
В первый же день нас распределили по кельям, и было важно поладить с соседом, с которым предстояло жить весь срок обучения. Уединиться мы могли с помощью шторы, делившей комнату пополам; я шторой никогда не пользовался, но, бывало, Том, подверженный внезапным приступам безудержной злобы, ее задергивал, и потом я слышал, как он плачет или ворочается в кровати, однако не осмеливался его беспокоить.
Я всегда просыпался первым и будил Тома, теребя его за плечо, но он отворачивался к стене и мычал: Отвали, Одран!
Глянув в окно, я обычно видел Шеймуса Уэллса, который наматывал круги по гравийным дорожкам сада; если верить его словам, в спортобществе родного Дингла с ним очень считались и он мог бы выступать за графство, но выбрал иной путь. Каждое утро Шеймус двести раз обегал сад, а потом отжимался, качал пресс и совершал прочие телодвижения, на которые непонятно откуда находил силы. Мик Сёрр над ним, конечно, насмехался, но чего еще ждать от уроженца Корка в адрес парня из Керри?
Отворив дверь кельи, я видел дюжину ребят в пижамах, по холодному коридору поспешавших к ваннам, чтобы наскоро окунуться и смыть ночную испарину. В дань нашей стыдливости, друг от друга ванны отделялись шторами, чему я, худосочный заморыш, был весьма рад, ибо ничуть не хотел демонстрировать отсутствие мышц и еще меньше — любоваться чужой мускулатурой. Ванн, наполненных чуть теплой водой, было всего четыре, и оттого первые купальщики еще кое-как мылись, последним же приходилось плескаться в чужой грязи, и, вероятно, они были бы чище, если б вообще отказались от утреннего омовения. Я всегда был в первой партии и залезал в одну и ту же ванну, что стояла ближе к баку, и потому вода в ней была чуть теплее. Том всегда приходил последним и вечно жаловался.
— Так вставай пораньше, — говорил я.
Том возмущенно тряс головой:
— Только животные просыпаются в этакую рань.
— И священники.
— О чем и речь.
Такие разговоры мне не нравились. Пятнадцать штатных священников, старших и младших преподавателей, читавших догматическую теологию, моральную доктрину, каноническое право, Писание и историю Церкви, трудились в поте лица: обучали семинаристов четвертого — седьмого курсов да еще опекали нас, студентов первого — третьего курсов, то и дело переживавших душевный кризис. В большинстве своем они были достойные люди, умные и образованные, и, на мой взгляд, ничем не заслужили подобного оскорбления.
Суетливый Шмель был всеобщим любимцем, смешившим нас своими внезапными появлениями. Отец Принс, прозванный Гарольдом Вильсоном за удивительное сходство с известным политиком и несгибаемую приверженность к трубке (вопреки строжайшему запрету курить при семинаристах), вел кружок почитателей музыки и так проникался каким-нибудь музыкальным творением, что мы старались не рассмеяться глядя на его восторженное лицо. Отец Джарвис, получивший кличку Рудольф (ярко-красным носом он напоминал мультяшного олененка), ухаживал за небольшим огородом, и кое-кто из ребят ему помогал.
Но всех больше меня интересовал отец Дементьев. Когда я появился в Клонлиффе, ему было далеко за пятьдесят; единственный штатный священник не ирландец, он родился в городке Кашин, что в сотне миль к северу от Москвы. Дементьев был солдатом советской 322-й стрелковой дивизии, в январе 1945 года освободившей семь с половиной тысяч заключенных Освенцима, которых бежавшие нацисты бросили умирать. Он не любил об этом вспоминать, но однажды на прогулке по окрестностям мы разговорились и он поведал, что в тот день его вера в человечество пошатнулась и до конца сороковых он с израненной душой скитался по Европе, а потом в Шартрском соборе ему было Богоявление (в детали он не вдавался) и вскоре он перебрался в Ирландию, где поступил в Мэйнутскую семинарию Святого Патрика. Он почти не говорил о том, что выпало на его долю в голодном детстве и на войне, я не мог и вообразить, как вид узников Освенцима, превратившихся в скелеты, сказался на его психике, но я знал одно: если Том Кардл обзывает такого человека животным, это свидетельствует о непозволительной глупости самого Тома.
К половине седьмого все семинаристы собирались в главной часовне, хором читали первую молитву, а затем молча молились до утренней мессы, начинавшейся четверть восьмого. После службы мы, оголодавшие парни, резво мчались в трапезную, где на столах стояли тарелки с кашей, большие кружки с чаем и огромные фарфоровые блюда, полные теплых гренков с выступившими каплями влаги; масла и джема у нас было вдосталь — еженедельные посылки от домашних позволяли открыть собственную бакалею. Пища, говорили священники, предназначена не для чревоугодия, но поддержания жизни. За строгостью диеты следили внимательно.
Затем мы, слушатели первых трех курсов, облаченные в черные костюмы, шляпы и белые рубашки с черным галстуком, садились на велосипеды и кавалькадой катили в университетский городок на Эрлсфор-Террас, дабы продолжить изучение философии, первостепенной дисциплины в начальном образовании священника, освоение коей приближало к пониманию аскетической и мистической теологии, церковной доктрины и истории священных текстов.
Воображаю, какое впечатление мы производили на бизнесменов, домохозяек и школьников, ехавших в машине, семенивших по улице или маявшихся на автобусной остановке; точно мушиный рой, полсотни юношей в черном, взгляд вперед, спина прямая, по двое-трое в ряд катят на великах. Мы ловили восхищенные взгляды прохожих и чувствовали свою коллективную власть над ними. Как нас, однако, уважали! Как мечтали, чтобы их сыновья оказались среди нас.
Как нам верили.
Университет мне, в общем, нравился, но приспособиться к его жизни оказалось сложнее, чем к жизни в семинарии. Обучали нас наравне с другими студентами — степень бакалавра по философии привлекала молодежь со всей страны, и младшекурсники-миряне числом превосходили нас троекратно, — но в остальном мы были отделены, что порой задевало.
Ели мы порознь. На большой перемене студенты собирались в просторной столовой, где всегда было шумно, звучали музыка и смех, на стенах плакаты с Зигги Стардастом и Джоном Ленноном, на столах листовки, приглашавшие на танцы и вечеринки. Мы же спускались в каморку, где, вознеся благодарственную молитву перед трапезой, перекусывали бутербродами с чаем и, вновь возблагодарив Господа за хлеб наш насущный, возвращались на занятия. Это делалось для того, говорил Шмель, чтобы нас не отвлекали мирские соблазны, и чтобы мы, добавлял Рудольф, не подцепили заразу от современной молодежи.
Студенты были длинноволосы и бородаты, ходили в расклешенных брюках и джинсах, цветастых рубашках и темных очках. Студентки тревожили нас шортами в обтяжку и сапогами до колен. Все они открыто говорили о сексе и наркотиках, после занятий продолжая свои дискуссии в дублинских барах, на концертах и ночных вечеринках, а мы вновь оседлывали велосипеды и долгой дорогой через Ист-Уолл возвращались в семинарию, где в часовне читали вечернюю молитву и пять стихов «Ангела Господня» и лишь потом отправлялись на ужин, во время которого какой-нибудь бедолага-старшекурсник вставал за кафедру и вслух читал из Г. К. Честертона, К. С. Льюиса или «Жития апостолов». Разговаривать нам, разумеется, не разрешалось. Можно было есть и слушать. Вот так вот.
Завидовал ли я жизни моих университетских однокашников? Да, конечно. Порой нестерпимо хотелось вот так же сесть в автобус и отправиться в паб «Лонг Холл» или «У Маллигана», чтобы за пивом и стаканчиком виски в приятной компании говорить о том, как мы изменим мир, небрежно закинуть руку на плечо соседки, а потом проводить ее до автобусной остановки и уговорить на прощальный поцелуй, так много суливший в дальнейшем. Да, я завидовал. Ужасно. Я заприметил ребят и девушек, с которыми особенно хотелось познакомиться, живая энергия юности в них, казалось, бьет через край, но я даже словом с ними не обмолвился. Нет, я возвращался в семинарию и думал: ну вот я и дома. Здесь мое место.
Сейчас кажется, что мне повезло. Я и впрямь был на своем месте. Среди нас были и такие, кому бы лучше оказаться еще где-нибудь. И чем дальше, тем лучше.
В семинарии после обеда мы слушали лекции о духовном начале и структуре богослужения, а после ужина у нас был час личного времени. Кто-то во дворе играл в херлинг (мы уже знали, что предложение погонять в футбол будет равносильно здравице в честь королевы), кто-то прогуливался в задумчивом уединении; одни отправлялись в музыкальную комнату, где были два пианино и скрипка, другие просто дремали, третьи сражались на бильярде или в теннис, четвертые читали.
Нам, конечно, разрешали читать книги, присланные из дома, но лишь после их проверки священниками, не одобрявшими современных романов. Я читал Диккенса и Троллопа, а вот в Джордже Элиоте мне было отказано, поскольку женщина, выдающая себя за мужчину, внушает беспокойство, как выразился Гарольд Вильсон.
— Видимо, она свихнулась, — сказал он и, вырвав из моих рук «Мельницу на Флоссе», бросил ее в мусорный бак. — С женщинами это не редкость. У них это в крови.
Вирджиния Вулф тоже попала под запрет, поскольку набила камнями карманы пальто и вошла в реку Уз, сгубившую немало душ.
Я читал «Хроники Нарнии», одобренные священниками, которые полагали это духовным произведением, я же, как ни старался, видел лишь сказку о льве, колдунье и платяном шкафе. Один парень из Хоута под матрацем хранил все романы о Джеймсе Бонде, и мы по очереди втихаря упивались ими. Если б нас поймали, открутили бы головы, но обошлось. Джек Хэнниган огреб кучу неприятностей, когда Рудольф застукал его с «Жалобой Портного»[25] — грязной книжонкой, которой не место в католической стране. Целый месяц Джек ежедневно ходил к духовному наставнику, пока не осознал пагубность своего поведения.
Иногда в свободные полчаса до ужина мы говорили о Церкви, но зачинщика такого разговора считали подхалимом. С окончания Второго Ватиканского собора минуло почти десять лет, однако ожидания современных преобразований остались: шли дискуссии о целибате, супружестве и прочем, что сделало бы Церковь привлекательнее для молодежи и сблизило ее с нынешним миром. Иоанн XXIII умер, не успев осуществить намеченное, а Павел VI не выказывал ни малейшего желания к светскому пути, хотя по сравнению с папами из поляков и немцев, которые в последующие десятилетия изо всех сил старались урезать нововведения, он выглядит Великим преобразователем. А ведь все могло быть по-другому.
В конце дня каноник читал нам проповедь либо мы репетировали григорианский хорал. Далее следовали Розарий или Благословение святого таинства, затем легкий ужин, а ближе к девяти мы собирались в часовне на вечернюю молитву, дабы возблагодарить Господа за благодатный день и умолить Его и дальше не лишать нас своего расположения.
Потом мы расходились по кельям и наступала Великая тишь. До утра запрещались всякие разговоры и передвижения, шум сливного бачка считался преступлением, и если кто-то со слабым мочевым пузырем перед сном не заглянул в туалет, его ждали девять малоприятных часов.
Вообще-то мы не особо блюли строгость Великой тиши. Пока не уснем, с коек перешептывались о прежней домашней жизни, говорили о родных и друзьях, по которым скучали, делились тревогой о своем будущем и тем, что нравилось и не нравилось в семинарии. И только Кевин Сэмюэлс с Пёрс-стрит, которого за строгое соблюдение всех предписаний прозвали Папой, беспрекословно соблюдал Великую тишь; его сосед, юный Майкл Троттер из Дандрама, жаловался, что квартирует с кирпичной стеной, и был готов с кем угодно махнуться кельями, даже если б пришлось жить с Джорджем Данном, обладавшим внешностью кинозвезды, но мывшимся не чаще раза в неделю.
Жилось, конечно, нелегко. Все было регламентировано. Ну точно армейский распорядок, каким я его представлял. К такому сравнению меня, наверное, подтолкнул отец Дементьев. Но мне такая жизнь годилась. Ей-богу, годилась. А вот Тому Кардлу — нет. Бедняга ненавидел каждую минуту той жизни.
Заваруха случилась четырнадцатого февраля. Я хорошо запомнил дату не только потому, что это был мой день рождения, но еще и потому, что с утра возник маленький ажиотаж: парню на два курса старше нас по почте пришли три валентинки. Получить одну — уже удивительно, две — просто неслыханно, но — три? Никто не мог в это поверить. Далеко не красавец, парень, насколько мы знали, в миру женским вниманием не пользовался. Прошел слух, что это сестра его ради шутки подговорила подруг отправить валентинки, но бедняге не давали проходу и еще долго дразнили Казановой, пока нам это не надоело и не возникли новые поводы для сплетен.
Том проснулся уже в скверном настроении. В четверть седьмого я вернулся из умывальни, а он еще валялся в постели и зашевелился, лишь когда я сказал, что он опоздает на утреннюю молитву. Видимо, Том заснул очень поздно: глаза его были в темных окружьях, свои брюки и рубашку он искал, точно сомнамбула. Мы были друзья и ладили с первого дня, но я знал, что в таком настроении его лучше не трогать. Накануне вечером он задернул штору и бесстыдно рукоблудил — я слышал, как он ворочался, возбужденно пыхтел, а потом расплакался. Сейчас он даже не взглянул на меня, подбирая кучу салфеток с пола.
— Как ты себя чувствуешь? — Я открыл окно, содрогаясь от мысли, что сказал бы священник, если б вошел и учуял стоялую вонь в нашей келье.
— Ты иди, Одран, — отмахнулся Том, — я догоню.
На утренней молитве я его не видел, однако в часовне он был и на мессе в четверть восьмого вместе со всеми стоял в очереди к причастию. За завтраком он пригнулся к тарелке с кашей и кидал в себя ложку за ложкой, словно месяц не ел. В тот день университетских лекций не предполагалось, семинаристы занимались в группах, для нашего курса планировалась беседа со священником на какую-нибудь благочестивую тему. Когда мы вошли в класс, я взглянул на Тома и понял: вот-вот случится что-то гадкое. В животе у меня екнуло. Не знаю почему, но я чувствовал ответственность за соседа: коль мы живем в одной келье, должны друг друга выручать. По крайней мере, я так считал, даже если Том не разделял моего убеждения.
Нынче нашим наставником был отец Слевин, кроткий уроженец Лаоиса. Мы говорили о женщинах в церкви, роль которых, насколько я знал, ограничивалась уходом за алтарными цветами, уборкой ризницы и стиркой пасторских одеяний; потом один парень — кажется, Майкл Троттер — поднял руку и спросил, настанет ли день, когда священникам разрешат жениться. Весь класс взбудоражился и зашикал. Выказать интерес к противоположному полу означало выставить себя на посмешище, но Майкл, крепкий парень, в ответ ухмыльнулся и велел нам затихнуть, иначе позже он обучит нас хорошим манерам. Отец Слевин не увидел крамолы в вопросе и начал богословский разговор о значимом месте женщин в церковной истории от Девы Марии до наших дней. Он даже вроде как пошутил — мол, история не знает ни одного католического священника, у которого не было бы женщины-матери, однако священникам никогда не позволят жениться, ибо они уже повенчаны со своим предназначением, а этого с лихвой довольно.
Майкла ответ, похоже, вполне устроил — он не хохмил, просто задал вопрос. И тут я изумился, увидев, что Том поднял руку. Скорее поверишь, что в шесть тридцать утра он вместе с Шеймусом Уэллсом будет наматывать двести кругов по двору, нежели в его вопрос на уроке.
— О, досточтимый джентльмен из Уэксфорда! — улыбнулся отец Слевин, видимо довольный, что Том наконец-то участвует в обсуждении. — У вас вопрос?
— Да, отче. Хочу спросить о святом Петре.
Отец Слевин нахмурился — вопрос не по теме. При чем тут святой Петр?
— Ведь святой Петр был женат, да? — сказал Том и священник улыбнулся, словно уже в несчетный раз слышал подобное.
— Ох уж эта старая песня, — вздохнул он. — Верно, святой Петр был женатым человеком.
— И он стал первым папой?
— Да, только не забывайте, что женился он еще до того, как стал апостолом Иисуса. И задолго до того, как Господа нашего распяли и Он провозгласил Петра краеугольным камнем своей Церкви. Вообще-то многие апостолы были женаты. Никто не требовал, чтобы они отреклись от жен. Это было бы очень несправедливо.
— И все-таки он был женат? — наседал Том.
— Да, был. В главе четвертой Евангелия от Луки сказано: «Он вошел в дом Симона; теща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его (в смысле, Иисуса) о ней. Подошед к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им».
— Ну конечно! — Том во весь рот осклабился. — Что еще делать, как не готовить сэндвичи с чаем, когда только что поднялся со смертного одра? Но ведь были и другие, правда?
— В смысле?
— Другие, скажем так, женатые папы.
— Ну это вряд ли, — сказал отец Слевин.
— Да ладно вам, — не унимался Том. — Я об этом читал. В Британской энциклопедии, а там не ошибаются. В шестом веке жил такой Хормисдас, и он был женат.
— Папа святой Хормисдас духовный сан принял вдовцом, — осторожно сказал отец Слевин. — Правилами это не запрещено. Возможно, вы знаете, что и отец Дементьев был вдовцом, когда поступил в семинарию.
— Я этого не знал. Что же случилось с его женой? Погибла в годы войны?
— Хормисдас нашел себе тепленькое местечко, которое потом занял его сын, — продолжал Том. — А как насчет папы Адриана в девятом веке? Я читал, что жена и дети его жили с ним в Ватикане.
— В девятом веке Ватикана не было, Том, — терпеливо ответил священник. — Его строительство завершилось в шестнадцатом веке.
— Вы уклоняетесь от сути вопроса, нет?
— Я мало что знаю о папе Адриане, — сказал отец Слевин. — И вы тоже, если не считать сведений, выкопанных из провокационной книги.
— Там полно других примеров, — не отставал Том. — Разные папы имели жен. Не говоря уж о любовницах.
— Послушайте, Том…
— Александр VI, папа Борджиа, был отцом Лукреции Борджиа, верно? А все мы прекрасно знаем, что она из себя представляла. В Средние века многие папы якшались с кем им вздумается, и хоть бы хны. Кажется, Юлий III делил постель с венецианским послом — с мужиком, ничего себе? Если все это можно папам, тогда почему нельзя священникам?
Отец Слевин улыбнулся и покачал головой:
— Очень легко, Том, надергать имен из древности, когда была совсем другая жизнь, и щеголять ими как неоспоримыми фактами. Если б вы были чуть лучше подкованы в церковной истории, а не просто швырялись именами и байками, неизвестно откуда почерпнутыми, вы бы знали, что никто из упомянутых вами пап не достиг особых успехов. Да, папа Иннокентий был отцом Лукреции Борджиа. Но это скорее укрепляет мою позицию. Разве не лучше иметь папу, давшего обет безбрачия, нежели такого, кто плодит этакое потомство? По всем меркам, она была чудовищем.
Том откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Я посмотрел не него — он выступил складно, но ему утерли нос.
— А как насчет экономок? — спросил он, когда отец Слевин уже протирал тряпкой доску.
— Насчет кого? — обернулся священник.
— Экономок, — повторил Том. — Их же целая прорва. Живут в доме священника, готовят, пекут пироги, стирают хозяйские носки и подштанники.
— Все, Том. — Отец Слевин положил тряпку на стол, избегая, вероятно, искушения швырнуть ею в ученика. — Довольно.
— Вы не предполагаете, что священник крутит шашни со своей экономкой? Вот вечерком они уютно устроились на диване, чашечка чая, ломтик песочной слойки, по телику идет «Улица Коронации». Одно к другому и…
— Том! — рявкнул отец Слевин, от гнева багровый. — Немедленно прекратите!
— Вопрос допустимый.
— Нет! Намеренно провокационный и умышленно непристойный.
— А у вас-то, отче, есть экономка?
— Разумеется, нет. Я живу в одном корпусе с вами.
— Но когда-то вы служили в приходе?
— Да. — Отец Слевин как-то смешался. — Но это было очень давно, я только принял сан.
— И тогда у вас была экономка?
— Да, если память не изменяет, — поспешно ответил священник. — Это обычная практика и…
— Последний вопрос, отче, и я отстану, — спокойно сказал Том.
Отец Слевин прикрыл глаза и выдохнул, толчками выпустив воздух. Лицо его было в красных пятнах, руки слегка дрожали. Непривычная ситуация ему очень не нравилась. Мне тоже. Лучше бы Том, как обычно, спал на уроке.
— Хорошо, Том, — сказал отец Слевин. — Последний вопрос — и мы идем дальше. Что вы хотели узнать?
— О вашей экономке. — Том ухмыльнулся и оглядел класс, удостоверяясь, что все его слушают. — Хоть разок вы ее отодрали?
После этого он исчез. Буквально испарился. Сгинул на целую неделю. Ему назначили домашний арест, пока каноник решал, что с ним делать. В ночь после заварухи я нарушил Великую тишь и спросил, о чем он думает.
Том так долго молчал, что мне показалось, он спит.
— Если тебе здесь хорошо, Одран, — наконец сказал он, — это не значит, что и всем другим хорошо.
— Но тут нет замков, ни внутри ни снаружи, — возразил я. — Помнишь, что в первый день сказал каноник? Никто не обязан здесь оставаться против своей воли.
Том сел в кровати и, чуть наклонив голову, разглядывал меня, словно пытаясь понять, как можно быть таким наивным.
— Бедняга Одран, — сказал он. — Воистину святая простота.
Утром я проснулся, и его уже не было. Наверное, он потихоньку собрал вещи и покинул семинарию черным ходом, который обычно не запирали, и только через много лет я узнал, куда он делся.
Священники не заметили его отсутствия на утренней молитве и мессе и всполошились, лишь когда он не появился на завтраке. Давешняя стычка Тома с отцом Слевином была чем-то неслыханным. Мы, благовоспитанные спокойные юноши, не затевали споров и драк. Сейчас я сам этому удивляюсь — ведь мы были мальчишками. Неужто в нас не было шального духа?
Каноник Робсон привел меня в свой кабинет и закрыл дверь.
— Том Кардл говорил, что замышляет побег? — спросил он.
Я помотал головой:
— И словом не обмолвился.
Я нервничал, потому что впервые оказался в этом кабинете, и мне тут не понравилось.
— Он выражал какое-нибудь… недовольство? — Каноник развел руки и улыбнулся. На его лице улыбка выглядела чем-то инородным. Я не хотел выдавать чужие секреты, хоть Том не брал с меня никаких клятв.
— Наверное, он скучал по дому, — сказал я. — По Уэксфорду.
— А кто не скучает? Кстати, я сам родом из Уэксфорда, вы знали?
— Нет, отче.
— Там родился и вырос. Бывали в тех краях, Одран?
Я молча покачал головой.
— Не бывали? — Каноник сузил глаза и нахмурился. «Интересно, что ему обо мне известно? — подумал я. — Что рассказала мама?»
— Что-то не припомню, — уклончиво ответил я.
— Что-то не припомните, — повторил каноник, улыбаясь. — Ладно. Но вы определенно не знаете, куда направился Том Кардл?
— Нет, отче.
— Что ж, поверю вам на слово. — Каноник откинулся в кресле и сложил руки на внушительном животе. — Я понимаю, это нелегко, — помолчав, сказал он. — Оказаться здесь, жить в разлуке с друзьями и родными. А вы всего лишь молодые ребята. Даже чересчур молодые. Иногда я думаю, не лучше ли принимать в семинарию не с семнадцати, а с двадцати пяти лет. Как вы считаете, Одран?
— Не знаю, отче.
— Не знаете. — Каноник тяжело вздохнул, словно отдал бы что угодно за точный ответ. — Том не делился тревогами со своим духовным наставником?
— По-моему, нет, отче.
— Вы понимаете, что духовный наставник для того и существует? Чтобы любой из вас мог обратиться с любым вопросом.
— Понимаю, отче.
— Хорошо. — Каноник задумчиво побарабанил пальцами по столу. Верно ли, что я слышал о Томе и отце Слевине?
— Я не знаю, что вы слышали, — искренне ответил я.
— Вы прекрасно знаете, что я слышал.
— Том был немного дерзок, — признал я.
— Немного дерзок? Всего лишь?
— Он был не прав. Отец Слевин хороший человек.
— И не заслужил подобного обращения?
Я задумался. Священники были разные: суровые, грубоватые, неласковые или чересчур слащавые. Но отец Слевин был добрый, он мне нравился.
— Нет, отче, — наконец ответил я. — Не заслужил.
Каноник Робсон кивнул, вертя в пальцах белую ручку, модную штуковину, писавшую красной, синей, черной и зеленой пастами.
— А как ваши дела, Одран? Вам здесь хорошо?
— Да, отче, — сказал я. — Кажется, еще никогда мне не было так хорошо.
Каноник улыбнулся, довольный моим ответом.
— Молодец. Что ж, не буду мешать вашему досугу. Чем, кстати, вы увлекаетесь? В херлинг играете?
— Иногда. Я в нем не особо хорош. Но, бывает, играю.
— Ну ступайте. До ужина еще двадцать минут свободного времени.
Во дворе все говорили о Томе Кардле. Слух о стычке со священником распространился мгновенно, и другие темы просто не возникали. Многих его выходка потрясла и одновременно смутила, ибо Том затронул нечто взрослое и чужеродное, что никогда не станет частью нашей жизни. Кое-кто из старшекурсников считал это позой, игрой в мужика, но я-то знал, что все не так просто. Я отвел в сторонку заику Мориса Макуэлла и поделился своей тревогой:
— Том Кардл — сексуальный маньяк.
— Иди ты! — ошеломленно вытаращился Морис.
— Точно. Он думает об этом утром, днем и ночью.
— Господи помилуй! Что ж из него выйдет-то, а?
— Не знаю.
Морис задумчиво потер подбородок.
— А ты сам-то? — спросил он.
— Чего — сам?
— Думаешь об этом?
— Нет! — возмутился я, хотя, конечно, думал, но все-таки меньше других. — А ты?
— Я целовался с девчонкой. — Морис подтянулся и выкатил грудь. — Так что кое в чем разбираюсь.
— Понятно, — сказал я.
— Она прям умирала по этому делу. Мама сказала, она потаскуха. А ты когда-нибудь целовался с девчонкой?
Я, конечно, целовался, но почему-то соврал:
— Нет.
— А хотел бы?
— Не знаю.
— По-моему, ты чего-то недоговариваешь, а?
— В смысле? — нахмурился я.
— Да ладно, ты понял.
— Не понял. Ты о чем?
— Том к тебе не пристает?
— Пристает? — вылупился я. — Я в толк не возьму, о чем ты?
— Вот как? — Морис вскинул бровь и тихо добавил: — Что ж, ты ответил на мой вопрос.
Мне стало досадно, что меня держат за дурака. Я хотел осадить Мориса, но он опередил меня новым вопросом:
— Слушай, если Том не вернется, я, может, переберусь в твою келью?
— А чего тебе в своей не живется? У тебя кто в соседях, Сопля?
Сопля. Невероятно жирный парень из Гленнагири получил эту кличку благодаря своим вечным простудам.
— Я бы от него съехал, — сказал Морис.
— Почему? Вы что, не ладите?
— Не в том дело. — Морис отвернулся. Я ждал продолжения, но он, похоже, не мог решиться. Разговор зачах, так и не начавшись; наверное, нам бы обоим полегчало, если б мы отважились на искренность. — Ладно, проехали. Но ты не забудь про меня, если Том не объявится.
— Это не я решаю. Поговори с каноником. Я не против.
Морис поджал губы. Я попытался вернуть разговор к прежней теме:
— А кто она такая, девушка, с которой ты целовался?
— Неважно, теперь все это в прошлом. — Морис уставился в землю.
— Я счастлив тем, что имею, — помолчав, сказал я.
— Я тоже, — кивнул Морис.
Вот так вот. Похоже, все были счастливы тем, что имели. Все, кроме Тома Кардла.
Прошло несколько дней, и он вернулся. В свой свободный час мы играли в английскую лапту, из курток соорудив воротца в углах двора. Команды были набраны вперемешку из старшекурсников и молодняка, отец Дементьев исполнял роль судьи, и все шло отлично, но потом нас отвлек необычный шум, и мы, побросав мячи и теннисные ракетки, заменявшие биты, побежали глянуть, что там такое.
Никогда не забуду эту картину: оставляя шлейф черного дыма, по дороге взбирался трактор; на пассажирском сиденье Том Кардл собственной персоной, рядом мужчина в повседневной крестьянской одежде и кепке, надвинутой на глаза, — явно его отец.
— Неужто на этой штуковине он прикатил из самого Уэксфорда? — опешил Мик Сёрр.
— Именно так он приехал на учебу, — сказал я.
— Ничего себе поездочка! — В голосе Мика слышалось изумление пополам с восхищением. — А поездом-то нельзя, что ли?
Я вышел вперед, и Том, заметив меня, невозмутимо отсалютовал двумя пальцами, приложенными к виску. Он вернулся. Его вернули. Прощально рыкнув, несчастный трактор остановился, отец с сыном спрыгнули на землю и направились в контору.
— Том! — окликнул я.
— Привет, Одран, — ответил он.
— Шагай, паршивец, — буркнул его отец, и они скрылись за дверью конторы. Но я успел заметить пожелтевший синяк под глазом моего друга и ссадину на губе. Я, кажется, не сказал, что одна рука его была в гипсе? Тома били смертным боем. Но он вернулся, и я, прости Господи, был этому рад, потому что ужасно по нему соскучился и не хотел соседствовать с Морисом Макуэллом.
Последние годы на Рождество по телевизору показывают «Большой побег», и всякий раз я его смотрю. Этот фильм смотри хоть тысячу раз, не надоест. Там есть один парень, шотландец Айвз, в начале картины заводила, душа компании, а потом он совершает побег, но его ловят, и с той минуты он уже ни разу не улыбнется, мы видим лишь тень его прежнего. Он послушно исполняет все приказы охраны. Не хулиганит. Не шутит. За побег ему крепко досталось. Его били. И выбили из него прежнего Айвза. Однажды на глазах у охранников он лезет через ограду, потому что знает: его пристрелят и положат конец его мучениям.
Каждое Рождество я смотрю «Большой побег» и на этой сцене вспоминаю, каким Том Кардл вернулся в семинарию. Кто знает, что он изведал в первые дни после побега? Он добрался домой, где отец отходил его ремнем, отдубасил кулаками и ногами, потом затолкал в трактор и вывез на дублинскую дорогу. С тех пор Том стал покорным.
Он больше никогда не схлестывался со священником, как было с отцом Слевином. Он молился, репетировал григорианский хорал, вставал в шесть утра и не жаловался. Каноник сказал, что в семинарии нет запоров, ни внутри ни снаружи, но он не учел человека из Уэксфорда, который некогда был чемпионом графства по боксу и хотел, чтобы его младший сын стал священником.
Том Кардл, бойкий парень, понимающий, что такая жизнь не для него, стал другим.
Из него выбили его прежнего.
Глава 8 2011
Мы с Джонасом условились пообедать в кафе возле парка Святого Стефана. Теперь я редко бывал в городе. В церковном облачении появиться на людях означало неприятности. Меня ждали презрительные взгляды заносчивых студентов и обрюзглых бизнесменов. Мамаши прижимали к себе детей, а какой-нибудь прохожий непременно отпускал оскорбительную реплику. Безусловно, я мог бы облачиться в мирскую одежду и стать неприметным, но я этого не желал. Пусть насмешки. Пусть унижение. Я останусь самим собой.
Трамвай подъехал к остановке, и я увидел Джонаса — перед вогнутыми дверями «Одуванчика» он разговаривал с парнем лет двадцати шести, своим ровесником, оживленно жестикулировавшим. Мы не виделись порядочно, и облик племянника меня удивил: волосы до плеч сменила очень короткая стрижка, выгодно подчеркнувшая резко очерченные скулы и синие глаза. Заметив меня, Джонас глянул на часы, бросил и затоптал недокуренную сигарету. Одет он был так, словно утром накинул первое попавшееся под руку, но я заподозрил, что он долго раздумывал, как преподнести себя миру. Тесные джинсы, хорошо смотревшиеся на длинных стройных ногах, грубые ботинки, по виду весом с тонну, подвернутые рукава рубашки, на шее некое подобие шарфа… Девушки наверняка поглядывали на симпатичного парня с двухдневной мужественной небритостью. Внешностью Джонас пошел в отца.
— Одран! — Сердечно улыбаясь, племянник протянул мне руку. Обращение ко мне он уже давно не предварял словом «дядя». Его приятель с такой же тщательно продуманной щетиной, которая ему совсем не шла, уставился на меня как на восьмое чудо света.
— Рад тебя видеть, Джонас. — Я улыбнулся и пожал ему руку. Даже подумал, не обняться ли нам, но племянник был напряжен и, видимо, хотел сохранить дистанцию.
— Не рановато ли для маскарада? — Приятель Джонаса осклабился, точно бурундук. Люди редко вызывают у меня неприязнь, но этот наглый молокосос мне не понравился сразу.
— Заткнись, Марк. — Джонас одернул его не сердито, а как-то устало. — Одран священник. Потому так одет.
— Че, серьезно?
Мы не ответили.
— Ты голоден, Одран? — спросил Джонас.
— Да.
— Ты нас не познакомишь? — вмешался приятель.
Джонас помешкал, словно раздумывая, стоит ли утруждаться, и пожал плечами:
— Одран, это Марк. Марк, это Одран. Мой дядя.
— Шутишь, да? — Приятель подавил смешок.
— С какой стати?
— Ага. — Марк смерил меня взглядом. — Вы вправду священник?
— Да, вправду.
Марк глянул на Джонаса:
— Я не знал, что у тебя в семье церковник. Прямо в духе пятидесятых годов. И ты помалкивал?
— Я помалкиваю о многом, — ответил Джонас. — И потом, разве я рассказывал тебе о своей семье?
— Нет, я в том смысле…
— Смотрите, Боно! — Я показал на Арку Стрелков, через которую из парка вышел сам ирландский рок-идол в своих знаменитых красных солнечных очках. Он вскинул руку, подзывая такси, прохожие судорожно доставали мобильники, чтобы его запечатлеть. Мои собеседники посмотрели на знаменитость, но Джонас тотчас отвернулся и глянул на часы:
— Нам пора. Впереди еще много дел.
— Конечно, — поддержал я, надеясь, что Марк не будет с нами обедать. С племянником мы виделись редко, и я ни с кем не хотел его делить.
— Ты куда-то собирался? — спросил Джонас приятеля.
— Да-да. — Марк вроде как сник. — Позже я позвоню?
— Как тебе угодно, — сказал Джонас. — Мой телефон, наверное, будет выключен. До позднего вечера.
— Почему?
— Потому что я его отключу.
Бедняга Марк сглотнул — он сник определенно — и потупился.
— Ладно, — сказал он. — Но я все же попробую. Если не дозвонюсь, оставлю сообщение и, может быть, встретимся позже?
— Может быть, — уклончиво ответил Джонас. — Я еще не знаю своих планов.
— Весь вечер я свободен.
Марк смотрел на Джонаса, точно щенок, ожидающий лакомства от хозяина. Но нет, его ничем не угостили.
— Приятно познакомиться, дядя Одран, — сказал он, одарив меня кивком.
— Вам я не дядя, — усмехнулся я. Что, получил? — подумал я, глядя, как он неохотно отваливает. — Ну, пошли?
Место встречи выбрал Джонас. Когда мы сговаривались по телефону, он предложил кафе неподалеку от радиостанции «Тудей ФМ», где полчаса назад закончил беседу с Рэем Д’Арси[26].
— Как поживаешь? — спросил Джонас, когда мы заказали два салата, бутылку пива и минеральную воду. (Пиво взял я, чтобы успокоиться. В трамвае два парня нарочно задели меня плечом. Они даже не извинились, а один хмыкнул и шепнул «педофил». Я промолчал и, найдя место, глядел в окно. Однако расстроился.)
— Хорошо, — ответил я.
— По-прежнему служишь в приходе?
— Кара за грехи.
— Никаких перспектив вернуться в школу?
Я покачал головой:
— По всему, дохлый номер. Мой преемник, нигерийский священник, выказал удаль в регби и стал тренером команды старшеклассников. И уж после событий последней недели…
— А что случилось?
— Наша команда завоевала кубок, ты не читал в газетах?
Джонас равнодушно пожал плечами. Это его не трогало.
— Я к тому, что после такой победы должность за ним навсегда. Я уже не вернусь.
— Скучаешь по школе?
— Скучаю.
— Есть и другие школы.
Я покачал головой:
— Я прикипел к Теренуру. И потом, не я выбираю. Отправляюсь, куда пошлет архиепископ.
— Да ладно? — Джонас смотрел недоверчиво.
— Никаких «ладно». Без вариантов.
— В Теренурском колледже учился один мой знакомый. — Джонас огляделся, задержав взгляд на своем отражении в зеркале. — Джейсон Уикс. Ты его знал?
— Я помню Джейсона, — кивнул я.
— И хорошо его знал?
Я помотал головой:
— Да не особо.
— А того учителя? Как бишь, его?
— Донлан, — сказал я. — Отец Майлз Донлан.
— Его ты знал хорошо?
— Довольно хорошо. Откуда ты знаешь Джейсона?
— В Тринити вместе учились на филологическом.
— Отношения поддерживаете?
— Нет, он в тюрьме.
Я оторопел. Ничего себе новость.
— В тюрьме? За что?
— Ограбил винный магазин.
— Не может быть!
— Может.
— Но зачем?
Джонас пожал плечами:
— Наверное, из-за денег.
— Он же из очень богатой семьи. Кажется, его отец какая-то шишка в Объединенном ирландском банке? Помнится, он приходил на все регбийные матчи и как бешеный орал на сына. После одного проигрыша влепил ему оплеуху, мистер Кэрролл буквально оттащил его от парня.
— Отец давно его вышвырнул. Он пристрастился к игре и наркотикам…
— Отец?
— Да нет, Джейсон.
— Невероятно.
— И тем не менее. Из-за этого Донлана он совсем охерел. — Джонас вскинул ладонь, извиняясь за грязное слово: — Прости.
— Ты винишь Донлана в том, что сделал Джейсон? — спросил я, переваривая новость.
— Конечно. Я знаю Джейсона с первого курса. Он просто кипел от злости. А после суда над Донланом поостыл.
— Они… — я не знал, как спросить, чтобы не вышло смешно, — не в одной тюрьме, нет?
— Понятия не имею, я не общаюсь с Джейсоном. А ты общаешься с Донланом, что ли?
— Нет.
— Сколько он получил?
— Если не ошибаюсь, шесть лет.
Джонас рассмеялся:
— Джейсону дали двенадцать. Забавно, правда?
— Смотря что считать забавным. — Я обрадовался, что нам подали еду. Разговор этот мне совсем не нравился, я попробовал сменить тему: — Видел тебя по телевизору.
Польщенный, Джонас улыбнулся:
— Правда?
Куда подевался тот застенчивый нервный подросток, каким он был десять лет назад? — подумал я. Сгинул бесследно. Сейчас он излучал превосходство. Незамутненное высокомерие. Потребность в успехе и признании. Чтоб все его замечали. Отчего ему это столь важно, если он и так хорошо устроился в жизни?
— Да. Ты никогда не думал пойти в актеры? Ведущего ты уделал в пух и прах.
— Нет, не думал.
— Откуда в тебе такая уверенность? В детстве ты был ужасно робкий.
— Я притворяюсь, — сказал Джонас. — Если честно, я был пьяный.
— Что-что?
— Так, слегка. Сначала принял дозу в «Оленьей голове», да в гримерной выпивки было полно. Я набрался вдохновения.
— После тебя выступал Питер О’Тул.
— Ну да.
— Ты с ним говорил?
— Так, перебросились парой слов.
— Какой он?
— Не знаю. Старый. По-моему, он не соображал, что происходит. Попросил в долг полтинник.
— Ты дал?
— Нет. Плакали б мои денежки.
— Как продается книга? — спросил я.
— Она вышла всего неделю назад. Посмотрим.
На днях я шел по Графтон-стрит и в витрине книжного магазина, что напротив музыкального салона, увидел штук двадцать афиш. Половина из них представляла книгу, половина — самого Джонаса. На плакате он выглядел точно модель с рекламы одежды от Кельвина Кляйна: рубашка расстегнута до пупа, рука зарылась в шевелюру, недоуменный взгляд прямо в объектив. Интересно, подумал я, каково быть писателем, не обладающим этакой внешностью? Нынче издатели, наверное, и на порог не пустят, если выглядишь как обычный человек.
— Работаешь над чем-нибудь новым?
— Работаю.
— О чем книга?
— О том о сем. — Джонас тщательно разжевал брокколи. — Не перескажешь.
Я вздохнул. Наверное, я ему не нравился. Либо он просто хамил.
— Тут вот твоя мама… — после долгой паузы сказал я.
— Да, мама, — кивнул Джонас.
— Недавно я ее навестил.
— Я знаю. Я был у нее на другой день после тебя. Сиделка сказала, что ты приезжал.
— Улучшений, похоже, нет?
Джонас нахмурился, как будто слегка удивившись вопросу:
— Ты же знаешь, что не будет никаких улучшений.
— Я в том смысле, что рассудок ее быстро угасает. Первые двадцать минут она меня даже не узнавала, потом очнулась и была вполне разумной. А затем попросила глянуть, не ушла ли еще Кейт Буш, и взять у нее автограф.
Не сдержавшись, Джонас рассмеялся:
— Певица Кейт Буш?
— Ну да. Видимо, слышала ее по радио.
— Наверное. Вряд ли Кейт Буш ездит по приютам, верно?
Я не стал отвечать. Прихлебнул пиво. Поковырялся в салате.
— Тот парень твой друг? — спросил я.
— Какой парень?
— Как его, Марк?
Джонас нахмурился:
— А что?
— Он твой… как это называется… партнер?
— Господи, нет. — Джонас так скривился, словно я уличил его в непотребстве.
— Я в этом не разбираюсь.
— Обычный приятель, вот и все. Даже не приятель. Просто знакомый. Он написал роман.
— Успешный?
— Пока что никакой. Он ищет издателя. Просит помочь.
— Книга-то хорошая?
Джонас пожал плечами:
— Я не читал.
— Но прочтешь?
— Нет, если удастся.
Я кивнул и съел немного салата. Высокомерие Джонаса меня раздражало. Наконец я выдавил: — А тебе разве никто не помогал, когда ты начинал?
— Ни одна душа.
Я посмотрел в окно. Прохожие — все в основном молодые, как Джонас, — о чем-то болтали и выглядели счастливыми. Я подумал, что племянник мой, несмотря на весь свой успех, деньги, экранизированный роман и книги, выходившие одна за другой, удовлетворен жизнью гораздо меньше, чем любой из них.
— В твоей жизни есть кто-то особенный? — спросил я, прекрасно сознавая, что подобные вопросы задает лишь тот, кто сам отчаянно ищет счастья.
— Ты на самом деле хочешь знать? — улыбнулся Джонас.
— Иначе не спрашивал бы.
— Нет никого особенного. Мне и одному хорошо.
Это тему я больше не затрагивал. Не то чтобы меня смущала ориентация моего племянника, просто мне, лишенному всякого сексуального опыта, не с чем было сравнивать. Если сделать вид, что гомосексуализм ничуть не хуже натуральных отношений, не будет ли это выглядеть снисходительностью? А если вести себя так, словно это отклонение, не нанесу ли я оскорбление? Точно на минном поле. Что ни скажешь, все не так. Нынче плюнуть нельзя, чтоб кого-нибудь не обидеть. Мы с Джонасом никогда не углублялись в сию тему, а в интервью об этом он говорил неохотно, словно не понимая, почему кого-то интересует, с кем он спит. В своих четырех романах (последний я еще не читал) он лишь однажды коснулся данного предмета и этой книгой сделал себе имя. Было время, когда казалось, ее читают все поголовно.
В романе под названием «Шатер» действие происходит не где-нибудь, а в Австралии, к которой Джонас, я знал, питает особую привязанность. Книга небольшая, это самый короткий роман Джонаса, там все случается за два выходных дня. Главный персонаж, молодой ирландец, заехавший в этакую даль в поисках работы, видит объявление о концерте певца, с которым лет десять назад был немного знаком по Дублину. Выступление состоится через неделю в сиднейском Гайд-парке и пройдет в шатре — сооружении из деревянных конструкций, парусины и зеркал. Герой покупает билет и посылает весточку музыканту, тот вспоминает их недолгое знакомство, и они договариваются вместе выпить после концерта. Затем идет большая сцена, когда герой сидит во втором ряду, смотрит на певца и вспоминает давние дублинские события, которые нанесли ему душевную рану и к которым музыкант имел некоторое отношение через их общего приятеля. Надо же такому случиться, герой и музыкант — оба геи. Между ними никогда ничего не было, хотя когда-то давно герой по уши втрескался в певца и теперь сидит, зачарованный изяществом его музыки и неписаной красотой. Музыкант весьма тщедушен, ему далеко за двадцать, но лицом он прямо мальчик из церковного хора. Герой в смятении. Ему кажется, будто вся его жизнь шла к этому дню. Такое впечатление, что молодой музыкант повествует о трудном детстве героя и перечисляет все горести его жизни, не пропуская ни одной. Потом в баре они сидят за пивом, и герой впитывает каждое слово певца. Пусть мы едва знакомы, хочет сказать он, но между нами существует взаимопонимание. Он сгорает от желания прикоснуться к музыканту. Он уверен, что самой судьбой предназначен этому юноше в нежно-голубых брюках, из-под которых выглядывают лодыжки и с которыми не очень-то сочетаются кроссовки, этому певцу с миниатюрной гитарой, но чувства его захлестывают, и он боится, что если заговорит о них, то покажется банальным или напыщенным, чем отпугнет музыканта. Герой обречен на неудачу; он молчит, опасаясь сказать не то. Тут к их столику подходит пара — мужчина с девушкой. Они тоже были на концерте, слушали молодого музыканта и теперь хотят угостить его выпивкой. Было двое, стало четверо, но вновь пришедшие совершенно не интересуются героем. Наконец музыкант говорит, что ему пора в отель — мол, завтра опять концерт, надо поберечь горло. Герой хочет его проводить, надеясь, что по дороге отыщет слова, которые выразят его чувства, но, увы, — как назло, эта пара туристов остановилась в том же отеле и предлагает втроем ехать на такси. Через минуту они исчезают, и герой ошеломлен тем, как быстро он остался один. Позже музыкант присылает эсэмэску — он спрашивает, придет ли герой на завтрашний концерт, и тот отвечает «нет», ссылаясь на загруженность работой. Но это вранье, и герой плачет в своей одинокой квартире. Его пугает физическая близость, к которой может привести новая встреча. Однако на другой вечер, когда концерт заканчивается, ноги сами несут его к шатру, и тут история принимает неожиданный оборот.
Я просто излагаю сюжет. Рассказчик из меня никакой. У Джонаса все гораздо лучше.
— Так вот о маме, — опять начал я.
— Да-да, — откликнулся Джонас.
— Врачи предупредили о возможности резкой перемены.
— Ей обеспечен отличный уход.
— Даже не сомневаюсь.
— И потом, я навещаю ее регулярно. Иногда дважды в неделю.
— Да, я знаю, Джонас. Я тебя не укоряю. Ты хороший сын.
Он кивнул.
— Об Эйдане что-нибудь слышно? — спросил я. — Как он?
— Прекрасно.
— По-прежнему в Лондоне?
— Бог с тобой, давно уехал.
Я удивился:
— Как так?
— Вот так.
— И где же он теперь?
Джонас помолчал, отпил воды.
— Эйдан тебя не известил? — осведомился он.
— Зачем бы я спрашивал?
Джонас мялся.
— Я не могу сказать.
— Не можешь сказать, где он живет?
— Нет.
— Это государственная тайна? Он что, в программе защиты свидетелей?
— Одран…
— Почему нельзя сказать?
— Потому что он сам бы тебе сказал, если б хотел.
Я опешил:
— Зачем ему от меня скрываться?
— Вот у него и спроси.
— Как же я спрошу, если не знаю, где он?
Джонас промолчал, разговор этот явно ему надоел.
— Что Эйдан имеет против меня? Хоть это можешь сказать?
— Вот у него и спроси, — повторил Джонас.
— Невероятно. — Я откинулся на стуле. — Джонас, просто скажи, сделай милость, где живет твой брат.
Племянник наконец сдался:
— В Лиллехаммере.
— В Лиллехаммере? В Норвегии?
— Да.
— Там, где ваша бабушка?
— Да.
Я покачал головой:
— Впервые об этом слышу. А вы, значит, общаетесь?
— Конечно, общаемся. Мы же братья.
— Так и я ему дядя, но ничего о нем не знаю.
— Он очень занят. — Джонас сглотнул. — Весь в делах. Да еще Марта с детьми.
— Я никогда их не видел. — Я вдруг почувствовал, что накатывают слезы. — А Ханна с ними встречалась?
— Он не привозит их в Ирландию.
— Почему?
— Его не тянет в родные края.
— Но почему? — не отставал я.
Джонас пожал плечами:
— Говорю же, он очень занят.
Я покачал головой.
— Не понимаю, что я ему такого сделал, — сказал я и сам расслышал жалобность своего тона. — Всегда поздравлял его с днем рождения. Я всегда вас обоих поздравлял.
— Не бери в голову, Одран. Ну не хочет он поддерживать старые знакомства.
— Я не просто знакомец. — Рассерженный, я подался вперед. — Я ему, между прочим, родной дядя.
— Чего ты завелся?
— Я не завелся. Только обидно, вот и все.
— Что ж, ты не один такой страдалец.
Я нахмурился. Кого он имеет в виду? Свою мать? А то я не знаю, что Ханна страдает. И что сыновья ее тоже страдают, видя, в каком она состоянии.
— Наверное, я мог бы ему позвонить, — наконец сказал я.
— Ты не знаешь его номер.
— Так дай мне.
— Сначала спрошу у него разрешение.
В глазах Джонаса промелькнуло нечто сродни презрению, и он рассмеялся. Потом вдруг взял мое пиво, сделал добрый глоток и поставил стакан на место, ничего не объяснив и не извинившись.
— Если хочешь, я у него справлюсь, — сказал он. — Раз уж тебе так неймется.
И тут из динамиков зазвучала песня, которую последнее время часто крутили по радио, — мужской голос пел без всякого напряга, но очень проникновенно. Джонас мученически прикрыл глаза, словно в приступе дурноты. Я понимал, каково ему. Он бы не смог ранить меня сильнее, даже если б сдернул со стула, зажал мою голову под мышкой и раз-другой саданул кулаком в лицо. Что я такого сделал своим племянникам, что они так меня презирают? Чем я их так обидел?
— Ладно, не надо. — Я отвернулся. — Как-нибудь в другой раз.
Эйдан.
Я помню, когда родители отчаялись с ним справиться. Ему было одиннадцать, он на пару лет раньше сверстников стал неуправляемым, своими безумными выходками доставляя отцу с матерью массу огорчений. Вот, скажем, случай с мальчиком, который еще недавно был его лучшим другом. Из-за чего-то они сцепились, началась драка, Эйдан выбил приятелю зуб, и Ханна с Кристианом еле-еле умиротворили родителей пострадавшего. Потом Эйдан проколол покрышки на машине священника, который тридцать лет учительствовал в школе и вскоре собирался на пенсию. Из-за этого происшествия бедняга ушел раньше времени. Эйдану дали испытательный срок, и директор пригрозил ему большими неприятностями, если он не изменит своего поведения.
У меня оборвалось сердце, когда Кристиан мне позвонил и попросил поговорить с племянником. Эйдан мне нравился, мы с ним ладили, но вообще-то я не очень хорошо его знал. Только с возрастом я понял: я был скверным дядюшкой для своих племянников и это моя крупная жизненная неудача. Да, я всегда был к ним добр, да, я исправно поздравлял их с днем рождения (о чем не преминул напомнить Джонасу) и не забывал о рождественских гостинцах, но, положа руку на сердце, я отсутствовал в их жизни и не давал им повода меня любить. Несмотря на семь лет в семинарии, где меня окружала молодежь, и тридцать лет работы с подростками в Теренуре, мне всегда было трудно общаться с детьми Ханны, словно мешало то обстоятельство, что у сестры есть семья, а у меня нет. Гордиться мне нечем; я много раз говорил себе, что должен постараться и выстроить родственные отношения с Эйданом и Джонасом, но упустил драгоценное время, а вместе с ним и возможность таких отношений. И оттого просьба приструнить Эйдана, доставлявшего столько хлопот родителям, меня испугала.
— Я больше не могу говорить с ним, Одран, — пожаловался Кристиан. — Почти все время он обитает на своей собственной планете.
— В своем собственном мире, — поправил я. Зять мой давно жил в Дублине, но все еще мило путался в идиомах.
— Да, в собственном мире. Может, сторонний человек, дядюшка, сумеет его вразумить.
Я обещал попытаться, и вот через несколько дней мы втроем уселись в гостиной (Эйдан с явной неохотой), и я спросил племянника, не беспокоит ли его что-нибудь.
— Угроза мировой термоядерной войны, — мгновенно ответил Эйдан, и я рассмеялся, вспомнив, как сам нечто подобное говорил маме, выведывавшей мое настроение.
— А что еще? — спросил я. — Что-нибудь более личное.
— Разве этого мало? Все человечество может погибнуть.
— Перспектива безрадостная, — согласился я. — Но твой одноклассник в этом не виноват, правда? Как и твой учитель.
Эйдан пожал плечами и отвернулся. Затем попросил у матери шоколадку, но получил отказ — дескать, испортит аппетит перед ужином.
— Родители ужасно за тебя беспокоятся, — сказал я.
Эйдан фыркнул и покачал головой.
— Это правда, — упорствовал я.
— Так и есть, — хором сказали Ханна с Кристианом, а парень потянулся и во весь рот зевнул.
— Нехорошо, — упрекнул я. — Веди себя прилично, пожалуйста.
— Я устал, Оди, — сказал Эйдан. Оди. Никто никогда меня так не называл, кроме него. Когда он только учился говорить, никак не мог выговорить «Одран». У него получалось «Оди», и с тех пор он так меня и звал. Попробуй кто другой назвать меня «Оди», я бы его одернул, но у Эйдана это получалось обаятельно. Закрадывалась мысль, что он меня любит больше, чем выказывает.
— Ночью спишь хорошо? — спросил я.
— Он полуночничает, — вставила Ханна. — А потом не добудишься в школу. Ясное дело, днем он квелый.
— Как дела в школе? — Я проигнорировал реплику сестры. Возможно, разговор не клеился из-за родителей, но я считал себя не вправе просить их оставить нас вдвоем.
— Скукота, — ответил Эйдан.
— Вот, извольте! — всплеснул рукам Кристиан. — Ему все скукота. Ничто не интересно.
— А почему в школе скучно? — спросил я. — Ты же там вместе с друзьями.
— Плевать я на них хотел. Все они идиоты.
— А с кем ты играешь?
— Играю? — ухмыльнулся Эйдан.
— Да.
— Я ни с кем не играю.
А с Джонасом?
— Он кретин. И зануда.
— Видали? — Кристиан покачал головой. — Я не знаю, что с ним делать. Звал его летом на пару недель съездить к бабушке в Лиллехаммер — нет, не хочет.
— Там скукота, — сказал Эйдан. — Ты не представляешь, какая там скучища, Оди. Ты ж там не был.
— Вообще-то, был, — возразил я. — Ездил на свадьбу твоих родителей. Прекрасно провел время.
— А потом ездил?
— Нет, но…
— То-то и оно.
— Я не знаю, что тебе сказать, — вздохнул я, уже чувствуя свое поражение. — Молодой парень, а ведешь себя как пресытившийся оболтус, причем совершенно, на мой взгляд, беспричинно. В твоем возрасте из меня жизнь била ключом.
— Я не ты.
— Да, верно. Но я жил полной жизнью, хотя у меня не было столько друзей, как у тебя, и счастливой семьи. Знаешь, настоящий друг у меня появился только в семнадцать лет, когда в семинарии я встретил Тома Кардла.
— Как поживает отец Том? — спросила Ханна, но я отмахнулся — давай потом, сейчас разговор об Эйдане.
— Мне нужно в уборную. — Эйдан вскочил, словно его вот-вот вырвет, но выглядело это предлогом, чтобы закончить разговор.
— Ну что ж, иди, — сказал я.
В туалет он не пошел. Но отправился в сад, где набрал камней и одно за другим разнес все стекла в оранжерее Кристиана. Мы выскочили из дома, отец сгреб его в охапку, Эйдан визжал и брыкался. Я не понимал, почему вдруг его обуяло желание разрушать.
И это еще было ничего. Потом все долго катилось под откос, в результате Эйдан уехал на лондонские стройки. И похоже, напрочь исчез из моей жизни.
Я распрощался с Джонасом и по Графтон-стрит пошел к универмагу «Браун Томас», собираясь купить новые перчатки. По радио неустанно талдычили о финансовом кризисе, однако в середине дня улица кишела народом, шнырявшим по магазинам. Для режима строгой экономии было слишком людно. Перед «Бургер Кинг» два парня и девушка с гитарами исполняли старую песню Люка Келли; чуть дальше, у магазина мобильных телефонов, изрядная толпа внимала Моцарту во вдохновенной интерпретации струнного квартета. Возле «Брауна Томаса» на подставке застыл вызолоченный человек, устремивший взгляд в небытие, в шляпе у его ног лежало всего несколько монет. Эти живые скульптуры меня всегда смущали. Музыканты хоть предлагали свое искусство, и было скупердяйством не отблагодарить за него. А что предлагали эти истуканы? Мертвую неподвижность? С какой стати за это платить? И потом, где такая фигура обряжается в свой вычурный костюм, где золотит лицо и руки? Она что, в этаком виде едет в трамвае или автобусе? И если вдруг потрется о соседа-пассажира, тот тоже вызолотится?
У входа в универмаг стояла еще одна обряженная личность, но она только распахнула дверь передо мной и равнодушно буркнула «Добрый день, сэр», невзирая на мой пасторский воротничок. Я подметил, что нынче люди теряются в обращении к священнику, как будто слово «отче» их обескураживает и даже пугает. В магазине кое-кто на меня покосился, а от перегляда и ухмылок двух девиц в отделе косметики мне стало слегка не по себе.
Я уж сто лет не бывал в «Брауне Томасе». Теперь здесь сплошь стекло, белые лестницы, зеркала, А я помню его еще универмагом Швицера, куда мама водила нас с Ханной смотреть рождественскую витрину, и мы стояли в очереди, трепеща перед встречей с Санта-Клаусом в его темном гроте, обители эльфов. Сейчас в центре зала стояла манящая дива, держа флакон духов, точно гранату, из которой вот-вот выдернет чеку, а затем и впрямь оросила парфюмом покупателей, застигнутых врасплох.
— Как пройти в мужской отдел? — спросил я спешившую мимо продавщицу.
— Вниз по лестнице. — На ходу девица выставила палец в угол зала.
Проследовав указанным маршрутом, я вновь оказался в царстве стекла и зеркал, причудливо поделенном на секции одна в другой, точно русская матрешка. Ко мне повернулись головы нескольких молодых людей, занятых складыванием рубашек и джинсов. К одному я опасливо приблизился.
— Мне нужны перчатки, — сказал я.
— Чьи? — спросил продавец.
— Простите?
— Чьи перчатки? — повторил он.
Я тупо уставился на него:
— В данный момент — ваши. Вернее, магазинные. Но я хочу их купить. Чтобы они стали моими.
Продавец вздохнул, точно жизнь его была тяжким бременем.
— Хуго Босс? Кельвин Кляйн? Том Форд? Тед…
Похоже, он мог перечислять до вечера, и я его прервал:
— Просто хорошие черные перчатки. Без меховой подкладки. Не слишком дорогие. Фирма не имеет значения.
Продавец подвел меня к столу, на котором аккуратными рядами лежали перчатки с ценниками. Я сразу увидел пару именно таких, какие хотел.
— Пожалуй, эти. — Я примерил перчатку. Сидела как влитая. Я глянул на ценник. Двести двадцать евро. — Тут, наверное, ошибка, — сказал я, показывая бирку.
— Все верно. Вам повезло. Эта пара попала в распродажу.
Я рассмеялся:
— Вы шутите? В стране кризис, не слыхали?
— «Брауна Томаса» он не коснулся, сэр.
— Однако. — Я покачал головой, сраженный ценой. Кто же отдаст такие деньги за перчатки, которые рано или поздно забудешь в каком-нибудь автобусе?
— До уценки они стоили три сотни, — сказал продавец. — Чудесные, верно? Прям жалко носить.
— Да, но мне, видите ли, нужны перчатки, чтобы именно их носить. Для чего они, собственно, и предназначены. Нет ли у вас каких-нибудь подешевле?
— Подешевле? — Продавец скорчил такую мину, словно я выматерился на панихиде. — У нас кое-что осталось с прошлого сезона. Если вам будет не стыдно в них показаться. Цена от ста пятидесяти.
Я опять засмеялся и покачал головой:
— Наверное, лучше мне заглянуть в «Маркс и Спенсер», что на другой стороне улицы.
Продавец улыбнулся; возможно, парень и не пытался меня высмеять.
— Там цены ниже, — сказал он. — Но те перчатки вам долго не прослужат. Может выйти, что… как это говорится…
— Скупой платит дважды?
— Вот именно.
— И все же я туда наведаюсь. Если ничего не пригляжу, вернусь к вам.
Продавец кивнул и отвернулся, потеряв ко мне интерес, а я поднялся на цокольный этаж и пошел к выходу. Вот тогда-то я его и увидел. Посреди зала стоял мальчик лет пяти, не больше. Один-одинешенек, он был заметно испуган, дрожащая нижняя губа подсказывала, что малыш в раздумье: дать волю слезам сейчас или подождать еще минуту-другую. Я растерянно огляделся, надеясь, что мамаша вот-вот объявится. Но она не появилась, а слезы уже текли, и парень ладошками их утирал.
И что, скажите на милость, мог я сделать, как не подойти к нему?
— Что случилось, сынок? — наклонился я к мальчику. — Ты, часом, не потерялся?
Он вроде как обрадовался, но взглянул на меня боязливо. Потом сглотнул слезы и кивнул.
— Ты пришел с мамой? Или с папой?
— С мамой, — чуть слышно ответил мальчик. — Но она куда-то делась.
— Она тут, в магазине? Может, поищем ее?
Малыш помотал головой и показал на боковой выход — стеклянную дверь, сквозь которую виднелась ювелирная лавка Уира.
— Она ушла вон туда, — сказал он. — А меня бросила.
— Не могла она тебя бросить. Наверное, она думала, что ты идешь следом, правда?
Мальчик опять помотал головой и снова показал на улицу. Я беспомощно огляделся, уверенный, что сию секунду появится заполошная мать, потерявшая своего ребенка.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Кайл.
— И сколько тебе годиков, Кайл?
— Пять, — ответил мальчик. Сразу.
— Ты у мамы один или у тебя есть братья-сестры?
— Сестра, она в школе.
— Ладно. Давай попробуем отыскать твою маму, хорошо?
Я хотел взять его за руку, но малыш затряс головой и снова показал на боковую дверь.
— Она ушла вон туда, — настойчиво повторил он. — Вышла на улицу.
И вот тут я, значит, совершил ошибку. Я мог бы отвести малыша к продавщице, торговавшей маникюрным лаком, и попросить, чтобы по трансляции передали объявление: потерявшийся мальчик ждет маму. Я мог бы обратиться к любому из множества напыщенных охранников. Или вызвать администратора. Ничего этого я не сделал. Я не прикидывал, как можно поступить. Я поверил на слово растерянному пятилетнему ребенку: видимо, мамаша его, подумал я, и впрямь вышла на Уиклоу-стрит, полагая, что сынок тащится следом, уже дотопала до поворота на Джордж-стрит и теперь в слепой панике мечется, гадая, куда делось ее чадо.
— Ну что ж, идем поищем. — Я взял мальчика за руку — это вторая ошибка — и повел к выходу. А вот и третья ошибка: мы вышли на зябкую улицу, магазинные двери сомкнулись за нашими спинами. — Как ты думаешь, куда она пошла? — спросил я. — Налево или направо?
Малыш повертел головой — наверное, он еще не знал, где лево, где право, — и, минуя бар «Интернэшнл», показал в сторону Центрального отеля.
— Ну идем, — повторил я и, крепко держа мальчика за руку, зашагал по улице. — Туда-сюда побродим — глядишь, мама и отыщется.
У чайного магазина я увидел полицейского и решил, что если мамаша не найдется, то передам мальчика представителю власти и дождусь, когда ее обнаружат.
Вот так мы и брели по Уиклоу-стрит: священник в годах за руку с пятилетним мальчиком, которого он увел из магазина. Я ополоумел, что ли? Разучился думать? Мозгов у меня, видно, совсем не осталось?
— Хочешь мороженое? — спросил я. Мы проходили мимо газетного киоска, а я видел, что мальчик вот-вот заплачет. — Может, это поправит тебе настроение?
Ответить малыш не успел, поскольку сзади раздался дикий вопль, и я, обернувшись, увидел, что на меня смотрит вся улица, а ко мне летит, точно олимпийская чемпионка, разъяренная женщина и орет, чтобы я убрал свои поганые лапы от ее сына. Прежде чем я сообразил, что к чему, один человек вырвал ребенка из моих рук, а другой меня отпихнул и заехал кулаком мне в лицо, после чего на ближайшие десять минут я вырубился.
Очнулся я на заднем сиденье полицейской машины, которая, миновав арку Тринити-колледжа, выехала на Пёрс-стрит и остановилась перед бывшим кинотеатром «Метрополь».
В участке дежурный даже не поднял головы, когда мой полицейский (я буду называть его «мой», поскольку именно он поднял меня с тротуара и увез от ревущей толпы, жаждавшей моей крови) провел меня в холодную комнату с белыми кирпичными стенами и, пообещав через минуту вернуться, потребовал отдать ему мобильник, если таковой имелся.
— Вот, он совсем старый. — Я передал ему «нокию», которая уже много лет исправно служила моим запросам, хотя нынче Джонас, увидев ее, засмеялся и посоветовал в моем завещании отписать ее Национальному музею.
— Ничего, я о нем позабочусь. — Полицейский сунул телефон в карман и вышел из комнаты, а у меня, несмотря на мое состояние, мелькнула мысль, вправе ли он забирать мою личную вещь.
В одиночестве я щупал свою понемногу опухавшую скулу и размышлял над сложившейся ситуацией. Я, конечно, свалял дурака. Нетрудно представить, как все это выглядело со стороны. Народ уверен, что все мы одинаковы. Только и думаем, как бы выкрасть ребенка и совершить непотребство. Я закрыл руками лицо, понимая, что дела мои плохи.
Полицейский, мой полицейский, вернулся с блокнотом и ручкой и включил диктофон.
— Имя? — спросил он. Без вступлений. Без манер.
— Мне нужно в туалет, господин полицейский, — сказал я, поскольку обеденное пиво просилось на волю. — Я быстро.
— Имя? — повторил следователь.
— Произошло недоразумение, — начал я. — Я только…
— Имя, — перебил полицейский, не сводя с меня холодного взгляда.
— Йейтс, — тихо ответил я, уставившись в столешницу. — Отец Одран Йейтс.
— Назовите по буквам.
Я назвал.
— Вам требуется медицинская помощь, мистер Йейтс?
— Пожалуй, нет. И я не мистер. — Я коснулся своего воротничка: — Отец Йейтс.
Полицейский что-то пометил в блокноте.
— Вы знаете, почему вы здесь? — спросил он.
— Потерялся мальчик. Он сказал, что его мать вышла на Уиклоу-стрит. Я хотел помочь ее найти.
— Вы его похитили из «Брауна Томаса», верно?
На мгновенье я онемел и только смотрел на него; стянуло живот, я испугался, что сейчас меня вырвет.
— Я никого не похищал, — негромко сказал я, стараясь не терять спокойствия в немыслимой ситуации. — Ничего подобного. Я пытался помочь мальчику отыскать его мать, вот и все. Малыш потерялся.
— Мать утверждает, что была неподалеку, рассматривала сумочки.
— Если так, я ее не видел.
— Вам не пришло в голову передать мальчика охране?
— Не пришло. Надо было сообразить. Малыш испугался. Плакал.
— Вы с нами уже имели дело, мистер Йейтс?
Он меня ненавидел. Все во мне презирал. Хотел причинить боль.
— С кем — с вами? — спросил я. — О чем вы говорите?
— В прошлом вы совершали преступления?
— Нет! — ужаснулся я.
— Случаи с малолетками?
— Я никогда не преступал закон. Я порядочный человек.
— Есть архив, — сказал следователь. — Я же могу проверить. Если вы что-нибудь утаиваете, лучше сказать сейчас.
— Проверяйте что хотите! — взвился я, разозлившись на несправедливые обвинения. — Я хотел помочь мальчику. Все. Ничего дурного я не умышлял.
— Ну конечно. — Полицейский вздохнул. — Вы никогда ничего не умышляете, правда?
Я сглотнул. Может, однажды с ним что-то случилось и теперь он отыгрывается на мне?
— Позвольте сходить в туалет, прошу вас.
— Выпивали, мистер Йейтс?
— За обедом выпил пива. Я встречался с племянником.
— Где он? — вскинул взгляд полицейский. — Сколько ему лет?
— Откуда мне знать, где он. Взрослый человек, ему двадцать шесть. После обеда мы разошлись каждый по своим делам.
— Вы много выпили?
— Одно пиво.
— Мы проверим, имейте в виду.
— Чего ее дернуло к этим сумкам? — спросил я.
— А как вы считаете? — вопросом ответил полицейский, мой полицейский. — Это магазин. Она делала покупки.
— Но почему она не смотрела за ребенком? Кайлу всего пять.
— Кайлу? — Следователь оторвался от своих записей. — Значит, вы спросили, как его зовут?
— Разумеется, спросил. — Я не понимал, что в этом дурного. — Вы тоже спросили мое имя. Разница лишь в том, что я обращался к нему по имени, которым он назвался.
— Вы обещали купить ему мороженое? Так?
— Он плакал. — Я чувствовал, что сам сейчас расплачусь. — Я хотел его утешить.
— Вы посулили ему мороженое, чтобы выманить из магазина?
— Нет. Я предложил его угостить уже на улице.
— А куда вы его повели?
— Он сказал, что мама вышла на Уиклоу-стрит, и я решил ее там поискать. Потом увидел вашего коллегу и хотел передать ему мальчика.
— Но не передали. Держали при себе.
— Мы до него еще не дошли! А потом из магазина вылетела мамаша. Пожалуйста, я очень хочу в туалет. Нестерпимо.
Следователь почеркал в блокноте и велел ждать на месте, словно я мог куда-то уйти. В одиночестве я провел мучительный час, пузырь мой, казалось, лопнет. Когда полицейский вернулся, я сидел в углу и плакал, уронив голову на руки.
— О господи! — злобно буркнул следователь и высунулся в коридор: — Джон, принеси ведро и швабру. Задержанный обоссался.
— Теперь вы довольны? — спросил я. — Рады, что так меня унизили?
— Заткнись и сядь на место. — Следователь показал на стул, с которого я перебрался в угол комнаты.
Брюки мои насквозь промокли, и пока дежурный подтирал лужу на полу, мой полицейский ненадолго исчез и вернулся с синими спортивными штанами с белыми лампасами.
— Вот, наденьте, — сказал он.
Я подчинился, стыдливо переодевшись. В мокром белье лучше не стало. Потом следователь записал мои личные данные и сказал, что свяжется со мной позже, сначала опросит мать и ребенка. Не вздумайте самовольно покинуть Дублин, пригрозил он, и я был готов к тому, что у меня отберут паспорт.
Когда я выходил из участка, дежурный за конторкой прошипел мне в спину:
— Пед.
— Что? — Я резко обернулся, злой и подавленный. Второй раз за день меня оскорбили. Сначала те парни в трамвае, а теперь полицейский, призванный не обзывать, но защищать меня, кого несправедливо арестовали и вынудили обмочиться. — Что вы сказали?
Дежурный поднял невинный взгляд и пожал плечами.
— Я ничего не говорил, — солгал он.
К счастью, наутро, вскоре после десятичасовой мессы, раздался телефонный звонок.
— Мистер Йейтс? — спросил тусклый голос на другом конце провода. Я тотчас его узнал.
— Отец Йейтс, — поправил я.
— Ладно, это неважно, у меня для вас новости. — Он не представился. Не поздоровался. Их этому специально учат в полицейской школе? — Мы переговорили с потерпевшими и пока не будем привлекать вас к ответственности. Мальчик подтвердил вашу версию, мать склонна ему верить. — Он саркастически хмыкнул, давая понять, что его-то не облапошить, как доверчивую мамашу.
— Вы сказали «пока». — Я старался не выдать охватившего меня облегчения, не хотелось доставлять ему радость — мол, заставил-таки попа подергаться. — Означает ли это, что вы еще вернетесь к вчерашнему происшествию?
Долгое молчание. Наверное, он раздумывал, чем бы еще меня помучить. Вздох.
— Дело закрыто. Расследование прекращено. В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем уводить детей из магазинов. Лады, отче? — Последнее слово он выплюнул, точно отраву.
Я это пропустил, не желая напрашиваться на неприятности. Он — власть. Я — никто.
— Хорошо, — сказал я. — Спасибо.
Повесив трубку, я прошел в кухню и поставил чайник; у меня сильно дрожали руки. Через секунду я выключил чайник, плеснул себе бренди и, перейдя в кабинет, стиснул в руке четки, тридцать три года назад в Риме подаренные Венецианским патриархом. С утра пить негоже, но сейчас мне это было необходимо, и благодатное тепло растеклось в груди и животе.
Я сел, и вдруг оказалось, что я плачу. Не о себе, нет, и не об ужасе последних суток. О былых временах. Когда священнику верили, когда потерявшегося ребенка вели не в полицейский участок, а к викарию. А нынче нельзя заговорить с ребенком, чтобы тебя не наградили подозрительным взглядом. Нельзя провести собрание служек в отсутствие родителя, который не даст тебе заигрывать с мальчиками. Нельзя помочь испуганному потерявшемуся ребенку — тебя сразу обвинят в похищении и заклеймят педофилом.
«Какие же вы сволочи», — мысленно сказал я тем, кто разрушил былую жизнь. Четки лопнули в моих руках, и бусины запрыгали по полу, закатываясь под кресло и стол. Я только смотрел. Подбирать их не было желания.
Глава 9 1978
В Италию я приехал в январе 1978 года. Прежде я никогда не покидал Ирландию и не летал на самолете, так что оба эти события будоражили невероятно. Предстояло получить паспорт, и мама, откопав мою метрику, отправилась на Моулсуорт-стрит, где отстояла пятичасовую очередь и подробно рассказала паспортистке, зачем понадобился документ, а когда он был готов, я упивался в нем каждым словом, точно великим литературным произведением.
Это было полной неожиданностью, что из всех семинаристов нашего курса именно меня отправили заканчивать учебу в Риме. Обычно отбирали одного-двух кандидатов, и все считали, что нынче выбор падет на Кевина Сэмюэлса по кличке Папа. Или Шеймуса Уэллса, любимчика педагогов, умника и одаренного спортсмена, что всегда ценилось начальством. Однако выбрали меня. Да, я получил пять с плюсом за университетский курс философии и благополучно сдал неимоверное число семинарских экзаменов, но думать не думал, что у меня есть шанс. Правда, у меня были способности к языкам: я освоил латынь, французский, итальянский, немного знал немецкий, и, возможно, это перевесило в мою пользу. Бедняга Кевин Сэмюэлс так и не оправился от потрясения и даже не смог вежливо меня поздравить. Интересно, что он дал о себе знать лишь через четырнадцать лет — удивил меня письмом, где спрашивал, не соглашусь ли я обвенчать его с девушкой, с которой он познакомился, автостопом путешествуя по Америке. Разумеется, за пару лет до этого он отрекся от сана. Но это уже другая история.
— Поди знай, кого мне подселят, — причитал Том в утро моего отъезда; он сидел на койке, а я собирал свои пожитки в тот же чемодан, который распаковывал шесть лет назад. Все эти годы мы прожили вместе и знали друг друга, как знают лишь те, кто обречен на подобную близость, — семинаристы, космонавты и заключенные. — Наверное, какого-нибудь говнюка.
— Да один ты останешься, один, — успокоил я. — Некого подселять-то.
— Очень надеюсь. Я буду скучать по тебе, Одран.
— Мы уж почти закончили. Еще только год.
— Все равно.
Если честно, я не собирался так уж скучать по Тому. Мне стукнуло двадцать три. С семнадцати лет я довольствовался семинарской жизнью, а теперь меня ждало приключение, и я не хотел тратить время на беспокойство о том, будет Том Кардл проживать один или с кем-то в последний учебный год. За время в Клонлиффе он изменился. Он уже не был угрюмым озлобленным юнцом, каким приехал в семинарию. Том покорился своей доле, и если стезя священника его не прельщала, он, пожалуй, с ней примирился. Я уже не спрашивал, почему он не уйдет, коли ему так плохо, ибо ответ всегда был одинаков: отец его прикончит, и доказательством тому — папашин отклик на пятилетней давности побег.
Сейчас я гадаю, куда девалась его храбрость? Почему он больше не противился отцу? И почему духовный наставник не разглядел нарастающего в нем отчаяния, не постарался наладить мир в семье Кардлов и не помог парню, явно непригодному для священства, иначе устроить свою жизнь? Ведь это было его прямой обязанностью.
При всяком упоминании об отце Том заводился и сжимал кулаки. Раз-другой он пришел в такое бешенство, что я опасался за его здоровье. Он был с норовом, и разговоры о семье только распаляли его ярость.
У нас была единственная стычка, когда я ему врезал и он с расквашенной мордой кувыркнулся на кровать. Мы учились на втором курсе, и я поведал, что случилось в Уэксфорде летом 1964-го.
— Повезло тебе, — сказал Том. — Жаль, мой папаша не покончил с собой.
Хрясь.
К его чести, потом он извинился. Том бездумно ляпнул не со зла, но я это запомнил. Его тон. И полный серьез.
Вот еще деталь: тут одно хорошо, говорил Том, — ночью спишь. Мол, с девяти лет каждую ночь отец его будил либо он сам просыпался, ожидая отцова появления.
— А что он делал-то? — спросил я.
— Ох, Одран. — Том отвернулся и вышел из кельи. В скверном настроении он всегда куда-то исчезал.
— Мы непременно увидимся, — сказал я, навсегда покидая Клонлифф. — Вообрази, к тому времени мы уже станем священниками.
— О, какое счастье, — усмехнулся Том и пожал мне руку, что было самым ярким выражением нашей взаимной приязни.
Мама с Ханной проводили меня в Дублинский аэропорт и сказали, что из зала ожидания посмотрят, как взлетает мой самолет. Еще задолго до отъезда я отправился на Доусон-стрит покупать билет; денег, выданных каноником Робсоном, хватило даже на покупку темных очков, поскольку в Риме, говорят, солнце светит круглый год. Увидев мою сутану, персонал авиакомпании расстелил предо мной красную дорожку и сделал мне скидку.
— Как думаешь, удастся тебе пообщаться с папой? — спросила мама.
— Пообщаться — вряд ли, — ответил я, — но я, конечно, увижу его на воскресных благословениях на площади Святого Петра, еженедельных приемах по средам и непременно послушаю его проповеди на мессах. Однако не думаю, что вечерком мы столкнемся на улице, когда он выйдет прошвырнуться и закинуть в себя тарелочку спагетти, — пошутил я.
— Тебе ведь придется жить на итальянской еде? — встревожилась мама.
— Ну да, разумеется.
— Но желудок-то?
— А что ему сделается?
— Я бы свой пожалела, — скривилась мама. — Заморской еде веры нет. Слушай, сфотографируй его, если увидишь.
— Кого?
— Да папу же!
— Не выйдет, мам. В церкви нельзя снимать.
— Никто не узнает. Пришли мне пленку, и я отпечатаю снимки. Я знаю одно ателье на там делают фотографии за две недели, а если задержат, не берут плату. Я закажу два экземпляра снимков, один отправлю тебе.
Попробую, сказал я, и на прощанье мы расцеловались. В то время Ханне было двадцать лет, она уже два года работала в Ирландском банке на площади Колледж-грин. Там платят хорошие деньги, говорила сестра, но я не собираюсь всю жизнь торчать в этом банке. Совершенно неважно, возражала мама, где ты служишь, ибо рано или поздно выйдешь замуж, заведешь семью, и муж, если он стоящий человек, не позволит тебе работать.
— Приезжай в гости, — сказал я сестре. Впервые мне стало немного страшно от того, что меня ожидало, и возможного одиночества.
— Приедем, — ответила мама. — В твой главный день. — Громадным преимуществом обучения в Риме было то, что папа лично посвящал выпускников в сан на площади Святого Петра. — Но ты пиши, сынок. Каждую неделю. И не забудь про пленку.
Благодаря моей семинарской сутане на борт я взошел вместе с детьми и стариками, которых пригласили в первую очередь, и стюардесса усадила меня в носовом салоне. В аэропорту Фьюмичино меня встретил монсеньор Сорли, уже больше двадцати лет возглавлявший Епископальный ирландский колледж в Риме. Я ждал, что меня сразу отвезут в новую альма-матер, покажут мою комнату и ознакомят с расписанием занятий, которые, по словам каноника Робсона, от семинарских отличались лишь тем, что велись на итальянском языке. Ну и солнышка там побольше, с улыбкой добавил он. Да еще вместо пастушьего пирога или отбивной с картофелем на ужин подадут пиццу, спагетти по-болонски или лазанью.
Однако план оказался другим: монсеньор Сорли сказал, что сперва мы зайдем в кафе, ибо нужно кое-что прояснить. Я испугался, что уже чем-то себя замарал. В самолете я переволновался и выпил две банки пива. Все из-за этого? Наверное, меня отправят обратно, а Кевин Сэмюэлс следующим рейсом уже летит в Вечный город.
— Каноник Робсон дал вам прекрасные рекомендации, — сказал ректор, когда мы сели в уличном кафе на Виа-деи-Санти-Кватро неподалеку от колледжа; в конце улицы просматривались разрушенные стены и узкие входы Колизея, от невероятной близости которого в ушах моих звучали лязг гладиаторских мечей, рыки львов, крики объятых ужасом христиан и вопли кровожадных римлян. Я вспомнил роман Роберта Грейвса, и мне захотелось раскинуть руки и броситься к этому средоточию истории, чтобы возвестить о моем прибытии на встречу с судьбой. — Он говорит, вы лучший из лучших. На вас возлагают большие надежды, Одран.
— Благодарю, — ответил я.
— Скажите, вы амбициозны?
Я подумал и покачал головой:
— Нет.
— Однако вы здесь. — Монсеньор Сорли улыбнулся и развел руками: — Небось шагали по трупам?
От таких слов я опешил:
— Поверьте, для меня это было полной неожиданностью, как и для всех прочих. Мы думали, пошлют Папу.
— Кого?
— Извините, — поспешно сказал я, красный как рак. — Мы так прозвали однокашника. Очень, — я посту чал себя по лбу, — башковитого. Все думали, поедет он.
— Как вы считаете, вам по силам интересная, но сложная задача? — Монсеньор Сорли подался вперед и прихлебнул эспрессо.
— Какая задача?
— Такая, для которой требуются ум, надежность и большая осмотрительность.
Я мешкал, боясь, как бы потом не пожалеть. Но иного ответа, кроме «Конечно, монсеньор», я дать не мог.
— Молодец. Но прежде чем я расскажу, в чем дело, вы должны знать: если почувствуете, что не годитесь, можете отказаться. И мы найдем кого-нибудь другого. Каноник Робсон считает, что именно вы справитесь с задачей, но если она вам не по нутру, никто вас не осудит.
— Хорошо, — сказал я.
— Открылась вакансия. — Монсеньор Сорли еще больше подался вперед и понизил голос: — На кое-какую работу. Она не должна мешать вашей учебе, но если помешает, ее у вас отберут. Ежегодно семинарист того или иного колледжа на двенадцать месяцев прикомандировывается к Ватикану для исполнения определенных важных функций. Работа отнимает час-другой, всего-навсего. Но семь дней в неделю. Без выходных. И никаких каникул.
— Я охотно возьмусь за любую работу, какую мне поручат, монсеньор, — сказал я.
— Каждый год назначают семинариста иной национальности, — пояснил священник. — В 1976-м работал кошмарный исландец. Жуткий воображала. В прошлом году был милый индус. Теперь наша очередь. По алфавиту, ясно? Да, вот еще: ночевать вы будете не в колледже, так что бытовая сторона его жизни вас не коснется. Вам отведут комнату. Даже не комнату, а, скорее, тюфяк в закутке. Вас это устроит?
— Тюфяк в закутке? — оторопел я.
— Все не так страшно, как звучит. — Монсеньор пожал плечами, задумался и покачал головой: — Хотя нет. Все именно так, без прикрас. Кроме того, на занятия вы будете добираться автобусом, а вечером им же возвращаться на работу. Что займет толику времени. Ну как, Одран, беретесь?
— Да, монсеньор, — сказал я. — Но что я должен делать? В чем моя задача?
— Вот мы и подошли к главному, — улыбнулся ректор. — Только не упадите со стула.
Ту ночь я провел-таки в ирландском колледже. Монсеньор препроводил меня в большой белый особняк, где я принял ванну и выспался, а наутро по набережным Тибра повез в Ватикан, к которому мы подъехали по Виа-делла-Кончилиационе, и я онемел, впервые узрев площадь Святого Петра.
Встрече, назначенной на половину одиннадцатого, отводилось не более пяти минут. Мы шли мраморными коридорами, и у меня глаза лезли на лоб от пышного убранства стен и великолепной росписи потолков; в окна я видел толпы туристов на площади, и мне хотелось высунуться и помахать им, чтобы все знали: я там, куда прочим доступ заказан. Суетное тщеславие, простительное молодому человеку. Но монсеньор Сорли, давно привыкший к роскоши и прошлому, окружавшим нас, меня поторапливал. Швейцарские гвардейцы распахнули перед нами массивные деревянные двери, мы поднялись по лестнице и оказались в небольшой приемной, где секретарь (разумеется, священник) заговорил с ректором по-итальянски, внимательно поглядывая на меня.
— Вас скоро примут, — протараторил он, проверяя мой итальянский, и глянул на часы. — Сейчас его святейшество встречается с его блаженством патриархом Венецианским, но это ненадолго.
Мы сели в солидные бархатные кресла; от волнения желудок мой исполнял кульбиты.
— Пожалуйста, повторите мои обязанности, — попросил я ректора, дрожа от мысли, что с папой Павлом нас разделяет лишь закрытая дверь.
— Они просты, — сказал монсеньор. — Его святейшество встает в пять утра. Монахини готовят чай и подают его в личную гостиную, вон туда, — он показал на комнату слева по коридору. — Вы вносите поднос в папскую спальню. Монахини не могут туда входить, пока его святейшество не закончил туалет и не оделся. Возможно, он обратится к вам с какой-нибудь мелкой просьбой, но это маловероятно. Разбудив его, ставите поднос на столик и раздергиваете шторы. Вечером вы должны приехать к восьми часам — на случай, если он решит лечь пораньше. Обычно перед сном его святейшество пьет горячее молоко и читает, вы подаете ему все, что требуется. Монахини все приготовят, но в спальню им хода нет, когда его святейшество собрался отойти ко сну. Вы спите в закутке перед спальней — вдруг ночью ему что-нибудь понадобится. Насколько я знаю, такого никогда не случалось. Работа нетрудная, Одран. По сути, дважды в день вы служите официантом. Это занимает очень мало времени. Главное, чтобы каждое утро и каждый вечер вы были под рукой. Нельзя опоздать или покинуть свой пост.
— Конечно, — кивнул я. — А моя учеба?
— Разбудив его святейшество, вы отправляетесь в колледж. Автобусов много, но будьте готовы к давке и духоте. Днем вы учитесь, пока не наступит время вернуться в Ватикан. Само собой разумеется, нельзя рассказывать другим студентам о том, что вы здесь видите и слышите, это понятно?
— Да, монсеньор, — сказал я, размышляя над услышанным. Спору нет, я удостоен великой чести, но меня вовсе не радовала перспектива дважды в день туда-сюда мотаться по Риму — и лишь для того, чтобы подать чай или горячее молоко, пусть даже самому Папе. Ирландский колледж очаровал меня ухоженными лужайками и соседством с Колизеем, вдобавок я предвидел, что упущу дружбу однокурсников, ибо не смогу проводить вечера в их обществе.
Отворилась дверь, и я чуть не сомлел, увидев высокого седоватого человека, который улыбнулся и протянул обе руки ректору.
— Какая неожиданная встреча, монсеньор Сорли, — сказал он.
— Давненько не виделись, ваше блаженство, — ответно улыбнулся ректор. — Что привело вас в Рим?
— Наш прекрасный собор вот-вот обрушится нам на голову, — пожал плечами патриарх. — Куда еще обратиться, как не к тому, кто заведует финансами?
— Ваше ходатайство удовлетворено?
Кардинал развел руками:
— Принято к сведению, друг мой. Мне надлежит вернуться в Венецию и ожидать решения. — Все еще улыбаясь, он посмотрел на меня: — А это у нас кто?
— Семинарист выпускного курса, ваше блаженство. Только что из Дублина. Его отобрали на должность, освобожденную юным Чаттерджи.
— Стало быть, в ближайший год вы будете раньше всех в Ватикане вставать и позже всех ложиться, — сказал патриарх. — Вам крупно повезло — либо на оборот. Что выбираете?
— Крупно повезло, ваше блаженство. — Я упал на колени и поцеловал золотой перстень с печатью Венеции — города, который я давно мечтал увидеть. Я пытался представить каналы и мосты, площадь Сан-Марко и себя, одиноко слоняющегося среди венецианцев.
— Когда от недосыпа у вас набрякнут мешки под глазами, вы, возможно, скажете иное. Говорят, святой отец ложится за полночь и встает ни свет ни заря. Конечно, у него столько работы.
Я робко кивнул, не зная, надо ли что-нибудь ответить. Но кардинал смотрел по-доброму, потом засмеялся и, взяв меня за плечо, заглянул мне в глаза:
— Не переживайте. Здесь дружелюбно. Как, кстати, вас зовут?
— Одран Йейтс.
— Так вот, Одран, не тревожьтесь. Наслаждайтесь этим опытом. Оглянуться не успеете, как наступит 1979-й и придет очередь… — Патриарх задумался. — Как вы считаете, кто следующий после Ирландии?
Я припомнил страны в алфавитном порядке.
— Израиль? — предположил я.
Брови патриарха изумленно взлетели, он посмотрел на монсеньора, зажавшего рукой рот, чтоб не фыркнуть.
— Это вряд ли, — сказал кардинал. — Конечно, прекрасная Италия.
В соседней комнате звякнул колокольчик, и патриарх взглянул на монсеньора Сорли:
— Приятно было повидаться, друг мой. В следующий мой приезд мы непременно вместе отобедаем. А вам, юноша, удачи.
Он зашагал прочь, величавый в кардинальском облачении — черная с алым кантом сутана, пояс, шапочка, — не менявшемся со Средневековья. Я представил, как соперничали роды Борджиа, Медичи и Конти, желавшие сменить обычную одежду на кардинальский наряд. Что и говорить, он впечатлял, заставляя всех прочих почувствовать свою ничтожность.
Секретарь оторвался от бумаг:
— Вас ждут.
— Ну, идемте, — сказал монсеньор Сорли, и следом за ним я вошел в кабинет, где худой человек с глубоко запавшими глазами, одетый в белую сутану с пелериной и увенчанный золотым наперсным крестом, сидел за столом и перьевой автоматической ручкой что-то корябал на бумажном листе. Минуты две он писал, не обращая на нас внимания, потом остановился и протянул нам руку, которую мы оба поцеловали, опустившись на колени. — Святой отец, вот юноша, о ком я говорил, — сказал монсеньор Сорли. — Одран Йейтс. Он заменит юного Чаттерджи.
Папа обратил на меня холодный взгляд:
— Встаньте.
Я встал. И осмелился посмотреть на него. Сероватое лицо, глаза в темных окружьях. Он выглядел изнуренным, словно жизнь его угасала.
— Вы тихий? — спросил папа.
— Прощу прощенья, ваше святейшество? — переспросил я.
— Я не люблю, когда утром или вечером шумно. И без того… — Он махнул на приоткрытое окно, сквозь которое доносился гомон туристских толп, достигавший даже этакой верхотуры. — Обещаете не шуметь?
Я нервно сглотнул и кивнул:
— Я буду как мышь. Вы меня даже не заметите.
Папа покачал головой и откинулся в кресле.
— Ирландия, — задумчиво проговорил он.
— Да, святой отец.
— Что же нам делать с Ирландией?
Я молчал, не уразумев вопроса. Взмахом руки папа дал понять, что аудиенция окончена. Мы с ректором вышли из кабинета. В последующие семь месяцев папа Павел VI при мне не произнес ни слова. Он вообще меня не замечал, словно я был ватиканским призраком.
Прежде я не изведал всепоглощающей любви. Читал о ней в романах, видел в кино и телесериалах ее жертвы, смахивавшие на пьяных или безумцев. Но я не испытал того страстного влечения, когда все прочее вокруг кажется мелочью. Даже мой недолгий роман с Кэтрин Саммерс во мне ничего особо не расшевелил, кроме естественного подросткового любопытства. В отличие от Тома Кардла и еще кое-кого из семинаристов, одинокими ночами я не ворочался в постели, изнывая по женщине, вытворяющей со мной всякие штуки, о чем грезят все парни моего возраста. Целибат не казался таким уж тяжким бременем, и порой, когда я дозволял своим мыслям потечь в сторону плотских дел, у меня возникали сомнения: может, со мной что-то не так? Может быть, при моем творении потерялась какая-то деталь моей личности?
В Клонлиффе о женщинах говорили нечасто. Явный интерес к противоположному полу свидетельствовал о шаткости твоего призвания, грозившей тем, что ты покинешь семинарию прежде посвящения в сан или, хуже того, отречешься от священства ради жизни как у всех: жена, дети, работа. Оттого-то мы почти не делились мыслями о плотском, но свои тайные желания прятали в укромных уголках души, боясь говорить об этой стороне жизни за нашими стенами.
И вот однажды, спустя несколько месяцев после моего приезда в Рим, я сидел в маленьком кафе на площади Паскаля Паоли, разглядывая туристов на мосту Витторио Эммануэле, бредущих к базилике Святого Петра; раскрытый роман Э. М. Форстера «Комната с видом» лицом вниз лежал передо мной на столике. Я поднес чашку с кофе к губам, и в этот момент из кухни выскочила женщина, следом появился мужчина в годах — ее, видимо, отец. Театрально жестикулируя, женщина кричала, а старик только пожимал плечами, но потом сорвал с себя фартук, швырнул его на пол и заорал с не меньшим жаром. Все это настолько выглядело карикатурой на неудержимый итальянский темперамент, что у меня закралась мысль о представлении, затеянном ради туристов. Может, они каждый день разыгрывают подобную сценку? Но вопрос растаял, едва я вгляделся в женщину. Вот тут-то оно и случилось. Я пропал.
Не знаю, чем она мне приглянулась. Гораздо старше меня, лет тридцати или чуть за тридцать, когда мне всего-то двадцать три. Рослая — выше отца и меня; темные волосы зачесаны назад и собраны в сложный узел, поощрявший к фантазиям. Проворные пальцы, думал я, сумеют расплести его на пряди. Потом женщина отвернулась от старика и окинула взглядом посетителей, никак не отреагировавших на перебранку; глаза наши встретились, и она, пожав плечами, вскинула руки, словно спрашивая: «Что?» — а я уставился в стол. Когда я осмелился вновь посмотреть на нее, она, слегка улыбаясь, покусывала средний палец левой руки, и я возжелал быть ногтем на том пальце, от чего густо покраснел. Я оттянул жесткий пасторский воротничок, сдавивший мне горло и одним своим видом возводивший барьер между нами, и попытался вернуться к чтению. Но слова расплывались перед глазами, и я снова посмотрел на нее, однако она уже скрылась в кухне. Не было никаких причин для столь всепоглощающего желания, но оно меня охватило. Я желал, чтобы она появилась, желал распустить ее волосы и увидеть, как они упадут ей на плечи. Я хотел, чтобы она орала на отца и треснула его кастрюлей по башке; чтобы подошла к моему столику, наклонилась ко мне и сдернула мой воротничок.
Я так долго сидел в кафе, что наконец она медленно приблизилась, взяла пустую кофейную чашку и произнесла три слова: Un altro, Padre? Но я покачал головой. Я не мог заставить себя говорить. Она ушла, а я отправился в свой закуток в папских покоях, где лег навзничь и, разглядывая фрески на потолке, прислушался к невероятному ощущению, меня взбаламутившему.
Вот что, понял я, чувствуют обычные люди. Ты ничем от них не отличаешься, говорил я себе. Ты, Одран, такой же, как все.
С тех пор каждый день я сидел в кафе Бенници на площади Паскаля Паоли, и всякий раз женщина орала на отца, попрекая его очередной оплошностью, а когда запал ее иссякал, она смотрела на меня и качала головой, словно я досаждал ей не меньше. Я себе нафантазировал подробную историю хозяев кафе: он рано овдовел и воспитывал дочь один либо с помощью своей нахальной и упрямой матушки (вечный персонаж итальянских историй), потом девочка подросла и стала его помощницей. Не в укор ее целомудрию, я сочинил ей ребенка, мальчика трех-четырех лет — плод недолгих отношений с никчемным похотливым неаполитанцем, который, будучи в Риме проездом, ее соблазнил и бросил. Всякий раз, когда она забирала мою пустую чашку и спрашивала: «Еще одну, падре?» — на безымянном пальце ее левой руки я видел след от обручального кольца и гадал, снимает ли она его перед мытьем посуды, чтобы не поцарапать, или вообще прячет в шкатулку, чтобы оно, не дай бог, не соскользнуло в раковину. Мужа я решительно отверг, хотя не возражал против ребенка. К детям я равнодушен, но ее мальчугана я полюблю. Интересно, говорит ли она по-английски? Сумеет ли приспособиться к Дублину? Сумею ли я с ней ужиться? Вот какие нелепые мысли бродили у меня в голове, когда чашка за чашкой я пил кофе, и это время было безраздельно моим, ибо я не шастал в папскую спальню и обратно, не корпел над книгами в колледже и не молился рассеянно в бесчисленных церквях и часовнях, вкруг которых пролегли улицы Вечного города.
Да я и кофе-то не особо любил.
Порой я ждал, что женщина или ее отец потребуют объяснений. Они, конечно, заметили, что я пялюсь на хозяйку, и считают странным, что день за днем и неделя за неделей появляюсь в одно и то же время. Иногда хозяин ожигал меня взглядом. Вероятно, он попросил бы меня уйти, не будь я в церковном одеянии, но сейчас ему приходилось молчать, соблюдая приличия. Когда женщина подходила ко мне и спрашивала: «Еще одну, падре?» — я, случалось, ловил ее взгляд, и что-то в ее глазах говорило: она знает, что в воображении молодого человека за угловым столиком, на котором лежит так и недочитанный роман, теснятся безудержно похотливые картины, от коих покраснел бы и покойник.
Подглядывание мое длилось уже почти два месяца, когда вдруг мне на плечо легла чья-то рука, и я вздрогнул, узрев его блаженство патриарха Венецианского, с которым повстречался в свой первый день в Ватикане. Он улыбался, лицо его излучало безмятежную радость.
— Ведь я не ошибаюсь, вы тот самый ирландец верно? — сказал он. — Монсеньор Сорли рекомендовал вас святому отцу, да?
— Одран Йейтс, ваше преосвященство. — Я хотел опуститься на колени, но он жестом меня остановил и попросил сидеть.
— Позвольте составить вам компанию?
Я промешкал всего секунду. В иных обстоятельствах я был бы счастлив столь великолепному обществу, но сейчас предпочел бы остаться один, не пускаясь в разговоры, которые отвлекут от моего главного занятия. Впрочем, я тотчас собою овладел и предложил кардиналу стул, но он, видимо, заметил мое колебание и то, как глаза мои метнулись к женщине за стойкой, ибо проследил за моим взглядом, и улыбка его слегка угасла. Через минуту женщина поставила перед ним латте, видимо, знала вкус завсегдатая и глянула на меня, чуть расширив глаза. То бишь подала сигнал на неведомом мне языке. Наверное, кто-нибудь другой его вмиг расшифровал бы.
— Как вам ваши обязанности? — спросил кардинал, сделав глоток. — Святой отец не дает вам покоя?
Я покачал головой:
— Обязанности на удивление просты. Весь колледж завидует моей близости к его святейшеству, но он, кажется, меня даже не замечает.
— И вас это задевает?
— У него много забот. А я всего лишь мальчик, который по утрам его будит и вечерами подает чай.
— Вы вовсе не мальчик, мой дорогой Одран, но муж. Зачем вы так себя умаляете?
Я задумался. Да, мне стукнуло двадцать три года. Я заканчивал учебу и готовился стать священником. Мне доверили ответственный пост, пусть не требующий большого ума. Почему же я не хотел принять, что детство кончилось?
— Иногда мне кажется, что до посвящения в сан я останусь мальчиком, — сказал я.
— Наверное, сотни лет назад, когда я был в вашем возрасте, мне тоже так казалось.
Настала моя очередь улыбнуться. Кардиналу перевалило за шестьдесят, но благодаря превосходному цвету лица выглядел он лет на десять моложе. Иные мои римские знакомцы не обладали этакой жизненной энергией.
— Уже соскучились по Ирландии? — спросил он.
— Нет, — сказал я. — Хотя, конечно, ее вспоминаю. Часто. Но я полюбил Рим.
— И что тут вам по сердцу?
— Здания. Улицы. Ватикан, конечно. Историческая атмосфера. Погода. Я обожаю итальянский язык. Знаете, что Форстер сказал об Италии?
— Он англичанин. И считал, что можно изменить страну, проникнув в ее душу. Но мистеру Форстеру с его убогой моралью Италию не изменить. Герои его романов заявляют, что очарованы здешним народом, но когда этот народ поступает по-своему, не желая подражать персонажам Голсуорси, англичане дуются и объявляют итальянцев дикарями.
— Но ведь об этом Форстер и пишет, — возразил я. — Он высмеивает неспособность чужестранцев разглядеть красоту. Мы — в данном случае британцы — умом ее понимаем, но слепнем, оказавшись в ее колыбели.
Кардинал улыбнулся, пригубил кофе и посмотрел на прохожих. Кто-то ему помахал рукой.
— Приветствую, друг мой! — радостно крикнул патриарх, вскидывая руку. Затем повернулся ко мне и пояснил: — Секретарь кардинала Сири. Вы знаете Сири?
— Понаслышке, — ответил я. — Правда ли, что он должен был стать папой?
Патриарх усмехнулся. Это был давний слух: вроде бы в 1958 году конклав избрал папой генуэзского кардинала Сири, но в последний момент тот отказался от поста из-за угроз, исходивших от коммунистической России. Уже появился белый дым, балконные двери открылись, но потом вновь затворились, кардиналы еще два дня заседали в Сикстинской капелле и наконец объявили своим главой предшественника моего визави — Венецианского патриарха Ронкалли, ставшего папой Иоанном XXIII.
— Рим всегда полон слухов, — сказал кардинал, подавшись вперед. — Вечно молва, политика, борьба за власть. Так было со времен цезарей и никогда не изменится. Глупый в этом погрязнет, умный этим пренебрежет. Но вы, мой юный друг, говорили о восприятии красоты. Наверное, в Риме найдутся разные прелести, да? — Вскинув бровь, он глянул в сторону кухни. Я потупился. — Здесь очень хороший кофе. — Он положил ладонь на мою руку: — Я понимаю, отчего вы подолгу сидите в этом кафе.
Кардинал откинулся на стуле и показал на шестиэтажное здание из желтого кирпича на другой стороне улицы, окна которого выходили на площадь.
— Уже две недели я оторван от моей любимой Венеции, — сказал он. — Готовлю кое-какие бумаги для святого отца. Он соблаговолил поручить мне эту работу, и я покорно ее принял, но завтра наконец-то отбываю домой. — Лицо его просветлело, и он повторил: — Домой! Я так стосковался по запаху каналов, ужасно хочу посидеть на площади Сан-Марко и подойти к мосту Вздохов. Я был бы счастлив, если б мог никогда не покидать Венецию.
— Я там не бывал, — сказал я.
— Непременно побывайте. Если, конечно, сумеете оторваться от кафе Бенници. Каждый день вы здесь, Одран. Я вижу вас из своего окна. Влюбились, да?
От смущения у меня свело живот.
— Влюбился? — переспросил я.
— В здешний кофе.
— Да.
Кардинал покивал.
— Мы выбрали нелегкую жизнь, — наконец сказал он. — А в мире существуют соблазны. Мы живые люди и порой позволяем себе вообразить, что будет, если мы им уступим. Станет ли наша жизнь лучше или разрушится.
Кардинал посмотрел на предмет моего обожания, протиравший соседний столик. Блузка выбилась из-за пояса юбки, открыв полоску смуглого тела, и меня будто пронзило током. Я запечатлел картинку, чтобы потом ею как следует насладиться.
— Как поживаете, моя дорогая? — Кардинал одарил хозяйку своей неотразимой улыбкой. Женщина опустилась на колени и поцеловала ему руку. Я видел ее алые губы, прижавшиеся к кардинальским пальцам, я видел кончик языка, выглянувший из ее рта, когда она поднялась, и изо всех сил старался не застонать.
— Хорошо, эминенция, — ответила женщина.
— Вы знакомы с моим юным ирландским другом Одраном?
— Он наш завсегдатай, — сказала женщина, не глядя на меня.
— Одран покорён. Бесстыдно сдался вашему кофе.
Женщина насмешливо вскинула бровь:
— Мы рады всем нашим гостям. Вам, эминенция, особенно.
— Однако завтра я уезжаю, — сказал кардинал. — Нынче мой последний день в Риме.
Женщина, похоже, искренне опечалилась:
— Но вы еще вернетесь?
— Непременно. Я всегда возвращаюсь в Рим. Но потом всегда уезжаю домой. И мне это, к слову, очень нравится. — Кардинал глянул на часы: — Ну, мне пора. — Он встал, жестом удержав меня на стуле. Женщина вернулась за стойку. — Если окажетесь в Венеции, Одран, обязательно дайте знать. Я люблю молодежь, а нам с вами, не сомневаюсь, есть о чем поговорить. — Из кармана сутаны патриарх вынул четки и протянул мне: — При случае помолитесь за меня, Одран. И подумайте, — добавил он, — может быть, стоит попробовать кофе в других заведениях. Вы пропустите все лучшее в Риме, если будете сидеть на одном месте. — Кардинал шагнул к выходу, но приостановился: — Помните, мой юный друг: жизнь легко описать, но нелегко прожить. — Он подмигнул. — Форстер.
А потом я стал ее сопровождать.
Обескураженный тем, что мой интерес к ней столь очевиден, я перестал бывать в кафе Бенници, однако затеял нечто гораздо рискованнее и глупее. Занятия оканчивались в пять, а в Ватикан мне было нужно только к восьми, и потому с моста Витторио Эммануэле я смотрел, как она уходит с работы, иногда по дороге домой заглядывает на рынок купить еды или полчасика отдыхает в каком-нибудь кафе, но чаще всего прямиком шагает на набережную Лунготевере-Тор-ди-Нона, где по левую руку вздымался замок Святого Ангела, затем сворачивает в улочку Виколи-делла-Кампанья и, на ходу достав ключ, скрывается в доме. Вот тогда я мог выйти из тени и постоять перед ее жилищем, дожидаясь мгновенья (случавшегося не каждый день), когда она возникнет в верхнем окне и через голову стянет блузку, на секунду показав голую спину, а потом отшагнет в таинственную глубину своей благословенной спальни.
Стоял я недолго, дабы не привлекать внимания многочисленных прохожих, затем направлялся к площади Святого Петра, переходя на другую сторону улицы, если вдруг видел отца женщины, возвращавшегося домой. Через служебный вход проникнув в Ватикан и отметившись у швейцарских гвардейцев, я вовремя поспевал взять поднос с чаем и — порой — ломтиком лимонного кекса, чтобы отнести его в папские покои, где в молитве сидел их хозяин, меня, как всегда, не замечавший. Потом я уходил в свой закуток и тоже молился — за маму, Ханну и женщину из кафе Бенници. Затем я пытался уснуть, что иногда удавалось, иногда нет.
В августе папа умер в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо, где спасался от городской жары. Уже несколько месяцев ему нездоровилось, но состояние его резко ухудшилось, после того как «Красные бригады» похитили Альдо Моро[27], с которым он дружил с детства; это преступление вынудило его на беспрецедентное вмешательство в события: папа Павел напрямую обратился к похитителям с письмом, умоляя их о милосердии. Но к мольбам его остались глухи, и в мае тело Моро, изрешеченное пулями, обнаружили в машине на Виа-Микеланджело-Каэтани, что говорило о растущей безбоязненности «Красных бригад» и снижении папского влияния.
В последние дни святой отец заметно сдал, но я эгоистически тревожился не о нем, меня больше удручало мое собственное заточение на Албанских холмах. Вдали от Рима я изводил себя мыслями о том, кто сейчас входит в ее дом, кого она проводит в свою спальню, и даже в тот вечер, когда после воскресной мессы у папы Павла случился сердечный приступ, я — Господи, прости — сперва подумал, скоро ли мы вернемся в столицу. Стыдно в этом признаться, но это правда.
Всю неделю перед похоронами, невиданным драматическим зрелищем, я был страшно занят и не мог к ней вырваться: одна за другой мессы, дневные и вечерние молитвы, да еще камерарий кардинал Виллот попросил помочь ему разобрать вещи покойного папы и подготовить папские апартаменты для следующего божественного избранника.
Приближался конклав, Рим был наэлектризован. На площади Святого Петра и в коридорах Ватикана было не протолкнуться от кардиналов в черных сутанах, собиравшихся кучками и пытавшихся сговориться о кандидате. Жара стояла одуряющая, и молва говорила, что нового папу изберут с первого раза, поскольку старичью долго не выдержать в духоте Сикстинской капеллы. Проходными считались флорентийский кардинал Бенелли и кардинал Лоршейдер из Бразилии, вновь замаячила фигура кардинала Сири. Репортеры со всего света, съехавшиеся на смерть папы, перед камерами и микрофонами сыпали царственными именами, сравнивая биографии кандидатов. В день конклава толпы народа под завязку заполнили площадь Святого Петра.
Вспоминая тот августовский вечер, когда из своего числа кардиналы избрали двести шестьдесят третьего папу, ревизоры, пересчитав, сожгли бюллетени и, к радости верующих, в небо над базиликой взвился белый дым, мне стыдно, что я проглядел этот бесспорно исторический момент, поскольку был занят абсолютно мирскими делами.
Когда весь мир ожидал представления нового папы, по мосту Умберто я спешил прочь от запруженной народом площади Святого Петра; когда все готовились получить первое благословение новоизбранного главы церкви, на углу Виколи-делла-Кампанья я занимал свою обычную позицию, чтобы мельком увидеть обнаженную спину моего идола.
В тонкой летней блузке она вышла на балкон, взглянула на далекие римские холмы, и в тот же миг по раскаленному жарой воздуху долетел мощный вопль, ибо на другой балкон, менее чем в миле отсюда, вышел венецианский патриарх кардинал Лучиани — тот, кто был так ласков со мной в мой первый день в Риме, так мягок и добродушен, когда догадался о моем неодолимом влечении к этой безымянной женщине, — и, воздев руки и улыбнувшись ликующей толпе, благословил ее именем новой папской власти.
Глава 10 1990
Летом, когда библиотека и классы опустели, я решил передохнуть от Дублина и вспомнил о Томе Кардле, ныне служившем в уэксфордском приходе. Экзамены закончились, и меня уже не тянуло в школьные коридоры, прежде полнившиеся несмолкаемым жизнерадостным гомоном, а теперь окутанные тишиной. В июле и августе школа напоминала дом с привидениями, и я одиноко сидел в учительской, потягивая утренний кофе и разгадывая кроссворд в «Айриш таймс», но эта уединенность моя выглядела какой-то жалкой.
Занятно, что мальчишки, в учебном году всеми силами отлынивавшие от занятий, кучковались на школьных спортивных полях. Интересно почему? — думал я. Боятся покинуть пределы школы, за высоким забором которой так спокойно и надежно?
Месяца два назад мы с Томом, который служил в Лонгфорде, епархия Арда и Клонмакнойс, условились о моем визите, и я даже купил билет туда и обратно, но Тома, уже в который раз, внезапно перевели на новое место, а транспортное ведомство, знать ничего не желавшее, отказалось вернуть мне деньги. Я считал, что с беднягой обходятся несправедливо: не успеет обустроиться, как снова перевод.
В Уэксфорде я не был четверть века, с лета 1964-го, когда туда мы приехали впятером, а отбыли втроем. Все эти годы я умышленно избегал тех мест и, узнав, что Том обосновался в тамошнем приходе, сперва хотел категорически отказаться от визита к нему, но потом решил все-таки съездить наперекор тяжким воспоминаниям, связанным с тем графством.
Сейчас я вспоминаю наши с Томом разговоры по межгороду и удивляюсь, что меня не насторожило обилие его адресов. Начал он в Литриме, но всего через год его перевели в Голуэй, где он задержался на три года, а потом Белтурбет в графстве Каван, Лонгфорд и Уэксфорд. Но между ними еще затесались Трейли в графстве Керри, маленький приход — запамятовал название — в Слайго, два года в Роскоммоне и еще два в Уиклоу, потом задворки Мейо, откуда он, не успев разуться, перебрался в Рингсенд. Одиннадцать приходов! Неслыханно, чтобы священника переводили так часто. Ну, почти неслыханно. Конечно, нашлись бы и другие такие. Просто я их еще не знал.
Мне было уже тридцать четыре. Когда в базилике Святого Петра меня возводили в сан, на церемонии присутствовали мама и сестра: одна безудержно плакала, другая стояла с каменным лицом, подавленная роскошью и показным богатством. К тому времени папой стал поляк, что после четырехсот пятидесяти лет итальянского главенства само по себе удивительно, и на приеме, после церемонии состоявшемся в Ватиканских садах, я, улучив момент, представил ему моих родных. Мама, с головы до пят в черном и укрытая густой вуалью, смахивала на мусульманку; когда папа улыбнулся и взял обе ее руки в свои ладони, она сделала что-то вроде книксена. Ханна, помнится, накинула бледно-зеленую шаль, но та чуть соскользнула, явив голое плечо, и святой отец, собиравшийся благословить мою сестру, брезгливо сморщился и тотчас поправил непорядок в ее одежде. Ханна удивленно охнула, а папа похлопал ее по щеке, что выглядело ласково, однако оставило красную отметину. Сестра опешила и потом говорила, что это была пощечина за недостойное поведение и она, мол, еле сдержалась, чтобы не дать сдачи.
— Он ненавидит женщин, — потягивая красное вино, сказала Ханна, когда на другой день мы сидели на веранде ресторана «Даль Болоньезе», что на Пьяцца-дель-Пополо.
Теренурским коллегам я почти ничего не рассказывал о Риме. Я предпочитал помалкивать о своем прошлом — о том, что видел, о тех, кого встречал, и о своих ошибках, немалых числом. И все же я себя ощущал этаким бывалым человеком. Мне повезло, я целый год провел вне Ирландии, а такие как Том были заточены в двадцати шести графствах, и только зарубежные миссии давали им крохотный шанс на побег. И вместе с тем я был аномалией, потому что тех, кого отбирали на год обучения в Риме, обычно ждало быстрое продвижение в церковной иерархии, я же десять лет оставался простым священником, нашедшим убежище в библиотеке частной мужской школы на южной окраине Дублина.
Мой зять Кристиан, хоть человек не религиозный, питал живой интерес к закулисной жизни Римско-католической церкви.
— Верно ли я понимаю, что на твою роль обычно отбирали лучших семинаристов? — однажды спросил он, имея в виду мои обязанности в папских апартаментах.
— Обычно — да.
— И ты был лучшим на своем курсе?
— Близко к тому, — признал я.
— Я читал, что один такой подавальщик стал Венгерским прелатом. Другой — архиепископом Сан-Паулу.
— Весьма заметный карьерный рост, — усмехнулся я.
— А что же ты, Одран? В тебе совсем нет тщеславия? Ты не хотел бы стать епископом? Или кардиналом? Или даже…
— Знаешь, что в Библии сказано о тщеславии? — оборвал я.
— Что?
— «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
Кристиан нахмурился:
— Это из фильма.
— Из Библии, Кристиан.
— Да нет, это реплика из «Человека на все времена». В прошлую субботу показывали по телику. Это сказал Пол Скофилд.
Я покачал головой:
— Вернее, процитировал Писание.
— Ну ладно.
— В общем, я счастлив тем, что имею.
— Но высокий пост расширяет возможности, — не унимался зять. — Почему ты не хочешь от жизни большего?
Недоумение его казалось искренним, но и Кристиан меня озадачил, поскольку сам он был не из тех, кто жаждет мировой славы. В любом случае, я, покидая Рим, дал себе слово: я не уподоблюсь священникам, которые выступают в газетах, пишут книги или, избави бог, пробиваются в «Программу для полуночников», чтобы выступать экспертом по всем вопросам, отдавая свой голос тому, кто больше заплатит. Я не стану тратить свою жизнь на откашливание у микрофона и прихорашивание перед камерой. Я навеки буду отцом Йейтсом и не превращусь в отца Одрана. Даже если б я не запятнал себя в Риме и не разочаровал тех, кто мне поверил, карабканье по всяким лестницам меня ничуть не прельщало. Воистину у меня было предназначение, о котором говорила мама, и я не хотел его разбазарить. Я хотел понять, кто я, почему избран для такой жизни и что могу дать миру. По-моему, это было весьма амбициозно.
Безусловно, я не мог жить отшельником-созерцателем. Я нуждался в друзьях. В обществе. Иногда мне требовался тот, кто подвергнет сомнению все идеи, которыми меня напитали за семь лет учебы. В такие периоды я нуждался в Томе Кардле.
Где бы он ни был.
Его уэксфордская экономка, страшилище по имени миссис Гилхул, уже на первом году супружества лишилась мужа, о чем и сообщила, едва поздоровавшись.
— Рак его сожрал. — Миссис Гилхул схватилась за горло, словно даже через столько лет ей тяжко об этом говорить. — А ведь совсем молодой был, вся жизнь впереди. Рак — страшная штука.
— Да уж, — согласился я. — Кошмар.
— У вас никто не умер от рака, отче?
— Слава богу, нет.
— Ваши матушка с батюшкой, отче, еще живы?
— Мама жива, — сказал я. — Отец умер, когда я был маленький.
— От рака?
Я помолчал, стараясь не засмеяться над ее жутким пунктиком.
— Нет. Говорю же, моих близких напасть миновала.
— Можно узнать, от чего он умер?
— Утонул. — Мне хотелось поскорее от нее отделаться.
— Прошлой зимой у нас тут сосед утопнул… (Она так и сказала: утопнул.) И мой дядя с маминой стороны в свой двадцать первый день рожденья утопнул в Лох-Нее. А еще деверь сестры моего покойного мужа утопнул неподалеку от Солтхилла. — Экономка покачала головой и на секунду смолкла, но что-то подсказывало, что она вроде знаменитой сказительницы Пег Сайерс, на кого даже слегка смахивала внешне, и готова поведать о целом сонме утопленников, выкручивающих намокшие одежды.
— Все там будем, — сказал я, стараясь, чтоб вышло бодро. — Но, пока живы, надо радоваться жизни.
Миссис Гилхул вскинула бровь моя банальность ее, похоже, не убедила.
— Вы давно знакомы с отцом? Она кивнула в прихожую, где Том говорил по телефону; когда я вошел, он даже не поздоровался, а только махнул рукой — дескать, ступай в кухню. Лицо его как будто стало еще краснее, он постарел, слегка располнел. И явно был чем-то раздражен.
— Уже семнадцать лет, — сказал я. — Мы познакомились в семинарии. Приехали туда в один день.
— Понятно. — Экономка смерила меня взглядом, вытирая руки о передник. А я уж в который раз посмотрел на ее весьма заметную бороду. Миссис Гилхул выглядела лет на восемьдесят, хотя ей было, наверное, не больше шестидесяти пяти. — Последние двадцать пять лет у нас служил отец Уильямс. Чудесный человек. Праведник. Вы его знали, отче?
— Не довелось.
— Как жаль, что мы его потеряли.
— Он утонул?
— Нет, перевелся в другой приход. А ведь ему за шестьдесят, и зачем было его дергать? Он шибко переживал. Загнали его в Уотерфорд. Вообразите, отче, каково ему там.
— Я не бывал в Уотерфорде, — сказал я.
— А я бывала. — Темно-карие глаза экономки загорелись. — Скверный там народец. Ох скверный. Палец в рот не клади.
Я открыл рот, но не нашелся с ответом.
— Отец Кардл совсем не похож на отца Уильямса, — сказала экономка, уставившись в пол.
— Вы не ладите? — спросил я.
— Я промолчу. Да и кто я такая, чтоб высказываться? У епископа женщин сроду не слушали.
Я нахмурился, не вполне понимая, к чему она клонит, но тут вошел Том.
— Пропади они пропадом, эти легавые! — сказал он. — Говорят, примут меры, лишь когда застигнут преступника. Привет, Одран. — Том пожал мне руку. — Все хорошо? Как доехал? Миссис Гилхул угостила тебя чаем?
— Я предложила, отче отказался. — Не глядя на него, экономка вновь занялась пирогом. — Два раза я не предлагаю.
Я засмеялся, но перевел смех в кашель, ибо Том раздраженно закатил глаза и потряс головой.
— Пошли ко мне, — сказал он, направляясь в свой кабинет, и продолжил, когда мы остались одни: — Эта баба меня уморит. Если она баба. Надежных доказательств этому нет. Заметил ее бородищу? Все равно что соседствовать с козлом.
Я опять рассмеялся.
— Что там у тебя с полицией, Том? Какие-то неприятности?
— Машину я ставлю перед домом, — он показал за окно, — славная малышка, купил еще в Лонгфорде и на ней прикатил сюда. Две недели назад выхожу и вижу безобразную царапину во весь бок. Кто-то проскреб ключом, представляешь, какое скотство? Покраска обошлась в шесть фунтов. Шесть! Лишних денег у меня нет, пришлось взять из церковных пожертвований. А нынче утром обнаруживаю, что кто-то кирпичом разнес ветровое стекло. Это кем же надо быть, что такое сотворить, скажи на милость? Тут один парень взялся вставить новое стекло, но это мне обойдется еще в три с полтиной. А полиция заявляет, что сделать ничего не может.
— Дети, наверное, — сказал я. — По вечерам на улицах подростков околачивается много? В каникулы они совсем неуправляемые.
— Никто не околачивается. — Том надулся, словно я очернил Уэксфорд. — Здесь тебе не О’Коннелл-стрит с ее закусочными, спорттоварами и игральными автоматами. Тутошняя молодежь не чета дублинской.
— Но кто-то же это сделал.
— Сделал. И если я узнаю — кто, сверну ему шею.
Я оглядел кабинет, унылую комнату в тусклых обоях; письменный стол грозил в любую секунду развалиться, но полки, как ни странно, были уставлены религиозными книгами.
— Остались от прежнего хозяина, — сказал Том, заметив мое удивление. — И веселенький декор тоже от него. На следующей неделе отправлю книжки в Уотерфорд. Не чаю от них избавиться.
— Сам почитать не хочешь?
— Издеваешься? Такая скучища — мухи дохнут.
— А эта? — Я показал на книгу в меткой обложке, которая вряд ли пришлась бы по вкусу отцу Уильямсу.
— «Коммитментс»?[28] Нет, это моя. Не читал? Я покачал головой.
— Ну и словечки там — негр покраснеет, — засмеялся Том. — Но вещица занятная.
— Я о ней слышал. В школе ребята что-то говорили.
— Лучшая ирландская группа в стиле соул! — Том раскинул руки, словно представлял музыкантов на сцене «Олимпии». — А вот еще одна штучка того же Родди Дойла. — Он взял книжку с тумбочки. — О дублинской шлюхе, которая вдруг залетела.
Его неожиданная грубость меня слегка покоробила, и я вспомнил, что Ханна сказала о папе-поляке. Может, это касается и Тома?
— Они же есть, эти грязные девки, чего уж там? — сказал он. — В Дублине-то их, поди, пруд пруди? Разгуливают чуть ли не голышом. Все прелести напоказ. Смотри кому не лень. А ученики твои по ним с ума сходят, да?
— Ребята все разные, есть взбалмошные, есть тихони.
Мне хотелось сменить тему. Я вдруг пожалел, что приехал, и предстоящие дни с Томом показались мукой. Мы четыре года не виделись, а он заводит подобные разговоры. Но что нас связывает, подумал я, кроме прошлого? Шесть лет в одной келье, одна профессия, кусок юности, прожитый вместе. Но есть ли у нас что-нибудь общее? Вспомнились школьные классы, тихий порядок библиотеки. А я вот здесь, выслушиваю Томовы непотребства.
— Однако ты дома, — сказал я, стараясь перевести разговор.
— Почему это?
— В смысле, в Уэксфорде.
— А, ну да.
— Семья, наверное, рада. Все твои девять братьев и сестер.
Том пожал плечами:
— Да мы и не видимся. Трое в Америке, двое в Австралии, один в Канаде. Две монахини сидят взаперти. Здесь только один брат. У него, конечно, ферма.
— Боже мой!
— Народ бежит, Одран. Здесь работы не сыщешь. Прям как в голодные времена. А премьер Хоги только о себе и думает, обустраивает свое гнездышко. Видал, какой остров отхапал? По телику показывали. И никто не спросит, как на его зарплату можно купить целый остров.
— Все предпочитают молчать, — сказал я. — Даже когда что-то происходит на наших глазах.
— Что верно, то верно.
— Но отец с матерью, наверное, рады, что ты рядом.
Том покачал головой:
— Они умерли, Одран. Ты не знал?
— Что? — Я подумал, что ослышался.
— Родители скончались. Вот уж как три года. Маму угробил инсульт, отца, через пару месяцев, инфаркт.
— Не может быть. — Я ошеломленно смотрел на него.
— Вот так вот.
— Но почему ты меня не известил? Почему ничего не сказал? Я бы чем-нибудь помог.
— Чем бы ты помог?
— Ну хоть на похороны приехал бы.
— На похоронах была половина Уэксфорда. Зачем тебе стоять в массовке.
— Господи боже мой, Том, я же твой лучший друг. Ты должен был мне сообщить.
Том опустил взгляд и побарабанил пальцами по столешнице, обтянутой кожей. Во мне закипала злость — это ж надо, родители умерли, а он и словом не обмолвился. Хороша дружба! Но выпустить пар я не мог. Как ругать того, кто пережил горе? Однако мне было обидно, жутко обидно, как будто Том перечеркнул семнадцать лет нашей дружбы.
Повисло долгое неловкое молчание. Наконец Том глянул на настенные часы, и тотчас брякнул дверной звонок.
— Не успел предупредить — у меня беседа с прихожанами, — сказал Том. — Мамаша, знаешь ли, и непутевый сынок. Он у меня в служках. Славный паренек. Но дома фордыбачит, и раз в неделю мать приводит его ко мне. Пытаюсь наставить мальчишку на путь истинный.
— Раз в неделю? — Я изобразил интерес, хоть еще не сладил с обидой. — Тебе это не хлопотно?
— Ничего. Парню наши беседы нравятся, я вроде бы нашел к нему подход. Давай позже встретимся в баре «У Ларкина», хорошо? Скажем, часов в шесть. Да не бойся ты, неволить не буду. Пропустим по паре кружек с прицепом.
В дверь стукнули, и на пороге возникла миссис Гилхул, явно встревоженная.
— Миссис Килдуфф пришла, — сказала она, переводя взгляд с Тома на меня. — С Брайаном.
— Входите, входите. — Том поманил женщину лет сорока, заметно взволнованную визитом к священнику, и мальчика лет восьми-девяти, окинувшего нас затравленным взглядом. Что ж такое стряслось с несмышленышем, подумал я, что понадобилась помощь пастыря? Бедняга выглядел каким-то затюканным.
— Не буду вам мешать, — сказал я и шагнул в прихожую.
— Значит, в шесть «У Ларкина», — напомнил Том. — И вы, миссис Килдуфф ступайте, а мы с Брайаном поболтаем. Дайте нам часик-полтора, будьте умницей.
— Может, вы останетесь, отче? — сказала миссис Гилхул, когда женщина вышла на улицу. — Как говорится, ум — хорошо, а два — лучше.
— Нет, это неудобно, — ответил я.
И тогда вдруг экономка стукнула в закрытую дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошла внутрь.
— Что вы себе позволяете, миссис Гилхул! — Том сидел за столом, мальчик — в кресле, которое перед тем занимал я.
— Да вот отче говорит, ему было бы интересно посмотреть, как ведется работа в приходе. — Экономка кивнула на меня. — Верно, отче?
— Нет, — опешил я. — Ничего такого я не говорил.
— Значит, я недопоняла. — Старуха врала и не краснела. — Но ведь это неплохо, какое-то разнообразие, правда? Заходите, отче, и расскажите о себе, а мальчик послушает.
— Это возмутительно… — начал Том, но я не дал ему договорить, утянув экономку в коридор.
— Извини, Том, увидимся в шесть, как договорились. — Я закрыл дверь и повернулся к миссис Гилхул. Она спятила, что ли?
— Малыша легко испугать, — затараторила экономка, не дав мне и рта раскрыть. — Я подумала, с вами ему будет спокойнее.
— С какой стати ему пугаться? И чего?
Миссис Гилхул помолчала, кусая губы.
— Маленькие всего боятся, — сказала она. — Один ваш воротничок нагоняет страху.
— Слушайте, если он боится одного священника, двух испугается еще больше.
— А что, есть чего бояться?
Вопрос меня ошеломил.
— Я вас не понимаю, — сказал я.
— Да все вы понимаете. — Экономка гадливо скривилась. — Нечего тут передо мной разыгрывать. Я отнесу чемодан в вашу комнату, а вы идите, куда собрались. Все вы одним миром мазаны.
Предстояло убить два часа, и я вдруг понял, что ноги сами собой несут меня к морю. День выдался солнечный, пришла мысль разуться и босиком пройтись по песку, и я ее послушался, поглядев направо в сторону Росслер-Харбор, докуда по берегу двадцать миль, но зашагав налево к песчаному местечку, известному как пляж Карраклоу, где двадцать шесть лет назад мой отец решил распрощаться с этим светом.
Мне никогда не хотелось вновь посетить этот уголок, отмеченный горестными воспоминаниями. Я винил графство за этот пляж, я винил пляж, отнявший моего брата, я винил брата, занявшего мое место, и я винил себя, что не откликнулся на отцово приглашение. Господи, ведь я бы смог отбиться — все-таки мне было девять, я был на пять лет старше Катала и к тому же хорошо плавал, — и, возможно, отец следом за мной поплыл бы к берегу, увидев, как я молочу руками по воде. В чем еще я винил это место? Во всем. В незаживающей душевной ране, нанесенной моей сестре. В том, что из безобидной домохозяйки мать превратилась в религиозную фанатичку, вознамерившуюся единственного оставшегося сына сделать священником. Уэксфорд. Проклятый Уэксфорд. По злой иронии судьбы отсюда родом мой лучший друг. Да, все эти годы я избегал Уэксфорда, но теперь вновь здесь очутился; я располагал временем, и мне казалось важным пройти по старым местам, распечатав саркофаг с воспоминаниями.
То лето засело во мне навеки: я не мог ни забыть его, ни думать о нем. Но каждая секунда той поры врезалась в память, тогда как многие последующие годы стерлись начисто. И сейчас помню нашу с Ханной радость, когда по утрам мы с ведерками и лопатками пробирались через дюны, а маленький Катал ковылял следом и кричал, чтоб его подождали, но станем ли мы валандаться со всякой мелюзгой, когда перед нами весь пляж и минуты вдали от него казались потерянными. Мы так мчались, что выиграли бы олимпийскую медаль. Я помню мамино лицо, когда к дому подъехал полицейский. И помню, боже мой, возвращение в Дублин вдовы с двумя осиротевшими детьми, вопреки всему взбудораженными путешествием в поезде, на котором ехали второй раз в жизни.
Что еще? Что еще… что еще… что еще?..
В нескольких милях от нашего домика был железнодорожный переезд, и, бывало, по утрам я туда ходил, очарованный стариком, обитавшим в будке на обочине дороги и время от времени нажимавшим кнопку хитроумной системы, которая с приближением поезда опускала шлагбаум, а затем его поднимала. Деду, старому пню, мой интерес, похоже, нравился.
Но когда я попросил разрешения нажать волшебную кнопку, он ответил, что дорожит своей работой, а его погонят взашей, если кто-нибудь увидит, как малец управляет шлагбаумом.
— Да ничего не будет, — упрашивал я. — Я видел, как вы это делаете. Я справлюсь.
— На моей работе нужно думать обо всех, кто тебе доверился и вручил свою жизнь, — сказал дед. — А вдруг кто-нибудь пострадает из-за твоего недосмотра? Или моего. Хочешь, чтоб тебя мучила совесть, что ты в ответе за большое горе?
Я не понял, признался я, и тогда старик пообещал доверить мне шлагбаум, когда закончится война в Европе. Дескать, шестьдесят лет назад он, мальчишка, получил такой же ответ от старика, работавшего на этом переезде. Я передал наш разговор отцу, и тот, засмеявшись, покачал головой:
— Война в Европе, сынок, закончилась в 1945-м. Но ты будь начеку, поскольку новая война не заставит себя ждать.
Интересно, сохранилась ли та будка? Наверное, что ей сделается. Старик-то, конечно, давно умер. Бойни, сравнимой со Второй мировой войной, не случилось, но были венгерская и румынская революции, гражданская война в Греции, в Прагу входили советские танки, а на родине моей бедствиям не видно конца-краю.
Что еще? Что еще… что еще… что еще?..
Я ступил на чистый песок у самой водной кромки, и волны, точно юнцы, отплясывающие хоп-джигу, окатывали мои босые ноги. Неподалеку компания подростков в плавках и купальниках бросала фрисби; я отвернулся, боясь, что диск полетит ко мне и я себя выставлю дураком, пытаясь его поймать. Здоровенный пес-красавец, золотистый ретривер, радостно носился кругами, дожидаясь своего момента; если кто-то из ребят был недостаточно ловок или, сжалившись над собакой, нарочно упускал диск в Атлантический океан, пес бросался в воду и всякий раз, независимо от того, кто бросил или промазал, приносил добычу одному и тому же мальчику, который его хвалил и трепал по загривку. Наверное, симпатичный паренек, чья улыбка говорила о том, что он не изведал никаких горестей в жизни, был хозяином собаки.
Он, что ли, с другой планеты, что так беззаботен?
Поодаль на песке растянулись несколько пар, пытаясь урвать толику загара от редкого ирландского явления под названием «солнечный летний день». Женщина в темных очках а-ля Джеки Онассис и широкополой шляпе а-ля принцесса Маргарет, за которую бульварная пресса обвиняла ту в дурновкусии, натиралась лосьоном.
Мужчина, явно желавший привлечь внимание, занимался чем-то вроде йоги.
Отдыхающие, молодые и старые, бросали на меня любопытные взгляды.
— Да снимите вы свой воротничок, отче, и маленько расслабьтесь! — беззлобно, скорее, шутливо крикнула какая-то женщина, и я помахал ей рукой.
А потом я увидел их. Семейство на краю пляжа, где солнце как будто светило не в полную силу. Двое взрослых, трое ребятишек; мальчик с девочкой копали ров вокруг песчаного замка, а младший братишка хотел им помочь, но его беспрестанно отпихивали, и от такой нелюбезности он расплакался. Семейство расправилось с бутербродами, и родители навели порядок: собрали упаковки от чипсов, пустые лимонадные банки сплющили и бросили в пластиковый пакет, чтобы оставшиеся капли не измочили подкладку корзины. Потом отец встал и крутанулся, совершив полный оборот вкруг себя, поцеловал жену в лоб, схватил в охапку и потискал двух старших детей, а затем взял за руку младшего и сказал, что поучит его плавать, иначе какой смысл приезжать на море, и меня обуял страх, я бросился к ним, заклиная мужчину одуматься и отпустить малыша. Услышав мой вопль, все пятеро обернулись, уставились на меня как на чудика, а потом зашлись безумным смехом, тыча в меня пальцами, но чем ближе я к ним подбирался, тем быстрее угасали их улыбки, а потом и сами они растаяли в воздухе, потому что их там не было вообще. Через двадцать шесть лет было слишком поздно к ним взывать.
Береговой тропкой я шагал к поселку, и на глаза мне попался магазинчик, в витрине которого были выставлены мячи, ведерки и лопатки, игрушки, чайные пакетики, бисквиты и прочая ерунда, а вывеска над входом извещала о довольно редкой фамилии хозяина — Лондигран, и я вспомнил своего однокашника по семинарии Дэниела Лондиграна. Но тот был из Дун-Лэаре и вряд ли состоял в родстве с семейством, владевшим лавкой. Интересно, что с ним стало? — подумал я. Я знал многих приходских священников, особенно своих сверстников, но о Дэниеле не слыхал с тех пор, как после невероятного происшествия его, третьекурсника, перевели в семинарию Святого Финбарра в Корке, что было беспрецедентным событием.
Дэниел Лондигран подал жалобу, но ее сочли лживой и безнравственной, и каноник заявил, что видеть его не может, что таким не место во вверенной ему семинарии и если сей выродок не желает вообще оставить церковную стезю, то пусть убирается на другой конец страны. Дэниел соседствовал с однокурсником О’Хаганом, который получил недельный отпуск и уехал в Дандолк попрощаться с матерью, умиравшей на больничной койке. И вот однажды ночью в его келью проник человек в вязаной шапочке, натянутой на лицо, навалился на спящего Дэниела и рукой зажал ему рот. В темноте Дэниел не видел, кто это — семинарист или священник, тем более что отдельные ученики уже вымахали, что твой мужик, а некоторые священники были весьма тщедушны. По словам Лондиграна, началась потасовка: пришелец попытался сдернуть с него пижамные штаны, однако Дэниел, совсем не рохля, не стерпел этакую наглость и от души врезал незнакомцу, угодив ему в плечо, тот выскочил из кельи и скрылся в коридоре. Лондигран бросился вдогонку, но того и след простыл.
На другой день парень подал жалобу, а каноник заявил, что в Клонлиффе ничего подобного никогда не было и не будет, что присутствие в семинарии этакого лжеца и, по всей видимости, развратника окажет тлетворное влияние на других учеников. Короче говоря, Дэниела вышибли. Пришлось ему ехать в Корк. Я, надо сказать, об этом жалел, потому что Лондигран был хороший парень, мы с ним всегда ладили и он здорово играл в нарды, которыми я тогда увлекался; вдобавок Дэниел прилежно учился, был ярым сторонником латыни, негодовал, что Второй Ватиканский собор допустил иные языки в литургии, и даже написал папе Павлу — мол, нельзя ли вернуть прежний порядок.
Из Дун-Лэаре примчались его родители, пытались оспорить решение каноника, но тот озлился — виданное ли дело, подрывать его авторитет! — дал им от ворот поворот, и отец с матерью отправились восвояси. Тем дело и кончилось. Будь я крепче характером, я бы написал Дэниелу в Корк, но я боялся, что кто-нибудь из священников перехватит мое письмо, а мне вовсе не улыбалось, чтоб меня тоже зачислили в развратники и ближайшим автобусом отправили домой. В общем, я ничего не сделал.
Но вот фамилия. Лондигран из Дун-Лэаре. Лондигран из Уэксфорда. Интересно, Том видел эту лавку? Если — да, какие мысли у него возникали?
Гостевая комната, расположенная рядом с прихожей, напоминала конуру, куда еле-еле втиснули односпальную кровать и узкий платяной шкаф. На стене изображение Спасителя, над изголовьем кровати портрет папы-поляка в золоченой рамке: молитвенно сложенные руки, невинный взгляд. Том обитал в глубине дома, а миссис Гилхул занимала самую большую комнату с собственной ванной и туалетом. Пожелав мне спокойной ночи, она уведомила, что границы ее жилья нерушимы.
Нерушимы!
Уж не знаю, за кого она меня принимала.
Перед сном я решил почитать «Коммитментс», надеясь, что книга меня усыпит, но она, конечно, возымела обратное действие. Наверное, так и задумывалось. Наконец, когда глаза мои уже слипались, Джон-трубач поцеловал Имельду Квёрк, и я, загнув страницу, выключил лампу, напоследок ругнув Тома, который влил в меня четыре пинты с двумя прицепами, от чего в желудке шло цирковое представление, и я даже боялся подумать, что наутро будет с моей головой. Я закрыл глаза и зевнул, изготовившись ко сну.
Но тут с улицы донесся шум. Непонятный. Кошка, что ли? Да нет, не кошка. Вот опять. Странный шум заставил меня вылезти из кровати, подойти к окну и чуть-чуть раздвинуть шторы. Сперва я ничего не увидел, но потом разглядел. Мужчина. Нет, мальчик. Маленький. И что в этакую пору маленький мальчик делает на улице? Где его родители? Да он никак в пижаме? Точно. Красные штанишки, черная курточка с белыми рукавами. Я прижался носом к стеклу. Да это же Брайан Килдуфф. Тот самый мальчик, что приходил на беседу с Томом. Что он задумал? Наклонялся. Что-то достал из кармана. Ножик, что ли? Ножик. В лунном свете я разглядел желтый перочинный ножик. Мальчик раскрыл лезвие. Затем подошел к машине Тома и поочередно проткнул все четыре покрышки, от чего машина сначала осела набок, потом выровнялась. Мальчик, явно довольный содеянным, посмотрел на дом, лицо его было безмятежно.
Я отпрянул за штору, а когда решился вновь выглянуть, босой мальчик, свершив злодеяние, по улице бежал домой. Я лег в постель, не зная, что и думать.
Нет, вранье. Я знал, что думать. Только не мог себя заставить.
Как и в тот раз, когда беднягу Лондиграна услали в Корк. Перед сном Том раздевался, и на плече его я увидел здоровенный синяк, багровый по краям, зеленоватый в середке, очень заметный на бледной коже.
Я не проронил ни слова.
А теперь меня поедом ест вина.
Вина. Вина, вина, вина.
Она так сильна, что я начинаю понимать своего бедного, сожранного депрессией отца, который однажды утром решил, что именно сегодня отправится на пляж Карраклоу, именно сегодня простится с близкими, именно сегодня одного из нас утянет под воду и, когда ребенок обессилет, поплывет к Кале, не надеясь доплыть живым.
Она так сильна, что в последние годы бывают минуты, когда я думаю, а не пойти ли мне на пляж Карраклоу и со всем этим покончить.
Глава 11 2007
Ханна была удивительно жизнерадостна в тот день, когда ее поместили в лечебницу для больных с прогрессирующей деменцией. Тогда у нее был период относительного просветления, но в том-то и коварство этого недуга, что иногда он, словно великодушный хозяин, дает короткую передышку жертве, и та обретает почти прежний облик. Ты уж думаешь — напасть миновала, но потом вдруг во время вполне разумной беседы тучи сгущаются и сестра смотрит на тебя как на чужака, вторгшегося в ее дом. «Ты кто такой? — вопит она, вцепившись в подлокотники кресла. — Чего тебе надо? Пошел вон!» И на недели, а то и месяцы разум ее погружается во тьму.
На кого она кричит? — гадал я. На меня или свой недуг?
Началось это в 2001-м, всего через год после смерти Кристиана, когда Ханна вдруг стала забывать имена и лица, но болезнь пока медлила. А потом, незадолго до Рождества 2003-го, покатилась снежным комом с горы: оплошности на работе, взыскания, и непосредственная начальница уже выискивала способ уволить сестру, невзирая на годы ее беспорочной службы. Наконец Ханна допустила жуткий промах, из-за которого банк потерял десятки тысяч евро, я ее не только мгновенно уволили, но чуть было не завели уголовное дело. Джонас первым забил тревогу и повез мать в университетскую клинику, где несколько месяцев группа врачей ее обследовала: просили заполнить разные анкеты с кучей нелепых, часто повторяющихся вопросов, проводили тесты памяти и языковые игры, раздражавшие Ханну. Я себя чувствую пятилетней, говорила она. Ей сделали анализы крови и УЗИ головного мозга, проверили уровень кальция, изучили ее меню на предмет нехватки витаминов. В результате был поставлен диагноз, означавший начало медленного конца. Ханна, надо сказать, держалась молодцом; порой казалось, больше всего она озабочена тем, чтобы реабилитироваться перед банком и поставить на место начальницу, хотя, возможно, этой пирровой победой прикрывала свой страх.
Еще несколько лет Ханна оставалась дома, живя на пособие службы здравоохранения и литературные гонорары Джонаса, и мы наняли ей сиделку — молодую француженку, выказавшую невероятное терпение и доброту. Эйдан, конечно, тоже помогал, переводя деньги на счет брата, и временами навещал мать, но об этом я узнавал лишь после его отъезда.
— Разве он тебе не звонил? — спрашивал Джонас, изображая наивность.
Я качал головой:
— Нет.
— Говорил, позвонит.
— Однако не позвонил.
— Ну не знаю.
Если честно, из-за этого я больше не переживал. За всю жизнь я Эйдана ничем не обидел, но раз ему угодно так себя вести — его дело. У меня есть заботы поважнее.
А потом ситуация приняла скверный оборот. Французская сиделка, храни ее Господь, подверглась нападению, получив перелом запястья, и мы решили, что настало время Ханне покинуть Грейндж-роуд и перебраться в лечебницу, где ей обеспечат пригляд и необходимый уход.
Сестра прекрасно понимала, что происходит, она со всем согласилась и подписала нужные бумаги. Недели две состояние ее было на удивление хорошим, и нам не пришлось понуждать ее к переезду. Ей исполнилось всего сорок девять, и казалось жуткой несправедливостью, что судьба отняла у нее рассудок, когда она вполне могла прожить еще лет сорок, хотя врачи говорили, что с таким заболеванием это вряд ли возможно. Но я старался не думать о ее возможной смерти. Жизнь меня и так обобрала, не хватало еще лишиться любимой сестры.
До тех пор Джонас, несмотря на перемены в его жизни, обитал в родном доме. Успех пришел к нему рано, в двадцать один год, когда «Шатер» внезапно стал бестселлером, и племянник мой был желанным гостем на литературных фестивалях разных стран. Ему хотелось воспользоваться шансом и повидать мир, но с больной матерью дома это было затруднительно. Прежде он лишь раз покидал Ирландию — перед последним университетским курсом на три летних месяца съездил в Австралию, где в сиднейском районе Рокс работал барменом, но я знал, что он мечтает о путешествиях, тем более что их оплачивали издательства. Однако Джонас не предпринимал никаких действий, поскольку переезд Ханны его на самом деле чрезвычайно огорчал, но мы оба понимали, что так будет лучше, и я был уверен, что раз уж в награду за его талант жизнь распахнула ему свои объятия, мать не стала бы ему завидовать.
— У меня будет отдельная комната, да, Одран? — спросила Ханна, когда мы втроем ехали в лечебницу.
— Конечно, — сказал я. — Ты ее уже видела, не помнишь?
— Помню, помню. — Она отвернулась к окну. Мы проезжали мимо теренурской школы, и я углядел ребячий рой в пурпурно-черной форме, приливом накатывающий на регбийное поле. В шлемах с защитными каркасами мальчишки смахивали на ощерившихся волчат. Прошло уже больше года, как архиепископ Кордингтон убрал меня из школы, по которой я ужасно скучал. — Такая с сиреневыми обоями, да? А в углу кресло с царапиной на правой ножке.
— Мам, это твоя комната дома. — С переднего сиденья Джонас повернулся к матери: — Ваша с папой бывшая спальня.
— Так я о ней и говорю, — нахмурилась Ханна.
— Нет, ты спросила о комнате в лечебнице. Там стены светло-зеленые, на одной висит телевизор. Ты еще забеспокоилась, что он упадет и разобьется, помнишь?
Сестра покачала головой, словно не понимая, о чем речь.
— Одран, ты помнишь, как мы ходили в кино? — после долгого молчания спросила она. Мы ехали по Эбби-стрит, где раньше был кинотеатр «Адельфи». Многие киношки нашего детства сгинули: «Адельфи», «Карлтон» в начале О’Коннелл-стрит, «Экран» на Бридж-стрит. Последний и в свои лучшие времена был жутким свинарником: шагу не ступишь, чтобы не вляпаться в засохшую лужу кока-колы или не раздавить рассыпанный попкорн. Не уцелел даже «Маяк», в котором крутили зарубежные фильмы.
— Помню, — сказал я. В начале восьмидесятых, когда я уже был молодым священником, каждую среду мы ходили в кино, а после сеанса отмечались в закусочной «Капитан Америка». — Славное было время.
— Ты знаешь, Джонас, — Ханна толкнула сына в плечо, — после кино мы шли ужинать, хоть уже лопались от попкорна и фанты. Мы не пропускали ни одного фильма, правда, Одран?
— Да, смотрели почти все.
— Как назывался тот, с обезьяной?
— С обезьяной?
— Да знаешь ты! Там обезьяна. И еще этот. Клинт Иствуд.
— «Любым доступным способом», — сказал я.
— «Любым способом, кроме подлянки», — поправил Джонас.
— Названия схожи.
— Как обезьяньи рожи, — вставила Ханна, и я даже засомневался, надо ли помещать в лечебницу человека, способного каламбурить.
— Ты помнишь «На золотом озере»? — спросил я.
— Конечно, — сказала Ханна. — С Кэтрин Хепбёрн, да? Там ее мотает, словно она только что сошла с карусели. И с Генри Фондой. Кажется, он умер незадолго до съемок?
— Тогда он не смог бы сыграть в этом фильме.
— Значит, после съемок. Умер после.
— Да, — сказал я, вспоминая картину. — По-моему, за эту роль ему дали «Оскара», но из-за болезни он не смог сам его получить.
— Как же зовут его дочь? — спросила Ханна. — Сейчас…
— Джейн, — подсказал я. — Джейн Фонда.
— Нет. — Сестра покачала головой и нахмурилась. — Кристиан, ты не помнишь, как зовут дочь Генри Фонды? Она еще занималась аэробикой. Держала себя в форме.
— Все верно, мам, ее зовут Джейн Фонда, — ответил Джонас. Мы свернули на Парнелл-сквер и выехали на Дорсет-стрит. — И я не Кристиан, я Джонас.
— Да нет же, — уперлась Ханна. — Я знаю Джейн Фонду, к Генри она никаким боком. Погодите, дайте вспомнить…
Ехали в молчании.
— Меня оттуда выпустят? — спросила Ханна. — Или уж насовсем?
— Это не тюрьма, это лечебница, мам, — сказал Джонас. — Там о тебе позаботятся. Время от времени ты будешь выезжать в город. Со мной или Одраном.
— Обязательно, — поддержал я.
— А куда вы меня повезете? Там не опасно, нет?
— Например, погуляем на пирсе Дун-Лэаре, — предложил я.
— И поедим мороженого «У Тедди»! — Ханна восторженно захлопала в ладоши. — Там оно самое вкусное в Дублине.
— Точно, — хором сказали мы с Джонасом.
— У тебя же там скидка, — добавила сестра. — Выйдет дешевле.
Я посмотрел на нее через зеркало заднего вида:
— Какая скидка?
— Ты же там работаешь, а все сотрудники получают скидку. Закажем «Кэдбери-99». Его еще делают, правда?
— Конечно, делают. — Я решил не разубеждать ее, хотя никогда не торговал мороженым. — Возьмем с клубничным наполнителем.
— Нет, такое я не люблю. Просто с шоколадной стружкой. Больше ничего не надо. Значит, втроем и пойдем.
— Здорово, — сказал Джонас.
— Не с тобой! — рявкнула Ханна. — Тебе нельзя. Одран, скажи, что он не пойдет. Только мы втроем.
Может, не надо уточнять? — мелькнула мысль. Бог-то с ним.
— Втроем — это кто? — все же спросил я.
— Мы с тобой и, конечно, маленький Катал. Он с ума сойдет, если узнает, что мы без него угощались мороженым.
Я глубоко вздохнул и сморгнул вдруг подступившие слезы. Не хватало еще расплакаться.
— Все в порядке? — тихо спросил Джонас, я только кивнул.
Несколько минут все молчали; потом я собрался с силами, не желая обрывать разговор на такой ноте.
— Еще можно по серпантину подняться на Хоут-Хед, — сказал я. — В хороший денек выйдет славная прогулка, верно?
Ханна похлопала сына по плечу:
— Помнишь, как однажды ты там заблудился?
— Не я — Эйдан, — ответил Джонас.
— Кто?
— Эй-дан! — громко повторил я. Сам не знаю, зачем я добавил звук, ибо Ханна слышала прекрасно. Так британцы говорят с континентальными европейцами — по слогам, медленно-медленно, как будто проблема непонимания таится в громкости и скорости речи.
— Кто такой Эйдан? — спросила сестра.
— Эйдан! — вновь гаркнул я, словно это помогало делу.
На секунду Ханна задумалась.
— Не знаю никакого Эйдана.
— Да знаешь ты. Твой первенец.
— Ох, бедный Эйдан, — тихо проговорила сестра. — Наверное, он никогда меня не простит.
— За что? — спросил я.
— Эйдан тебя любит, мам. — Джонас вновь развернулся к матери: — Очень любит. Ты это знаешь.
— Он никогда меня не простит. Но ведь он был выпивши, верно? А хмельному нельзя за руль.
— Когда это он хотел пьяным сесть за руль? — удивился я.
— Она говорит не об Эйдане, — тихо сказал Джонас.
— А о ком?
Джонас покачал головой.
— О ком?
— Не надо, Одран.
— Я много раз поднималась на Хоут-Хед, — сказала Ханна. — Помнишь, как Джонас собирал ежевику и потерялся?
Помню, — ответил я. — Я же был с вами.
— Не ври, тебя не было. Началось с того, что он собирал ежевику. Мы выехали на пикник — мама с папой, Эйдан, конечно, это было задолго до твоего рождения, Одран. — Сестра задумалась, а я промолчал. Меня ужасно тяготило, когда она вот так блуждала в воспоминаниях, путая детали и участников реальных событий. — Под ягоды я дала Джонасу коробку из-под маргарина, раньше были такие большие, квадратные, помнишь? Из желтого пластика. Ну вот, он ушел, и нет его, мы всполошились, ищем, окликаем. И на краю утеса находим маргариновую коробку, я думала, рехнусь на месте — все, думаю, малыш свалился. Со мной истерика. И тут он является — Лазарь, воскресший из мертвых. Коробку бросил кто-то другой. За всю жизнь не пережила я такого страха.
Я улыбнулся. Кое-что в истории соответствовало истине.
— Вот лишь теперь, — помолчав, добавила Ханна.
— А чего пугаться. — Ободряя сестру, я превратил вопрос в утверждение. — Страшного ничего нет. Будет хорошо. Тебя окружат заботой.
— Они такие воровки, эти сиделки. — Ханна поджала губы. — Интересно, среди них есть чернокожие?
— Ну полно тебе, — урезонил я.
— Мы будем приезжать так часто, что еще надоедим, — сказал Джонас, когда я подрулил к лечебнице. — Только скажи, что тебе нужно, и мы сразу все привезем.
— Это сейчас вы так говорите. — Ханна отвернулась к окну. — Поглядим, что будет через полгода. — Она вытянула руки и посмотрела на ногти. — В девичестве, вскоре после замужества, меня часто спрашивали, не родственница ли я У. Б. Йейтсу. Я всем отвечала, что мы пишемся по-разному. Одран, ты когда-нибудь бывал в Театре Аббатства?
— Да, много раз, — ответил я. — Мы с тобой вместе ходили, не помнишь?
— Нет, я там никогда не была, — покачала головой Ханна. — Меня бы туда не впустили. За плохое поведение папу отлучили от сцены.
— Здесь налево. — Джонас показал на больничный корпус.
— Я знаю.
Я заехал на стоянку, выключил мотор и на секунду прикрыл глаза. Мне было тяжело решиться на предстоящий шаг, однако я понимал, что племяннику моему еще тяжелее. Мир заметил молодого автора, его жизнь набирала ход, и он боялся себе навредить, поскольку все это выглядело предательством человека, желавшего ему только добра. Он не хотел бросать свою мать и опасался молвы — вот, извольте, сбагрил матушку в богадельню, — но что ему оставалось делать?
— Мы приехали? — с заднего сиденья спросила Ханна.
— Может, не надо, мам? — Джонас обратил на нее повлажневшие глаза.
— Надо, сынок. Незачем выживать из ума в своей гостиной. Все мы понимаем, что так будет лучше.
Джонас кивнул. Наверное, вот это и было самое горестное — полное здравомыслие, когда болезнь брала передышку. Ханна выглядела абсолютно нормальным человеком — и вдруг перемена. Через секунду. Через миг.
Мы вышли из машины.
— Я хочу сама распоряжаться своими деньгами, — сказала Ханна, заглянув в сумочку. — У них тут есть «Гералд» или мне придется самой покупать?
— Наверняка есть, — успокоил я. — Но если что — оформим подписку.
— Мне и вечера не прожить без моей газеты.
— Возьмешь чемодан, Одран?
— Да.
Из парадной двери вышла немолодая женщина, с которой мы уже встречались, миссис Уинтер. С виду серьезная, деловая, опытная. В кино ее играла бы Эмма Томпсон.
— Здравствуйте, Ханна, — сказала она, взяв сестру за обе руки. — Мы вам очень рады.
Ханна, выглядевшая немного испуганной, кивнула. Она пригнулась к сиделке и, показав на нас с Джонасом, прошептала ей на ухо:
— Кто эти мужчины?
В дверях показалась молодая сиделка Мэгги, с которой мы уже виделись дважды — она провела нас по лечебнице и познакомила Ханну с распорядком дня. Я обрадовался, что сейчас сестра ее узнала и просветлела лицом.
— Вот кого я люблю, — сказала она, заключив Мэгги в объятия, словно родную дочь после долгой разлуки. — Красавица моя. Скажи, ты замужем?
Сиделка рассмеялась:
— Почему-то никто не берет.
— А парень у тебя есть?
— Был, — сказала Мэгги. — Я его отшила.
— И правильно. От них одни неприятности. Может, вон тот тебе сгодится. — Сестра кивнула на Джонаса, который закатил глаза, но улыбнулся.
Мэгги смерила его взглядом, в глазах ее вспыхнул похотливый огонек. Я засмеялся, а Джонас густо покраснел. Наверное, в нем еще ютился подросток.
— Можно взять на пробу? — спросила Мэгги.
— Как это? — не понял я.
— Неужто не помнишь, Кристиан? — вмешалась Ханна. — Как раньше с марками. Берешь на пробу, какое-то время держишь у себя. Если нравятся, платишь за них и вставляешь в альбом, нет — возвращаешь филателисту.
— Идемте в помещение, Ханна, — позвала миссис Уинтер, которой явно не нравилось русло беседы. — Становится прохладно.
— Хорошо, — покорно согласилась сестра.
— Вы здесь до вечера, Мэгги? — спросил я. — Приглядите за ней?
— Не допоздна, — сказала сиделка. — В эту и следующую неделю я в дневную смену. С девяти до пяти.
— Нас знакомили еще с одной нянечкой… как же ее…
— Лили Томлин, — напомнила миссис Уинтер.
— Долли Партой, — сказал Джонас.
— Джейн Фонда! — выкрикнула Ханна и радостно захлопала в ладоши. — Дочка Генри!
В книжном магазине «Уотерстоун», что в конце Доусон-стрит, я встретил своего бывшего ученика Конора Макаливи. Последний раз мы виделись, когда он был на пятом курсе, а сейчас уже готовился к выпускным экзаменам и по выходным подрабатывал, копя деньги на летнюю заграничную поездку. В магазин я зашел просто так, но увлекся Э. М. Форстером, напомнившим о былых временах. Я прочел все его книги и сейчас разглядывал новенькие сверкающие обложки. Я взял «Комнату с видом» и вспомнил кафе Бенници на площади Паскаля Паоли, где провел столько часов, притворяясь, что читаю эту самую книгу, пока женщина за стойкой готовила клиентам эспрессо. Я зажмурился, вспомнив, как потом она меня унизила, и, отгоняя это воспоминание, подумал о своем добром друге, венецианском патриархе. Интересно, есть ли о нем книга или он слишком недолго папствовал и не заслужил биографии?
Поставив Форстера на место, я прошел в отдел беллетристики, задержавшись у полки на «Р», где стояли все книги Джонаса. Конечно, «Шатер». Экземпляров десять. И его второй роман, «Нарциссизм», — о человеке, который себя считал писаным красавцем и злобился на весь белый свет. На столике издания в твердой обложке. Я взял по экземпляру каждого романа (книги Джонаса у меня, разумеется, были, но я частенько покупал их в подарок знакомым) и зашагал к центральной лестнице искать биографический отдел. Я прошел вдоль стеллажей, но биографий не увидел; решив не сдаваться, я направился к кассе, где молодой парнишка что-то набирал в компьютере.
— Отец Йейтс? — Он оторопел, как бывает при встрече с тем, кого никак не ожидаешь увидеть.
— Неужто Конор Макаливи?
— Он самый.
— Что ты здесь делаешь?
— Работаю, — сказал Конор. — На полставки, по субботам и воскресеньям.
— Молодец.
— Как поживаете, отче?
— Если коротко — хорошо. Или поведать о периодической боли в коленке? — сказал я и, поскольку отклика не последовало, добавил: — Шучу, Конор, шучу.
— Понятно. Берете эти книги? — Он кивнул на романы с именем моего племянника на обложке.
— Беру. Ты их читал?
— Читал.
— И как тебе?
— Если честно, мура.
— Вот как.
— Заумная фигня. Автор к нам заглядывает и вечно чего-то из себя строит. И прическа у него дурацкая.
— Я бы не судил столь категорично. Тем более он наш.
— В смысле?
— Ирландец.
— Он косит под ирландца, отче. Вообще-то он норвежец.
— По-моему, он вырос в наших краях. — Я изображал простачка. — Что-то я о нем слышал.
— Кажется, мальчишкой он был здесь на летних каникулах. Отец его ирландец. Да ясно, почему он лезет в ирландцы. Вы назовете хоть одного знаменитого норвежского писателя?
— Не назову.
— То-то и оно.
Я кивнул и посмотрел на книги в своих руках:
— А я вот слышал очень хорошие отзывы. Так что возьму.
— Как вам угодно.
Не сдержавшись, я рассмеялся. Что и говорить, персонал здесь вышколен. Управляющий, кто бы он ни был, мог собой гордиться.
— Кстати, Конор, тебе не попадалась книга о папе Иоанне Павле Первом?
— В смысле, об Иоанне Павле Втором? — переспросил Конор, и я уставился на юнца, вздумавшего меня поправлять.
— Нет, именно о папе Иоанне Павле Первом.
— А разве был такой?
Я опять засмеялся. Экий тугодум.
— Ну вот сам рассуди, — терпеливо сказал я, — мог ли появиться папа Иоанн Павел Второй, если не было Иоанна Павла Первого? Иначе выходит ерунда.
— Веский довод, отче, — ухмыльнулся Конор.
— Бесспорно. А посему я повторю свой вопрос: нет ли у вас книги о нем?
— Если желаете, можем посмотреть, — сказал Конор, и мы вместе обошли стеллажи, но ничего не нашли. Я решил отказаться от поисков и позже глянуть в интернете. Наверняка кто-нибудь написал пару слов о бедняге. Как-никак он был папой. Хоть всего тридцать три дня.
— Как там в школе? — спросил я. — Как все ребята?
— Ждем не дождемся вас, отче, — горячо отозвался Конор, и мне показалось, что он не лукавит. — Преемник ваш грубиян. В библиотеке кавардак. Есть ли шанс на ваше триумфальное возвращение?
— Всего год прошел, — сказал я. — Неужто все развалилось так быстро?
— Вы даже не представляете, отче, как все плохо. — Конор печально вздохнул и присвистнул. — Даже не представляете.
— Я бы охотно вернулся. И я должен вернуться. Мне обещали. Сейчас я замещаю приятеля, которому пришлось отлучиться. Архиепископ сказал, это ненадолго. — Едва я произнес эти слова, меня ожгла мысль: ведь он и впрямь так сказал. А теперь ни звука о моем возвращении. Пожалуй, надо с ним поговорить.
— Через год будет слишком поздно, — сказал Конор. Я уже поступлю в университет.
— Вдруг повезет и в школе еще останутся ученики, — улыбнулся я.
Конор подумал и кивнул:
— Конечно, останутся, отче.
Он смотрел на меня как на придурка, а мне уже было не смешно. Он вправду такой глупый или зачем-то прикидывается? Я всегда считал его смышленым.
— Значит, я беру две книги. — Я положил на прилавок романы и двадцать евро, Конор пробил чек.
— Кстати, отче, — сказал он, — вы слышали об Уилле Формане?
— О ком?
— Уилл Форман. Да помните вы его, отче. Высокий, прямые черные волосы. На уроках всегда отвлекался, болтал по телефону.
— Ах да, — кивнул я. — На английском он обычно сидел за тобой. И что с ним, как он?
— Наверное, в шоколаде. Только он смылся к талибам.
— Что-что? — изумился я. Может, я недослышал?
— Он вступил в «Талибан». Вы в курсе о талибах?
— Да. Видел по телику. Банда Усамы бен Ладена.
— Во-во. Уилл, значит, вечно разорялся, что Джордж Буш и Тони Блэр военные преступники, а события одиннадцатого сентября — грандиозная подстава, устроенная США, чтобы был повод вторгнуться и захапать нефть. Как заведется, ничем его не прошибить. Один раз он схлестнулся с нашим историком, мистером Джонсоном. Помните его?
— Конечно.
— Ну вот, завели они бодягу об имперском гнете и прочей фигне, и тут Уилл прям посреди урока собирает манатки и говорит: «Все, парни, я по горло сыт этим дерьмом. Отбываю к талибам».
Я смотрел на Конора, изо всех сил стараясь не засмеяться:
— И что, отбыл?
— В том-то и штука! Купил билет в Иран, Ирак или куда там…
— В Афганистан? — предположил я.
— Во, точно! Через интернет купил дешевый билет, бросил бриться и умотал. Мамаша его сходит с ума. Отец ежедневно мотается в правительство, хочет заставить премьера Берти Ахерна что-нибудь предпринять. Они уже осатанели друг от друга. А в следующее воскресенье будет благотворительный марш по сбору денег.
— Кому? — Я запутался. — Талибам?
— Да нет же!
— А на что пойдут деньги?
— Вот этого я не знаю. — Конор задумался. — Может, мать с папашей хотят смотаться в Афганистан и привезти сынка обратно? А билеты, видать, недешевые. Наверное, еще пересадка в Хитроу или во Франкфурте.
— А не мог он засесть у какого-нибудь приятеля? — спросил я. — Вдруг парень просто валяет дурака? Помнится, умом он не блистал.
— Нет, отче! — Конор так заорал, что оглянулись другие покупатели. — Говорю же, он у талибов. Кузен Найла Смита видел его в новостях. Вроде стоял в группе боевиков, которые жгли портреты Дика Чейни. Прямо посреди какого-то города, не помню. Кандагар, что ли? Есть такой?
— Есть.
— Ну вот. — Конор кивнул, словно привел неоспоримое доказательство. — И как вам это?
Сказать было нечего. В школе творилось черт-те что. В библиотеке бедлам. Уилл Форман воюет за талибов. Так продолжаться не могло. Я должен был покинуть приход и вернуться в школу. Придя домой, первым делом я позвонил в Епископальный дворец. И вот тогда-то я узнал правду.
Договориться о встрече оказалось невероятно трудно. Когда пятнадцать месяцев назад архиепископ Кордингтон вызвал меня к себе, он — вернее, кто-то из его секретарей — позвонил мне в девять утра, а в три часа того же дня я уже сидел в кабинете его преосвященства, отклоняя предложение угоститься виски. Сейчас, когда я просил о встрече, пришлось четырежды звонить во дворец, и всякий раз мне отвечали «вам перезвонят», но безличный звонок так и не раздался. Я позвонил в пятый раз, и, видимо, в голосе моем слышалась легкая злость, ибо мне все же уступили, предложив тридцатиминутную аудиенцию через две с половиной недели. Срок показался долгим, но я не стал возражать, поскольку приближались летние каникулы и к своим школьным обязанностям я мог приступить лишь в сентябре.
— Одран! — воскликнул архиепископ, когда я наконец-то вошел в его кабинет и, опустившись на колени, приложился к золотой печатке. Какой, однако, массивный перстень, подумал я, и как хозяин им гордится. — Вот уж сюрприз! Ничего не случилось, нет?
— Ничего, ваше преосвященство.
— Здоровье хорошее?
— Да. Как ваше?
— Не жалуюсь. Присаживайся, присаживайся. Только, боюсь, я ограничен временем. Нынче мне позвонит кардинал Сквайерс, и перед разговором я должен собраться с мыслями. У него собачий нюх, он вмиг учует всякую неуверенность.
Я сел в то же кресло, что и прошлый раз, архиепископ устроился напротив меня. Он стал еще тучнее, этакий Монах Тук дублинской епархии.
— Как ты поживаешь там в своем… — Архиепископ замялся. — Куда, бишь, мы тебя отправили? — Получив ответ, он кивнул: — Ну да, ну да. Миленький приход. Поди, души в нем не чаешь?
— Приход как приход, — усмехнулся я. — Было бы преувеличением сказать, что я не чаю в нем души. По правде, я хотел узнать, сколько еще там пробуду.
— В смысле?
— Помните, ваше преосвященство, вы сказали, что я лишь заменю Тома Кардла на время его отлучки. Но прошло уже больше года. Связаться с Томом не удалось. Он частенько пропадал, так сказать, без вести, однако на сей раз будто сгинул с лица земли. Вы с ним говорили?
Лицо архиепископа было бесстрастным.
— Отец Кардл жив-здоров, — сказал он. — Не тревожься за него. Он в хорошем месте.
— Простите?
— Ты меня слышал.
— Где он?
— Какая разница?
— Большая. Он в зарубежной миссии?
— Нет.
— Но и в ирландских приходах его нет, иначе я бы о нем услышал. Я беспокоюсь за него, ваше преосвященство. Как вам известно, мы давние друзья, еще с семинарии.
— Я прекрасно осведомлен о вашей давней дружбе, отец Йейтс, — сказал архиепископ. — Благодарю, напоминать излишне.
Казалось, что-то в моем поведении или словах ему не понравилось, но я не мог понять что. Разве нельзя спросить о друге, о котором больше года ни слуху ни духу?
— Я об этом заговорил, — начал я, стараясь быть убедительным, — потому что хотел бы вернуться в школу в сентябре, к началу учебного года. Хорошо бы так получилось. Я надеюсь…
— Нет, Одран, так не получится. — Архиепископ пристукнул ладонью по подлокотнику, и от категоричности этого жеста сердце мое ухнуло.
— Не получится?
— Нет.
— Вы позволите узнать почему? — помолчав, опросил я.
— Конечно, позволю, — усмехнулся архиепископ, но больше ничего не сказал.
— Ваше преосвященство…
Он поднял руку, прерывая меня:
— Одран, ты нужен там, куда тебя направили. В ближайшее время отец Кардл не вернется к приходской службе. Боюсь, маловероятно, что вернется вообще.
— Вам это не кажется чуточку несправедливым? С самого рукоположения беднягу перебрасывают с места на место. Ни в одном приходе он не провел больше двух-трех лет. Не лучше ли для него и прихожан, если б он где-нибудь угнездился?
— Будь на то воля полиции, он бы угнездился в тюрьме Маунтджой.
У меня екнуло в животе. Ну вот оно. Я ждал, что рано или поздно это случится, но, как молчаливый соучастник, гнал эту мысль на задворки сознания.
— Полиции? — тихо переспросил я. — Вы хотите сказать, что им интересуется полиция?
Архиепископ вскинул бровь:
— А ты намерен прикинуться, что для тебя это новость?
Я отвел взгляд. Не мог смотреть ему в глаза. Окажись передо мной зеркало, я бы не выдержал и собственного взгляда.
— Послушай, Одран, — архиепископ подался веред, — ты прекрасно знаешь, что творится, правда? Ты же читаешь газеты. Идет охота на ведьм, и она в самом начале. Через пару лет будет только хуже, если кардинал Сквайерс и Ватикан не возьмут вожжи в руки. Ох, как нам не хватает Джона Чарльза Маккуэйда. Он бы приструнил этих шавок.
— В чем обвиняют Тома? — перебил я.
— А как ты думаешь — в чем? — Побагровевший архиепископ окинул взглядом комнату. — И теперь эти щелкоперы и телеведущие, вся эта медийная сволочь, готовы порвать нас в куски. Чертов Пэт Кенни, чертов Винсент Браун, чертов Финтан О’Тул и вся остальная свора. Это как в старой шутке Саши Гитри: женитьба на сожительнице открывает вакансию любовника. Если писаки сумеют заткнуть нам глотку, они займут наше место. Телевизионщики борются за власть над умами, и только. Ну и политики, разумеется. Годами они грелись у нас под боком, и мы закрывали глаза на их шалости, когда со спущенными штанами они сидели в машинах, припаркованных в Феникс-парке, и продажные парни им отсасывали, но теперь, поняв, куда дует ветер, гаденыши бросились врассыпную.
— Ваше преосвященство… — начал я, но собеседник мой вовсю распалился и, едва не вываливаясь из кресла, брызгал слюной:
— Все началось с этой бабы в президентских апартаментах. Ты понимаешь, о ком я, да? О Мэри Робинсон. С нее пошла вся эта гниль. Спасибо Чарли Хоги за такого президента. Держался бы Брайана Ленихана[29] и был бы в порядке, но нет, он, как всегда, метил в первачи. Надо было лечь трупом, но близко не подпускать эту бабу с ее правами женщин вкупе с правами на аборты и развод. У этой британской суки рот как варежка, и на месте ее мужа я бы давно нашел, чем его заткнуть. Вот уж воистину песнь «Женщины Ирландии»[30]. Я вам покажу, мать вашу, «Женщин Ирландии»!
— Ваше преосвященство! — выкрикнул я, чего прежде никогда себе не позволял. Я не желал слушать о Мэри Робинсон. Не желал захлебнуться в желчи, злобе и женоненавистничестве. Я хотел узнать о своем друге. — Прошу вас, на минуту остановитесь и расскажите о Томе.
— Куча всякого вздора. — Архиепископ откинулся в кресле и всплеснул руками. — Какой-то мальчишка чего-то наговорил, насочинял. Возмечтал, чтоб рожа его появилась в газетах, только и всего.
— В чем обвиняют Тома?
— Неужто надо все разжевывать, Одран? Господи, ты же умный человек.
— Его обвиняют в домогательствах к мальчику?
Архиепископ зло усмехнулся:
— Не только.
— А что говорит Том?
— Он, как выражаются в кино, ушел в несознанку. Утверждает, что не делал ничего дурного. Никогда не навредит ребенку.
— Лишь один мальчик подал жалобу?
— Если бы, — покачал головой архиепископ. — Одну жалобу мы бы уж как-нибудь замяли.
— Сколько их?
— Девятнадцать.
Меня качнуло, я ухватился за кресло, на секунду-другую онемев.
— То есть девятнадцать тех, кто объявился? — просипел я и сам не узнал своего голоса.
Архиепископ посмотрел на меня как на врага:
— Что ты хочешь этим сказать, Одран?
— Что говорит Том? — ответил я вопросом на вопрос.
— Заявляет, что все это козни против него.
— Это правда?
— Какая, к черту, правда! Папка с доносами на него уже толщиной с мою руку. Почему, ты думаешь, последние двадцать пять лет его кидали с места на место? Чтобы обезопасить детей. Неужели не понятно? Это наш первоочередной долг. Обезопасить детей.
Я уставился на него: он что, не слышит, какую нелепицу несет?
— Обезопасить? — переспросил я. — И каким же образом?
— Да, не спорю, телеги на него приходили и раньше. — Архиепископ заговорил спокойнее. — И едва запахнет жареным, мы тотчас его переводили, подальше от искушения. Да уж, в этом мы были беспощадны. Получим донос — и через две-три недели Том уже на новом месте. Через месяц максимум. Вся беда в том, что он слишком сближается с детьми. Хочет быть их другом.
— Значит, вы просто его переводили и он принимался за старое?
— Не надо жечь меня взглядом, Одран. — Архиепископ подался вперед и выставил палец: — Не забывайся, ясно тебе?
— А что родители? — спросил я. — Их устраивало такое решение?
Кордингтон откинулся в кресле и пожал плечами:
— Раньше всегда устраивало. Обычно епископ с ними поговорит — и все. Раз-другой подключали кардинала. Был один случай, когда пришлось организовать телефонный звонок.
— В смысле, звонок — родителям? — удивился я. — От кого?
Архиепископ вскинул бровь:
— Неужели надо объяснять?
— От кого? — не отставал я.
— Напряги воображение. История дошла до верхов. В таких случаях требуется верховное вмешательство.
— Господи боже мой! — Я схватился за голову.
— Нет, не самого. На ступеньку ниже.
— По-твоему, это забавно, Джим?
Архиепископ покачал головой:
— Я повторяю: не забывайся, Одран.
— Но родители…
— Они были рады, что Тома убрали. Но вот нашлась пара, которая не желает угомониться. Выдвинуто обвинение. Полиция взяла след. Разыскала других парнишек, которых можно присобачить к делу. На нас идет охота, Одран, ты это понимаешь? На всех нас. Дай им шанс, и нас порвут в клочья. И что будет со страной? Мы должны думать о нашей родине, Одран. Об Ирландии. О будущем. О детях.
— О детях, — повторил я.
— Вся штука в том, что до поры до времени не будет ничего хорошего, кроме плохого. Боюсь, старина Том первый в расстрельной очереди. Играть в молчанку бессмысленно, ибо газеты вот-вот поднимут шум. Дело ведет генеральная прокуратура, там считают, для обвинения фактов достаточно, и как только объявят дату суда, у газетчиков будут развязаны руки, чтоб очернить порядочного человека. Вот о чем будет телефонный разговор с кардиналом. Мы должны разработать план. Найти обходные пути. А пока… — Архиепископ поднялся из кресла и жестом велел последовать его примеру: — Вставай. А пока необходимо сохранить статус-кво. Понятно, Одран? То есть ты сидишь на своем месте и не дергаешься, у школяров остается все тот же наставник, а мы делаем все возможное, чтобы из этой ситуации Том Кардл вышел с незапятнанной репутацией.
Я невольно засмеялся:
— Да разве это возможно?
— Возможно, потому что епархия использует все ресурсы для его защиты. Мы не позволим замарать Церковь в угоду щенку, возжелавшему популярности. Этого просто нельзя допустить.
Меня слегка покачивало, когда я шел к выходу; в дверях я обернулся:
— Скажите, ваше преосвященство, он это делал?
Архиепископ нахмурился, словно не поняв вопроса:
— Кто и что делал?
— Том. Он виновен?
— Есть ли такой человек, отец Йейтс, у кого не отыщется пятнышко на душе? — Кордингтон развел руками и усмехнулся. — Помнишь: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И вспомни, чему нас учили в семинарии: все мы игрушки в руках дьявола. Но мы обязаны сдерживать свои низменные порывы. И мы будем сражаться, слышишь? Будем сражаться и победим. Мы прищучим этих брехунов, чего бы нам это ни стоило. Чистый как стеклышко, Том Кардл вернется в свой или какой-нибудь другой приход, и тогда, Одран, что, по-твоему, произойдет?
Я покачал головой. Казалось, мне вынесли что-то вроде смертного приговора.
— Ты, мой дорогой Одран, — архиепископ обеими руками оперся о стол, точно бугай Орсон Уэллс в роли кардинала Уолси[31], — сможешь вернуться в свою драгоценную школу и учить юных ублюдков почитать Церковь.
Глава 12 1994
Список мест, где мама хотела бы умереть, возглавил бы, наверное, алтарь церкви Доброго Пастыря, в котором она бы стояла с банкой чистящего средства в одной руке и тряпкой в другой.
Добровольной помощницей мама стала в 1965-м, через год после событий в Уэксфорде, — по субботам готовила цветы к воскресной заутрене, дважды в неделю пылесосила половики, стирала и гладила алтарные покрывала и одежды священников, драила полки в безлюдной ризнице. Трудилась она, конечно, не одна. Была целая группа добровольных помощниц, человек, наверное, десять, подчинявшихся строгой иерархии. Скажем, только одной помощнице дозволялось стирать сутану настоятеля, прочим — лишь сутану викария. Мать не роптала. Ей стукнуло всего тридцать восемь, и она влилась в коллектив, в котором многие дамы были лет на пятнадцать старше. Она понимала, что со временем всех их одну за другой проводит. И не ошиблась: ко дню своей смерти числилась самой главной.
Разумеется, среди волонтеров были и мужчины, но Господь запрещал им пачкаться черной работой. Нет, на воскресных службах, когда собиралось приличное число свидетелей их святости, они зачитывали из Библии. Или ассистировали на причастии — с участливой миной предлагали отведать тела Христова тем из паствы, кто опоздал занять центральные места и, сидя у боковых проходов, не мог причаститься у священника. Мужчины писали церковные бюллетени, но доставляли их женщины; мужчины организовывали церковные вечеринки, но уборкой по окончании их занимались женщины; мужчины поощряли приход на службы всей семьей, но пригляд за детьми вменялся женщинам. Так было заведено не только в мамины времена, не только в ее церкви, я сам навидался таких помощников: в нашей жизни полно устаревших несуразностей, которые никогда не изменятся.
Последнее время маме нездоровилось: прошлым летом у нее подскочило давление и она неделю пролежала в больнице, а потом в январе по дороге на почту поскользнулась на обледенелой Бремор-роуд и сильно растянула лодыжку. Она была не такая уж старая, всего шестьдесят семь, и я сильно сокрушался из-за ее преждевременного ухода, но, похоже, нашей семье предначертано покидать этот мир молодыми.
О ее кончине я узнал в субботу, когда в церкви Теренурского колледжа служил утреннюю мессу. На десятичасовую службу народу являлось прилично, человек шестьдесят всех возрастов, но всем им не терпелось в полчаса развязаться с молитвами и бежать по своим делам. Читая анафору, я поднял взгляд на паству и запнулся, потому что на задней скамье увидел своего зятя Кристиана. За все это время в церкви он был три раза — на своем венчании и крещениях детей. Значит, что-то случилось. Несчастье с Ханной? Нет, тогда он был бы с ней, кого-нибудь прислав за мной. Мама опять упала и сестра с ней в больнице? К вящей радости прихожан, я в двадцать минут расправился со службой и поманил зятя.
— Присаживайся, Кристиан, — сказал я, когда следом за мной он вошел в ризницу.
— Нет, лучше постою.
— Наверное, что-то случилось? Здесь ты нечастый гость.
— У меня не очень хорошая новость. — Оглядывая незнакомые предметы, Кристиан, видимо, гадал, зачем нужны все эти кивории и потиры.
— Выкладывай.
— Твоя мама немного преобразилась.
— С ней все хорошо?
— Не совсем. Боюсь, она решила умереть.
В глазах моих поплыло, я сел.
— Так. Правда?
— Сочувствую, Одран.
— Как это случилось?
Кристиан что-то ответил, я кивнул, но я его не слышал. Меня оглушило. С мамой я виделся всего несколько дней назад — она предложила за кофе отметить мой день рождения. В память о былых временах мы пошли в кафе Бьюли на Графтон-стрит, но со своего обычного места нам пришлось пересесть, потому что за соседним столиком неутомимо обжималась юная парочка, лишь изредка отвлекаясь на пирожные.
— Как им не стыдно! — сказала мама, утянув меня в дальний конец зала.
— Молодежь, — ответил я, стараясь избежать дискуссии.
— Я тоже была молодой, но я не вела себя как шлюха.
С годами, подметил я, мама стала сварливой. Она брюзжала на весь белый свет, бывший ей не по нраву. Миролюбивая во воем, что не касалось религии, к шестидесяти годам она уже косо смотрела на жизнь, словно та беспрестанно ее раздражала.
— Ты здоров? — спросила она.
— Вполне.
— Ешь?
— Конечно, иначе умер бы.
— Ты жутко тощий.
Я лишь поднял бровь, поскольку сам прекрасно знал, что немного физкультуры мне бы не помешало. В тридцать девять лет сидячая работа — целыми днями в классе или библиотеке — уже сказывалась на моем облике. Буквально на днях я попросил Джека Хупера, нашего вечно чем-то недовольного физрука, подсказать мне упражнения на тренажерах. Похоже, просьба ему досадила, ибо он ответил, что спортивный инвентарь предназначен лишь команде регбистов.
— Но ведь они не пользуются им круглосуточно, верно? — возразил я.
— А вы умеете работать на снарядах, отче? — спросил физрук, явно разозленный моей несговорчивостью. — Вдруг что-нибудь сломаете или сами покалечитесь.
— Оттого я и спрашиваю вашего совета, — улыбнулся я. — Покажите, как надо заниматься. Разве это сложно?
Оказалось, сложно. Физрук категорически мне отказал.
— Как дела в школе? — спросила мама.
— Хлопоты, как всегда.
— Вчера я виделась с твоей сестрой. Мальчишки ее избаловались. Джонас в общем-то тихоня. — Мать пригубила кофе и скривилась, словно хлебнула нечистот. — Вечно уткнется в книгу. А вот Эйдан — сорванец. Непоседа. Знай себе хохочет.
Я улыбнулся. Что правда, то правда. В то время Эйдан с его кривляньем и шутками был душой любой компании. На вечеринках пел, даже если его не просили. При этом вихлял бедрами, как Дики Рок[32], и делал ручкой, как Элвис. Заводила.
— Кончится тем, что он пойдет в актеры, — сказала мама.
— Возможно, — согласился я.
— Точно-точно, вот увидишь. Такого живчика я еще не встречала. И все бы ему быть на виду, Она отставила чашку, огляделась, словно опасаясь чужих ушей, и прошептала: — Ты слыхал об отце Стюарте?
— Да, — сказал я, ибо это было главной темой приходских пересудов.
— Вы с ним общались?
— С чего вдруг? Мы были едва знакомы.
— Вы же вместе учились в семинарии.
— Он был на два курса младше.
Мать подалась вперед, желая посплетничать:
— Это правда, что о нем говорят?
Я пожал плечами: мне не хотелось говорить о том, что отец Стюарт, отказавшись от сана и должности, вместе с девушкой, с которой познакомился на конкурсе Евровидения в Загребе, сбежал на Канарские острова. Она представляла Чехословакию и заняла шестнадцатое место. Я видел ее по телевизору. Голос-то неплохой. На мой взгляд, она заслуживала большего. В смысле, на конкурсе.
— Уму непостижимо, а? — сказала мама.
— Наверняка решение далось ему нелегко.
— Не думаю. — Мама покачала головой. — Вечно он пожирал глазами молоденьких девок. Я ему не доверяла. Во взгляде у него полыхал этакий нездоровый аппетит. Я рада, что он убрался. Если б ты сотворил что-нибудь подобное, я бы сгорела со стыда. Представляю, каково его бедной матери.
Я промолчал. Интересно, что было бы, если б из Рима я написал матери: домой не вернусь, ибо теперь обитаю не в Ватикане и даже не в Епископальном ирландском колледже, а живу с официанткой в ее квартире на Виколи-делла-Кампанья?
— Как поживают соседи? — спросил я.
— А что, с отцом Стюартом мы покончили?
— Мне нечего о нем сказать, мам. Говорю же, я его почти не знал и не ведаю, где он сейчас.
— Ну ладно. — Мать явно осталась неудовлетворенной. — У миссис Рэтли разыгрался артрит. Она, конечно, всегда о тебе спрашивает. Твоя ярая поклонница. Миссис Данн, что живет через дорогу, день и ночь копается в саду. С тех пор как муженек ее сбежал с фифой, розы — это все, что у нее есть. Да, ты знаешь, что эти англичане съехали?
Мать всегда называла чету Гроув-Саммерс не иначе как «эти англичане». Она не удосужилась запомнить их фамилии — по крайней мере, никогда их не произносила.
— Вот как? — спросил я.
— Они и не собирались здесь заживаться. Вообрази, купили дом в Испании. Мол, переезжают ради климата. Да уж, у них денег больше, чем мозгов. Я бы не смогла жить в Испании, а ты? Говорят, сынок их стал риелтором. Неудивительно. Он всегда был пронырой. И глаза такие неприятные. А дочка… ты ее помнишь, дочку-то? — Мать пробуравила меня взглядом; даже через двадцать лет злость ее не угасла.
— Кэтрин, — сказал я.
— Да, как-то так. По телевизору она рассказывает о погоде.
— Не может быть! — Меня это жутко рассмешило.
— Канал не государственный, — поспешно сказала мама. — Туда ее, конечно, не возьмут. Нет, какой-то кабельный канал, который никто не смотрит, но ее хлебом не корми, только дай покрасоваться. Помню, всегда такой была. А с ней ты общаешься, отче?
Кажется, я не говорил, что мать упорно величала меня «отче»? Много раз я просил ее называть меня по имени, но все бесполезно.
— С какой стати нам общаться? — Эти подковырки меня уже достали.
— Но ведь когда-то вы были не разлей вода.
— Не сказал бы. Даже если так, все это было давно, сейчас она меня и не вспомнит.
Я постарался представить нынешнюю Кэтрин Саммерс. Наверное, располнела и подурнела, но по-прежнему сосет леденец. Муж, дети, свой дом. Я попытался вписать себя в эту картину — рядом с ней или с кем-нибудь другим, — но у меня ничего не вышло.
— Одран! — Кристиан вырвал меня из грез. — Ты слышал, что я сказал?
— Что? — Я очнулся. Ризница. Снова реальный мир.
— Я говорю, это случилось внезапно. В церкви она упала и умерла еще до приезда «скорой». Ну хоть не мучилась.
— Да, — сказал я, но это казалось слабым утешением. Было время, когда мы с мамой друг от друга отдалялись, в наших отношениях было и такое, во что мне не хотелось углубляться, но я не представлял жизни без нее. Теперь вот и я стал сиротой, но это диккенсовское понятие, в двадцатом веке устаревшее, никак не увязывалось со мной. Можно ли остаться сиротой в тридцать девять лет? Наверное, можно. — Где она?
— В больничном морге.
— Кто-нибудь ее соборовал?
Кристиан замялся:
— Не знаю.
— Где Ханна?
— Поехала в больницу. Ждет нас.
Я кивнул.
— А с кем ребята?
— Я оставил их у соседки. До вечера. Пока мы все не уладим.
— Ладно. Ну давай, едем.
Я переоделся, и мы вышли на улицу. Кристиан припарковался на полукруглой площадке перед школьной администрацией, регбийная команда направлялась на субботнюю тренировку, словно ничего не случилось, словно мир ни капли не изменился.
— Она что-нибудь сказала? — спросил я по дороге в больницу.
— В смысле?
— Какие были ее последние слова?
— Я не знаю, — помешкав, ответил Кристиан.
— Разве ты их не слышал?
— С ней никого не было.
— Как не было? Когда ей стало плохо, рядом никого не было?
Кристиан молча следил за дорогой. Он был очень аккуратный водитель: руки на руле в позиции «десять и два», взгляд на дорогу. Норвежский, видимо, стиль. Ирландцы за рулем едят и смотрят переносной телик.
— Кажется, никого.
Я помолчал.
— Сколько прошло времени, прежде чем ее нашли? — спросил я.
— Наверное, несколько часов. Другая уборщица пришла и увидела ее на полу. Она и вызвала «скорую».
Я слушал и старался представить эту картину: моя бедная мать распростерлась перед алтарем церкви Доброго Пастыря, из нее по капле утекает жизнь, глаза ее закрываются, сгущается тьма, дыхание угасает, накатывает паника, а затем снисходит удивительный покой. В свое время все мы это изведаем.
— Тогда откуда ты знаешь, что она не мучилась? — выкрикнул я излишне громко, ибо Кристиан меня прекрасно слышал.
Еще долгое время я, проснувшись утром, не сразу вспоминал, что мамы больше нет. Сегодня, что ли, позвонить? — думал я. Может, ей что-нибудь нужно? Мы условились о звонке или можно еще денек-другой проволынить? А потом я вспоминал, и всякий раз это было как удар под дых, я прятал лицо в ладонях и стонал, охваченный доселе не изведанным одиночеством. Почему я уделял ей так мало времени? Ужасно осознать себя плохим родителем, но еще страшнее понять, что ты — неблагодарное чадо. Я гнал от себя эти мысли, чрезвычайно опасные для таких, как я.
Мы с Томом Кардлом вместе отслужили панихиду. Из Уэксфорда его уже перевели в Трейли, но он приехал, и я, расстелив спальный мешок на диване, устроил его в своем школьном кабинете. Как в старые времена, сказал я. Словно мы опять в семинарии, только без всякой Великой тиши. Можем болтать хоть ночь напролет.
Том приехал впритык, однако перед службой поговорил со мной и Ханной, выспрашивая семейные детали, которые смог бы использовать в своей проповеди. Он хотел, чтобы все вышло ладно, и держался очень сочувственно.
Я никогда не видел его таким одухотворенным и чуть не фыркнул, когда он возложил руки на плечи моей сестры и озабоченно заглянул ей в лицо. Они были уж сто лет как знакомы, хотя чаще друг о друге слышали, чем встречались, но Ханна, человек совсем не религиозный, к Тому относилась хорошо — наверное, оттого, что он был моим лучшим другом, а меня она любила. Да, сестра приводила детей на воскресные мессы, но, думаю, это делалось ради галочки, во избежание толков. Не сказать, что в ней жило глубокое неприятие Церкви — нет, просто равнодушие. Эйдан уже получил причастие и ждал конфирмации, приближалась очередь Джонаса.
Панихида прошла по-деловому. Том очень старался, и я сказал несколько слов, но никто не выказывал своих чувств, разве что Эйдан и Джонас, любившие бабушку. Ханна казалась слегка ошарашенной, и лишь когда Том помянул маленького Катала, она подняла взгляд и прижала ладонь ко рту, словно ужаснувшись происходящему.
Мне было страшно смотреть на гроб.
Похороны меня взбаламутили.
Поминки устроили в доме Ханны. Народу было много. В кухне мамины коллеги-помощницы спорили за право приготовить чай и подать двум священникам в гостиную. В соседней комнате орал телевизор — мужья помощниц смотрели футбол. Один закурил сигару, когда его команда забила, и жена его, учуяв запах, ему попеняла: как не стыдно, бедняжка миссис Йейтс еще толком не устроилась в могиле, а он уж воняет табачищем, как будто празднует Рождество. Провинившийся муж одарил супружницу таким взглядом, словно охотно ткнул бы сигарой ей в глаз, но при людях смолчал и безропотно прошел в кухню, где под краном погасил окурок и, завернув его в салфетку, спрятал в карман.
— Вы уж простите, отче, — извинилась жена бедокура, но я лишь пожал плечами: да ничего страшного. По мне, пусть курит. Дом не мой, и если хозяева не возражают, то я и подавно.
Как всегда бывает на поминках, почтительная скорбь постепенно сменилась весельем. Мы с Томом присоединились к мужчинам, расправлявшимся с парой упаковок пива, которые Кристиан достал из холодильника, а женщины, угощаясь сладким вином и хересом, говорили о том, что маме понравились бы ее проводы, хоть ветчину надо было брать в другом магазине и свой салат гораздо вкуснее покупного.
— Что будем делать с домом? — спросил я Ханну. Наверное, я слишком поторопился с этой темой, но сестра, похоже, не возражала.
— Я думаю, продадим, — сказала она. — Сейчас недвижимость в цене. А уж такой-то дом в Чёрчтауне. Ты представляешь, сколько он стоит?
— Нет, — ответил я.
Такие вещи меня не интересовали. В газете я читал, что цены на жилье взлетели, а в хорошем районе были просто бешеные, но не придавал этому значения. Мне это было безразлично. Но вот сестра назвала сумму, и я, опустив стакан, уставился на нее как на ненормальную.
— Разыгрываешь? — спросил я.
— Это как минимум, — вмешался Кристиан. — При хорошем спросе можно получить процентов на двадцать больше. Правда, часть уйдет на комиссионные агенту, налог на наследство и прочее. Но все равно останется куча денег. Извини, — поспешно добавил он, смутившись, что выглядит хапугой. Но меня это ничуть не задело — я знал, что Кристиан равнодушен к деньгам.
— Невероятно.
— Чем скорее выставим на продажу, тем лучше, — сказала Ханна. — Незачем тянуть, а то еще заявятся вандалы, прослышав, что дом пустует.
— А как все это делается?
— Если хочешь, я этим займусь, — предложил Кристиан. — Но коль предпочитаешь обойтись своими силами — ради бога.
— Я был бы очень признателен, если б ты за это взялся, — подумав, сказал я. — В таких делах я ничего не смыслю.
— Отлично. Положись на меня, я все устрою.
— Деньги поровну? — спросила Ханна, и я подумал, что это, видимо, хмель сподвигнул нас на тему, столь неуместную на поминках.
— Зачем мне такая уйма денег? — сказал я. — Мне столько не нужно.
По взгляду Ханны я понял, что в общем-то она со мной согласна, но не хочет меня обирать. Однако у нее семья, ипотека. Два сына, которых надо обиходить. Расходы на школу. Позже — на университет. Ежегодные поездки в Лиллехаммер и обратно. Я же не имел таких забот. Я был один на всем свете.
— Пригодятся, — сказала сестра. — Положишь на счет.
— Нас ведь пятеро, так? — прикинул я. — Ты, Кристиан, Эйдан, Джонас и я. Значит, я возьму пятую часть. Больше мне не надо. Отложу на старость.
— Четверть, — сказал Кристиан. — Мне ничего не нужно.
— Ладно, потом разберемся, — решила сестра, глянув на Эйдана, с гитарой маячившего в дверях. Ему не терпелось выступить перед публикой в соседней комнате.
Кристиан покачал головой:
— Сегодня не стоит, Эйдан.
— Ничего, пусть поднимет нам настроение, — сказал я, и мы перешли в гостиную.
Эйдан уселся и запел «Печать поцелуя»[33]. Уморительное зрелище, когда восьмилетний малыш, прикрыв глаза, обещает безымянной возлюбленной говорить о своей страстной любви к ней в ежедневных письмах, запечатанных поцелуем. У Эйдана был приятный голосок, и он наслаждался всеобщим вниманием, а вот Джонас сидел в углу и, уткнувшись в похождения Бобби Брюстера, надеялся, что его не призовут выступить с каким-нибудь номером. Закончив песню, Эйдан объявил, что, если нам угодно, он готов продемонстрировать свои навыки в степе. Мы выразили желание, и мальчуган, сбегав за фанерой, принялся отбивать чечетку, что твой Фред Астер, только без фрака и цилиндра. Что и говорить, парнишка он был заводной.
Позже я зашел в кухню и застал его за беседой с Томом Кардлом.
— Долго учился степу? — спросил мой друг.
— Всего несколько месяцев, — ответил Эйдан. — Но учитель говорит, я далеко пойду.
— Далеко? Это куда же? В «Олимпию»?
Эйдан отшагнул и раскинул руки, точно знаменитый конферансье Ф. Т. Барнум:
— Вест-Энд! Бродвей! Талант не знает границ!
Я вспомнил, что много лет назад нечто подобное говорил мой отец, и мне стало очень грустно, а Том буквально затрясся от смеха:
— Нет, он просто чудо! Сейчас рассказывал, какие программы смотрит по телику. Говорит, мечтает попасть на телевидение.
— А ты глаза себе не испортишь? — спросил я. — Странно, что мама разрешает тебе смотреть телевизор.
— Она говорит, вечером можно одну программу, а в выходные — сколько влезет.
— Везет тебе, — сказал Том. — В твои годы я так не роскошествовал.
— У вас не было телика?
— Нет.
— Почему?
— Не могли себе позволить. И потом, отец не доверял телевизорам. Говорил, не дай бог эта штука взорвется и спалит дом.
Эйдан захихикал.
— Тебе вот смешно, юноша, но ты бы не смеялся, повстречав моего папашу. У него разговор был короткий.
— Как это?
— Хватит, Том, — сказал я. — Он еще ребенок.
— Виноват. — Том отвернулся. — Я только хочу сказать, Эйдан, что тебе повезло жить здесь и сейчас, а не там и тогда. — Он посмотрел на моего племянника и улыбнулся: — Все равно ты у нас славный парень, да? Умный и веселый.
Теперь и я заулыбался, мне было приятно, что Эйдан понравился Тому. Я прямо гордился быть дядюшкой мальчика, которого все просто обожают.
— Дядя Оди! — позвал Эйдан. — Пошли посмотрим мои фигурки из «Звездных войн»?
— Ты их уже показывал, — сказал я. Только я вошел в дом, как Эйдан потащил меня в свою комнату, которой очень гордился — мол, у него хоромы, а брат спит в каморке. — Не помнишь?
— А, точно, — сморщился Эйдан. — А вы не хотите посмотреть, отец Том?
В кухню вошла Ханна:
— Отстань, Эйдан. Отцу Тому это совсем не интересно.
— Вы про тот старый фильм, что ли? — спросил Том. — Неужто мальчишки его еще смотрят? Ему уж лет пятнадцать.
— Конечно, смотрим! — выкрикнул Эйдан. — «Звездные войны» — лучшее на свете кино!
— А ты видел «Вилли Вонка и шоколадную фабрику»? — поинтересовался Том. — Он мне очень нравился. Там дядька в огромной шляпе, а у ребятни оранжевые мордашки.
— У меня есть Дарт Вейдер, Боба Фетт и Люк Скайуокер, а к потолку подвешена Звезда Смерти, — не слушая Тома, перечислял Эйдан. — Куча роботов и Три-пи-о, у него рука отваливается, но он разговаривает и…
— Невероятно, это надо видеть своими глазами, — сказал Том. — Я готов взглянуть.
Эйдан захлопал в ладоши и потащил Тома наверх; с очередной партией грязной посуды в кухню вернулась Ханна.
— Как ты? — спросила она.
— Нормально. А ты?
— Ничего. — Сестра пустила горячую воду и положила тарелки в раковину. — Почти все разошлись. Женщины уходят, когда доедят сэндвичи, а мужчины — по приказу.
— Жизнь продолжается, — сказал я.
— У меня. Хорошо, что отец Том вместе с тобой отслужил панихиду, правда? Я беспокоилась, как ты справишься один.
— На то мы давние друзья.
— Он ночует у тебя?
— У меня. Я постелил ему спальный мешок на диване. Машина его стоит перед домом.
— Спальный мешок? — возмутилась Ханна, но в этот момент на лестнице появились Том и Эйдан, быстро закончившие экскурсию. Эйдан во все горло балаболил о Силе и гражданах Галактической республики, поражаясь тому, как актеры не боялись сниматься в сценах с Дартом Вейдером. Пусть они знали, что это переодетый Дэвид Проуз, все равно Властелин тьмы — самое страшное, что может быть на свете.
— Если б я его увидал, я бы со страху обмочился! — выпалил Эйдан, а затем проревел жутким голосом: — НАПРУДИЛ БЫ В ШТАНЫ!
— Эйдан! — прикрикнула Ханна, а Том расхохотался.
— А что? — Мальчик простодушно развел руками. — Это правда.
— Мне все равно, правда это или нет, но так нельзя говорить при дяде и отце Томе.
Эйдан пожал плечами и, взглянув на Тома, ухмыльнулся, и тот ответил ему улыбкой, потрепав по голове.
— Одран сейчас сказал, что приготовил вам спальный мешок на диване. Это верно? — спросила Ханна.
— Да. Я знавал ложа и жестче. В серпентарии койки были просто каменные.
— В серпентарии?
— В смысле, в семинарии, — поправился Том. — Вроде лежака у мозгоправа.
— Может, у нас заночуете? — предложила Ханна.
— Здесь? — замялся Том.
— У нас полно места. Джонас ляжет в нашей спальне, а вы займете его комнатку, что через стенку от Эйдана. Там вам будет гораздо удобнее.
Том чуть нахмурился, по лицу его пробежала тень.
— Да ничего, — помолчав, сказал он. — Я прекрасно обойдусь спальным мешком.
— Нет, так не годится, — уперлась Ханна. — И потом, вы же выпили. А хмельному нельзя за руль.
Я поддержал сестру:
— В этом она права. Я доберусь на такси, никаких проблем.
— Соглашайтесь, отче, здесь вам будет лучше, уговаривала сестра. — И я хоть чем-то отблагодарю за то, что вы для нас сделали.
Эйдан с надеждой смотрел на Тома — наверное, хотел показать всю свою коллекцию.
— Ну ладно, — согласился Том. — Если вас это не обременит. А спине моей будет помягче.
— Совсем не обременит. Мы очень рады вас приютить. Только не позволяйте этому, — Ханна кивнула на сына, — донимать вас болтовней. Он кого хочешь заговорит.
Через час стало смеркаться, и я распрощался с Томом, обещав на неделе ему позвонить. Джонас уже улегся в родительской спальне. Провожая меня, Кристиан спросил, точно ли я хочу, чтобы он занялся продажей дома, — он не желает навязываться, дом-то принадлежит мне и Ханне. Но я ответил, что он окажет мне огромную любезность, избавив от хлопот.
И тут меня чуть не сбил с ног Эйдан, выскочивший из гостиной, как мультяшный мышонок Спиди Гонзалес.
— Пока, дядя Оди! — С разгону он кинулся мне в объятия. — Адьос амиго!
— Адьос амиго! — рассмеялся я и пошел к ждущему меня такси. Оглянувшись, я увидел, что Том приобнял моего племянника за плечи, а тот изо всех сил мне машет и во весь рот улыбается.
Оказалось, я видел его в последний раз. Таким. Когда через неделю-другую я заехал к сестре, я встретил совсем другого Эйдана.
Глава 12 1978
Кардинал Альбино Лучани, последние девять лет служивший Венецианским патриархом, 26 августа стал папой, и приветливость его, какую он выказывал в наши прежние встречи, тотчас угасла, едва он приступил к своим новым обязанностям. Я-то размечтался об общении более тесном, чем с его предшественником, но ведь я был обычным семинаристом, обязанным дважды в день ему прислуживать. Я так и остался заурядным подавальщиком, ибо у него были дела поважнее моих противоречивых склонностей.
Поначалу все, конечно, взбудоражились. Пятнадцать лет папские апартаменты не знали иного хозяина, а курия, похоже, еще не сообразила, как управлять тем, кто уже покорил весь мир своей простотой, не свойственной его предтечам. В Ирландском колледже витало ожидание подлинных церковных перемен. На папствах Иоанна XXIII и Павла VI сказывались отголоски Второго Ватиканского собора, но вот настало время решительной перестройки, и кому же ею заняться, как не здоровому, относительно молодому и жизнерадостному человеку? Шестьдесят пять — юный возраст для папы. Новый святой отец будет править лет двадцать, а то я больше. Наступает золотой век, про себя говорили мы.
Кардиналы задержались в Риме еще на неделю, дабы присутствовать на инвеституре, которую папа, взявший имя Иоанн Павел, предпочел помпезному коронованию, а кое-кто из них и дольше, чтобы переговорить о планах и чаяниях своих епархий. Святой отец принимал визитеров учтиво, но я видел, что к вечеру он совершенно измотан бесчисленными встречами, кучей бумаг и ежедневными обязанностями, возложенными на человека, у которого завязались особые уникальные отношения с Господом. В отличие от четырех своих предшественников, он не вступал в дипломатические игры с курией, и я чуял недоверие старой гвардии, винившей коллегию кардиналов в том, что на высокую должность якобы избран чужак. А чужаки несли пугающие перемены, которые надлежало пресечь на корню.
— Невероятно, — пробормотал папа, однажды вечером сидя за столом, на котором громоздились кипы испещренных цифрами документов, отпечатанных на плотной веленевой бумаге Института религиозных дел, то бишь Банка Ватикана.
Папа, одетый в теплый красный халат с серебряной тесьмой, снял очки, и я заметил набрякшие под его глазами мешки, которых не было еще два месяца назад, когда в кафе Бенници мы говорили об Э. М. Форстере. А сейчас он, как заштатный счетовод, тыкал пальцем в калькулятор, словно не был пастырем миллиарда католиков во всем мире. Я отвернул одеяло на постели и подал чай. Папа откинулся в кресле, вздохнул и покачал головой:
— Отложу до утра, иначе еще немного — и я свихнусь.
Я промолчал. Я нем как рыба, покуда о чем-нибудь не спросят.
— Рим — необычное место, верно, Одран? — чуть погодя сказал папа. — Его считают сердцем католицизма, средоточием раздумий и духовности, а на самом деле это банк. — Он побарабанил пальцами по столу и досадливо сморщился. — Я начал священником, потом был главным викарием при епископе в Беллуно, затем при епископе в Витторио Венето и наконец стал Венецианским патриархом. И вот на склоне дней, он недоуменно покачал головой, — мне предначертано стать банкиром.
— Вы — папа, — сказал я.
— Нет, я банкир. — Абсурдность этого рассмешила его самого. — Начальник поразительного учреждения, насквозь пропитавшегося коррупцией и нечестностью. И как мне с этим быть? В душе-то я по-прежнему простой священник. — Он замер, а потом сердито смахнул бумаги со стола на пол.
Присев на корточки, я стал собирать документы. Папа прикрыл рукой глаза.
— Вы часто вспоминаете свой дом? — тихо спросил он, когда я сложил бумаги на краю стола, глядя в сторону, чтоб не увидеть их содержания.
— Бывает, святой отец, — сказал я.
— Напомните, откуда вы родом?
— Из Ирландии.
— Да, но откуда именно?
— Из Дублина.
— Ну да. — Он помолчал. — Джеймс Джойс. Театр Аббатства. О’Кейси и Брендан Биэн[34].
Я кивнул:
— Мой отец был знаком с Шоном О’Кейси.
— Правда?
— Недолго. Играл в его пьесе.
— Вы читали «Улисса», Одран?
— Нет, святой отец.
— Я тоже не читал. Как по-вашему, стоит прочесть?
Я задумался.
— Он очень большой. Мне-то, наверное, не осилить.
Папа рассмеялся:
— А что вы думаете о мистере Хоги?
— Верю кошке и ежу, а ему погожу, святой отец.
— Передать ему ваши слова? Знаете, я здесь всего неделю, а он уже три раза мне звонил.
— Лучше не надо, святой отец. А то он меня пристрелит. Образно, конечно, говоря.
Папа улыбнулся. Похоже, беседа со мной его забавляла, и я подумал, что если он отвлечется от всех этих бумаг, то будет лучше спать, и это, наверное, моя прямая обязанность — избавить его от волнений перед сном.
— С Ирландией, однако, есть одна проблема, — после долгой паузы тихо сказал папа.
— Проблема, святой отец?
Он кивнул и помассировал переносицу:
— Да, Одран.
— Можно узнать какая?
Папа покачал головой:
— Та, которую мой предшественник предпочитал не замечать. И которой я намерен заняться. Я тут кое-что прочел… — Он замолчал и вздохнул. — И теперь диву даюсь, что за люди верховодят в тамошней Церкви. У меня сотни дел, но я обещаю, что скоро ополчусь на эту проблему. И, Богом клянусь, положу ей конец. А пока, — он показал на бумаги, — надо разобраться с этими счетами.
— Вы бывали в Ирландии, святой отец? В смысле, раньше.
— Нет. Может, как-нибудь наведаюсь. Я хотел бы увидеть Клонмакнойс и Глендалох. А еще город, где снимали «Тихого человека»[35]. Где это?
— На западе, святой отец. Неподалеку от замка Эшфорд.
— Вы видели фильм, Одран?
— Видел, святой отец.
— Шон Торнтон и сквайр Данахер. И еще этот парнишка на лошади, как же его…
— Барри Фицджеральд, — подсказал я.
— Это актер, а как зовут его персонажа?
— Не помню, святой отец.
— Я смотрел картину бессчетно. Могу спорить, это лучший фильм всех времен и народов. Если окажусь в Ирландии, непременно съезжу на место съемок.
— Морин О’Хара[36] наверняка станет вашим экскурсоводом, — улыбнулся я. — По-моему, она живет в Дублине.
Папа схватился за грудь и расхохотался:
— Я этого не переживу! Мэри Кейт Данахер? Да я двух слов не свяжу! Превращусь в косноязычного школяра!
Господи, подумал я, так бы и сидел с ним. Вот бы заказать пару пива и болтать всю ночь. Я обожал этого человека.
— А как ваши родные? — спросил папа. — Они так далеко, вы, наверное, по ним скучаете. Вспоминаете их?
— Ежедневно, святой отец.
— У вас большая семья?
— Только мама и сестра. Они в Дублине.
Папа задумчиво покивал:
— Отец, значит, умер?
— Четырнадцать лет назад.
— От чего?
— Утонул. В Уэксфорде, на пляже Карраклоу.
Папа удивленно вскинул бровь:
— Он плохо плавал?
Я покачал головой и рассказал всю правду, от начала до конца, о том, что случилось летом 64-го. Папа слушал не перебивая.
— Нам не дано понять, почему происходит то, что происходит, — наконец сказал он и тяжело вздохнул. — Наверное, будь я прозорливее и умнее, я был бы полезнее на этом месте.
— А вы скучаете по Венеции? — спросил я, и от его знаменитой лучезарной улыбки в комнате стало светлее, как будто я опять помянул богиню О’Хара.
— Ах, Венеция! Владычица! Светлейшая! Если б Ватикан переместить на триста миль севернее, мне бы прибавилось сил для предстоящей работы. Если б в окно своей спальни вместо площади Сан-Пьетро я видел площадь Сан-Марко! Если б целыми днями вместо запаха Тибра и гомона туристов я слышал крики гондольеров, проплывающих по каналам!
Он грустно покачал головой и перевел взгляд на бумаги, что я воспринял как сигнал: мне пора уходить. Я пожелал ему спокойной ночи, он помахал мне и придвинул к себе документы.
— Пока вы не ушли, Одран, — сказал папа, — пожалуйста, оставьте моему секретарю записку, что утром я хочу повидаться с сеньором Марцинкусом.
— С сеньором Марцинкусом? — повторил я незнакомое имя.
— Он президент Банка Ватикана. Напишите, что беседа займет час как минимум. Есть много… — Он взглянул на бумаги и покачал головой. — Ладно, неважно. Главное, чтобы он пришел. И вот еще…
— Что, святой отец?
— Микалин Ог, — улыбнулся папа. — Вот как зовут персонажа Барри Фицджеральда. Микалин Ог Флинн.
И он тихонько затянул песню:
Жил-был отчаянный малый По прозванью Дугган Джек. Жил-поживал он, не ведая горя, На самом краю Ирландского моря. Один у родителей сын, Их гордость, их свет в окошке, Отчаянный малый Джек Любовь отдавал им до крошки.На исходе сентября моя одержимость женщиной из кафе Бенници достигла апогея. Я прекратил свои ежедневные визиты на площадь Паскаля Паоли, я больше не садился в уголок, из которого просматривался купол собора Святого Петра, и не пожирал глазами хозяйку, протиравшую столики и готовившую эспрессо. Я больше не ежился под презрительными взглядами ее отца, который давно бы меня выставил вон, не будь я в церковном одеянии. Но почти каждый вечер я, держась на почтительном расстоянии, провожал женщину до дома, а потом стоял в темноте, надеясь, что она выйдет на балкон или в окне мелькнет, как уже было однажды, ее голая спина.
Сам не знаю, чего я от нее хотел, словами не объяснишь. Если б вдруг замаячил шанс на интрижку, я бы вряд ли им воспользовался. Я по-прежнему был твердо намерен стать священником и даже теперь, в конце обучения, не искал способа или повода покинуть свою стезю. Нет, просто во мне жило отчаянное желание быть подле женщины, видеть ее, знать, что она рядом. При ней во мне клокотала жизнь. Она была прекрасна. Жала похоти сами по себе казались доселе неизведанной пагубой. Но других женщин я не вожделел, предмет моего обожания не пробудил дремавшую во мне чувственность. Через много лет я прочту «Шатер» Джонаса и распознаю чувства, обуревавшие юного героя, когда в сиднейском Гайд-парке он слушал певца. Невообразимо сладко и мучительно сознавать, что в мире существует такая красота, для тебя недосягаемая.
По ночам я не рукоблудил, фантазируя сладострастные сцены. В своем воображении я ни разу ею не овладел. Я просто лежал без сна и беспрестанно о ней думал, гадая, где она и что делает. Если б я знал ее номер, я бы позвонил ей и, услышав ее голос, повесил трубку, точно нескладный подросток. Случись все это на тридцать лет позже в менее культурном мире, я бы отслеживал ее в социальных сетях: по комментариям и случайным фотографиям воссоздавал бы ее жизнь, друзей, поступки и привязанности. Сегодня меня назвали бы сталкером, и я вполне соответствовал этому слову, когда по мостам и римским улицам следовал за ней от кафе до своего поста под ее балконом.
А затем в предпредпоследний день сентября я совершил оплошность, от которой и ныне, тридцать с лишним лет спустя, по ночам просыпаюсь в холодном поту.
В тот день семинар по моральной теологии тянулся нескончаемо, и я, задержавшись в колледже дольше обычного, был вынужден изменить свой всегдашний маршрут, по набережным Тибра пролегавший от кафе до дома моей пассии, и прямиком отправился на Виколи-делла-Кампанья, где притаился в темном уголке. Поймите, я настолько свыкся с такой жизнью, что уже не задавался вопросом о своем поведении, хотя оно, безрассудное и опасное, превратилось в манию. Эта женщина была как персонаж телефильма. И я, праздный зритель, наблюдал за ее жизнью. Поговорить с ней нельзя, но она дает пищу воображению. Я воспринимал ее как свою собственность.
Женщина уже была дома. В окне ее горел свет, я мысленно рисовал картины, как она ходит в комнате. Будничные вечера она проводила дома; позже вернется ее отец, и они сядут ужинать, а я отправлюсь к своим обязанностям в Ватикане. Однако нынче женщина вдруг вышла из дома и зашагала по улице. В голове моей роились вопросы: пойти следом? у нее свидание? с кем? чем они займутся? И вдруг неожиданно для себя я пересек улицу, открыл незапертую парадную дверь и вошел в прохладный вестибюль.
Здесь я никогда не бывал, и меня охватило возбуждение, какое, вероятно, чувствует грабитель, наконец-то проникший в жилище, за которым долго наблюдал. В центре вестибюля был небольшой цветник с фонтаном, увенчанным голым мальчиком; прикинув расположение квартир относительно улицы, я поднялся по широкой каменной лестнице. К счастью, нужная мне дверь оказалась в нише — если кто-нибудь войдет в вестибюль, меня не увидят и не спросят, что я здесь делаю. Потрогав дверь, я прижался к ней ухом — в квартире было тихо. И правда, что я здесь делаю? Я сам не знал. От собственного безумия меня аж разбирал смех, но, повинуясь порыву, я приподнял коврик перед дверью — нет ли там запасного ключа? Нету. И за светильником на стене тоже нет.
Уходи, сказал я себе. Уходи, Одран. Я уже шагнул к лестнице, но тут в коридоре заметил кадку с огромным самшитом, явно истосковавшимся по поливу. Я сглотнул — ага! — и, накренив кадку, увидел запасной ключ. Я взял его и поднес к свету. От долгого лежания под кадкой металл покрылся пятнами ржавчины и плесени, но ключ легко повернулся в скважине. Я шагнул внутрь, огляделся.
Сердце мое колотилось бешено. Я сам не верил, что отважился на этакое безрассудство, отринув все увещевания разума. Но за все свои двадцать три года я еще никогда себя не чувствовал таким живым. И уже не почувствую. Слева от меня была кухонька, где на медленном огне стояла здоровенная кастрюля. Выключить, что ли? — подумал я. Да нет, там просто вода, она выкипит, кастрюля прогорит, но большого урона не будет. Я двинулся по коридору, миновал гостиную, туалет и, крадучись, вошел в удивительно большую спальню с балконом, на котором столько раз за последние месяцы видел предмет своего обожания. На тумбочках по обеим сторонам кровати, на которую был небрежно брошен повседневный наряд женщины, я увидел стаканы с недопитой водой, дешевые книжки, губную помаду, полную окурков пепельницу и мужскую расческу.
Спальня была огромной — словно две комнаты соединили в одну, убрав перегородку. У стены напротив кровати высился очень старый дубовый гардероб, который, видимо, в семье переходил по наследству. Я открыл дверцы и провел рукой по трем ночным сорочкам из тонкого шелка, висевшим на плечиках; в них было столько женственности, что когда одну я прижал к лицу и, закрыв глаза, всей грудью вдохнул стойкий и совершенно неведомый мне аромат, у меня закружилась голова. Казалось, меня знакомят с чужеземцем, о существовании которого я всегда знал, но знание это было скрыто глубоко в душе и держалось в тайне даже от меня самого. Зажмурившись, я подумал, что был бы счастлив задохнуться в этих одеяниях.
Я переживал доселе неизведанный чувственный опыт, я был взбудоражен романтической преступностью своего поступка, потому, наверное, и не услышал, как открылась входная дверь, не услышал шагов в коридоре, шороха сброшенных туфель, шлепанья босых ног в кухне и стука яиц в корзинке, купленных на рынке в конце улицы, когда ту корзинку поставили на кухонный стол. Я даже не услышал, как женщина вошла в спальню. Лишь когда она ахнула и я, обернувшись, увидел ее в дверях, я понял всю дурь и рискованность своей затеи. Кровь отхлынула от моего лица, я уставился на женщину, а она, не выказывая ни малейшего испуга, смотрела на меня, и взгляд ее полыхал гневом. Промелькнуло воспоминание о сцене в кафе, когда она орала на отца.
— Как ты сюда попал? — спросила женщина.
— Простите, — сказал я, поперхнувшись словом.
Я выпустил сорочку из рук и шагнул к женщине, но она не попятилась в страхе, а ринулась ко мне, заставив меня отступить.
— Как ты сюда попал? — повторила женщина громче, присовокупив многоэтажное итальянское ругательство, которое я не понял.
— Ключ, — сказал я. — Запасной. Я догадался, где он спрятан.
— Чего тебе надо?
— Ничего, — я затряс головой, — мне ничего не нужно. Честное слово. Я не причиню вам вреда.
Женщина презрительно усмехнулась и покачала головой:
— Ты думаешь, это мне надо опасаться?
— Я уйду.
— Я тебя знаю. — Она выставила палец: — Ты торчал в кафе и пялился на меня.
— Я сделал глупость…
— А потом стал таскаться за мной.
— Позвольте мне уйти. — Я хотел проскочить мимо нее, но она пихнула меня в грудь, и я так шмякнулся о стену, что на секунду потемнело в глазах.
— Ты думаешь, я не видела, что ты прешься следом? — ухмыльнулась женщина. — И вечером… — Она кивнула на балкон: — По-твоему, я не знала, что ты ошиваешься внизу?
Я похолодел. И уставился в пол.
— Вы знали? — Я не смел поднять глаз.
— Конечно, знала. У тебя не хватило ума даже толком спрятаться.
— Но почему вы ничего не говорили?
— Потому что я потешалась над тобой.
— Потешались? — Я помертвел.
— Ну да. Ты же смешной, нет, что ли? И жалкий какой-то. Взрослый мужик — бабу-то, поди, не пробовал, а? — торчит на углу, как уличная девка, и пялится на женщину, с которой не осмеливается даже заговорить. По-моему, смешно. В постели мы с Альфредо ржали над тобой.
— С кем?
— Да знаешь ты его. Мы вместе работаем. Ну, говорит, умора.
Значит, он ей не отец. Любовник.
— Неужто ты думал, мне глянется тихушник, который за мной подглядывает?
— Простите меня. — Я был готов провалиться сквозь землю, но словно окаменел и не мог даже кинуться к двери. — Сейчас я уйду. Я больше не буду.
— А чего ты хочешь-то? — Она подошла так близко, что я уловил запах кофе в ее дыхании.
— Ничего не хочу.
— Да нет, хочешь. Все хотят. Ты скажи.
Она была в легком летнем платье, чуть плотнее ее собственной кожи.
— Этого? — Лицо ее приблизилось вплотную. — Ты этого хочешь? И думаешь, я дам такому, как ты?
В комнате потемнело, когда пальцы ее коснулись моей щеки.
Ты же скверный мальчик, да?
Вот он, рядом со мной, я чуял его гнилостное дыхание, он обхватил меня за плечи и тянул к себе, рука его лезла ко мне в штаны. Он здесь. Окутал меня.
Конечно, скверный. Наверное, чем только не занимаешься в этой комнате, а? Один в темноте. Когда рядом никого. Ты занимаешься скверностью, Одран? Давай, расскажи.
Хлопнула дверь, на пороге возник Альфредо, глаза его округлились; я проковылял в коридор, вывалился на площадку, спустился, спотыкаясь и чуть не падая, по лестнице, выскочил на улицу и со всех ног бросился прочь от места моего падения и позора.
Наверное, это и называется мороком. Пробило восемь часов — крайний срок моего возвращения в Ватикан, но я не замечал времени. Мне было все равно, полдень сейчас или полночь. Я брел по улицам, мостам и площадям, точно пьяный, что не разбирает дороги, даже не сознавая, в каком я городе. Однако помню церкви, как будто меня окликавшие и манившие к себе. Я дошел до церкви Сан-Кризогоно, потом развернулся и побрел обратно к францисканскому храму Санти-Апостоли; я миновал базилику Санта-Мария-ин-Виа-Лата, где хранился образ Богоматери, всплывший в колодце, пересек Пьяцца-делла-Ротонда, где перед Пантеоном ежедневно собирались толпы туристов, и, наконец, сел, уронив голову на руки, меж дорических колонн церкви Санта-Мария-делла-Паче, что неподалеку от Пьяцца Навона. Я впадал в глубокое отчаяние, минуя храм Сант-Аньезе-ин-Агоне, а потом у церкви Сан-Сальваторе-ин-Луаро меня вдруг охватывала невероятная эйфория, а затем с моста Сант-Анджело я видел обвиняюще вздымающийся купол собора Святого Петра и вновь погружался в безысходную тоску.
В ту ночь, когда я бродил по Риму, в голове мой бились две мысли.
Тебе не надо этого делать.
Ты можешь это сделать.
Сам ли я определил свое предназначение? — спрашивал я себя. Было ли мне откровение или оно навязано матерью? Бог свидетель, после гибели мужа и сына она изменилась неузнаваемо, и премудрый Господь, пославший знак на юго-восточный берег Ирландии, подал его не мне, девятилетнему несмышленышу, а сраженной горем взрослой женщине, ухватившейся за спасательный круг, когда пучина поглотила ее возлюбленных. А затем она подтолкнула этот круг ко мне, сказала: «Вот, сынок, возьми, это Божий дар», и я безропотно его принял, от души поблагодарив.
На набережной перед замком Святого Ангела я увидел компанию молодых итальянцев верхом на припаркованных мотороллерах: шорты, длинные загорелые ноги, темные очки, сдвинутые на зачесанные назад волосы, как у персонажей фильмов Феллини; симпатичные, полные жизни, они хохотали, перебрасываясь шутками. Парни, лишь чуть-чуть моложе меня. Лет под двадцать. Перед ними открыт весь мир. Кого из них сегодня целовали? И теперь они хвастаются, как лишили невинности своих подружек? А вот он я: черный костюм, галстук, шляпа. Крахмальный воротничок. Пальцы, еще хранившие запах ее сорочек.
Двадцать три года. Мальчик. Мужчина. Кто я? Я и сам не знал.
— Падре! — закричали парни, протягивая ко мне руки, точно футболисты, требующие назначить пенальти за снос их форварда.
Я опасливо подошел ближе и вспомнил, как мальчишкой, минуя игроков на футбольном поле, всегда боялся, что мяч случайно прилетит ко мне. Не замедляя шаг, я приветственно вскинул руку.
— Вот ему требуется отпущение грехов! — Ребята показали на симпатичного паренька, наверное самого молодого в их компании, который метался от одного к другому, пытаясь утихомирить товарищей. — Он должен исповедаться! Сейчас расскажет, как нынче согрешил!
Я понимал, что они беззлобны, но все равно их боялся. Если б они меня окружили и стали дразнить, я бы, скорее всего, затеял драку, на что не решился в квартире официантки и ее любовника.
«А чего ты хочешь-то?» — спросила женщина, но я, святая простота, и сам не знал, чего я хочу.
Той бесконечной ночью я забредал в кварталы, где прежде никогда не бывал, я видел Рим затрапезных гостиниц и убогих жилищ, где на веревках, растянутых через улицу, сушилось белье. Иногда ко мне подходили проститутки, решившие, что молодой священник (я даже не снял воротничок) надумал расслабиться. Я их отгонял. У меня не было плотских желаний. Я хотел просто идти. Эта ночь принадлежала мне, и я хотел понять, верен ли избранный мною путь.
Десять часов, одиннадцать. Колокола отбили полночь. Церкви, церкви, церкви. Час ночи, два, три, четыре. Папа Иоанн Павел видит десятый сон, его вечерний чай заледенел перед дверью в спальню.
Где сейчас мои одноклассники, думал я, с которыми я учился до поступления в семинарию? Мои однокашники по школе на Чёрчтаун-роуд, с кем на перемене я бегал за сластями в кондитерскую О’Рейлли, а после уроков шагал мимо Башни-бутылки к автобусной остановке? Наверняка прозябают на унылых должностях. Выплачивают ипотеку. По субботам водят жен в ресторан или встречаются с девушками, с которыми познакомились на регбийном матче. Или вот только сейчас выходят из ночного клуба на Лессон-стрит, обсуждают победный гол на школьном кубке шестилетней давности, уговаривают спутницу поехать к себе или к ней, счастливы тем, что молоды, что могут заняться тем, чем наедине занимаются мужчины и женщины, а наутро даже не вспомнят имя своей подруги. И я хочу быть таким? Этого я хочу? Что такого я упустил?
В Риме были и бездомные. Едва различимые, в районе Фламинио и перед вокзалом Тибуртина они, точно коконы, лежали в спальных мешках (однажды такой же мешок я предложу Тому Кардлу, но он предпочтет иной ночлег), из которых торчали лишь головы в вязаных шапочках — защита от ночного холода. На виду лишь глаза, нос и рот. Рядом картонка, на которой большими черными буквами накорябано AIUTATE MI! Помогите. Пожалуйста, помогите.
Вставало солнце. Глаза саднило, ноги отваливались. Всю ночь я кружил по городу. Который час? Около шести? Неужто я бродил так долго? Выходит, да. Я шел по площади Святого Петра, стараясь не думать о том, что скажет монсеньор Сорли, узнав о моем ночном отсутствии. Папа меня выдаст? Может, он ничего не заметил? Каждый вечер у него столько бумажной работы, да еще зачастил сеньор Марцинкус из Банка Ватикана, с которым он засиживается допоздна и так громко спорит, что голоса их слышны через закрытые двери. Однажды я видел, как после беседы со святым отцом Марцинкус отвел в сторонку кардинала Вийо, камерленго и главу Апостольской камеры, и пролаял, точно пес: дескать, невозможно втолковать особенности сложных финансовых операций тому, у кого хватает ума лишь на то, чтобы в своих проповедях шутить про Пиноккио. «Этому надо положить конец! — рявкнул он, вцепившись в руку кардинала Вийо. — Если это не прекратится, я не отвечаю за последствия. Вы не представляете, на что способны эти люди». Мог ли я солгать монсеньору Сорли, от которого не видел ничего, кроме добра? Может, сказаться больным? Или поведать всю правду как отцу-исповеднику? И потом, мой срок почти закончился. Итальянцы уже подбирали кандидата, который в январе займет мое место.
Швейцарские гвардейцы в арке меня, конечно, знали, но я все равно показал им пропуск, и они расступились, открывая мне дорогу. Я вернулся домой, в Ватикан; сейчас я подам папе завтрак, повинюсь перед ним и попрошу сохранить в тайне мою оплошность.
Служебной лестницей поднимаясь в папские покои, в нише окна, выходящего на восточный край площади Святого Петра, я вдруг заметил монахиню, съежившуюся на диванчике. Прежде я никогда не видел, чтобы кто-нибудь там уселся, тем более монахиня. Монахиням некогда рассиживаться, у них забот полон рот, они вечно снуют туда-сюда. И тут я понял, что монахиня плачет, раскачиваясь взад-вперед.
— Что с вами, сестра Тереза? — спросил я, присев на корточки. — Что-то случилось?
Она взглянула на меня, и я впервые заметил, какая она хорошенькая. Гладкая кожа, темно-карие глаза. Монахиня покачала головой и кивнула на дверь в папские апартаменты, за которой была небольшая прихожая, служившая мне местом ночлега.
Одним махом одолев последние ступени, я влетел в покои и увидел растерянных монахинь, сбившихся в кучку, а еще чрезвычайно бледных кардиналов Сири и Вийо, поглощенных серьезным разговором. Все взгляды обратились на меня, и я подумал, что после бессонной ночи выгляжу, наверное, ужасно: всклокоченные волосы, пылающее лицо, воспаленные глаза.
Во взгляде кардинала Сири промелькнуло удивление, он подошел ко мне и оттеснил в угол комнаты.
— Что происходит, ваше преосвященство? — спросил я по-итальянски. — Что случилось?
— Святой отец умер, — сказал он.
Я чуть не фыркнул.
— Ну да, прошло уже больше месяца. А при чем тут это?
Кардинал покачал головой:
— Я говорю не о покойном святом отце, но о нынешнем. В смысле, который на новенького. — Он закатил глаза, сам смутившись от выбора слова. — Я говорю о его святейшестве папе Иоанне Павле. Он умер.
Я молчал, оглушенный абсурдностью известия.
— Когда? — выговорил я.
— Ночью.
— От чего?
— Это уже не ваша забота.
— Но это невозможно.
— И тем не менее. Он был здоров, когда вечером вы подали чай?
Я замялся, не зная, что ответить.
— Святой отец сказал, что хочет побыть один. И я вышел, не подав чай.
Мы оба посмотрели на столик, на котором сестра Винченца оставила сервированный поднос. Разумеется, там он и стоял: серебряный чайник с заваренным чаем, блюдце с бисквитами. Кардинал Сири ничего, конечно, не заметил, но мне-то бросилась в глаза одна странность: папе всегда подавали три бисквита, но он к ним не притрагивался, а сейчас на блюдце лежали только два бисквита и еще крошки, словно кто-то, покидая апартаменты, третий бисквит разломил пополам, прежде чем отправить в рот. Никто из здешних служащих на такое не осмелился бы, это мог сделать только чужой. Но зачем он сюда явился?
— Вон там и оставил, — добавил я.
— Как он выглядел?
— Усталым. — Я сам не понимал, для чего загоняю себя в силки вранья, ведь правда все равно всплывет. — Решил лечь пораньше.
— Где вы были нынче утром? — спросил кардинал. — Сестра Винченца сказала, вы не забрали поднос с завтраком.
— Я проспал. Не знаю, как так вышло.
— Вас не было на месте.
— Я отлучился в туалет.
Кардинал сощурился, и я понял, что он распознал ложь.
— Сестра сама понесла завтрак святому отцу, — сказал кардинал. — Само собой, она растерялась, но не хотела, чтобы еда остыла. Постучала в дверь, сказала, мол, завтрак готов, и спросила разрешения войти. Папа не ответил, она снова постучала. Окликнула. Ей ничего не оставалось, как открыть дверь. Сестра вошла и увидела, что он мертвый. — Кардинал подался вперед, едва не касаясь носом моего лица: — Он умер естественной смертью, вам понятно? Когда вас спросят — а спросят непременно, — вы так и скажете. Умер естественной смертью. Иначе ответите передо мной.
Почти сразу после своего избрания папа-поляк освободил меня от моих обязанностей. Мне сказали, что мое увольнение не связано с тем, как я исполнял работу все девять месяцев моего пребывания в Риме, но я ни секунды этому не верил, поскольку запятнал себя событиями 28 сентября. Разговоры о ватиканских банках и ирландской проблеме, упомянутой папой, больше не возникали, и сейчас, через много лет, я понимаю, что их убрали в долгий ящик как слишком опасные.
В мрачные дни между смертью папы Иоанна Павла I и октябрьским конклавом монсеньор Сорли наконец-то допросил меня, почему в тот роковой вечер я покинул свой пост, и я выложил всю правду. Без утайки я рассказал обо всей своей римской жизни от визитов в кафе Бенници до разговора с кардиналом Лучани, подметившим мою увлеченность, от безумных хождений на Виколи-делла-Кампанья до проникновения в квартиру. Монсеньор крепко осерчал, но поверил и прикрыл меня от ватиканской полиции, заподозрившей, что в ту ночь в Апостольском дворце было совершено преступление. Насчет бисквитов я держал язык за зубами. Исчезновения третьего бисквита больше никто не заметил, и я бы ничего не добился, но только выставил себя на посмешище. Правда это или нет, но по официальной версии папа умер от сердечного приступа.
Папа-поляк со мной был еще немногословнее Павла VI, мое присутствие его, похоже, нервировало; полагаю, он узнал о моих похождениях в ночь смерти его предшественника и считал меня ненадежной персоной. Что ж, он был прав, я выказал себя вероломной личностью. Однако позже выяснится, что в этом он мне не уступал.
Монсеньор Сорли сам известил меня, что в моих услугах Ватикан более не нуждается. Папа-поляк решил, что итальянец займет мою должность на два месяца раньше срока, и меня, дав час-другой на сборы, отправили заканчивать учебу в Епископальном ирландском колледже.
С тех пор я лишь однажды побывал в Ватикане. Через четыре месяца, когда мама и сестра приехали на мою ординацию и я представил их папе. Прошло много лет, но я не забыл, как Ханна охарактеризовала папу Иоанна Павла II. И мне нечем возразить ее словам в ореоле истины.
Он ненавидит женщин.
Глава 14 2008
Я допустил ошибку, в церковном облачении явившись на первое слушание по делу Тома Кардла, лучше бы нарядился в цивильное платье и не привлекал к себе внимания. В шкафу моем где-то лежали вельветовые брюки, рубашки и свитеры. Надевал я их редко, но они имелись. Выгляди я как все, день не был бы столь тяжелым. Но за тридцать с лишним лет я почти сроднился с черным костюмом и белым воротничком. И просто не подумал.
Но даже утром, сев в автобус до центра, и потом, по набережной вышагивая к Четырем судам, я все еще сомневался, надо ли идти на слушание. Ведь я обо всем узнаю из завтрашних газет. Из радио- и теленовостей. Средства массовой информации были одержимы подобными делами, каждый приговор разжигал в народе еще большую злобу и укреплял во мнении, что это лишь верхушка айсберга. Те, кого судили, просто попались, вот и все. Но все мы под подозрением. Никому из нас нельзя верить.
Арест Тома меня взбаламутил. Том частенько исчезал из моей жизни, не отвечая на письма и звонки, однако на сей раз о нем не было ни слуху ни духу больше года, ибо с лета 2006-го архиепископ Кордингтон заточил его в монастырь, словно отвергнутую жену средневекового короля, и это говорило лишь об одном. Кстати, о месте его ссылки мне сообщил по телефону мой давний приятель Морис Макуэлл, который уже лет десять был настоятелем в процветающем приходе графства Мейо. Последний раз я о нем слышал, когда он отказался служить панихиду по Сопле Уинтерсу, своему бывшему однокашнику и соседу по келье. Свой отказ Морис не объяснил. По крайней мере, мне.
Ну вот раздался телефонный звонок.
— Слыхал новость? — сказал Морис, даже не поздоровавшись.
— Кто это? — спросил я, хотя узнал его голос.
— Я.
— Кто — я?
— Морис.
— Морис Макуэлл? Как поживаешь? Как оно там на западе?
— Сыро. А в Дублине?
— Зябко.
— Ну и ладно. Так ты слыхал новость?
— Какую именно?
— О твоем закадычном дружке.
— О ком ты?
— О Томе Кардле.
Я похолодел.
— Что с ним?
— Арестован. Растление малолеток.
— Понятно.
— Что скажешь?
— А что я могу сказать?
— Ну прямо тайна, покрытая мраком. Полгода назад его допросили и завели дело. Он скрылся. Всем заправлял Кордингтон. Он с тобой говорил?
— Говорил.
— И что сказал?
— Сказал, что Том в надежном месте.
Казалось, Морис с огромным удовольствием сообщает мне эту новость. Я вспомнил интервью Джона Бэнвилла: когда выходит ругательная рецензия на мою книгу, сказал писатель, кто-нибудь из друзей непременно о ней известит. Сейчас было очень похоже.
Когда назначили дату суда, я, объяснив причину, попросил настоятеля отца Пейтона отпустить меня на несколько дней, но он отнесся к просьбе прохладно, что меня, признаюсь, удивило: я рассчитывал, что довольно молодой человек, ему было всего тридцать семь, свободен от косных устоев и проявит большее сочувствие.
— Вы хорошо подумали? — Откинувшись в кресле, настоятель опер подбородок о сложенные домиком ладони, как всегда делал, желая выглядеть мудрым. — По-моему, слегка неразумно ввязываться в эту историю.
— Он мой давний друг, — сказал я.
— Вам известно, в чем его обвиняют?
— Конечно. Я все знаю.
— Тогда зачем ехать?
Последние дни я сам неоднократно задавался этим вопросом и не нашел удовлетворительного ответа. Но я чувствовал, что должен своими глазами увидеть Тома, вглядеться в него и понять, неужели все эти годы я был слеп и проглядел нечто ужасное.
— И потом, отец Одран, подумайте о приходе, — сказал настоятель. (Я терпеть не мог этого обращения. Либо «Одран», либо «отец Йейтс». Дурацкое «отец Одран» пришло из американских телесериалов.)
— Чем это повредит приходу? — удивился я. — Я прошу о коротком отпуске, всего на неделю-другую, если дело затянется. Кроме того, я по-прежнему буду служить утренние мессы.
— Я говорю об огласке. Вы же не хотите, чтобы в связи с этой историей склоняли и ваше имя? На нас это скажется плохо.
— Кого конкретно вы имеете в виду, говоря «на нас»? Себя и меня?
— Церковь.
— А то Церкви больше не о чем беспокоиться, кроме как о том, явлюсь я на суд или нет.
— Этого человека обвиняют в многочисленных преступлениях против детей, — не унимался настоятель. — Страшно подумать, сколько их было за двадцать пять с лишним лет. Оглядитесь вокруг, отец Одран. В нашем приходе тысячи детей. Если народ увидит, что вы так рьяно поддерживаете своего друга…
— Я его вовсе не поддерживаю, — вяло возразил я.
— А что тогда?
— Просто хочу… присутствовать. Не более того.
Настоятель покачал головой:
— Вы сами назвали его давним другом. И что бы вы здесь ни говорили, ваше поведение будет выглядеть поддержкой, а в мире, где мы живем, самое главное — как выглядят наши поступки. Постойте! — Он нахмурился и подался вперед, осененный мыслью: — Вы считаете, он невиновен? Да?
Слова застряли у меня во рту. Я не ожидал такого вопроса.
— Вот пусть суд в этом и разберется, — ответил я.
— Но вы-то что думаете?
— Взять два-три отгула, вот что я думаю, — сказал я, сдержавшись, чтобы не добавить: «И катись ко всем чертям, если тебе это не по нраву».
Но вопрос прозвучал и теперь не давал покоя. Виновен ли Том? Я знал его с семьдесят второго года. Тридцать шесть лет дружбы. И если за все эти годы я так и не проник в его душу, то не потому, что не пытался. Да, он через силу приспособился к семинарии, да, священство не было его добровольным выбором, но разве это превращало его в чудовище, каким его представляли газеты? Из сотен снимков, с помощью телеобъективов сделанных в дублинском следственном изоляторе, газетчики выбирали те, на которых он выглядел хищным злодеем. Это доказывало его вину? Я не узнавал его на газетных фотографиях.
И все же, все же… Столько всяких нестыковок, столько всего подозрительного, на что прежде я закрывал глаза. Теперь все это занозой сидело в голове. Значит, и я чем-то виноват? Я отгонял эту мысль. Я к ней не готов. Пока что.
Перед зданием суда толпа репортеров наблюдала за дюжиной пикетчиков, которые молча ходили по кругу, держа в руках плакаты, обвиняющие Тома и поносящие Церковь. Корявые буквы, опустошенные лица. Как же до этого дошло? Кто виноват в этом несчастье?
Один пикетчик отвечал на вопросы репортера с телекамерой. Я прислушался.
— Шесть лет, с девяти до пятнадцати, — со слезами в голосе говорил респектабельный мужчина в дурно сшитом костюме, но с аккуратной стрижкой. Под руку с ним стояла женщина, очень похожая на него — наверное, сестра; лицо ее выражало неприкрытую враждебность. — В шестнадцать я его послал, на том и закончилось.
Репортер что-то спросил, мужчина кивнул:
— У меня не было выбора. Всю жизнь я об этом молчал. Но остаток жизни потрачу на то, чтобы исправить ошибку.
Репортеры разом загалдели, но человек как-то умудрился выбрать вопрос. Едва он заговорил, корреспонденты смолкли и застрочили в блокнотах.
— Не знаю, все ли они были в курсе. Но многие, конечно, знали. А начальники знали безусловно. У них же круговая порука. Епископы, кардиналы и сам папа. Нынче судят не одного подонка, а всю их свору. По мне, так всю эту шваль надо за волосы выволочь из дворцов и каждого поочередно судить на глазах у всего народа. Если б Иоанн Павел Второй не сдох, какой-нибудь смельчак должен был бы сдать его в Международный суд по правам человека, чтобы гад поплатился за все, что натворил. Я слышал, его хотят причислить к лику святых. — Голос человека злобно взвился: — Это он-то святой? — Мужчина смачно харкнул на землю: — Вот мой ответ. Если ад существует, то вот прям сейчас черти опаляют его седую башку. Он все знал и ничего не сделал. Ничегошеньки, польский хмырь. И Бенедикт не лучше. Тоже по горло в дерьме. Все они такие. Оберегают себя и деньги, больше ничего. Сволочи. Подонки из подонков, бандиты из бандитов.
Сестра попыталась увести его от репортеров, которые вновь полезли с вопросами.
— Конечно, я зол, на хрен! — рявкнул мужчина. — Еще бы мне не злиться! А вы бы не злились? Сейчас все заголосили — ай-ай-ай, какой ужас, надо призвать к ответу попов, не только преступных, но и тех, кто все видел и молчал, — однако все равно каждое воскресенье, точно бараны, прутся в церковь, волокут детей на причастие и конфирмацию и живут по предписаниям своей вонючей религии, хотя не верят ни единому ее слову. Эти люди ничем не лучше, понятно? Девяносто процентов школ по-прежнему под контролем Церкви. Да если б какая-нибудь другая структура выказала этакую предрасположенность к педофилии ее бы на пушечный выстрел не подпустили к школам, не говоря уже о руководстве ими. Что же у нас за страна такая? Надо избавиться от попов, ясно? Взашей гнать из школ. Уберечь детей от тех, у кого извращенность в крови. Ни перед чем не останавливаться, но очистить от них Ирландию, как святой Патрик очистил ее от змей.
Я отошел. Больше не мог слышать его голос. Полный гнева. И ненависти. Но как же ему не гневаться? Как не исходить яростью? Люди в черных костюмах и белых воротничках растоптали его жизнь. Такие, как я.
На ступенях суда репортеры навели на меня свои камеры, словно я был важной персоной.
— Вы кто? — спросил один. Я не ответил, но тотчас последовал новый вопрос: — Вы друг Кардла?
— Я нарушил ПДД, — сказал я, пряча глаза. — Не оплатил штраф за парковку в неположенном месте. Легко отделаюсь, если не отберут права.
— Пустышка, — уведомил репортер свою братию, и все, мгновенно потеряв ко мне интерес, занялись просмотром отснятых кадров. Как легко поверить в заурядную ложь.
Зал заседаний был полон, но я отыскал свободное место в задних рядах. Прежде я никогда не бывал в суде, и первое впечатление было гнетущим и устрашающим. Казалось, столетние дубовые скамьи помнят десятки тысяч людей: подсудимых, виновных и невиновных, потерпевших и родственников тех и других. Передо мной сидели шесть женщин лет шестидесяти, и я решил, что это матери жертв, жаждущие правосудия.
Секретарь возвестил о выходе судьи, и дама в черной мантии и белом парике, символизирующих власть, заняла судебное кресло. Вновь черное одеяние; кто первый счел этот цвет знаком могущества? Ведь он, скорее, символ бесцветности и абсолютной пустоты. Правда, в моей профессии цвет одежд менялся в соответствии с продвижением по рангам: черный, алый, белый — тьма, кровь и на самом верху чистота.
Адвокаты, сгрудившись в кучку, болтали и пересмеивались, но тотчас разбежались по местам, когда судья заняла свое кресло и вызвала присяжных. Я вгляделся в лица людей, представлявших неведомый мне срез общества. Пенсионеры, довольные тем, что их суждения вновь востребованы, молодые женщины в деловых костюмах, отключавшие смартфоны, серьезные тридцатилетние молодцы с ухоженной растительностью на лицах.
А потом из боковой двери появился Том Кардл. Он опасливо ступил на огороженный помост и испуганно огляделся, словно не понимая, как дошел до жизни такой, почему судьба-злодейка привела его из бедствующей уэксфордской фермы в дублинский суд. Похоже, он не ожидал увидеть в зале столько людей, при его появлении мгновенно смолкших. Женщины, что сидели передо мной, воспользовались тишиной и вскочили, оглашая зал криками:
— Удачи, отец!
— Мы за вас, отче!
— Не дайте себя сломить грязной ложью!
От изумления разинув рот, я вжался в скамью, все повернулись к орущим теткам, судья приказала удалить их из зала. Приставы кинулись к нарушительницам, а те выхватили из сумок распятия (на секунду я подумал, что они станут ими драться) и, воздев их затянули «Аве Мария». Откуда в них такая преданность? — думал я. Они будут за Тома, даже если он виновен? Или им все равно?
Женщин вывели, и я пересел в освободившийся ряд, довольный тем, что соседей не будет, ибо в зал уже никого не впускали. Теперь я хорошо видел Тома, до которого было футов тридцать. Он нервно почесывал лицо и украдкой, словно оценивая, оглядывал присяжных. Я отметил его болезненную худобу; прежней склонности к полноте, с возрастом проявившейся, не было и в помине.
Судья и адвокаты обменялись юридической абракадаброй, в которой я ни слова не понял, затем возникла долгая пауза, и охранник, похлопав Тома по плечу, велел ему сесть. Но тут судья обратилась к присяжным, и охранник вновь вздернул Тома на ноги, с явным удовольствием вцепившись ему в руку. Я обратил внимание, что Том в мирской одежде. Интересно, почему? Может, он или его адвокаты решили, что церковное одеяние сразу настроит присяжных негативно? Последние два года в газетах то и дело появлялись фото извращенцев в сутанах, и оттого мог сработать стереотип восприятия? Или Том больше не считал себя священником? Я бы его спросил, будь такая возможность.
Потом слово взял прокурор. Он считал, что пяти потерпевших довольно для обвинения, их свидетельства заслушают позже. Но душераздирающие истории уже просочились в газеты и стали достоянием гласности.
На моменты преступлений самой младшей жертве было семь лет, самой старшей — четырнадцать. Семилетний потерпевший был соседом Тома, когда в 1980-м тот служил в Голуэе. Годом раньше умер отец мальчика, и вдова попросила Тома, которому в то время было всего двадцать четыре, заняться ее сыном-неслухом. И Том, значит, вот так им занялся.
1987-й, Лонгфорд. Десятилетний мальчик, церковный служка, подвергался насилию два-три раза в неделю в ризнице, перед утренней мессой. Другой жертве было четырнадцать. В 1995-м, в Слайго, каждую среду Том отвозил подростка на пляж, где раздевал и купал в море, а затем уводил в дюны. Подобное происходило и в 2002-м на пляже Бриттас-Бэй с мальчиком из Уиклоу. История жертвы из Роскоммона казалась невероятной и потрясала бесчеловечной жестокостью.
Означенные случаи сочли достаточными для обвинения, но, читая эти истории, я думал: а что было в Белтурбете? В Трали, Мейо и Рингсенде? Том служил и в этих приходах. Что, там он не совершал преступлений, но его все равно переводили в новое место? Значит, в каждом из упомянутых графств — Голуэе, Лонгфорде, Слайго, Уиклоу и Роскоммоне — он клал глаз только на одного ребенка? Здесь пятеро, а где те девятнадцать, о которых говорил архиепископ Кордингтон? И если девятнадцать человек объявились, то сколько еще этого не сделали? Двадцать? Пятьдесят? Сто?
Судья спросила Тома, признает ли он себя виновным, и тот растерянно огляделся, словно сомневаясь, что вопрос адресован ему. Потом криво усмехнулся — скорее всего, от страха — и покачал головой. По залу пронесся негодующий ропот. Он что, не воспринимает происходящее всерьез? Судья повторила вопрос.
— Я не виновен. — Том поднял взгляд на судью. — Я пальцем не тронул ни одного ребенка. Это большой грех.
Голос его осекся, и я мгновенно понял, что совершил ошибку, приехав на суд. Слушать дальше не было сил. Меня замутило, я с трудом встал и на ватных ногах пошел к выходу. В дверях я обернулся — Том смотрел на меня. Во взгляде его я прочел мольбу: Спаси меня, Одран! Пожалуйста, Одран. Почему ты не спас меня раньше, когда мог это сделать?
Я отвернулся. И вышел в Круглое фойе.
Под куполом его было полно народу, туда-сюда снующего (еще в трех судебных залах слушались другие дела), но дышалось тут легче. Не готовый пробраться сквозь толпу репортеров, на улице сгрудившихся перед дверями, для них, по счастью, закрытыми, я опустился на скамью, где уже сидела одинокая женщина, и, согнувшись, спрятал лицо в ладонях. Что же это за жизнь такая? Что это за ведомство, которому я себя целиком посвятил? Я искал виноватого, однако в глубине сознания ворочалась жуткая мысль о моем соучастии: я видел, что творится, у меня возникали подозрения, но я устранился, ничего не предприняв.
Чья-то рука коснулась моего плеча, и в испуге я чуть не подпрыгнул, но оказалось, это была женщина, сидевшая рядом. Я взглянул на ее изможденное, погасшее лицо, ожидая, что она спросит, как я себя чувствую, но женщина просто молча смотрела на меня, и я вдруг понял, что где-то ее уже видел, только не вспомню где. Мать кого-то из моих теренурских учеников? Нет, не то.
— Вы отец Йейтс, верно? — наконец спросила женщина, голос ее был тих и глух.
— Да, — сказал я. — Мы знакомы?
— Встречались. Не помните меня?
Я покачал головой:
— Определенно я видел вас раньше, но вот где…
— Я Кэтлин Килдуфф, — сказала женщина, и я зажмурился, испугавшись, что сейчас обеспамятею.
— Миссис Килдуфф, — чуть слышно повторил я. — Простите меня.
— Мы встречались в Уэксфорде. В девяностом году. Вы гостили у своего приятеля. А я та самая дура, что каждую неделю отдавала сына ему в лапы.
Что мог я сказать в свое оправдание?
— Да-да, — кивнул я. — Теперь я вас вспомнил.
— Наверное, и Брайана помните?
— Да, помню.
— Вы, поди, собою гордились, когда на него донесли? А вам известно, что в полиции его запугали до полусмерти — зачем-де попортил машину того урода?
— Простите. Я не знал, как поступить. Я решил, с мальчиком что-то не так. Я надеялся, Том ему поможет, если узнает правду.
— О да, он помог отлично, — горько усмехнулась женщина. — Пошел в полицию и сказал, пусть мальчику сделают внушение, а уж он присмотрит, чтобы подобное не повторилось. И велел мне приводить Брайана по понедельникам, средам и пятницам — на час три раза в неделю. Конечно, я исполнила приказ. Брайан, — вздохнула она. — Сынок мой. Он же никогда мухи не обидел. Знаете, он мечтал стать ветеринаром. У него была собачка, которую он просто обожал.
Я уставился в пол. Выше я уже рассказал эту историю, но, кажется, не упомянул, что наутро обо всем поведал Тому и он вызвал полицию? Не говорил, что я дал показания полицейским, мы отправились к мальчику и я его опознал? По-моему, не говорил. А должен был сказать. Ну вот, теперь вы все знаете. Невиновных не осталось.
— Миссис Килдуфф… — начал я, еще сам не зная, что скажу, но так и так меня перебили.
— Не смейте произносить мое имя, — прошипела женщина. — И убирайтесь отсюда, ясно? Я не желаю сидеть с вами рядом. Вы омерзительны.
Я встал и уже сделал шаг, но решил, что надо хоть как-то загладить свою вину.
— Надеюсь, с Брайаном все хорошо, — сказал я. — Очень хочу, чтобы он справился с тем, что с ним приключилось.
Женщина смотрела на меня как на палача:
— Вы издеваетесь, да? Не знаете, как сделать побольнее?
— Вовсе нет, — растерялся я. — Мне только хотелось…
— Уж пятнадцать лет, как Брайана нет на свете. Он повесился в своей комнате. Я поднялась к нему сказать, что ужин готов, а он там качается, рядом песик сидит, смотрит, не знает, чего делать. Сынок мой себя убил. Что, вы и теперь собою гордитесь, отче? На пару со своим дружком? Счастливы всем, что натворили? Или вам плевать?
Вместо того чтобы сразу ехать домой, я зашел в непритязательное кафе на набережной Ормонд неподалеку от суда. Видимо, это было излюбленное место стряпчих и адвокатов, ибо я увидел закуток, выгороженный для сумок на колесиках, которые привычнее в аэропортах и железнодорожных вокзалах, но в которых нынешние юристы транспортируют из своей конторы в суд многотомные дела, достойные упоминания в вечерних теленовостях.
Я нашел свободный столик, заказал черный кофе и посмотрел на прохожих за окном — работяг, бизнесменов и студентов Тринити-колледжа. Интересно, думал я, как я бы отреагировал, если б в 1972-м кто-нибудь сказал, что через тридцать шесть лет бедолага, деливший со мной келью Клонлиффской семинарии, предстанет перед судом Ирландской Республики по обвинению в систематическом насилии над мальчиками, доверенными его пастырской заботе? Его обвинят в том, что он совершал над ними немыслимые непотребства и заставлял их то же самое делать с ним. Откуда в нем это? Он таким родился или свихнулся позже? Может быть, виноват его отец, который, безусловно, в чем-то его изуродовал? Но даже если так, человек в ответе за свои поступки, что бы ни случилось с ним в детстве. Бывает, что в раннем возрасте переживаешь страшные события (я знаю по себе), но это не дает права действовать без зазрения совести. Откуда в нем взялась эта безудержная тяга к юной плоти, не коснувшаяся других семинаристов? Недосмотр наших наставников? Значит, и они в чем-то виноваты? Но теперь все это неважно, ибо Том Кардл на скамье подсудимых и уже никому не причинит зла. Я не допускал благоприятного для него исхода.
Таким потерянным я не был с той самой ночи, когда после встречи с женщиной из кафе Бенници одиноко бродил по римским улицам, а папа напрасно ждал свой вечерний чай и, возможно, стал жертвой злоумышленника или же был призван в родные пенаты Господом, чьи деяния непостижимы для простого смертного.
И тогда я сделал то, что всегда делал в трудные минуты жизни. Из сумки я достал Библию, которая иногда предлагала ответы, но чаще оставляла с вопросами, однако неизменно отвлекала и давала кроху утешения. У меня было несколько Библий, преподнесенных знакомыми или купленных на память о паломнических местах. Сейчас я держал в руках свою самую давнюю Библию, которую много лет назад подарила мама, провожая меня в семинарию, — красивое издание в черном кожаном переплете и со штемпелем на внутренней стороне обложки, удостоверявшим, что за двадцать два пенса книга куплена в апреле 1972 года в магазине религиозной литературы «Веритас» на Нижней Эбби-стрит. Она сопровождала меня во всех поездках и выглядела зачитанной, но была крепка и еще не разваливалась. Я сам не знал, чего ищу, а потому раскрыл ее наугад, надеясь, что какой-нибудь абзац, глава или притча уведут меня от горестей и направят к ясности.
Внезапно мое уединение нарушил парень лет двадцати пяти-шести, не больше. Рослый, с колким взглядом удивительно синих глаз. Он был в костюме, но из-под воротничка рубашки выглядывал затейливый узор татуировки.
— Чё читаешь? — спросил парень, нависнув надо мной.
— Простите? — опешил я.
— Чё это за книжка? — Он произнес «книжика». Выговор рабочих районов Дублина, подумал я. — Дай-ка глянуть.
Я показал ему обложку.
— Там ответов не найдешь, — осклабился парень.
— Я находил.
— Веришь в чудеса, что ли?
Я огляделся. Другие посетители были поглощены своими разговорами либо притворялись незаинтересованными, не желая ввязываться в историю.
— Я просто пью кофе, — спокойно ответил я и отвернулся к окну.
— Чё тебе не нравится? — окрысился парень.
— Всего хорошего, — сказал я.
— Да пошел ты! Мне твое «хорошее» на хрен сдалось, понял?
Я молчал. В животе возникла противная пустота, я пытался унять дрожь в руках, не желая выказать испуг, однако чашка с кофе меня выдавала. Но чего еще ждать от пятидесятитрехлетнего человека, непривычного к стычкам? Не зная, как выпутаться из ситуации, я решил, что лучше всего смотреть в окно и не поддаваться на провокации. В конце концов хулигану надоест и он отстанет.
— Ты же поп, — сказал парень.
— Меткое наблюдение, — ответил я.
— Притащился поболеть за кореша?
— О ком вы говорите?
— О хмыре, которого судят. О насильнике. Решил морально его поддержать, да?
Я покачал головой:
— Не понимаю, о ком вы. Я пью кофе и никого не трогаю.
Парень потоптался, накаляясь. Я думал, он уйдет, но он вдруг уселся за мой столик.
— Ну вот что, это уже слишком. — Я посмотрел на хозяина за стойкой — может, он все-таки заметит, что творится в его кафе, и вмешается? — Оставьте меня в покое.
— А чё я такого сделал? — Парень невинно развел руками. — У нас свободная страна, нет? Сижу где хочу. Мы просто болтаем.
Я уставился в чашку. Кофе допит, но будь я проклят, если своим уходом доставлю радость этому уроду.
— Спорю на что хошь, — сказал парень, — ты приперся помолиться за подсудимого да глянуть, нельзя ли застращать присяжных, чтоб его оправдали.
— О ком вы говорите? — повторил я.
— А то ты не знаешь, хер моржовый! Ой, о ком же это я говорю? Ну-ка дай сюда свое чтиво.
— Не дам.
— Дай сюда, сказано! — прорычал парень и схватил Библию, прежде чем я успел ему помешать.
— Отдайте, — беспомощно сказал я. — Она не ваша.
— Нет, вы только гляньте! — заржал парень, увидев надпись на титульном листе. — «Одрану от мамы». Надо же, как мило! Твоя старуха подарила? Когда тебя возвели в попы?
— Верните Библию, — потребовал я.
— Я тебе почтой пришлю. Давай адрес, отец, и я отправлю бандероль, как только окажусь рядом с главпочтамтом.
— Ты отдашь ее сейчас, сопляк! Хватит, натешился!
Парень протянул мне Библию, но отдернул руку, едва я хотел взять книгу.
— Ой, прости, отец, я такой неловкий! — Он опять протянул Библию и вновь отдернул руку, смеясь мне в лицо.
— Кто-нибудь мне поможет? — обратился я к залу. Посетители и хозяин впервые посмотрели в мою сторону. — Я прошу помощи, — повторил я. — Этот человек мне досаждает.
— Да я ему ничё не сделал. — Парень глянул на публику, которая явно не собиралась вмешиваться. — Ты хочешь получить свою книжку, отец?
— Хочу. — Я не смотрел ему в глаза, чтобы не злить его еще больше.
— Хочешь получить?
— Да!
— Так получай! — Парень наотмашь ударил меня по лицу Библией, которую моя бедная мать так любовно выбирала, оглядывая кожаные переплеты на полках книжного магазина, и я рухнул со стула, грузно приземлившись на пол в лужах пролитого чая и крошках растоптанных чипсов.
Парень бросил Библию мне на грудь; заскрежетали стулья, но не потому, что кто-то бросился мне на помощь, — никчемный народ отъехал подальше от опасности. А меня, одинокого и затравленного, парень наградил смачной харкотиной, залепившей мне пол-лица. Я отерся, сплюнул мерзкую слизь, угодившую мне на губы, и увидел, что рука моя измазана кровью, хлеставшей из брови, которую я рассек, в падении приложившись головой о край стола.
— Педофил сраный! — рявкнул парень. Это превращалось в клеймо. Похоже, слова «педофил» и «священник» обрели некую дьявольскую связь и стали неразрывны.
— Эй ты, иди отсюда! — прикрикнул хозяин кафе на моего обидчика, но сей отважный возглас застал того уже в дверях.
— Как вы, отче? — Молодая адвокатесса помогла мне подняться на ноги. Я приложил руку к глазу, пульсирующему болью. — Это из-за того священника, что сейчас под судом?
— Не знаю я никакого священника под судом! — взревел я, и она отскочила, оборонительно выставив руки, словно я мог на нее броситься. — Я ничего не знаю, ясно вам?
В зал заседаний я больше не вернулся, но следил за судом, читая ежедневные репортажи в «Айриш таймс». Из-за массы свидетельств процесс растянулся почти на три недели. Сперва ему отводились передовицы, но постепенно он съехал на четвертую-пятую страницу в раздел бытовых преступлений. Однако в последнюю неделю, когда присяжные удалились для вынесения вердикта, он вновь появился на первой полосе, хоть и в подвале, — журналисты прикидывали варианты исхода. Превозмогая себя, я внимательно читал все репортажи. Не верилось, что Том Кардл сотворил столько зла, и вместе с тем я верил, что он на это способен и перечень его злодеяний далеко не полон. Вот такая вот бессмыслица.
А потом, отслужив утреннюю мессу, я включил телевизор, и Пэт Кенни сообщил, что вердикт вынесен. Конечно, «виновен». Решение единогласное. Когда старшина присяжных его объявил, в зале началось ликование. Разумеется, там были и пострадавшие. Все они дали показания, народ их услышал, и теперь они слышали отклик народа. Его слышали их родные и близкие, изболевшиеся за своих чад. По выражению репортера «Айриш таймс», шум в зале был сравним с воплем толпы в Колизее, когда император показывал большой палец, обращенный вниз.
Судья, рассказывал репортер, пыталась успокоить зал, а Том Кардл сгорбился и закрыл руками лицо. Не знаю, со мною, возможно, что-то не так, но я ему сострадал, несмотря на его порочность и жестокость, несмотря на горе, какое он принес людям. Сердце мое разрывалось, когда я представлял: вот он совсем один, позади зряшная жизнь, впереди бог весть какие ужасы тюрьмы. Этого никому не объяснишь, на меня посмотрят с омерзением и сочтут соучастником, хотя его поступки мне глубоко отвратительны, но мысль об одиночестве невыносима, что бы человек ни совершил.
Если я не умею разглядеть толику добра в любом из нас, если не верю, что общая боль наша утихнет, то какой же я священник? И что я за человек?
На другой день публика собралась в зале, чтобы выслушать приговор, и восторг ее угас, уступив место негодующим крикам и свисту, когда судья объявила, что Том осужден всего на восемь лет тюрьмы Арбор-Хилл и принудительный курс психотерапии; пожизненно он занесен в список сексуальных преступников, по отбытии срока ему надлежит еженедельно отмечаться в полицейском участке. Зал полыхал яростью.
Конечно, пресса упивалась происходящим. Теле- и радиостанции направили в суд лучших репортеров, которые совали микрофоны под нос жертвам, рассчитывая, что человеческая боль трансформируется в захватывающий сюжет для дневных новостей. И многие жертвы говорили — многословно, горячо, с нескрываемым гневом. Они жаждали справедливости и предавали позору того, кто превратил их жизни в нескончаемый ад, покрытый непроницаемым мраком. Один весьма приличного вида человек, окруженный родными и близкими, не мог сдержать слез. Жена-красавица обнимала его за плечи.
— Восемь лет? — беспрестанно повторял он. — Восемь лет?
Казалось, он не в силах поверить тому, что услышал в суде, — за такие страдания столь малая кара?
— Да он выйдет года через четыре, от силы пять! — крикнул другой человек, проталкиваясь в первые ряды согласно кивавшей толпы, и я прилип к телевизору. Знаете, кто это был? Тот самый парень, что в кофейне на набережной Ормонд огрел меня моей же Библией. — Вот и все наказание за то, что эта сволочь сотворила со мной и другими! Четыре, мать их, года! Вы, у телевизоров, слышите меня? — Темно-синие глаза его буравили всех, кто сидел в своих гостиных. К чести телевизионщиков, они не вырезали ни слова, когда в последующие дни бесконечно крутили этот сюжет. — Слышишь меня, народ Ирландии? Разуй глаза! Видишь, что здесь творится? Всего-навсего четыре года тому, кто изуродовал наши жизни! Он выйдет на волю и возьмется за старое, если всех их не погнать поганой метлой! Всех, слышите? Снести церкви! Пусть попы собирают манатки и всем — под зад ногой! Понял, ты, с камерой? Ты меня понял, ирландский народ? Надо очистить страну от заразы! Гнать их вон! Гнать их вон! Гнать их вон!
Толпа подхватила клич и, скандируя, хлынула на улицы; на севере голос ее достиг президентских апартаментов, на юге его слышали семейства, прогуливавшие собак в Марли-парке, на востоке — докеры, разгружавшие контейнеры в Дублинском порту, на западе он долетел до островов Аран, где обветренные старики в повозках, запряженных лошадьми, передали этот клич в самые дальние уголки страны, а туристы увезли в Нью-Йорк, Сидней, Кейптаун и Санкт-Петербург, извещая мир, что Ирландия сыта по горло.
Наутро это незамысловатое послание подхватили газеты, поместив на первых страницах фотографию, на которой растерянного Тома Кардла заталкивали в полицейский фургон, и снабдив снимок убедительно простым заголовком:
ГНАТЬ ИХ ВОН!
Глава 15 2012
Черный костюм в шкафу и белый крахмальный воротничок на тумбочке остались ждать моего возвращения. С собой я их не брал. Учитывая, куда и к кому я ехал, обрядиться в символы моей профессии было бы катастрофической ошибкой.
Утром, дожидаясь такси, я себя чувствовал неуютно в цивильной одежде, на которой остановил свой выбор. Я разглядывал свое отражение в зеркале, стараясь угадать, кем выгляжу со стороны. Сочинялись разные варианты: год назад умерла моя жена, с которой было прожито тридцать лет, и я рискнул впервые провести отпуск один; редактор отправил меня на литературный фестиваль, где я должен взять интервью у знаменитого писателя, чьи творения недавно перевели на английский; фирма послала меня в недельную командировку, дабы я проконтролировал работу мюнхенского филиала, снизившего выпуск продукции. Все это было бы возможно в иной жизни, выбери я другой путь.
Конечно, я черт-те что себе надумал, в аэропорту никто не обратил на меня внимания. А чего меня разглядывать, если я выгляжу как все прочие?
В пятьдесят семь лет я мог по пальцам одной руки пересчитать свои заграничные поездки. Рим, само собой, и Норвегия, куда давным-давно я ездил на свадьбу Ханны и Кристиана. Разок в Америку. А еще на сорокалетие сестра подарила мне поездку в Париж, не подумав о том, что одинокого мужчину, давшего обет безбрачия и не познавшего близость ни в какой ее форме, отправлять на три дня и две ночи в город любви бессердечно. Обстоятельство, что мой день рождения ровно в середине февраля, только все усугубляло.
Я никогда не был в Африке, Азии и Австралии, не стоял перед Сиднейской оперой и Зимним дворцом русских царей. Моя жизнь прошла в Ирландии, и сейчас иногда возникала мысль, не было ли это ужасной ошибкой. Но тогда список моих ошибок так длинен, что лучше его не пополнять.
И вот я снова в Дублинском аэропорту. Вспомнилось, как в семьдесят восьмом я улетал в Рим и меня провожали светившаяся гордостью мама и скучавшая сестра. Зажав билет в кулаке, мимо стюардессы, окинувшей меня взглядом, я прошел на посадку. Сейчас я как будто переходил Рубикон. Досмотр клади, рамка металлоискателя, рентген, а потом тебя обшаривает угреватый толстяк, громко чавкающий жвачкой. Террористическая угроза, говорили все вокруг. Никому нельзя верить.
Мне, неопытному путешественнику, было интересно все: момент отрыва самолета от полосы, автострада М50, далеко внизу превратившаяся в ленту, город, распахнувшийся перед морем, скалистый изгиб вокруг Вико-роуд, где жили знаменитости. Женщина рядом со мной читала книгу Сесилии Ахерн, дочери бывшего премьер-министра, и вид ее говорил: не вздумайте лезть с разговорами. Мужчина в следующем кресле смотрел фильм в этакой переносной штуковине и поминутно шмыгал носом. В поездку я припас новый роман Джонаса, но в суматохе утренних сборов забыл его на столике в прихожей. За неимением лучшего в аэропорту я купил свежий номер «Айриш таймс», где широко обсуждалось недавнее радиоинтервью архиепископа Кордингтона, который шесть лет назад отправил меня в приход Тома Кардла, а сам тем временем дорос до кардинала, чему споспешествовал папа-немец, его давнишний закадычный друг.
Интервью стало ответом на журналистское расследование, утверждавшее, что кардинал Кордингтон был прекрасно осведомлен обо всем, что десятилетиями творилось в Церкви, но покрывал преступных священников, а посему виновен не менее их. Прежде кардинал, действуя, разумеется, по указке Рима, отказывался от любых интервью, но сейчас дело зашло слишком далеко: ему крепко досталось в докладе Мёрфи[37], все новые иски поступали от жертв насилия. В конце концов у него не осталось иного выбора, как согласиться на беседу в прямом эфире с радиоведущим Лиамом Скоттом.
Дока Скотт начал с легких вопросов. Он попросил кардинала рассказать о себе, о своей жизни, начав с того, что привело его к священству.
— Зов. — Голос Кордингтона был мягок и сладкозвучен. — Впервые я его услышал еще ребенком. В нашей семье не было священников. Говоря откровенно, родители мои были не слишком религиозны, однако во мне жило чувство моего предназначения и я, став старше, поделился им с приходским настоятелем, славным человеком, который одарил меня благодатным советом.
— Как вы восприняли свое предназначение?
— Оно меня пугало. Я не был уверен, что способен на жертвы и достаточно умен для такой жизни.
— Вы понимали, с чем расстаетесь?
— Да, конечно.
— И все-таки пошли этим путем?
— Скажите, Лиам, у вас не бывает ощущения, что путь, которым вы следуете, уже давно кем-то для вас проложен? И вы над ним не властны? Вот что я чувствовал. Я избран. Господом. Впервые переступив порог семинарии, я интуитивно понял, что прибыл домой.
В этом мы были похожи, ибо в Клонлиффской семинарии меня посетило точно такое же чувство: вот место, куда я стремился всю свою жизнь.
Интервью продолжалось, после пары-тройки банальностей кардинал расслабился, и тогда-то все началось. Скотт привел статистику последних лет. Число дел о растлении малолетних, рассмотренных судами. Число дел в стадии расследования. Число арестованных священников. Число священников, по недостатку улик признанных невиновными, но оставшихся под большим подозрением. Число потерпевших. Число самоубийств. Число групп поддержки. Цифры, цифры, цифры. Ведущий прекрасно ориентировался в данных и лихо ими оперировал; он был абсолютно спокоен, ибо статистика говорила сама за себя. Когда перечень закончился, кардинал не проронил ни слова, и тогда ведущий нарушил затянувшуюся паузу:
— Как вы это прокомментируете, кардинал Кордингтон?
— Это ужасно, — ответил кардинал, и голос его полнился хорошо отрепетированным раскаянием. — Воистину ужасно.
Далее радиослушатели узнали о ложке дегтя в бочке меда, о преподанном уроке, об исправлении прошлых ошибок, мол, шагаем вперед, не забывая оглядываться, и прочую чушь. А затем, не подумав, он сказал, что из ста священников лишь один попадает в газеты, и прибегнул к нелепой аналогии:
— Это вроде авиакатастрофы. О разбившемся самолете все узнают немедля. О нем говорят в новостях, показывают по телевидению. Ибо десятки тысяч самолетов ежедневно взлетают и благополучно приземляются, и катастрофа являет собой столь большую редкость, что каждый считает своим долгом о ней сообщить. То же самое со священниками, которым предъявлено обвинение: в массе достойных и честных служителей число их так ничтожно, что мы узнаем о каждом несчастном случае.
Скотт вцепился мгновенно. Весьма странное сравнение, сказал он, поскольку те, кто в самолете, экипаж и пассажиры, не виноваты в катастрофе, случившейся по вине техники. Однако священники прекрасно сознавали, что творят, и действовали по собственной воле, не думая, как это скажется на детях, вверенных их заботе. Они виновники собственных несчастий и невероятных страданий других людей. В отличие от пилотов обреченных лайнеров, они преступники.
— И последнее, — сказал Скотт, готовя смертельный удар. — Мы знаем о каждой катастрофе, но наше знание о них вовсе не означает, что ежедневно в мире не происходят еще сотни других страшных событий, которые замалчивают или по недостатку доказательств не считают катастрофами.
Кардинал замешкался — видимо, смекнул, что сморозил глупость. Затем попытался увильнуть, но Скотт попросил его не держать радиослушателей за дураков и дать прямой ответ. Кордингтон слышно поперхнулся — уже давно никто с ним так не разговаривал. Приникнув к радиоприемнику, я поймал себя на том, что болею за Скотта и заклинаю его не дать кардиналу сорваться с крючка. Пусть правда выйдет наружу, думал я. Пусть выйдет вся правда.
— Давайте говорить на конкретных примерах, — предложил Скотт и вспомнил дело отца Стивена Шеррифа. В середине шестидесятых годов тот получил десять лет за растление школьников. Семнадцать учеников предали дело огласке. Четверо из них, не сироты, заявили, что ставили в известность директора школы, но тот пригрозил им исключением.
— Этим занимался мой предшественник, который уже почил, упокой Господь его душу, сказал кардинал Кордингтон. — Я не в ответе за его действия или бездействие.
— Но тогда вы были помощником епископа той епархии, верно? — спросил Скотт.
— Да, верно.
— Значит, прежде чем дело отправилось к кардиналу, оно попало к вам.
— И я передал его в полномочные органы.
— То есть в полицию? — уточнил Скотт.
Повисла пауза. Все понимали, что кардинал имел в виду другое.
— Я передал его в церковные полномочные органы, — тихо ответил он.
— Не в полицию?
— Нет.
— Почему?
— Это не входило в мои обязанности.
— Погодите. Вы узнаёте о преступления и не считаете себя обязанным о нем сообщить? Скажем, вы заглянули к нам в аппаратную и увидели, как один сотрудник ворует деньги из кошелька коллеги. Вы промолчите?
— Я сообщу вам. А вы уж разбирайтесь.
— А если я скажу, это пустяки?
— Тогда я решу, что вам виднее.
— Почему школьникам, которые не сделали ничего дурного, грозили исключением? — спросил Скотт.
— Нельзя не учитывать временной контекст, — спокойно сказал Кордингтон. — Упомянутые вами события происходили десятилетия назад…
— И продолжались до девяностых годов, — вставил Скотт.
— Хронология мне не известна. Но не забывайте: это был единичный случай. И потом, нет оснований полагать, что мальчики сказали правду.
— Как нет оснований подозревать их во лжи.
— Мальчишки… Порой они очень… — Кардиналу хватило ума не закончить фразу.
— В докладе Мёрфи сказано, что вы лично занимались одиннадцатью разными делами, по которым были поданы иски. Так ли это?
— Я не читал доклад целиком, Лиам. Но, раз вы говорите, видимо, так и есть.
— Вы не прочли доклад?
— Нет.
— Позвольте узнать почему? — после короткой паузы спросил ведущий. В голосе его слышалось искреннее удивление.
— Он очень большой.
— Вы шутите?
— Я занятой человек, Лиам. Вы, конечно, это понимаете. Столько обязанностей, что просто не хватает времени. Довольно того, что я прочел важные куски доклада и серьезно над ними подумал.
— Тот случай вы назвали единичным, но ведь это не соответствует истине?
— Соответствует. Прежде вышеупомянутый священник ни в чем не обвинялся.
Скотт помолчал, дав время себе и слушателям разобраться в кардинальской логике.
— И оттого семнадцать пострадавших становятся единичным случаем? — недоуменно спросил он.
— Послушайте, это было плохо. Спору нет. И теперь все мы это понимаем. Я очень сожалею о том, что произошло. Очень сильно сожалею.
Ему бы, дураку, на том и закончить, ведь он вроде как принес извинения, но кардинал, заигравшись, сослался на другие времена.
— Что вы хотите сказать? — насторожился Скотт. — Что в пятидесятые годы растление детей было в порядке вещей? Или в шестидесятые, семидесятые?
— Нет, разумеется. Но тогда мы не знали того, что знаем сейчас, — извернулся кардинал, и я представил, как его прошибло потом. — Тогдашние иерархи еще не ведали, как обойтись с подобными делами, представленными на их рассмотрение.
— То есть вы обвиняете своего предшественника на посту примаса Ирландии в бездействии? Вы можете во всеуслышание сказать, что он был не прав?
— Могу: он был не прав, — чуть помешкав, произнес кардинал. — Да, в этом я его укоряю. Обвинение — слишком суровое слово. Не мое дело обвинять, хотя вы, как видно, с этим не тушуетесь.
Пошла реклама. Что-то о страховании жилищ. Где заменить ветровое стекло, треснувшее от угодившего в него камушка. Затем программа вернулась в эфир.
— Если не возражаете, мы перейдем к следующему делу, — сказал Скотт и добавил, что в студию поступает много звонков, но радиослушатели смогут высказаться только после окончания беседы. — Дело Тома Кардла.
И тут кардинал вновь совершил ошибку.
— Отца Тома Кардла, — поправил он.
«Ты вообще думаешь, прежде чем говорить? — поразился я. — Как же ты умудрился стать кардиналом, когда у тебя в башке, похоже, ни одной извилины?»
— Историю спустили на тормозах, — продолжил Скотт, — и вам это известно, поскольку, как говорится в докладе, о преступлениях Кардла вы знали еще в 1980 году. Вы были епископом в Голуэе, втором месте службы Кардла, и получили жалобу от родителя пострадавшего ребенка, но решили замять дело и, сговорившись с епископами Арды и Клонмакнойса, перевели Кардла в Белтурбет. Что вы можете об этом сказать?
— Во-первых, тогда я только начал службу епископом и дел было невпроворот. Я не имел никаких доказательств того, что отец Кардл замешан в чем-то непотребном. Я считал его усердным молодым священником, который приносит большую пользу. Прихожане его любили. Когда потребовалось срочно закрыть вакансию в Каване, я рекомендовал отца Кардла, ибо слышал о нем только хорошее. Вот так все совпало, и только.
— Однако в Голуэй его перевели всего после года службы в Литриме?
— Возможно. Я не помню.
— Именно так.
— Что ж, поверю вам на слово.
— Год — не слишком ли короткий срок службы в первом приходе священника?
— Пожалуй.
— Тогда почему его убрали из Литрима?
— Не знаю, — сказал кардинал. — Меня это не касалось.
— Вероятно, после жалобы, поступившей на него в Голуэе, его перевели в Белтурбет.
— Нет, это полная чушь.
— То есть в вашу бытность епископом Голуэя никаких заявлений на Кардла не поступало?
— Я не помню, Лиам. Это было очень давно, я отвечал за многих священников. Всего просто не упомнишь.
— Остается фактом, что за двадцать пять лет службы Кардл сменил ни много ни мало одиннадцать приходов. Из доклада Мёрфи явствует, что в каждом приходе на него поступала по крайней мере одна жалоба. В некоторых приходах — несколько жалоб, но до суда не доходило. Родителям угрожали, требуя забрать заявления, иначе им откажут в святом причастии, детей не примут в католическую школу и вообще устроят веселую жизнь. О собственном магазине им лучше забыть, ибо никто не станет покупать у тех, кого заклеймили священники.
— Об этом мне ничего не известно, — хмуро отозвался кардинал.
— Знаете, что это напоминает? — Голос Скотта был ровен и спокоен. — Мафию. Запугивание, шантаж, вымогательство. Читаешь, до чего докатилась Церковь, и как будто смотришь «Клан Сопрано». Вы это понимаете? Если б марсианин ознакомился с докладом Мёрфи, он бы решил, что ради защиты интересов Церкви вы с вашими дружками ни перед чем не остановитесь. И неважно, кто при этом пострадает.
— По-моему, это нелепое утверждение, Лиам, — сказал кардинал. — При всем уважении, вы опошляете нечто весьма серьезное.
— Но ваши подчиненные угрожали родителям, — не сдавался Скотт. — Либо они действовали по вашим приказам и приказам церковных верхов, и тогда вы полностью виновны как соучастник преступного заговора, либо все происходило без вашего ведома, и тогда вы просто ротозей, не достойный занимать ответственный пост. Такая оценка справедлива?
И вновь кардинал решил вырыть себе могилу поглубже:
— Если б я искал справедливости, неужели я бы пришел к вам на передачу? Ведь вы, журналисты, не вполне беспристрастны, верно?
Скотт среагировал молниеносно. Зубы у него прорезались в дебатах с премьерами типа Чарли Хоги и Гаретта Фицджеральда, и за двадцать лет он отточил их в стычках с политиками вроде Берти Ахерна и Джерри Адамса, а потому за словом в карман не лез. Ему бы в адвокаты — Церковь наняла бы его мгновенно.
— Вы хотите сказать, все это журналистские выдумки? — спросил Скотт. — Все иски состряпала «Айриш таймс»? Или «Айриш индепендент»? Может, ТВ-3? Или «Тудей ФМ»? «Ньюс-ток»? Может, все ирландские средства массовой информации? Вы обвиняете нас?
— Нет, Лиам, нет. — Кардинал струхнул. — Вы меня не так поняли.
— Вы со своими подельниками-епископами переводили растлителя Тома Кардла из прихода в приход, потому что знали о его преступлениях?
— Знай мы о них, так, пожалуй, и поступили бы. Или лучше было бы его не трогать, что ли?
Господи помилуй! Я покачал головой. Да замолкни ты, наконец!
— Лучше было бы известить полицию! — Впервые Скотт возвысил голос.
— Конечно, конечно. Что мы и сделали. В свое время.
— Вы этого не сделали. Полиция вас известила.
— Перестановка слагаемых.
— Неужели все это вас не возмущает? — спросил Скотт, и только сейчас я отметил, что он ни разу не назвал собеседника «вашим святейшеством».
— Разумеется, возмущает, — помолчав, сказал кардинал. — Я же не идиот.
— И вы понимаете, почему церковники вызывают такую злобу?
— Вот это мне трудно понять, — тихо ответил Кордингтон, и я наконец уловил искренность в его голосе. — Я думал об этом, Лиам. Еще бы не думать. Я честно пытался понять. Я вовсе не такое чудовище, каким меня представляют ваши коллеги. Но я не понимаю. Не понимаю, как любой человек, не говоря уже о священнике, может на этакое сподобиться. И я гадаю, когда мир так переменился. В моем детстве ничего похожего не могло случиться ни со мной, ни еще с кем-то. Священники были очень достойные люди. — Он потерянно вздохнул, и меня даже кольнула жалость к нему. — Признаться, порой мне кажется, что я заснул в одной стране, а пробудился совсем в другой.
— Народ считает, вы обо всем знали, но покрывали злодейства.
— Нет, народ ошибается.
— Предположим, вы знали о злодеяниях Тома Кардла и оттого переводили его с места на место. — Скотт попробовал зайти с другого боку. — Согласитесь, что тогда вы превращаетесь в соучастника преступлений.
Кардинал задумался.
— Я не могу вам ответить.
— Почему?
— Ваш вопрос затрагивает юридическую сферу, в которой я не силен.
— Скажите, перевод священника документально оформляется епископом или требуется одобрение начальства?
— Вообще это прерогатива епископа, — сказал кардинал. — Но затем бумаги идут на подпись к примасу Ирландии. Вот сейчас я подписываю документы, полученные от епископов. Но это чисто бюрократический момент. Примас подмахнет любое перемещение, предложенное епархией. Нет причин возражать.
— И далее оповещают Рим о новых назначениях?
— Да, конечно.
Скотт выдержал паузу.
— Следовательно, папа знал обо всех переводах и преступлениях, утаенных от полиции? Он был в курсе всего?
— Пожалуйста, проявите хоть каплю уважения, Лиам. Папа умер и не может за себя постоять.
— Ему докладывали о преступлениях?
— Кто знает.
— Он одобрял перемещения?
— Не ведаю.
— Он понимал, что происходит?
— Не могу вам сказать.
— Если знал, он, выходит, по уши виновен. И был если угодно, мозгом операции. Этаким главарем банды. И тогда он всех гаже.
Кардинал ахнул. Я тоже. Невероятное заявление. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу подобное по национальному радио. Не потому, что это была правда. Я не верил, что найдется журналист, кому хватит духу ее сказать.
После таких слов оставалось только принимать звонки в студию. Следующие полчаса были вполне предсказуемы: одни говорили о своем отвращении к банде преступных извращенцев, заговором молчания отгородившихся от людей, другие поносили лопавшиеся от ненависти радиостанции и газеты, которые вознамерились уничтожить Церковь и которым хватало наглости оскорблять досточтимого кардинала Кордингтона. Позвонил один потерпевший, он говорил спокойно и разумно: пятнадцать лет назад его отец заклинал кардинала, тогда еще епископа, расследовать то, что он узнал от своего мальчика, но безрезультатно. Кардинал ответил, что этого не помнит, хотя, конечно, тогда ничего не предпринял.
Час программы истекал, приближалось время новостей. Скотт поблагодарил кардинала за беседу, и тот ответил, что всегда рад обратиться к народу, в голосе его слышалось облегчение, что единственное в его жизни судилище наконец-то завершилось. Однако Скотт успел задать последний вопрос:
— Вас совесть не мучит? Вам хоть чуть-чуть стыдно за все, что натворила ваша Церковь? Бесконечная череда насилий, преступное замалчивание, исковерканные и оборванные жизни. Раскаяние в вас даже не теплится?
— Во мне теплится лампада Святого Духа, — ответил кардинал. — И твердая вера, что пути Господни неисповедимы.
Спокойной ночи. Я выключил радио и занялся своими делами. Больной неизлечим.
Уже перевалило за полдень, когда самолет приземлился в аэропорту Гардермуэн в тридцати милях от Осло. В иллюминатор я увидел фьорды и одинокую моторку — разрезая водную гладь, она оставляла шлейф дыма, устремлявшийся к городу. Я получил свой багаж и огляделся в поисках указателя выхода к железнодорожной платформе. Вспомнилось, как тридцать лет назад меня встречала делегация Рамсфйелдов, прибывшая на машине, этаком продукте зари автомобилизма, и тот сплошной кайф, каким стала наша двухчасовая поездка в Лиллехаммер. Кристиан приехал с дядюшкой и двумя кузенами, Эйнаром и Свейном.
Помню, я все поглядывал на Свейна, пытаясь разгадать в нем некое знание о мире, которого сам я лишен. Я ему слегка завидовал.
В дорогу дядя Олаф взял две бутылки водки «Викингфьорд», которые мы опустошили и в Лиллехаммер прибыли маленько расхлябанные. Ханна уже неделю жила в доме жениха и, увидев, как мы, глупо хихикая, вываливаемся из машины, принялась нас шпынять: как так можно, а если б авария? Но вот же мы, целые и невредимые.
Сейчас я ехал один и, откинувшись на удобном вагонном сиденье, смотрел на пейзаж, проплывавший за окном. Мне было хорошо и спокойно, хотя я знал, что по мере приближения к цели моего путешествия покой начнет пропадать.
Ни на миг не исчезавшее море и безмятежные лесистые холмы, на которых кое-где угнездились деревеньки, меня завораживали. Продолговатые скирды сена, укрытые белой пленкой, напоминали мороженое выставленное подтаять на полуденном солнце. Ничего удивительного, что Кристиан всю жизнь мечтал сюда вернуться.
На полпути поезд сделал остановку в Тангене, где вышли несколько человек из моего вагона. Новыми пассажирами стали женщина лет тридцати и ее сын, белоголовый малыш лет семи, не больше, словно сошедший с рекламы норвежского туристического агентства. Они сели рядов через шесть от меня; сперва мальчик устроился рядом с матерью, потом перебрался на сиденье напротив нее, а затем, послонявшись по вагону, подсел ко мне. Не обращая на него внимания (здесь вам не Ирландия, народ не осатанел от страха), женщина через наушники слушала музыку и листала газету.
— Хей! — широко улыбнулся малыш.
— Привет, — ответил я, тотчас встал и через вагоны прошел в хвост поезда, где сел на свободное место у окна.
Вот как теперь я поступаю. Не рискую.
В половине пятого я уже был в Лиллехаммере. Оставив чемодан в камере хранения, я развернул карту и освежил в памяти заранее выписанный маршрут.
Разумна ли моя затея? — думал я. Или это очередная ошибка?
Путь был неблизкий, более получаса ходу, но я хотел собраться с мыслями и зашагал к домам на вершине холма, у подножия которого раскинулся музей под открытым небом Майхауген. В тот приезд Эйнар и Свейн водили меня знакомиться с норвежским историко-культурным наследием: гумна, деревянные церкви, юноши и девушки в нарядах девятнадцатого века. Петлистая дорога бежала вдоль ухоженных садов и посадок деревьев, служивших границей меж соседями, а потом за очередным поворотом я увидел коричневого кинг-чарльз-спаниеля, что-то вынюхивавшего на лужайке перед воротами; пес взглянул на меня, и я вдруг понял, что добрался до места.
В компании спаниеля, радостно трусившего следом, я прошел по подъездной дорожке мимо машины, припаркованной перед домом. Меня будто кольнуло, когда я заметил в ней детское сиденье.
В ответ на мой звонок в доме залаяла еще одна собака, и женский голос на нее прикрикнул на неведомом мне норвежском. Потом женщина открыла дверь и, увидев незнакомца, чуть нахмурилась — вероятно, приняла меня за торговца, или свидетеля Иеговы, или предвыборного агитатора.
— Хей, — сказала она. Мой провожатый шмыгнул в прихожую, но почти сразу вернулся с пластмассовым кроликом в зубах, которого гордо мне продемонстрировал. Второй пес, тоже кинг-чарльз, притопал к порогу и зевнул.
— Здравствуйте, — ответил я.
Женщина тотчас перешла на английский:
— Что вам угодно?
— Здесь живет Эйдан Рамсфйелд?
— Да.
— Если можно, я бы хотел с ним поговорить.
— Он еще не вернулся. Вот-вот будет. А вы…
— Одран Йейтс, — сказал я. — Его дядя.
Женщина удивленно приоткрыла рот.
— Ах так. Ну ладно. Эйдан знает о вашем приезде? Он ничего не говорил.
— Нет, не знает. Для меня самого это как-то неожиданно решилось. Дай, думаю, съезжу, вдруг застану если он не укатил в отпуск.
— В отпуск? — рассмеялась женщина. — Это была бы неслыханная удача. — Она отступила, пропуская меня в дом, и на столике в прихожей я заметил докторский саквояж, явно принадлежавший хозяйке.
Мы помолчали, разглядывая друг друга.
— Извините, я не представилась, Женщина протянула руку: — Марта. Жена Эйдана.
— Одран.
— Да, вы сказали. Пожалуйте в дом.
Следом за ней я прошел в большую гостиную, где на стене висел недурной пейзаж. А ведь я уже видел эту реку, вот только где? Может, нынче проезжал в поезде?
— Вам нравится? — спросила Марта, заметив мой взгляд. — Мост Систо в Риме. Там мы провели медовый месяц. Я купила на память.
— Да, нравится, — сказал я, охваченный воспоминаниями. Я отвернулся от картины и увидел двух ребятишек, рассматривавших меня, — мальчика лет четырех и девочку примерно двух лет.
— Дети, это Одран, — сказала Марта. — Он папин… — Она замялась и повторила: — Одран. А это Мортен и Астрид.
— Здравствуйте, — сказал я.
— Хей! — хором крикнули брат с сестрой. Я улыбнулся. Прелестные малыши.
— Что вам показывают по телику? — спросил я.
Мортен выдал длинную цепь норвежских слов, подкрепленных жестами; закончив, он глубокомысленно кивнул и вновь уставился в телевизор.
— Круто. — Я покачал головой и обратился к Марте: — Извините, что явился без уведомления.
— Ничего, — сказала она. — Хотите чаю?
Кухня блистала чистотой, хоть готовка ужина была в самом разгаре.
— Ничего не случилось? — спросила Марта. — Ханне не хуже?
— Нет-нет, все в порядке.
— Как Джонас?
— Насколько я знаю, прекрасно. Он, кажется, в Гонконге.
— Везет ему. Садитесь, пожалуйста.
Я сел, через минуту-другую Марта поставила передо мной чашку с чаем. Я прихлебывал чай, не зная, о чем говорить.
— Ну вот. — Марта села напротив.
Зачем я здесь? — подумал я. У нее хороший дом, семья, двое чудесных обласканных детей, пара дружелюбных собак. На кой черт я притащил всю эту боль к ее порогу?
— Наверное, я пойду, — сказал я. — Не хочу вам мешать.
— Вы не мешаете. Ничуть.
— Понимаете, я должен был приехать. — Груз прошлых лет давил все сильнее. — Мне надо с ним увидеться. Объяснить.
— Что — объяснить?
Я посмотрел ей в глаза и покачал головой. Если у меня нет слов для нее, как же я собираюсь говорить с ним?
На лицо ее набежала тень, стерев улыбку. Марта хотела что-то сказать, но в двери скрежетнул ключ, и я вскочил, объятый страхом, что наступает момент, который я, возможно, не переживу. Марта негромко окликнула мужа. Эйдан шел в кухню.
— Что за день! — говорил он. — Эйнар затянул с накладными, а когда все же закончил, взял и…
На пороге он смолк, а на меня обрушилось многолетнее нагромождение лжи и обмана, страданий и жестокости, к которым и я приложил руку, ибо кто, как не я, оставил племянника на растерзанье упырю?
Меня скрутило болью, я рухнул на стул и зашелся в рыданиях.
— Прости… — давясь словами, выговорил я вместо приветствия. — Я не знал… клянусь… пожалуйста, прости… я не знал… — Голос мой осекся, я стал бесформенной кучей из слез, слюней и соплей, Марта, пораженная разыгравшейся сценой, зажала рукой рот, а Эйдан, добрый человек, стократ лучше, чем все они вместе взятые, поставил сумку на пол, подошел ко мне и, обняв за плечи, притянул к себе.
— Перестань, дядя Оди, — сказал он. — Не плачь. А то я сам заплачу, и меня уже не остановишь.
Через два дня мы встретились в Осло, в тот вечер вскоре я покинул дом племянника. Когда эмоции немного улеглись, возникла напряженность: Эйдан, уставясь в пол, молчал, Марта поддерживала светскую беседу, и я стал прощаться.
— Я свалился как снег на голову, — сказал я. — Надо было, конечно, уведомить о моем приезде. Может, как-нибудь на днях свидимся, если надумаешь?
От работы на воздухе лицо Эйдана загорело и обветрилось, трехдневная щетина как будто замерла в своем росте. У него глаза Кристиана, думал я, а взгляд точно как у Ханны, когда она посматривает украдкой. Малыш-весельчак бесследно сгинул, превратившись в стопроцентного мужика.
— Ты надолго приехал? — наконец спросил Эйдан.
— Пробуду, сколько надо, — сказал я. — Номер в отеле забронирован на несколько дней, но если ты скажешь: «Вали в свой Дублин», я так и сделаю.
Эйдан только невозмутимо кивнул. Я глянул на Марту, но она явно не собиралась вмешиваться.
— Я оставлю свои координаты. — На листке я записал адрес отеля. — Позвони, если захочешь поговорить.
На том мы и распрощались.
На другой день я гулял по городу, рассеянно осматривая достопримечательности и разглядывая молодых путешественников, обладателей европейского железнодорожного билета. Интересно, думал я, каково было бы вновь стать двадцатилетним сейчас, в 2012-м, когда все вокруг иное? Но потом отогнал эту мысль, сулящую одно расстройство. К вечеру я зашел в собор и поставил свечку перед деревянным изваянием Мадонны с Младенцем, а вернувшись в гостиницу, получил сообщение от Эйдана: завтра по делам он будет в Осло и, если мне удобно, в семь вечера мы могли бы встретиться в баре в районе Акер-Брюгге.
Когда на следующий вечер я разыскал этот бар, Эйдан уже был там — за пивом просматривал спортивный раздел газеты. Заметив меня, он чуть улыбнулся:
— Непривычно видеть тебя в обычной одежде. Я помню тебя только в униформе.
— Распахнутый воротничок мне не идет, — отшутился я.
— Пиво будешь?
— Буду.
Эйдан помахал официанту, и я обрадовался прибытию высоких стаканов. Во рту у меня пересохло, а пиво давало отсрочку, чтобы немного прийти в себя.
— Твоя Марта, похоже, классная, — сказал я.
— Да.
— Она врач?
— Педиатр, — кивнул Эйдан. — У нее своя практика в Лиллехаммере.
— Но это не с ней ты когда-то давно жил в Лондоне?
— Нет, там все закончилось. С Мартой я уже здесь познакомился.
— А сам чем занимаешься?
— Владелец строительной компании. Вернее, совладелец. На паях с кузеном Эйнаром.
— Я его помню, — сказал я. — По свадьбе твоих родителей.
— Нет, на свадьбе был его отец. Эйнару всего двадцать. Он Эйнар-младший.
— Понятно. По дороге из аэропорта мы с твоим отцом, Эйнаром и Свейном напились водки. Приехали тепленькие. Как поживают Эйнар и Свейн?
— У Эйнара все хорошо, он живет неподалеку от нас. А вот Свейн недавно умер. Рак.
Меня накрыло невыразимой печалью по человеку, с которым я был едва знаком тридцать лет назад.
— Ужасно. Ведь он совсем не старый.
— Нет. Сорок с небольшим.
— Он был женат?
— Дважды. Оба раза неудачно.
Я вздохнул.
— А у тебя дети. Мортен и Астрид.
— Да, и что?
— Нет, ничего. Просто было приятно их увидеть.
Эйдан кивнул, хорошо глотнул из стакана и посмотрел в телевизор в углу бара, передававший футбол. Потом нахмурился и уткнул взгляд в столешницу, корябая ногтем желобок на ее краю.
— Наверное, стоило сначала написать тебе, — проговорил я. — Может, так было бы лучше.
— Я уже давно тебя жду, — вдруг сказал Эйдан.
— Правда?
— Джонас говорил, что ты спрашивал мой адрес. Я думал, ты сразу приедешь.
— Я не знал, захочешь ли ты меня видеть. Столько лет минуло с нашей последней встречи. Так много всего произошло.
— У меня — да. А вот в твоей жизни, наверное, никаких перемен?
Я отвернулся. Что это, умышленная бессердечность? Или просто констатация без всякого подтекста? В общем-то, он прав. За исключением того, что теперь я служил не в школе, а в приходе, в моей жизни мало что изменилось.
— Я закажу еще пива. — Я поймал взгляд официантки, и та мигом принесла две пинты.
— Не гони, — сказал Эйдан. — Мы только начали.
— Ничего, я поел, а выпить мне очень и очень нужно.
Мы чокнулись.
— Sláinte[38], — сказал я.
— Skål[39], — ответил Эйдан.
Повисло молчание, казавшееся бесконечным.
— Ты видел Гранд-отель? — наконец спросил Эйдан.
— На площади? Да, видел.
— Каждый декабрь в нем останавливаются лауреаты Нобелевской премии мира. Мы с Мартой всегда приезжаем на церемонию и берем номер в том же отеле. Вот так, кстати, мы с ней и познакомились. В гостиничном баре. В тот год премию получил Мохаммед Эль-Барадеи, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии. На другой день после церемонии он, видимо, решил расслабиться в баре, а тут Марта подходит ко мне, протягивает камеру и просит их вдвоем щелкнуть. Ну, я щелкнул и говорю, мол, а теперь меня с ним. Эль-Барадеи был в таком хорошем настроении, что угостил нас выпивкой. Потом он ушел, а мы с Мартой все говорили и говорили. С тех пор и не расстаемся.
— Неужели каждый год приезжаете?
Выкидывая пальцы, Эйдан стал перечислять лауреатов, и я понял, что у них с Мартой это игра, сложность которой возрастает с каждым новым именем в списке.
— На следующий год премию получил Мухаммад Юнус, бангладешский банкир, следом Эл Гор, потом финн, чье имя я никогда не запомню, за ним Барак Обама, но тогда нас в отель не пустили — режим безопасности и все такое, потом…
— Эйдан, — тихо перебил я и, положив руку на стол, прикрыл глаза.
Он смолк и покачал головой:
— Не надо это ворошить.
— Нет, надо. Поэтому я здесь.
Эйдан посмотрел мне в глаза:
— Ты знал?
— Ты же не поверишь. Подумаешь, я вру.
— Скажи — и я поверю.
Я покачал головой:
— Я не знал. Бог свидетель, мне и в голову не приходило. Лишь пару месяцев назад я понял, что тогда произошло. Я смотрел «Программу для полуночников», и там была женщина с сыном, она адвокат, работает с жертвами насилия. Ну вот, она говорила о сыне, о его детстве, потом рассказала о том, кто над ним надругался. Слушать было ужасно, Эйдан, просто ужасно. И тут ведущий спрашивает, неужто она не подметила перемены в сыне, не поняла, что с ним что-то не так. Подметила, отвечает, только списала на переходный возраст. Он, говорит, всегда был такой весельчак, такой, говорит, живчик, всех заряжал энергией, таким уж, говорит, уродился. А потом, говорит, вдруг изменился. В один миг. Был полон радости, стал полон злости. Я как это услышал, Эйдан, то вскочил и опрокинул на себя полную кружку горячего чая, внутри у меня что-то лопнуло, комната поплыла перед глазами, и я подумал, что умираю. Честное слово, я думал, у меня инфаркт или инсульт. Воротничок душит, я его дергаю и не могу расстегнуть. Просто впился в шею. Я уже хриплю, задыхаюсь и тут рухнул на пол и, видимо, обеспамятел. Сосед-священник проходил через холл, увидел, что со мной творится, сорвал с меня воротничок, дал воды. Хотел послать за врачом, но я сказал — не надо, сам оклемаюсь, и ушел к себе. Сидел я на кровати и думал о тебе, Эйдан. Вспоминал тебя маленького, твои песни, твой степ, твои прибаутки и как ты вдруг резко изменился, и тогда вспомнился тот вечер после похорон моей мамы…
— Хватит. Пожалуйста. Не надо. — Эйдан сидел бледный, зажмурившись.
По лицу моему катились слезы, я достал платок.
— Это тогда случилось?
— Да.
— И было один раз?
— Да.
— Ты мне расскажешь?
Эйдан помотал головой:
— Нет.
— Я не знал, Эйдан. — Я подался вперед: — Клянусь всем святым, что у меня есть, я не знал. Знай я, что Том такой, я бы никогда…
— Не произноси это имя. Он для меня не существует.
Меня замутило от гадливости ко всему, во что всю жизнь я верил. И ненависти, искренней ненависти к своему лучшему другу.
— Я очень виноват, — выговорил я. — И мне ужасно стыдно.
— Не казнись. — Сказано это было мягко, словно Эйдан готов простить. — Ты ни при чем.
— Я оставил тебя с ним.
— Ты не мог знать, что случится.
— Я твой дядя. — Казалось, меня раздавит невообразимый гнет того, через что прошел бедный малыш. — Я должен был за тобой приглядеть. Уберечь тебя.
Эйдан внимательно посмотрел мне в глаза:
— Ты не догадывался?
— Нет.
Он покачал головой и повторил:
— Не догадывался?
— Нет.
— Трудно поверить. Я не собираюсь тебя уличать, но и лукавить не буду. Верится с трудом.
— Неужели ты думаешь, я бы оставил тебя с ним?
— Возможно, ты боялся ему перечить.
— И поэтому ты меня возненавидел? Поэтому отдалился? Ты винишь меня в том, что случилось.
— Нет, виновен он. Но в наш дом его привел ты. И оставил меня с ним. Я понимаю, ты чувствуешь свою вину и ты не в ответе за поступки другого человека. Но я жил с этим двадцать лет. Рана той ночи не затянется до самой могилы. И забыть о твоем участии нелегко.
Я кивнул. Отер ладонями мокрые щеки.
— Мне нечем тебе возразить, — сказал я. — Ты прав. Я привел его в твой дом. Я оставил тебя с ним. Ты мой племянник, и я должен был оградить тебя от беды. Скажу одно: это самый большой грех в моей жизни. Каюсь.
— Я это знаю.
Взгляд его чуть потеплел, и я понял, что он больше не гневается, но не может напрочь забыть о пережитом и полностью меня простить. Но появилась какая-то надежда. Для нас.
— Можно вопрос? — помолчав, спросил я.
— Давай.
— Почему ты не приехал? Почему не выступил на суде?
Эйдан пожал плечами:
— Меня никто не звал.
— Но ты же читал газеты. Наверняка ты знал о процессе. Знал? Тогда почему не заявил о своем случае?
Эйдан задумался.
— Да, я знал о суде, — сказал он. — Возможно, надо было заявить. Это трудно объяснить. Я научился по-своему с этим справляться. Ходил по психологам. Правда, толку от них было чуть. А вот Марта помогла. Я нашел свой способ от этого избавиться. Думаешь, мне хотелось ехать в Ирландию и на суде заново все пережить? Нет. Наверное, это неправильно, но я не хотел. Я знал, что и без меня свидетелей хватит, чтобы отправить его за решетку, а дышать с ним одним воздухом было бы невыносимо. Окажись мы в одном зале, кто-нибудь из нас стал бы покойником. А у меня сын. И дочь. Я сделал выбор. Когда начался суд, я с детьми поехал в Лиллехаммер. Устроил себе маленький отпуск. Целые дни мы проводили втроем. Я катал их на лодке. Водил по Майхаугену, пока не взмолились — хватит, устали. Потом к нам приехала Марта и поездом мы укатили в Стокгольм, где провели четыре самых прекрасных дня. Что лучше: ехать в Дублин и погрузиться в зловонное варево или быть с теми, кого ты любишь и кто любит тебя? Ответ очевиден.
Да, тут не поспоришь.
— Теперь все закончилось, но ты не вернешься?
— В смысле, насовсем?
— Да.
Эйдан покачал головой:
— Я не буду жить в Ирландии. Эта страна прогнила. Насквозь. Извини, но это вы, церковники, ее уничтожили.
Я промолчал. Сказать, что он ошибается? А я в этом уверен?
— Джонас все знает? — спросил я.
— Да. Я давно ему рассказал.
— Той ночью с ним ничего не случилось?
— Нет.
— А матери ты говорил?
Эйдан помотал головой:
— Никогда. Но, думаю, она знала.
Я вспомнил слова Ханны по дороге в лечебницу.
— Наверное, знала. Ты пустишь меня в свою жизнь? — спросил я, страшась ответа.
Но тут в матче, который шел по телевизору, кто-то, видимо, забил гол, ибо все вокруг заорали. Эйдан глянул на экран и тоже завопил. Я переждал крики и повторил вопрос:
— Ты пустишь меня обратно?
Эйдан сглотнул и, глубоко вздохнув, прикрыл глаза. Я молча ждал. Казалось, минула вечность. Наконец он открыл глаза и тормознул пробегавшую официантку:
— Еще пиво, пожалуйста.
— А вашему другу? — спросила девушка.
— Вообще-то он мой дядя. Да, ему тоже. Заодно принесите меню. Мы вместе поужинаем.
Официантка кивнула, а я опустил взгляд и не сразу смог оторвать его от стола.
— Расскажи о своих детях, — попросил я после паузы. — Как можно подробнее.
Эйдан просветлел, и я вновь увидел прежнего мальчика, полного жизни, радости и любви. Он вовсе не сгинул, но прятался за болью. И тотчас появился, стоило упомянуть малышей, которые сейчас, наверное, клубочком свернулись на диване и под храп уснувших собак слушали мамину сказку.
Глава 16 2013
Я прослышал, что отец Муки Нгезо возвращается в Нигерию, и записался на прием к новому архиепископу, чтобы выяснить, могу ли я наконец вернуться в Теренурский колледж.
После назначения нынешнего главы епархии это был мой первый визит в Епископальный дворец, претерпевший разительные изменения: ветхозаветную роскошь сменил современный деловой стиль, буфет с напитками убрали, вместо него на столе, которому самое место в галерее современного искусства, красовался огромный компьютерный монитор. Из приемной исчез отец Ломас, верой и правдой служивший архиепископу Кордингтону, теперь здесь расположились два стола, снабженные системой связи, которой не погнушались бы и в НАСА. За одним столом сидел молодой человек в костюме, бритоголовый, но с брутальной щетиной, представившийся личным помощником архиепископа, за другим — девица, словно только что сошедшая с подиума; оказалось, она — епархиальный пресс-секретарь.
— А где отец Ломас? — поинтересовался я.
— Джеймса перевели, — ответила девица. — Мы стараемся использовать наши ресурсы продуктивнее.
— Верное решение, — сказал я.
Девица усадила меня в кресло, само на себя не похожее, и насильно угостила капучино. Пока я ждал, она приняла несколько звонков, разговаривая через телефонную гарнитуру и взмахивая руками, точно дирижер.
— Вы есть в твиттере? — спросила девица.
— Простите?
— Вы есть в твиттере? — повторила она. — Не могу вас найти. Или вы под ником?
— Меня там нет. — Я старался не засмеяться. — Да и о чем мне щебетать? Никому не интересно, что я склевал на завтрак.
— Вот всеобщее заблуждение о предназначении твиттера, — закатила глаза девица.
— Племянник советовал завести страницу на фейсбуке, да я все никак не соберусь.
— И не надо. Нынче не 2010-й.
К счастью, на столе замигал огонек, избавивший меня от продолжения допроса.
— Вас ждут, — сказала девица. — Десять минут, ладно? А то у нас еще беседа на радио.
Я промолчал. Я-то в секретари не нанимался. Буду разговаривать сколько понадобится.
— Отец Йейтс. — Архиепископ пожал мне руку и указал на кресло, развернутое так, что сидящий в нем оказывался боком к хозяину стола и приходилось выгибать шею. Подобное я уже видел, но вот где? — Благодарю, что выбрали время повидаться.
Мы обменялись парой любезностей, и я, помня, что через восемь с половиной минут девица пожелает меня вытурить, сразу перешел к делу. Хочу вернуться домой, сказал я. Хочу обратно в школу.
— По-моему, вы вполне на своем месте. — Покачивание головой архиепископ сопроводил недоуменной улыбкой. — По всем статьям, вы прекрасно справляетесь с приходской работой. Отец Пейтон отзывается о вас очень высоко. Ну зачем вам возвращаться в школу? К этим ребятам. Они вас измучат. Давеча я посетил одно мероприятие в Блэкроке, так мне чуть дурно не стало. 1 км ужасно воняет. Они не моются, что ли? В смысле, мальчишки.
— Посещаемость воскресных месс упала. — Я был готов себя охаять, лишь бы получить желаемое. — Тарелки для пожертвований возвращаются полупустые. Больше нет служек. Правда, решение об их упразднении исходило из вашего кабинета.
— Без них спокойнее, — промолвил архиепископ.
— В общем, ваше преосвященство, мое служение нельзя назвать образцовым.
— Вашей вины в том нет. Мы переживаем трудные времена, не правда ли? Весьма трудные. Последнее десятилетие для Церкви выдалось ужасным. Но таким, как мы с вами, надлежит все восстановить. — Он улыбнулся. — Двигаться дальше.
Овальный кабинет. Вот где я видел такую расстановку кресел. Президент вынуждал собеседников выгибать шею. Видимо, лишний раз напоминал, кто здесь рулевой.
— Кардинал Кордингтон, попросивший меня заняться приходом, обещал, что это лишь временно.
— Вот как, обещал? — Архиепископ недобро прищурился, словно не собирался долго терпеть мое хамство.
— Да. — Я не отвел взгляд. — Обещал.
— Что ж, иногда не получается сдержать обещание.
— А то я не знаю. Все кругом нарушают клятвы, как я посмотрю. Но дело в том, что я шесть лет прослужил в приходе и сыт по горло. Отец Нгезо уезжает в Нигерию, так я, по крайней мере, слышал, а стало быть, есть вакансия школьного священника, и я хочу ее занять. Послушайте, ваше преосвященство, — я перешел на примирительный тон, — ведь я не молодею. Мне скоро шестьдесят. Я хочу закончить свои дни в школе. Мне там хорошо, понимаете? Я много сил вложил в библиотеку. И потом, я всегда ладил с ребятами.
— Сожалею, отец Йейтс, — сказал архиепископ, не прибегая к дурацким обращениям типа «Одран» или «отец Одран». — Но у меня на примете есть весьма способный юноша, который заменит отца Нгезо. Я обещал, что осенью он приступит к работе, и молодой человек этого с нетерпением ждет. Кстати, он дружен с Колином Фарреллом, актером. Они вместе учились в школе. Я думаю, мы устроим встречу Фаррелла с ребятами.
— Что ж, как вы изволили сказать, ваше преосвященство, иногда не получается сдержать обещание.
Улыбка архиепископа застыла.
— Этого не случится. — Он покачал головой: — Уймитесь.
Смехота. Сколько ему лет — сорок, сорок пять? Уймитесь.
— Наверное, вы правы, — сказал я.
— Да, я прав.
— Ведь кардинал Кордингтон просил меня заменить Тома Кардла вовсе не потому, что хотел его спрятать от людских глаз, верно?
— Что такое?
— Да я так, к слову. И еще эти ужасные разговоры об уголовном преследовании кардинала. Во времена Джона Чарльза Маккуэйда такого не произошло бы, уж поверьте. Конечно, генеральный прокурор сказал, что для обвинения не хватает улик. Ну и ладно. Кардинал уверяет, что знать не знал о преступлениях Кардла, и я, допустим, ему верю. А вы? Но вот сейчас вспоминаю, как сидел в этом кабинете, и кажется мне, он подразумевал нечто иное. Кое-что рассказал, но потом спохватился. Дело, говорит, щекотливое, не для огласки. Как вы думаете, что он имел в виду?
— Вы ступаете на очень опасную почву, отец Йейтс, — тихо произнес архиепископ и, глянув на вибрирующий мобильник, выключил его и отпихнул от края стола.
— Почему это? Ведь все останется в этих стенах, правда? Иначе кардиналу пришлось бы многое объяснять, да? Пожалуй, эти стены выдержат осаду. Если, конечно, я не начну говорить. С газетчиком или… — Я выдержал паузу, прежде чем по слогам произнести слово, ненавистное для ирландской Церкви: — Те-ле-ви-зи-он-щи-ком.
Я и впрямь был сыт по горло. Всю жизнь я подчинялся. Сначала Отцу Хотону и маме, потом архиепископу Дублинскому, затем монсеньору Сорли и римским кардиналам, в сентябре семьдесят восьмого принудившим меня к молчанию, хотя надо было во все горло кричать, затем папе-поляку, который раньше срока меня уволил и указы которого я десятилетиями исполнял, прежде чем понял, что он за человек. И будь я проклят, если стану и дальше подчиняться. И уже тем более щенку, который без году неделя в должности. С его чертовыми айфонами, айпэдами и прочей галиматьей. Я сыт по горло. Как и вся страна.
— Сколько вам лет, отец Йейтс? — наконец спросил архиепископ. — Пятьдесят пять?
— Пятьдесят восемь.
— И когда вы собираетесь на покой? В шестьдесят?
— Да нет, на здоровье не жалуюсь. Думаю, в шестьдесят пять. По ирландским законам.
— Еще, значит, семь лет.
— Без досрочного освобождения за примерное поведение.
— Вы расположены шутить? — Архиепископ ожег взглядом, и я отвернулся. Не стоило искушать удачу.
— В школе я хорошо справлялся с работой. — Я старался говорить миролюбиво. — Там я был счастлив. Мне обещали, что я туда вернусь. И я хочу вернуться. Пожалуйста, не препятствуйте мне. Неужели для вас это столь важно?
Архиепископ удрученно вздохнул и всплеснул руками. Он походил на Генриха Восьмого, желавшего, чтобы кто-нибудь его избавил от докучливого священника, и я порадовался, что меня не ждут палач и плаха.
— По-любому, вы вернетесь в школу не раньше сентября. Раз уж вам так неймется.
По-любому. Все вечера он смотрит американские телесериалы, что ли? Взрослый человек, а изъясняется как пацан.
Короче говоря, я вернулся домой. В свою прежнюю комнату, к своим коллегам, в свою библиотеку. Разумеется, книги стояли как попало. Все разделы перепутаны. С помощью пары старшекурсников я довольно быстро все привел в порядок, а потом дал задание двум молодым компьютерным гениям составить полный библиотечный каталог. Они загорелись и стали рассказывать мне о базе данных и широкоформатных таблицах, но я их прервал: ребята, сказал я, мне это совсем не интересно, просто сделайте работу и получите мою безмерную благодарность.
Из прежних учеников никого, конечно, не осталось. Те, кто в год моего ухода были первашами, теперь учились в Тринити-колледже или Дублинском университете или уехали за тридевять земель воевать у талибов. Новые ученики удивились появлению какого-то старика, хотя прошел слух, что он протрубил в школе двадцать лет, а потом взял и укатил в отпуск. Они не знали, что я был всего лишь на другом берегу Лиффи. Вообще байки обо мне ходили самые разные: в Гластхуле я сожительствовал с женщиной, но отношения наши закончились; я был парламентским депутатом от партии «зеленых», но проиграл выборы; я был женат на гомике; никакой я не священник, а монахиня, сделавшая себе операцию по перемене пола. Ребята мне льстили. В моей жизни не было ничего столь захватывающего. Как ни жаль.
Сразу после Рождества умерла Ханна. В церкви Доброго Пастыря Джонас, Эйдан, Марта, Мортен и Астрид сидели на передней скамье, а я, стоя перед алтарем, говорил о сестре и нашей с ней жизни.
Я рассказал, как целый год, с семьдесят третьего по конец семьдесят четвертого, каждую неделю она писала письма Роберту Редфорду, посмотрев «Какими мы были», где в финале он целует Барбру Стрейзанд перед нью-йоркским отелем «Плаза», но потом решила больше не тратить на него время. На международные марки она угрохала целое состояние (и я не ведаю, где она доставала деньги), но Роберт Редфорд, к его великому стыду, ни разу ей не ответил. А ведь скромная открытка была бы для нее счастьем.
Я рассказал, как на пляже Карраклоу, куда однажды мы выехали всей семьей, я и братец Катал по шею закопали сестру в песок, она от страха вопила, а мама меня отшлепала, сказав, что несчастные случаи вот так и происходят.
Я рассказал, как она присылала мне в Рим ирландские гостинцы, по которым я скучал и которых не достанешь в Италии, — чипсы «Тейто», лимонад «Лукозейд», чай «От Бэрри», шоколадки «Керли-Уэрли»; для меня много значили эти посылки, обходившиеся сестре куда дороже ее писем к Роберту Редфорду.
Я сказал, что она произвела на свет и хорошо воспитала двух замечательных сыновей. Вот один — я показал на скамью, — в Норвегии у него свое дело, он любящий муж и отец. А вот другой, сказал я, он сделал себе имя своими книгами, которые всем, особенно молодежи, нравятся, хотя в них полно сквернословия и всевозможных оргий. Тут паства покатилась со смеху, а Джонас, бедняга, закрыл руками лицо, смутившись, точно подросток.
Я рассказал, как она познакомилась со своим мужем Кристианом, который каждый день приходил в банк на Колледж-грин, чтобы обменять норвежские кроны на ирландские фунты; однажды он обещал позвонить, но не позвонил, и тогда сестра, закусившая удила, сама набрала его номер, а мама выдернула телефон из розетки, сказав, что ни одна порядочная девушка сама не позвонит парню. Они молодыми поженились, сказал я, и молодыми пережили трагедию разлуки, но теперь они воссоединились навеки, я, по крайней мере, в это верю, ибо не знаю никого, кто любил бы друг друга сильнее.
Я говорил и о том, что последние десять лет она сражалась за свой рассудок, и о несправедливости того, что с ней случилось; наверное, сказал я, вы ждете, что я, человек верующий, скажу, что на все воля Божья, но я не могу этого сказать, поскольку не уверен, что это истина, а если все же истина, то я ее совсем не понимаю, ибо недуг подкосил и унес совсем не старую женщину, и в этом не может быть ничего справедливого.
На поминках меня ожгла мысль, что я последний живой в нашей семье: давно сгинул отец, неведомо зачем забрав маленького Катала, в церкви скончалась мама, а теперь нет и Ханны; но потом я сообразил, что я вовсе не один, что нас шестеро, и я обязан уберечь нашу семью. Я спросил Эйдана, можно ли мне завтра сводить Мортена и Астрид в кино, и он ответил — можно, а если потом я еще накормлю их полдником, то окажу великую услугу, поскольку у него куча работы по разборке маминых вещей. Я тотчас решил, что отныне я член его семьи. Перелеты в Норвегию и обратно не настолько уж дороги, а из окна поезда в Лиллехаммер открываются прекрасные виды.
Прощаясь, Джонас сказал, что хорошо бы нам вместе пообедать, когда он вернется из Америки, и я охотно согласился. Джонас достал свой мобильник, я свой (правда-правда!), и он спросил, как насчет двадцать шестого следующего месяца, но я покачал головой и ответил, что двадцать шестое не годится, у меня уже назначена встреча, лучше в другой день, и мы определились с новой датой, которую, я знал, буду ждать с огромным нетерпением.
Двадцать шестого числа с утра началась борьба с совестью, не одобрявшей моих планов. Я вполне мог остаться в школе и заняться делами. Издатель Джонаса прислал два ящика книг для нашей библиотеки, их нужно было рассортировать и каталогизировать. И вообще, на кой ляд я все это затеял? И ведь никому не расскажешь, а уж тем более племянникам, которые сочтут мой поступок предательством. Но вряд ли я захочу с кем-нибудь делиться. Однако решение было принято, и я поехал.
Пять лет назад, когда Тома Кардла затолкали в фургон и увезли в тюрьму Маунтджой, репортеров у здания суда было видимо-невидимо, а вот освобождение узника их, похоже, не заинтересовало. Новые сенсационные темы — экономический спад, банкиры, непонятная смерть пациентки в больнице — оттеснили преступных священников на задний план. На обывательский взгляд, у церковников все то же самое, откуда взяться новостям?
Я сидел в машине, припаркованной через дорогу от устрашающего здания, и думал об ужасах, что творятся за его стенами. Потом из тюремных ворот вышел этакий крутой парень в ярко-белом спортивном костюме, какая-то девица, выскочившая из-за дерева, повисла у него на шее, и они вроде как изготовились плодиться и размножаться прямо посреди улицы. Я отвернулся, но парочка, слава богу, отбыла на такси.
Через минуту-другую ворота вновь разъехались и я его увидел. Столкнись мы на улице, я бы его, наверное, не узнал. С нашей последней встречи прошло пять лет (в тюрьме я его, конечно, не навещал), но постарел он лет на десять — пятнадцать. Худой как щепка, ввалившиеся глаза, почти весь седой. Он хромал и опирался на палку. По слухам, однажды на прогулке его зверски избили и у него отнялись ноги. Думали, он вообще не будет ходить, но вот, извольте, — глянул по сторонам и через дорогу шкандыбает к моей машине. Я сидел неподвижно и смотрел на него.
Старик. Осужденный педофил. Насильник.
Епархия сняла ему жилье на кошмарных задворках Гардинер-стрит; четвертый этаж, на лифте вечная табличка «Не работает». Как же он с увечной ногой одолеет лестницу? — подумал я. Ему назначили пенсию и приказали жить тихо. Никаких интервью. По приговору, он обязан извещать полицию обо всех своих перемещениях и еженедельно отмечаться у куратора. Всякие контакты с иерархами запрещены, но он может посещать любую церковь и, если пожелает, исповедоваться, ибо сие таинство доступно любому.
— Одран, — сказал он, открыв пассажирскую дверцу. — Ты приехал за мной.
— Я же обещал.
За месяц до его освобождения я послал ему записку — мол, встречу и отвезу, куда он скажет. Писал я коротко и, как говорится, по делу, без всякого упоминания о его редких письмах из тюрьмы, на которые я ни разу не ответил. Я допускал скопление репортеров, а потому уведомил, что он должен сам отыскать мою машину (такой-то марки и такого-то цвета), в которой я буду его ждать, не выключая мотор. Я себя чувствовал бандитом, готовым смыться после ограбления банка.
— Ты очень любезен. — Взобравшись на сиденье, он захлопнул дверцу. Потом вздохнул и прикрыл глаза. Видимо, свыкался с долгожданной свободой. — Как поживаешь?
Он взглянул на меня и улыбнулся, словно после долго перерыва я приехал к нему в гости. В один из его бесчисленных приходов.
— Хорошо. Как ты?
— Грех жаловаться, грех жаловаться. — Он помолчал. — Счастлив вернуться к жизни.
— Ладно, поехали.
По дороге мы молчали. Я размышлял, не зря ли во все это ввязался, о чем думал он — бог его знает. По крайней мере, ему хватило такта не лезть с разговорами, притворяясь, будто между нами все нормально.
Мы подъехали к его новому жилищу, одолели лестницу, и я открыл дверь ключом, накануне полученным в епархии. Квартира была ужасная. Тесно, сыро, отваливающиеся обои, за стенкой орут, под полом и потолком грохочет музыка. Я бы, наверное, предпочел выброситься из окна, нежели здесь жить.
— Не переживай, — сказал он, глянув на мое перекошенное лицо. — Это лучше того, к чему я привык.
Видимо, так оно и было.
— Я не переживаю, — ответил я. — Я бы переживал, если б сюда поселили меня. А тебе, пожалуй, сгодится.
Он кивнул и сел в кресло.
— Ты на меня сердишься, Одран, — тихо сказал он.
— Ладно, я пойду.
— Погоди. Мы только вошли. Задержись на минутку.
— Не дольше. Скоро будут пробки.
— Ты на меня сердишься, — после долгой паузы повторил он. Выбор слова меня почти рассмешил.
— Я тебя не понимаю, — сказал я. — Вот в чем суть.
— Да я сам себя не понимаю. Последние пять лет только в себе и разбирался.
— И какие выводы?
Он пожал плечами:
— Мой отец в этом сильно виноват.
— Отец? — Я не сдержал горький смешок. — Твой старик на тракторе?
— Не спеши меня осуждать. Ты не представляешь, что он был за человек.
— Он тут ни при чем. Только ты.
Он кивнул и глянул в окно, за которым открывался гнусный вид. Но хоть какой-то вид, прежде у него не было никакого.
— Считай как тебе угодно, — сказал он.
— Да уж, ты долго поступал как было угодно тебе. Теперь очередь других.
Он внимательно посмотрел на меня, и я заметил испуг, промелькнувший в его взгляде. Я не знал и не хотел знать, через что он прошел в тюрьме, но, видимо, там случались драки, из которых он чаще выходил потерпевшим.
— Ты хочешь что-то сказать, Одран? — спросил он. — Спасибо, что подвез, но если ты вздумал меня укорять…
— Неужели ты не понимал, что это плохо?
Он задумчиво покачал головой:
— Наверное, я вообще не прибегал к категориям «хорошо» и «плохо». Тут они не годятся.
— А дети? Ты не сознавал, какую рану им наносишь?
— Да я сам был почти несмышленыш.
— Поначалу возможно. Но потом-то?
— Если уж завяз, обратной дороги нет. Вся правда в том, что не надо было мне идти в священники. Господи, я и в Бога-то не верю. И никогда не верил.
— Тебя никто не тащил силком.
— Вранье! — выкрикнул он. — Именно что силком! Я боялся отца, который все решил за меня. Да тебя самого заставили. Не притворяйся, что нет.
— Ты мог уйти.
— Не мог.
— Один раз ты сбежал.
— И меня на тракторе привезли обратно, не помнишь?
— Ты мог отказаться.
— Нет. Ты не знаешь, что я тогда пережил.
— Тебе было семнадцать, — упорствовал я. — Сел бы на паром и удрал в Англию. Начал бы новую жизнь.
— Одран, можешь вообще мне не верить, но одному поверь: ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ни малейшего. Ты даже приблизительно не знаешь, каким было мое детство. Что со мной было, до того как я приехал в Клонлифф. Ты ничего не знаешь.
— И не хочу знать, — ответил я. — Ничто из прошлого тебя не извиняет. И ничего не оправдывает. Неужто не понимаешь?
Он вздохнул и опять посмотрел на жилые дома и конторы, маячившие за окном. Что творилось в его перевернутых мозгах? Не ведаю.
— Я уже не говорю о том, что ты и тебе подобные сделали с нами, — тихо сказал я. — Ты не думал, как все это отразится на тех, кто честно исполнял свой долг, кто следовал призванию?
Он рассмеялся:
— Ты считаешь, у тебя есть призвание?
— Да, считаю.
— И все потому, что тебя надоумила матушка.
— Неправда. Она заронила в меня мысль и оказалась права. Это мое призвание. Я предназначен к служению.
Он не ответил и только покачал головой, словно перед ним разглагольствовал полоумный.
— Надо было давно на тебя заявить, — сказал я.
— Чего-чего?
— Еще в семинарии. — Я чуть не лопался от собственной праведности. — Я видел твой синяк, когда ты снял рубашку.
Он нахмурился, как будто не понимая, о чем речь.
— Ты меня с кем-то путаешь, Одран.
— Дэниел Лондигран, — сказал я. — О’Хаган уехал попрощаться с умирающей матерью. И ты полез к Лондиграну. Он отбился. А его потом исключили.
Разинув рот, он переваривал услышанное, затем рассмеялся:
— Дэнни Лондигран? Ты шутишь?
— Ничуть.
— Ты не в курсах, ясно тебе? Ни хрена ты не знаешь.
— Я знаю, что ты на него напал, он тебе врезал. Ты струсил и убежал.
Он опять засмеялся и покачал головой:
— Из Дэнни священник, как из меня китайский император. Кузен регулярно снабжал его порнухой, которую мы с ним на пару разглядывали. Пялились на голых баб, ясно? Дальше — больше, стали друг другу помогать. И вот однажды, когда сосед его уехал, а мы всячески утешались в наших горестях, нас застукал отец Ливейн. Дэнни сам давно мечтал свалить из семинарии. Ну вот, отец Ливейн входит, а мы там в темноте. С испугу Дэнни мне саданул, я дал деру. Конечно, пришлось ему сочинить историю. Я на него напал? Смехота. У нас все было по обоюдному согласию.
Я растерянно молчал.
— Думаешь, я тебе поверю? — наконец спросил я.
— Верь, не верь — мне все равно. Сейчас-то какая разница?
— Ты не понимаешь, что все испоганил? — в отчаянии выкрикнул я. — Теперь не будет веры всем нам.
— Может, оно и к лучшему. Если католическая церковь сгинет ко всем чертям, стране это будет на пользу, ты не считаешь?
— Нет, не считаю. И ты смеешь это говорить, после того как…
— Церковники разрушили мою жизнь. — В голосе его звенела злость. — Не понимаешь, что они ее растоптали? Чистого мальчишку, ничего не смыслившего в жизни, на семь лет заточили в четырех стенах. Все, что делало меня человеком, они называли порочным и грязным. Они приучили меня ненавидеть свое тело и считать себя грешником, если посмотрю на ноги прохожей женщины. За разговор со студенткой грозили исключением из семинарии, и тогда папаша меня убил бы. Я не шучу — узнай он, что меня выгнали, вмиг проткнул бы вилами. Меня изуродовали запретом на естественные человеческие желания, и всем было плевать, что я не обучен праведной жизни.
— Никто тебя не уродовал! — Я распалился. — Я и сотни других ребят прошли ту же школу. Но мы не стали тобой. Неужели так тяжко быть хорошим священником? Тебе этого мало? Мне довольно.
— Что? — Он затрясся от смеха. — Ты себя считаешь хорошим священником? Полно, ты вообще не священник.
Я молчал, опешив.
— Тебя возвели в сан тридцать с лишним лет назад, — он говорил спокойно, словно разъясняя премудрость ребенку, — но ты и дня не прослужил в приходе, пока Джим Кордингтон не сунул тебя на мое место.
— Неправда.
— Да нет, сущая правда. Двадцать пять лет ты торчал в своей школе — обучал английскому, переставлял книги на полках, но не делал ничего из того, что положено хорошему священнику. Ты прятался от жизни. И сейчас прячешься. Если тебе нравится учительствовать, шел бы в педагоги. Любишь возиться с книгами — иди в библиотекари. Говоришь, ты священник? Черта с два. Ты никогда им не был.
— Я заботился о сотнях ребят, — тихо сказал я, глядя в пол. — Я был им добрым другом. И хорошим наставником.
— Да ну? — усмехнулся он. — А вот скажи-ка: за год сколько подростков приходят к тебе поделиться душевными тревогами, попросить помощи? Пять? Три? Один? Ни одного? Никто не приходит, верно? А если б вдруг кто-нибудь пришел, ты бы кинулся в свою библиотеку — проверять, как расставлены сестры Бронте.
Я отошел к окну. Дублин. Унылое зрелище. Темная река, лабиринты улиц, обшарпанные дома. Повсюду дорожные работы, сигналят машины, стараясь проехать. Где-то молодые люди совершают сделки, чтобы, вернувшись в свою крохотную халупу, перетянуть жгутом руку и наполнить вены единственным средством забвения бед. Старухи выключают газовые обогреватели, ибо выбор невелик — тепло или уплата налогов, а насмерть замерзших не посадят в долговую тюрьму. По ночам на набережных ошиваются подростки, выглядывая грешника, который попросит их спустить штаны, присядет перед ними на корточки, а потом кинет им двадцать евро. Пабы забиты парнями и девушками, истерзанными страхом: учеба в университете заканчивается, но что делать дальше, где найти работу? Куда податься — в Канаду, Австралию, Англию? Вновь замаячили призраки эмигрантских кораблей и разлуки с родными. Старики, после сорокалетних трудов ушедшие на покой, вынуждены на всем экономить, потому что их пенсионные накопления разворованы жульем из партии Fianna Fail[40], за которую через пару лет все опять пойдут голосовать. А в аэропорт прибывают европейские пришельцы, заявляющие, что нам не хватает мозгов самим управлять страной и они этим займутся вместо нас. Вот во что превратилась наша Ирландия — в страну наркоманов, неудачников, преступников, педофилов и неумеек. Как тогда в баре сказал Эйдан? Я не буду жить в Ирландии. Эта страна прогнила. Насквозь.
Эйдан.
Я посмотрел на человека, который, обрисовав мою жизнь, явно наслаждался победой. К глазам моим подступили слезы, ибо я никогда не прощу того, что случилось, — ни себе, ни тем более ему.
— Как ты мог такое сотворить с Эйданом? — спросил я. — Он мой племянник, а мы с тобой были друзья.
Ему хватило приличия отвести взгляд.
— Отвечай, — потребовал я. — Я имею право знать. У меня в голове не укладывается…
— Ты виноват не меньше меня.
— Я? Почему?
— Я сказал, что охотно переночую в твоем кабинете. Надо было меня увести.
— Я не предполагал, что ты полезешь к нему в комнату. Откуда я мог знать, что ты задумал?
Он скособочил голову и одарил меня чем-то вроде улыбки:
— Да ну? Хочешь сказать, ты ничего не подозревал?
— Нет, конечно! — заорал я. — Если б я знал, я бы в жизни…
— Мы здесь вдвоем. Если угодно, можешь себе врать, но пользы будет мало. Поверь, за последние годы я это хорошо усвоил.
— С чего ты решил, будто я что-то знал? — вытаращился я, багровый от злости. — Про тебя и о том…
— Ты же был тогда в Уэксфорде. Когда мальчишка Килдуфф испоганил мою машину. Ты сам на него и донес.
— Я думал, он просто схулиганил. Я не понимал, что он мстит.
Он вскинул бровь:
— Да полно?!
— Не понимал!
— И за все время ни разу не задумался, почему меня перебрасывают из прихода в приход?
— Да, я слышал разговоры о пакостниках, которых постоянно переводили, но я и думать не думал, что ты…
— А по-моему, ты все знал, Одран, — спокойно проговорил он. — Просто у тебя не хватало духу на конфликтный разговор. Выходит, ты соучастник. Хотя годишься лишь на то, чтобы по алфавиту расставлять книжки: Вирджиния Вулф, Диккенс, Хемингуэй. Но ты все знал.
— Не знал. — Я сам услышал вялость своего возражения.
— А в вечер поминок ты прекрасно понимал, что нельзя оставлять племянника со мной, и все же оставил. Потому что это было проще, чем устраивать сцену.
— Неправда, — просипел я.
— Я думаю, ты такой же, как все, хоть и разыгрываешь из себя святошу. Ты все знал и молчал. А значит, в заговоре, о котором все талдычат, участвовали не только верхи, но и низы — никчемности вроде тебя, никогда не служившие в приходе и прятавшиеся от жизни. Ты вправе меня осуждать, ибо я совершил нечто ужасное. Но не хочешь ли взглянуть на себя? На свои поступки? На Великую тишь, которую ты соблюдаешь с самого первого дня? — Он встал и, опираясь на палку, шагнул к нише в стене, служившей крохотной кухней. — Ладно, Одран, иди, а я буду потихоньку обживаться. Нам больше нечего друг другу сказать.
Я будто окаменел, но затем пошел к выходу, сфокусировав взгляд на двери. Хотелось сорвать душивший меня воротничок.
— Похоже, мы больше не увидимся? — спросил он, когда я уже открыл дверь на волю.
— Нет, — я покачал головой, — я не приду.
— Понятно. — Он отвернулся, словно и не было сорока лет наших отношений. — Всего хорошего.
— Я буду за тебя молиться. Невзирая ни на что.
— Молись за себя, — усмехнулся он. — Тебе это нужнее.
В последний раз я окинул взглядом квартиру:
— Жутко здесь.
Как же так случилось, что тот мальчик, каким он некогда был, оказался в подобной норе, где, скорее всего, и закончит свои дни? Однажды здесь его найдут мертвым.
— Жутко, — кивнул он. — Ничего, выживу.
— Тебе будет одиноко.
— Не сомневаюсь. — Он улыбнулся. — Но я уже проштудировал историю одиночества. А ты нет?
Не помню, я говорил, что в моей школе нет пансионеров? Раньше были. Примерно до начала восьмидесятых. Года за два до моего появления интернат закрыли — многие родители обзавелись машинами и перестали на всю неделю отправлять сыновей в школу.
По ночам в огромном безлюдном здании ужасно одиноко. Коридоры полнятся эхом всякого звука, стекла в оконных рамах дребезжат от всякого ветерка. Если истории о привидениях вас впечатляют, здесь вам будет неспокойно.
Растревоженный думами, я решил предпринять ночную поездку в Инчикор и наведаться в тот самый грот, где много лет назад увидел священника, вместе с матерью рыдавшего от осознания того, что он натворил, кому причинил боль и как однажды поплатится за свои проступки.
Ночь опять стояла темная, вокруг ни души, но ущербная луна помогла отыскать дорогу к святилищу.
Сперва я встал на колени и попробовал молиться, но молитва не шла. А потом, неожиданно для себя, я упал ничком и прижался челом к холодным камням, совсем как тот священник, терзаемый своим грехом. Я закрыл глаза и вдруг понял, что больше не могу оставаться в школе. Да, я долго мечтал о своем возвращении, но пришла пора двигаться дальше и начать новую жизнь внутри или вне Церкви. Я уже не мог прятаться за школьными стенами.
Вдруг вспомнился почти сорокалетней давности эпизод, когда в Уэксфорде мне ужасно хотелось опустить и поднять железнодорожный шлагбаум. На моей работе нужно думать обо всех, кто тебе доверился и вручил свою жизнь, — сказал дед. — А вдруг кто-нибудь пострадает из-за твоего недосмотра? Или моего. Хочешь, чтоб тебя мучила совесть, что ты в ответе за большое горе?
Однажды в запале Эйдан спросил, не кажется ли мне, что я профукал свою жизнь. Нет, ответил я, не кажется. Но я ошибался. И Том Кардл был прав. С самого начала я все знал и ничего не сделал. Снова и снова я гнал всякие мысли об этом, не желая признать очевидное. Я молчал, когда надо было кричать, я убеждал себя, что я выше этого. Я соучастник всех преступлений, из-за меня пострадали люди. Я профукал свою жизнь. Каждый ее миг. Самое смешное, что глаза мне открыл отсидевший педофил: молчальники виновны наравне с преступниками.
Благодарность
Я безмерно благодарен Кону Конноли, Клэр Килрой и Томасу Моррису, первым читателям рукописи, за их ценные советы.
Я признателен моим агентам Саймону Тревину, Эрику Симинофф и всему агентству William Morris Endeavor за постоянную помощь и поддержку, а также моему редактору Биллу Скотт-Керру за его опыт и проницательность, принесшие неоценимую пользу книге. Спасибо Ларри Финлэю, Пэтси Ирвин и всем сотрудникам издательства Transworld.
Представители дублинского духовенства, пожелавшие сохранить анонимность, помогли мне проникнуть за кулисы церковной жизни, и я признателен им за открытость и готовность честно говорить о растлении детей, что годами замалчивалось. Спасибо всем, кто оказывал мне помощь в моих изыскательских поездках в Рим, Осло и Лиллехаммер.
Глубочайшая благодарность самым главным людям в моей жизни: родителям — Шону и Хелен Бойн, сестрам — Кэрол и Шинейд, Рори, Джейми и Кейти, моему мужу Кону.
Невозможно установить точное число ирландских детей, пострадавших от рук католической церкви, и нельзя подсчитать всех честных и преданных делу священников, запятнанных поступками коллег.
Мой роман посвящается всем этим жертвам; пусть их жизнь будет счастливее.
Примечания
1
Самый большой и дорогой универмаг в Дублине, славится своими рождественскими витринами, где механические игрушки, от мышей до Санта-Клауса, разыгрывали целые представления. У витрин универмага в рождественскую неделю в прежние времена было не протолкнуться от детей. Сейчас универмаг не существует. — Здесь и далее примеч. ред.
(обратно)2
Мейв Бинчи (1940–2012) — ирландская писательница, автор очень популярных романов из обычной ирландской жизни.
(обратно)3
Энн Дойл (р. 1952) — ирландская журналистка, уже 33 года она ведет новостную программу на национальном канале RTE. Берти — Патрик Бартоломью Ахерн (р. 1951), премьер-министр Ирландии с 1998 по 2008 г., его дочь — известная писательница Сесилия Ахерн. Джон Братон (р. 1947) — премьер-министр Ирландии с 1994 по 1997 г. Альберт (Эл) Гор (р. 1948) — вице-президент США, нобелевский лауреат (2007) — за деятельность по сохранению окружающей среды, в 2000 году баллотировался на пост Президента США и проиграл выборы Джорджу Бушу-младшему с разницей в сотые доли процента.
(обратно)4
Брау-Хед — самая южная точка Ирландии, а Банбас-Краун — самая ее северная.
(обратно)5
Патрик Кавана (1904–1967) — ирландский поэт и романист, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с графством Монахэн.
(обратно)6
Один из четырех самых известных театров Ирландии, славится своими музыкальными и оперными постановками.
(обратно)7
«Плуг и звезды» — пьеса Шона О’Кейси (1880–1964), драматурга, классика ирландской литературы; начав с сатирических пацифистских комедий, затем он переключился на мистические морализаторские драмы, а в конце жизни создавал фантасмагорические комедии. Театр Аббатства — первый национальный театр Ирландии, до него театры в Ирландии были плоть от плоти английской театральной системы. Театр Аббатства, формально основанный в 1904 г., был частью ирландского Возрождения, начавшегося в конце XIX века.
(обратно)8
Мак Дирмада (1907–1978, более известен как Фрэнк Дермоди) — ирландский режиссер, служивший в Театре Аббатства несколько десятков лет, с 1938 по 1973 г.
(обратно)9
Иншин О’Дуван (Uinsionn O’Dubhláinn, 1929–2013) — ирландский актер и режиссер, известен под английской вариацией своего ирландского имени — Винсент Даулинг; театральную карьеру он начал в дублинском Театре Аббатства, затем перебрался в Англию, а позже в США, вся его жизнь связана с творчеством Шекспира.
(обратно)10
Онь О’Сулевань (Eoin O’Súilleabháin) — ирландский актер и писатель, более известный под своим англизированным именем Оуэн О’Салливан. Катлин Ни Вярань (Caitlín Ní Bhearáin), она же Кэтлин Бэррингтон, — ирландская актриса, много играла в Театре Аббатства.
(обратно)11
Ирландская мыльная опера, которая шла пять раз в неделю с 1964 по 1968 г., действие развивается в нескольких домах, выстроившихся рядком в северной части Дублина. По сути, это клон знаменитого английского телесериала «Улица Коронации», который начал показываться на несколько лет раньше.
(обратно)12
Популярная в Ирландии яблочная газировка.
(обратно)13
Настольная игра, в которой нужно переставлять фишки по бумажному полю на выпавшее число ячеек.
(обратно)14
«Аквавит» — крепкая настойка на травах, национальный напиток в Норвегии и Швеции, «мьид» — также национальный норвежский (и шведский) напиток, по сути, медовуха с добавлением хмеля, имбиря, яблок, трав и даже цитрусовых, но основой является мед; норвежское слово Mjød происходит от русского «мед».
(обратно)15
Дебютный роман «Свободу медведям» (1968) американского писателя Джона Ирвинга.
(обратно)16
26 августа 1978 года был избран новый глава Римско-католической церкви — папа Иоанн Павел I. На церемонию интронизации папы прибыл и представитель Русской православной церкви — митрополит Никодим, который скончался от инфаркта прямо во время приема у нового Папы Римского. А через 33 дня, 28 сентября 1978 г., внезапно умер и сам Иоанн Павел I. Католический мир был взбаламучен произошедшим, возникло сразу несколько теорий заговора, основания для которых имелись: новый понтифик, по сути, объявил войну ватиканской финансовой мафии, которая долгие годы заправляла денежными потоками католический церкви.
(обратно)17
Герой американского телесериала «Коджак» (1972–1978) — жесткий и принципиальный лейтенант полиции, в роли которого снялся Телли Салавас.
(обратно)18
Формальным разрывом английского короля Генриха VIII с Римско-католической церковью стало требование признать его развод с Екатериной Арагонской, чтобы он мог жениться на Анне Болейн, в чем папа Климент VII ему отказал.
(обратно)19
«Салливаны» — австралийский драматический сериал об обычной семье из Мельбурна в послевоенные годы; был очень популярен в Великобритании. В данном случае автор не точен, поскольку «Салливаны» вышли на экраны только в 1976 году.
(обратно)20
Район в Дублине, к северу от центра.
(обратно)21
Пригород Дублина.
(обратно)22
Ясмина Реза (р. 1959) — французская актриса, драматург и писатель, ее пьеса «Бог резни» (2007 г., премия Лоуренса Оливье) чрезвычайно популярна и много раз ставилась по всему миру, в 2011 году была удачно экранизирована Романом Полански.
(обратно)23
«Плуг и звезды» и «Тень стрелка» — пьесы Шона О’Кейси; «Поле» — пьеса Джона Кина (1928–2002) о фермере, отстаивающем свою землю, которую должны продать с аукциона.
(обратно)24
Ирландско-британский ситком (1995–1998) о трех католических священниках, сосланных за разные прегрешения на маленький ирландский остров и живущих в одном доме под присмотром домоправительницы.
(обратно)25
Роман Филипа Рота (1969) о сексуальных похождениях молодого человека, по-русски выходил под названием «Случай Портного».
(обратно)26
Рэй Д’Арси (р. 1964) — популярный в Ирландии радио- и телеведущий.
(обратно)27
Альдо Моро (1916–1978) — Председатель Совета министров Италии в 1963–1968 и 1974–1976 годах. 16 марта 1978 г. экс-премьер был похищен «Красными бригадами», которые потребовали его обмена на арестованных «бригадистов».
(обратно)28
Роман ирландского писателя Родди Дойла (р. 1958), первый (1987) из цикла романов (всего пять) про семейство Рэббитов. Роман в 1991 г. был экранизирован Аланом Паркером.
(обратно)29
Мэри Робинсон (р. 1944) — президент Ирландии с 1992 по 1997 год; с 1997 по 2002 год была Верховным комиссаром ООН по правам человека. Чарлз Хоги (1925–2006) — влиятельный ирландский политик, трижды занимал пост премьер-министра (1979–1981, 1982, 1987–1992). Брайан Ленихан (1930–1995) — ирландский политик консервативного толка, занимал пост министра иностранных дел, внес немалый вклад в урегулирование североирландского вопроса.
(обратно)30
«Женщины Ирландии» (Мпá na hÉireann) — поэма ольстерского поэта Peadar Ó Doirníт (1704–1796), ставшая известной после того, как ее положил на музыку Seán Ó Riada (1931–1971); стала своего рода гимном борцов за независимость Северной Ирландии от Британии.
(обратно)31
Речь о фильме «Человек на все времена» (1966, режиссер Фред Циммерман) о конфликте между королем Генрихом VIII и лорд-канцлером Томасом Мором. Орсон Уэллс сыграл кардинала Уолси, предшественника Томаса Мора, безрезультатно пытавшегося добиться от Ватикана разрешения на развод для английского короля.
(обратно)32
Дики Рок (р. 1938) — ирландский певец, чрезвычайно популярный в 1960-е, но и до сих пор попадающий в музыкальные чарты.
(обратно)33
Sealed with a Kiss (1960) — песня Питера Уделла и Гэри Гелда, стала хитом в 1962-м после того, как ее записал Брайан Хайлэнд, а в 1989-м, спетая Джейсоном Донованом, взлетела на самый верх чартов в Британии и Ирландии.
(обратно)34
Брендан Биэн (1923–1964) — ирландский поэт, писатель и драматург, писавший как на английском, так и на ирландском, один из символов Ирландии. Был активным членом ИРА, совсем молодым человеком трижды сидел в тюрьме, что определило его творчество. Одна из его пьес, «Говоря о веревке», переведена на русский язык Иосифом Бродским.
(обратно)35
Комедия Джона Форда (1952), действие которой разворачивается на западном побережье Ирландии, этот фильм — настоящее признание в любви к Ирландии.
(обратно)36
Морин О’Хара(1925–2015) — ирландская и американская актриса, много снимавшаяся у Джона Форда, частая партнерша Джона Уэйна. В «Тихом человеке» сыграла главную женскую роль, деревенскую девушку Мэри Кейт Данахер, которую обхаживает заезжий американец (в его роли Джон Уйэн).
(обратно)37
Доклад Мёрфи — отчет о расследовании, проведенном правительством Ирландии, в отношении скандала с секуальными злоупотреблениями в архиепархии Дублина был выпущен в 2009 г.
(обратно)38
Твое здоровье (ирл.).
(обратно)39
Будем (норв.).
(обратно)40
Либеральная партия Ирландии, считается центристской и популистской.
(обратно)



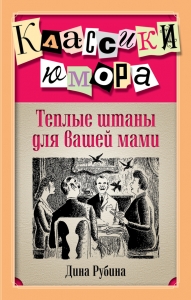
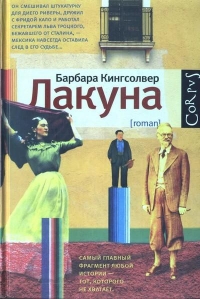







Комментарии к книге «История одиночества», Джон Бойн
Всего 0 комментариев