Валентина Гоби Детская комната
Valentine Goby
KINDERZIMMER
© Actes Sud, 2013
© Sandra Cunningham / Arcangel images, обложка
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2016
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2016
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2016
* * *
Посвящается Жану-Клоду Пассера, Ги Пуаро, Сильви Элмер, детям Равенсбрюка.
А также Мари-Жозе Шомбар де Лов, неутомимой активистке, которая работала детской медицинской сестрой в Kinderzimmer[1] Равенсбрюка
ШАНТЕКЛЕР. Слышишь?
ФАЗАНЬЯ КУРОЧКА. Кто же смеет?
ШАНТЕКЛЕР. Другие петухи.
ФАЗАНЬЯ КУРОЧКА. Кругом них все алеет…
ШАНТЕКЛЕР. Лишь увидав Зарю, поверят ей они.
ФАЗАНЬЯ КУРОЧКА. Кругом них – все лазурь…
ШАНТЕКЛЕР. Я пел в ночной тени. Во мраке песнь моя и первой зазвучала. Да, ночью верить в свет – вот жажда идеала[2].
Эдмон Ростан. Шантеклер. Действие второе. Явление третьеПролог
«В середине апреля 1944 года, – говорит она, – мы уезжали в Германию».
«Приехали. А то, что было до этого, – Сопротивление, арест, Френ, – в сущности, было только прелюдией». После слова «Германия» в классе воцаряется тишина, это слово предвещает рассказ о смерти. Долгое время она была благодарна этой тишине, которая как бы отодвигала ее историю в сторону, как раз когда нужно было рассказывать о замалчиваемых так долго событиях; она была признательна тому, как все умолкали и замирали и не было ни шепота, ни единого движения в рядах восемнадцатилетних мальчишек и девчонок, словно они знали, что их голоса и столь юные тела могут помешать воспоминаниям. Вначале она нуждалась в перерывах. Но после того, как Сюзанна Ланглуа рассказала об этом пятьдесят, сто раз, фразы стали складываться легко, безболезненно и практически бессознательно.
«Четыре дня спустя, – говорит она, – прибыл конвой».
Слова льются в своем обычном ритме, уверенно, спокойно. За окном она замечает на ветке платана бабочку; она видит, как танцуют пылинки в косых лучах солнца, ласкающих волосы ребят; видит, как трепещет край карты, приклеенной скотчем. Она продолжает рассказывать. С каждой фразой она приближается к безумной истории, истории появления на свет ребенка в концлагере, о комнате грудничков, где выжил ее сын. Такие истории, как у нее, можно сосчитать на пальцах. Именно поэтому она приглашена в лицей – как живое доказательство всеобщей трагедии, а когда она чуть позже произносит слово Kinderzimmer, класс сковывает тишина, словно цементирует. И вот, она только что сошла с поезда. Германия, ночь…
«Мы идем в лагерь Равенсбрюк», – говорит она.
Одна девушка поднимает руку. Обычно в этом месте рассказа такого не происходит. Поднятая рука – словно сигнал. У девушки очень бледная кожа, а в правой брови крошечное красное колечко. Поднятая рука сбивает Сюзанну Ланглуа, рассказ наталкивается на руку и раскалывается на части.
Девушка всего лишь спрашивает у Сюзанны Ланглуа, приходилось ли ей слышать о Равенсбрюке до отъезда из Франции. Сюзанна Ланглуа отвечает:
– Я знала о том, что есть лагеря, и это все.
А знала ли она, куда именно в Германии ее везут, когда ехала в поезде?
– Нет.
– Когда же вы поняли, что едете в Равенсбрюк?
Сюзанна Ланглуа немного колеблется, а потом отвечает:
– Не знаю.
В любом случае она не смогла бы понять, что ехала в Равенсбрюк, если бы даже знала название, ведь она услышала бы лишь набор звонких и глухих звуки, которые ничего бы ей не сказали.
– Значит, вы не знали, где оказались?
Сюзанна Ланглуа улыбается, замирает, а затем говорит:
– Нет.
Она поправляет шаль. Пытается возобновить рассказ, вспомнить слово, которое должно последовать в этом месте повествования. Тридцать восемнадцатилетних мальчиков и девочек смотрят на нее в ожидании. Это как заноза в ладони. Нечто едва ощутимое, крошечная иголка, которую можно было бы и не заметить, если бы кожа не была столь гладкой и нежной. «Девочка спрашивает меня, когда я узнала о Равенсбрюке. Когда я впервые услышала слово “Равенсбрюк”? Раньше никто не задавал этого вопроса. Эта девочка с бледной кожей и красным колечком в брови рано или поздно должна была появиться». Отведя взгляд от помятой карты, бабочки за окном, луча солнца, Сюзанна начинает искать в глубине сознания образы, она пытается вспомнить дорожный знак на ведущей в лагерь дороге, столб, надпись или произнесенное вслух слово «Равенсбрюк». Но нет никакой надписи, нигде; она не помнит, чтобы кто-то об этом говорил. Лагерь – это безымянное место. На память ей приходят слова поэтессы Шарлотты Дельбо. Вспоминая об Освенциме, Шарлотта говорила, что этого места на карте нет и она узнала его название, лишь проведя там два месяца.
– Вы в самом деле, – не унимается девушка, – тогда ни о чем не знали? Вы знали о Равенсбрюке ровно столько, сколько мы сейчас?
После небольшой паузы женщина отвечает:
– Наверное, да.
Сюзанна Ланглуа не может опомниться, они так похожи – эта выпускница и молодая женщина чуть старше нее, какой она стояла у входа в лагерь. Неведение – вот то, что может объединить ее и эту девочку, правда, с дистанцией в шестьдесят лет.
На самом деле только что сказанная фраза «мы идем в лагерь Равенсбрюк» невозможна. От вокзала и до места назначения Сюзанна не думала о названии. Сначала они шли по дороге среди высоких елей и красивых домов; название Равенсбрюк появилось позже, когда они преодолели весь этот путь. Более тридцати лет в классах и прочих местах ей нужно было рассказывать все в общем, все, что она знала о лагере, не заботясь о хронологии событий, все, что об этом знали и рассказывали другие узники, в чем признавались на Гамбургском процессе в 1947 году, о чем писалось в исторических работах, – все это необходимо передать потомкам, чтобы бороться против тотального забвения, закрыть брешь уничтоженных архивов и срочно рассказать о тех событиях, тщательно пересмотреть их, исчерпывающе дополнить, пока еще жива, ведь кое-что она, Сюзанна Ланглуа, все-таки забыла. То, что материнство в лагере было особой линией фронта.
Теперь невозможно произносить обычные фразы. Ни мы идем в лагерь Равенсбрюк, поскольку неизвестно было его название. Ни нас отправили на карантин, поскольку этот блок исполнял данную функцию лишь в глазах заключенных, которые уже находились в лагере. Ни в половине четвертого утра я услышала сигнал сирены, поскольку у нее больше не было часов. Нельзя также сказать там была комната для грудных детей, Kinderzimmer: она не знала о ее существовании, пока не оставила там своего ребенка. Ей стало грустно. В истории, у которой есть конец, уже невозможно найти начало. И даже если в истории есть точные образы и события, она всегда описывает их через призму собственного восприятия.
Сюзанна Ланглуа замолкает. Она возвращается к себе, она придет в другой раз. Или нет? Она пока еще не решила.
О, нужно стать Милой, у которой нет воспоминаний.
Глава 1
Обессиленная, Мила стоит перед входом в лагерь. По крайней мере, она считает, что высокие стены, которые освещают пересекающиеся там и сям лучи прожекторов, – это и есть вход в лагерь. Она моргает, и словно тысяча иголок впивается в глаза. Вокруг нее в свете факелов вырисовываются четыреста силуэтов женских тел – она точно знает их количество, потому что их пересчитывали в Роменвиле, – шеи, виски, локти, затылки и рты, ключицы. Крики мужчин и женщин, лай собак, челюсти, языки, десны, волосы, сапоги, резиновые дубинки. От вспышек и шума выстрелов Мила не может даже моргнуть, она натянута, как тетива.
После четырех дней, проведенных в вагоне для перевозки скота, где она лежала на досках или стояла на одной ноге, у Милы болит все тело: плечи, спина, бедра. Язык камнем лежит во рту. Однажды она просунула голову в окошко, куда другие женщины справляли нужду, и ловила ртом капли дождя.
Теперь она стоит перед ограждением и крепко сжимает ручку маленького чемодана. В нем вместе с ножницами, скребком, шилом, а также остатками продуктового пакета, полученного во Френе, одной свечой, одной парой трусов, одной сорочкой и двумя детскими ползунками, которые она связала в тюрьме, лежит фото арестованного в январе брата, ему двадцать два года, и фото отца, где он стоит перед зданием на улице Дагер. Она сжимает ручку чемодана, единственную знакомую ей «территорию» размером сорок на шестьдесят сантиметров, и руку Лизетты. «Хотя она такая же Лизетта, как и я – Мила, но Марией и Сюзанной мы были в другой жизни. Здесь нет имен. Лишь темнота, изрезанная белыми лезвиями прожекторов».
Она узнала, что едет в Германию. Об этом узнали все женщины в Роменвиле. Их не расстреляют, их депортируют, мало кто об этом сожалел, лишь некоторые из них – подумать только, быть расстрелянной, как мужчина, как солдат, враг Рейха, на горе Валерьен[3]. Мила исполнила свой долг, она говорит «свой долг» так естественно и без пафоса, как в автобусе уступают место пожилой даме, в ней нет ни капли желания геройствовать, и, если появится такая возможность, ей, конечно, хочется остаться в живых. Уж лучше Германия, чем пуля в лоб. И это не выбор, не радость, а просто облегчение. Вместе с четырьмястами женщинами она покидает ряды шеренг, выпрямившись под величественным солнцем. Из кузова грузовика – в поезд, вдоль дороги толпятся люди, «Марсельеза», хлеб и цветы, их несут прямо к вагонам, откуда она слышит пение железнодорожников, и немцы в ярости разбивают на мелкие куски окна вокзала. Значит, она тогда узнала, что едет в Германию.
Германия – это Гитлер, нацисты, Рейх, а также военнопленные, мобилизованные в ЛПР[4], политзаключенные. В Германии убивают евреев, больных и стариков – инъекциями или газом, она слышала об этом от Лизетты, от брата, от членов подпольных организаций; существуют также концлагеря. Но она не еврейка, не старая и не больная. Она беременная, и она не знает, имеет ли это какое-либо значение или нет и если да, то какое.
Куда именно они едут в Германии, ей не известно. Она ничего не знает ни о расстоянии, ни о продолжительности поездки. Короткие без пауз остановки, двери открываются и сразу же с железным грохотом закрываются. Резкие блики света, порывы свежего воздуха позволяют мельком увидеть чередование дня и ночи, ночи и дня. Три ночи, четыре дня. И вот, безусловно, они пересекают границу. Это было до или после того, как полный дерьма сортир покатился в уже грязную солому и две женщины бросились в рукопашную? До или после того, как Мила задремала, прислонившись к спине Лизетты, чувствуя, как крошечная матка сжимается в животе? До или после того, как Мила больше не могла закрыть пересохший рот? Или как раз после брошенной бумажки на рельсы? Было бы хорошо, если это произошло после бумажки, так бы остался шанс, что она попадет к адресату. Огрызком карандаша на ней написаны три строчки, адресованные Жану Ланглуа, улица Дагер, Париж: «Папа, у меня все хорошо, целую» – и завернутая в бумагу монета для марки. В груди стуком отдается замедление хода поезда, несомненно сообщающее о въезде в Германию. И тогда одни женщины начинают петь, или сжимать кулаки, или горланить, что не выйдут к фрицам, или умолять, или предсказывать скорую высадку десанта; другие, обессиленные, молчат; есть и такие, которые стучат. Мила слушает, широко раскрыв глаза. Она ищет какой-нибудь знак. Ведь Германия не может начаться незаметно. Затем поезд ускоряет ход, а они так ничего и не узнали. Нет ничего, что обозначало бы границу, каких-либо доказательств, что они пересекли границу. И как только поезд останавливается на вокзале, женщин вышвыривают из вагона. На платформе Мила разбирает надпись большими буквами – Фюрстенберг. Фюрстенберг – непонятно, где может быть этот город на карте, но это Германия – звучит по-немецки, нет никаких сомнений. И сразу же появляются собаки.
Их пересчитывают по рядам, как в Роменвиле. Доехали не все. Те, кто выжил, отправляются в путь. Кто-то падает. Щелкает плеть. И тогда раздаются вопли, стук башмаков, лай сливается в однородный звук. Нужно держать дистанцию, чтобы было достаточно места для шага вперед и чтобы сзади не наступили на пятки. И нужно не оглохнуть от шума, не упасть от усталости. Идти и все, идти, держать голову, не сойти с курса. Ночной пейзаж размывается от сна, жажды и голода. Местами фиолетовое небо прорезает черную массу, и на его фоне выделяются ветви, листья – это точно пихты, ели, ольха. Поскольку отец Милы столяр, она разбирается в деревьях, знает форму ветвей, листьев, знает, как пахнут деревья, их смола, кора. Насыщенный запах леса обволакивает кожу. Только бы не поддаться этому лесному запаху, видению отцовской мастерской, напиленных досок, Парижа. Не упасть, идти в ногу с четырьмя сотнями женщин, которые шагают и спереди, и сзади. Между деревьями, домами с освещенными окнами. Затем широкая просека, гладь озера, поблескивающего под луной, сверкающего такими же белыми вспышками, как пулеметная очередь. Желудок обжигает чистая желчь, Мила вдыхает, выдыхает, снова вдыхает, но мощные спазмы разбивают силу воли: она отходит в сторону, и ее рвет прозрачной жидкостью на песок. Ее рвет снова и снова, но она продолжает идти, подгоняемая собаками, которые хватают ее за ноги. Все это время ладонь Лизетты лежала у нее между лопатками.
Во френской тюрьме Брижит сказала Миле через трубу, что ей не повезло с тошнотой. Другие голоса тоже переговаривались по трубам из одной камеры в другую, они читали стихи, сообщали новости с русского фронта, а когда мужчины и женщины поизносили шепотом слова любви, другие голоса умолкали, чтобы влюбленные могли услышать друг друга. Мила никогда не видела Брижит, они были тайной друг для друга. Брижит была всего лишь звуком на протяжении долгих недель, но этот звук был нежным, преданным вечерним свиданием. Однажды она передала Миле замотанные в платок вязальные нити и маленькие спицы, спустив их из окна на веревке. Откуда взялись спицы и нити, Мила так никогда и не узнала. Чтобы утешить Милу после рвоты, Брижит говорит: «Клянусь, ребенок тебя защищает, я уверена», – и в железную трубу поет ей колыбельную. Испанскую колыбельную для ее ребенка: las hojitas de los árboles se caen, viene el viento y las levanta y se ponen a bailar[5], для ребенка и для Милы, которая «такая же, как и ее ребенок», говорит Брижит. Неведению Милы нет пределов, она беременна, впереди Германия, следует верить хоть кому-то или чему-то. Мила верит Брижит не задумываясь. Она защищена, ребенок – это шанс. Как в песне, поднятые ветром листья начинают танцевать. Вот что она себе говорит.
Теперь четыре сотни женщин проходят через ворота и входят в лагерь. Собаки, вой, прожекторы. «Где это мы? – слышны голоса. – Что это за дерьмо?» Бьют, кричат, считают, пересчитывают. Женщины проходят через пустынную площадь, идут по узкому проходу между выстроенными в ряд зданиями с решетками на окнах. Четыре сотни женщин, не считая мертвых, стоят в одном темном зале близко друг к другу. «Что, нечего попить?» «Что ты говоришь?» «Ради всего святого, вы знаете, где мы?» «Они отправят тебя ко всем чертям!» Долгие часы ожидания. Женщины переминаются с ноги на ногу. Неловкие удары, утомленные слова извинений, изнуренные улыбки и намеренные толчки, чтобы захватить больше места. Два ряда двухъярусных нар заняли первые вошедшие. «Ложись, – шепчет Лизетта, пошатываясь, – быстрее, пока еще не весь пол заняли». Они обе ложатся под столом, прижавшись друг к другу, придавленные со всех сторон, подложив чемодан под голову, в зловонном запахе мочи и пота. Они не знают, где они. И это крайне беспокоит. А пока нужно держаться за руки, вбить себе в голову хоть одну уверенность – присутствие друг друга. Если бы они знали, что с ними будет, они бы попросили пулю в лоб на горе Валерьен или где-нибудь в другом месте либо бросились бы с поезда.
Для Милы пока ничто не имеет названия. Есть слова, которых она не знает, глаголы, имена существительные для всего: для каждого действия, для каждой обязанности, каждого места, каждого работника лагеря. Лексическое поле лагеря – это не немецкий язык, а смесь языков, здесь немецкий, русский, чешский, словацкий, венгерский, польский и французский языки. Этот язык дает названия, разбивает на квадраты непостижимую реальность вне себя самой, вне лагеря, проникает, как свет факела, в каждый закоулок. Это язык концлагеря, узнаваемый от Равенсбрюка до Освенцима, до Торгау, до Цвоты, до Рехлина и Кенигсберга. Это скоро произойдет, они дадут название всему, и это будет для всех них. Лагерь – это язык. В эту ночь и во все последующие дни будут возникать образы без названий, как не было названия лагеря в тот вечер, когда они приехали, как нет у новорожденного названий тому, что он видит. Возникнут также звуки без образов: красный треугольник[6], черный транспорт[7], рожистое воспаление, подзатыльники, розовые карточки[8], НН (новорожденный), [штубова], [блокова], [штрафблок], [арбайтсапель], [шмукштюк], [ферфюгбар], [шляге], [ревире], [командо], [югентлагер], [лагерплац], [швайнерайле], [вашраум], [ауфштееюн], [шайсеколоне], [планирунг], [шрайберине], [кэлёр], [лоизо]. Теперь нужно пройти обучение – связать звуки с образами. Придать смысл фонемам. В первое время это невозможно, даже если Мила понимает, что такое raus![9], поскольку она жила в оккупированной Франции, даже если по примеру других на крик [цуфюнт] она становится в колонну по пять на платформе в Фюрстенберге – всегда есть хоть одна женщина, которая знает немецкий и начинает движение. Лагерь – это движение в никуда, движение в небытие, нужно учиться всему заново, нужно все забыть.
Сначала приходят образы. Первый следует после воя сирены посреди ночи. На улице за окном на узком участке между зданиями движутся тени. Одна тень подходит к бараку и проникает в него. Мила смотрит не на бидон, который тащит женщина, не на разливающуюся жидкость, не на гримасы пьющих, которые порой выплевывают черную слюну. Она пристально смотрит на женщину. На ее лицо. Кости. Глазные впадины. Дырка вместо рта. Лобная кость, струпы на лбу и ушах. Женщина наклоняется, платье приоткрывает икры, и Мила видит ее ноги. Масса багровой кожи, не видно ни колен, ни щиколоток, это столбы вместо ног. Есть кости на лице, но нет костей на ногах. На ногах раны, светло-желтый гной течет из открытой плоти, фиолетовые вены, как у мраморной рыбы. «Женщина больна», – думает она. Когда наступает рассвет, через окна залазят другие тела – они далеко, но хорошо освещены, – такие же тощие. Француженки, депортированные несколько месяцев назад, тайком проникают к ним в барак; у них такие же изможденные лица и струпы на теле. В ее мозг сразу же врываются такие слова, как боль, абсцесс, язвы, повреждение, бубон, киста, ганглий, опухоль, которые стали для нее привычными за время болезни матери, но эти женщины говорят: рожа, раны от авитаминоза, дизентерия. Женщина с бидоном кофезаменителя и эти депортированные француженки не больны, они просто заключенные. «[Штюкес], – говорят женщины, посмеиваясь, – куски, мелочь, деталь машины, кусок мяса». Их тела – это теперь ее тело. Их ноги – ее ноги. Их глазницы – это ее лицо, ее глазницы. Мила с ужасом смотрит на себя, и то же самое можно увидеть там, на улице, такие же польки, немки, венгерки, чешки – их по меньшей мере сорок тысяч, говорит одна француженка. И есть еще тысячи безымянных лиц, так же как и эта единственная дыра в глубине помещения, откуда выливаются через край моча и кал, рядом с умывальником без воды, но вид женщины с бидоном и французских заключенных еще более удручающий: они – яркая картина ее будущего.
Затем приходят слова. Их произносят тайно проникшие в барак французские заключенные. Начальница [блока], [блокова], – это их соучастница – два новых слова – и блок – это карантинный блок. Одна женщина находит свою мать среди четырех сотен заключенных и падает в ее объятия. Другие торопятся поговорить: это блок № 11, говорят они, одиннадцатый из тридцати двух. Они говорят быстро, разбившись на маленькие группы, положив руку на окно, чтобы при необходимости выскочить наружу. Они говорят, что [апель] начинается в 3:30 утра, после того как раздают кофе и хлеб. Он длится не менее двух часов, иногда дольше. Женщины рассказывают, что в [Равенсбрюк] работают, Равенсбрюк – это название лагеря, и что они являются [ферфюгбар], имеющиеся в наличии, что они не относятся ни к одной колонне, что они прячутся, дабы избежать какой-либо хозяйственной работы, но в связи с праздным образом жизни каждую минуту рискуют. Они говорят, что нельзя болеть, больные становятся первыми жертвами отбора, их отвозят в другие лагеря черным транспортом, откуда возвращаются только платья с номерами. К тому же нужно избегать [ревире], лазарета, места, где люди умирают массово, которое указывает на вас как на обузу, как на отработанный материал в «Siemens» или в [бетрибе], швейной мастерской. В Revier не лечат. Иногда там дают яд. Там царствуют тиф, скарлатина, коклюш, пневмония. Нужно избегать Revier как можно дольше. Мила понимает: Revier – это смерть. Беременность в перспективе – это Revier, а значит, смерть. Брижит ошибалась. Слишком много незнакомых слов, и голод сверлит желудок, на мгновение она больше не улавливает смысл, речь идет о вшах, волосах, спрашивают, что нового во Франции, о Союзниках, о Париже. Вдруг заключенные испаряются, и входит [штубова], [рухе]!
Затем тихо, почти шепотом поют песни. Молча играют в карты (маленькие прямоугольники, которые они смастерили в тюрьме), и время от времени Stubova: Ruhe![10] Раздают редкий суп, который женщины срыгивают, а в окна стучат заключенные и с протянутыми руками и выпученными глазами умоляют отдать им суп, несмотря на плавающую на поверхности слюну. Они мигом поглощают суп, но вдруг чья-то рука начинает избивать одну из заключенных по голове, по плечам, по затылку, затем они оказываются на полу, их не видно, и не слышно шума, кроме тяжелого дыхания той, кто бьет. Это яркая блондинка в фартуке цвета хаки, у которой от усилий растрепались волосы. Мила пьет. Все. Неведение погружает тебя в настоящее, полностью, день – это скопление часов, час – это скопление минут, минута – скопление секунд, даже секунды разделены, и ты понимаешь лишь мгновение. А мгновение – это суп.
Что делать с животом? С ребенком в животе, срок – примерно три с половиной месяца? Что делать с мешающим телом? Никто не знает, что она беременна, кроме Лизетты и Брижит. Вначале она не хотела об этом говорить из-за суеверия, затем она об этом не думала. Теперь это занимает все ее мысли. Невидимый ребенок – это преждевременная смерть? Она носит внутри смерть? Заткнуть уши и не слушать французских заключенных, появившихся в блоке № 11 и равнодушно, можно даже сказать буднично, говоривших о смерти; они улыбались, без всякого садизма, они были дружелюбны и милы, старались говорить тихо, поскольку, нарушая правило, крайне рисковали. Шел поток накладывающихся один на другой поспешных голосов, они говорили: отбор, черный транспорт, [штрафблок] – карательный блок, [бункер] – тебя там могут забить до смерти, пули в затылок, – они слышат выстрелы, они знают, что в дни казни эсэсовцы получают от маркитанток[11] двойную дозу алкоголя. Болезнь, голод, крематорий, говорили они, смерть вездесуща, как, например, в зоопарке указывают направление, расстояние и видимые ориентиры и затем верный путь. Безусловно, среди них есть активистки с железными нервами, которые встречались со смертью еще в Сопротивлении. И там сидит Мила – прислонившись к ножке стола, который служит ей постелью, и обхватив согнутые в коленях ноги. Она шепчет: «Что же я делаю? Лизетта, что нужно делать?» Лизетта поворачивается к ней, открывает рот, но ни один звук не вырывается из нее. Ее зрачки бегают от Милиных глаз к животу, она подыскивает ответ. Сглатывает слюну, ждет. «Посмотрим, еще слишком рано». И она возвращается к картам. Известно, что Германия – это конец. Нет ничего, кроме настоящего мгновения.
Через узкое отверстие в окне пробивается солнечный луч, и, кажется, это место находится далеко от блоков. Свет отражается оранжевыми пятнами на волосах женщин, на их коже, на стенах. И у Милы в голове всплывает слово «Италия». Она там никогда не была, но оранжевый теплый воздух напоминает ей абрикос, южное тепло, родину ее матери. Ничего более абсурдного не придумаешь. Равенсбрюк – это Мекленбург[12], Сибирь на юге Балтийского моря, ледяная зима, жаркое лето. Мила еще ничего не видела, она может пороть чушь. Во второй половине дня входят и выходят все женщины карантина, tsu fünt[13], на улицу перед блоком с багажом, затем внутрь, затем на улицу без багажа, затем на улицу с багажом, затем в блоке с багажом на улицу, затем на улице с багажом внутрь, наконец идут группами по пятьдесят человек в соседний блок с багажом в руках, едва веря своим глазам: они видят колючую проволоку, вершины сосен, зеленые стены, одну звезду на бледном небе – и все.
В другом блоке, куда их приводят с багажом, французская заключенная говорит, что следует раздеться. Полностью. Мила расстегивает пуговицы на куртке. На блузке. Спускает юбку. [Шнелле]! Жакеты, юбки, блузки, чулки, трусы безвольно падают на пол. Мила повернута лицом к стене, она не думает о своих обнаженных грудях и половых органах, об обнаженных грудях и половых органах других женщин, она думает о пожилых женщинах; самое страшное – это не быть увиденной, а смотреть на прикрывающихся старушек и матерей. [Комхире]! Трещина в стене разветвляется вверху на тонкие неровные жилки. Словно дельта реки. «Дельта Роны», – думает Мила. Ее тело дрожит от холода, она мысленно открывает учебник географии на странице с Камаргом[14], урок двух– или трехлетней давности, на странице она видит птицу с распростертыми крыльями, песок, соль, лошадей. Schnell! Лизетта берет Милу за руку и становится в очередь. Идет регистрация, одна рука прижата к груди, другая к паху. Фамилия, имя, профессия. Голоса перед ней перечисляют: медсестра, фермер, домработница, преподаватель. Мила говорит, что она продавщица в музыкальном магазине, но думает, что остальные не называют свою настоящую профессию. Лизетта представляется домохозяйкой, она лжет, она – токарь, и она шепчет: «Они меня не получат для своих заводов». Вещи кладут на стол. Чемоданы тоже. Чемодан Милы открыт, детские ползунки выставлены напоказ [шоне, шоне]. Мила видит, как ползунки танцуют в бледных руках надзирательницы, похоже, она не видит никакой связи между детской одеждой и Милой с еще плоским животом. Она аккуратно складывает крошечные вещи и откладывает в сторону, на стол, где уже лежат ярко-красные туфли на каблуках, золотые часы и молитвенник. Все остальное лежит грудой на полу. Мила сжимает зубную щетку, заключенные говорили им: «Берегите зубную щетку, это все, что вам оставят». В это время фотографии отца и брата передаются из рук в руки в другой конец комнаты, где женщины уже одеваются, пряча в трусах, завязанных волосах маленькие предметы: шпильку, карандаш, пинцет, кусок мыла. Душ – это тонкая струйка холодной воды. Мокрая, Мила натягивает вещи, которые ей протягивает [ауфсехёрине]: широкое платье в полоску, свисающее на груди и спине, дырявую шерстяную жилетку, полосатый костюм с крестами из краски, трусы в пятнах, непарные башмаки, слишком большие и без шнурков. Лизетта одета в цветастое платье, еле прикрывающее зад, и деревянные колодки-шлепанцы. Она делает такой смешной жест: приглаживает край платья рукой. Старательно расправляет складки, как маленькая девочка, которую празднично нарядили, и сразу вспоминается начало учебного года, причастие или Пасха, а также образ малышки, реальной худенькой девочки, чей рост максимум метр тридцать, которая раньше носила это платье, но выросла или умерла. Мила разражается смехом. Она смеется над кривыми коленями Лизетты, выглядывающими из-под детского платья, слишком ей узкого, воскресного платья в цветочек. И другие лица искажаются в неудержимом немом смехе перед этими клоунскими нарядами – они то в слишком узких, то в чересчур широких бесформенных одеяниях. Смех усиливается после короткого оцепенения при виде лысых голов. Слишком красивые шевелюры, слишком рыжие, слишком густые, слишком сияющие, слишком горделивые, иногда без единой вши. Волосы бреют, из них выпадают мелкие предметы, их подметают и выбрасывают в мусор. Раздается смех, близкий к плачу. Одна женщина выкрикивает: «Пусть меня подстригут, я не хочу у себя паразитов», – но другие подстриженные молчат, медленно поднимая руки от паха к лысому черепу, сдерживая прорывающиеся рыдания. Ruhe, [швайнерайле]! Французская дрянь! В карантинном блоке их предупредили, что здесь ненавидят француженок. А француженки ржут. Свиньи. После пары пощечин у Милы звенит в ушах, и в пяти сантиметрах от ее лица вопит слюнявый рот. Потом конец. Свиньи в летних платьях возвращаются в блок № 11 и пришивают к своим рукавам номер и треугольник, чаще всего красного цвета, обозначающий политзаключенных. «Теперь, – говорит одна женщина, – я помечена, как мои коровы».
Всю ночь у Милы перед глазами лица. Под столом она гладит фотографии брата и отца. Фотографии из фотосалона, с вырубленными фигурными краями. Она проводит большим пальцем по бумаге там, где находятся лица, она гладит лица.
На снимке Матьё всего пятнадцать лет, он только что окончил обучение, он смотрит прямо перед собой, он становится мужчиной. Последние воспоминания Милы датируются семью годами позже. Как и каждый вечер, перед тем как вернуться домой, Мила заходит за Матьё. Он только закончил свой рабочий день в ресторане «Ла Фоветт», который также называют «Два Селезня», потому что напротив ресторана по ночам тайно печатают две газеты. В «Ла Фоветт» соседствуют повстанцы и эсэсовцы, которые сюда приходят после сеанса в кинотеатре «Рэкс». Ресторан занимает огромное помещение, здесь потоком льется алкоголь, ходят девушки в узких платьях и играет джазовый пианист, здесь всегда есть посетители, а значит, это место как нельзя лучше подходит для того, кто хочет скрыться. «Ла Фоветт» – отличный «почтовый ящик», в то время как Матьё выполняет заказы, он также получает и передает сообщения. В тот день Мила видит, как Матьё стоит на другой стороне улицы. Он улыбается, смотрит на Милу и часто моргает, а потом чья-то рука ложится ему на затылок и толкает в салон черного автомобиля. После ареста «ситроэн» трогается, и больше о Матьё никто ничего не слышал.
На обрамленной в рамку фотографии отца не видно кресла на колесах. Это другой человек, не хватает не только кресла на колесах, но и нижней части тела, отрезанного по бедра. Верстак специально сделан под кресло, под его высоту. Отец вынужден изготавливать лишь небольшие предметы: шкафы, тумбы, столики, рамки, игрушки. Для больших вещей – окон, дверей, кроватей, библиотек – нужны ноги, только с их помощью можно согнуться над верстаком, делать размашистые движения и прикладывать огромные усилия. Отец обрабатывает мягкую и податливую древесину, белую древесину, древесину для девочек, как он говорит. Когда ей было четырнадцать лет, а отец еще стоял на своих ногах, он работал с дубом, каштаном и вязом, теперь в ходу одни пни. Сюзанна помогает отцу с самого детства. Подает ему инструменты, хранящиеся в лотке или прикрепленные к стене. Отец смотрит на протянутую руку дочери, на ее крепкие бицепсы. А еще она знает, что он смотрит на белую подмышку под коротким рукавом, на ее начавшую формироваться грудь, а когда она поднимается на цыпочках, чтобы снять угольник, он смотрит на ее ягодицы, не прикрытые одеждой или в обтягивающих шерстяных трико. Иногда, когда они остаются наедине, рука отца нежно, но в то же время крепко задерживается на ее заде – из-за кресла они с отцом одного роста. И тогда Сюзанна пристально смотрит на рейсмус, рубанки, пилы, то, что режет и дробит, – это всего на расстоянии вытянутой руки. Она говорит: «У меня есть ноги» – и рука удаляется. Она думает: «Мать мертва, и отец страдает». Она жалеет его. Он оставляет ей опилки, чтобы она могла наполнить ими кукол. Однажды он мастерит ей аналой[15], ей ровно двадцать лет, и она продает партитуры в музыкальном магазине. Это аналой из опаленной вишни. Она уже давно не играет на рояле. Она смотрит на отца, не понимая, она сейчас намного выше его, где-то на голову. Он говорит: «Сюзанна, если хочешь сделать мне приятное, сыграй на рояле». На рояле, как ее мать, на которой он женился в двадцать лет. Она сожалеет. Она не доставит ему удовольствие. Последний образ – отец держит руку на рубанке, побелевшие костяшки пальцев, крепко сжимающих рубанок, чтобы скрыть нарастающую дрожь.
У третьего лица нет фотографии. Лицо поглощено темнотой, оно промелькнуло в свете витрины магазина после того, как перед самым закрытием был произнесен пароль: «Будьте добры, “Песнь Мануэля де Фалья”». Мила проводит мужчину в подсобное помещение, вытаскивает из кармана маленький ключ и открывает стенной шкаф под лестницей. Мужчина приподнимает куртку, и при свете горелки она видит кровоподтек на ребрах, пот на лбу. Она дезинфицирует и перевязывает рану. Слишком поздно идти к врачу и возвращаться домой, наступает ночь. Она гасит горелку. Запирает за ними двери шкафа. Садится рядом с мужчиной. Они в темноте и в вынужденной тишине, нарушить правило означает смерть. Он уйдет на рассвете, не оставив следа. Она слушает, как потрескивает лестница, пищат мыши, стучит дождь по железным мусорным ящикам. Мужчина дрожит. Она переворачивает перчатку на его лбу, дает ему пить, она боится, что он застонет в горячечном бреду, и кладет руку ему на рот. И тогда случается это. Мила прикасается ко рту мужчины, трогает его скулы. Гладит затылок. Трогает плечо, бедро через одежду. Трогает под рубашкой, оберегая рану, прощупывает тело, прикладывает к нему теплые ладони, чтобы представить себе его образ, оценить его размеры. Он позволяет ей это делать, потому что ему больно, потому что ему приятно. Если он пошевелит рукой, они серьезно рискуют. Он приближает ее к себе, она направляет его движения, и они начинаются двигаться, медленно, она вдохновляет его, не принуждая к какому-либо усилию. Это день аналоя из вишневого дерева, у нее нет жалости к мужчине, она просто хочет доставить ему удовольствие, облегчить его состояние, она, которая дала отпор отцу, отказала ему, сейчас дает сама, она на это способна, просто дает, без всяких просьб. Они нарушают самое главное правило – никогда не спать с членом подпольной организации, – и смерть подстерегает их в собственном лагере. Но несчастье приходит издалека, на следующий день, когда мужчина уходит в новой одежде и с дозой морфия. В магазин входит другой мужчина: «Будьте добры, Вторую симфонию Шуберта». Мила вынимает маленький ключ из кармана и оставляет его – это знак. Ее арестовывают, заталкивают в черный автомобиль, кто-то ее предал. Теперь человек из шкафа обрел черты композитора, который был паролем, Мануэля де Фалья, бледного и меланхоличного. Мила отгоняет грустное видение. Она ждет ребенка от человека без лица. Не ждет, она его носит.
На какое-то мгновение она засыпает.
Первый Appell[16] на [лагерплац], центральной площади, – это шанс выйти на улицу. Во время карантина ты выходишь только на Appell. Сирена в 3:30, и сразу же кофе, кусочек хлеба – такой же тонкий, как долька яблока, и стоит ключевой вопрос: съесть одним махом или за несколько раз? Чтобы создать массу, Мила откусывает кусок хлеба и запивает кофе, комок дерет пищевод и временно давит на желудок. А в это время очередь в [вашраум], то есть W.-C., удлиняется, туалет покрыт экскрементами, вдруг вереница из четырех сотен женщин разлетается. «Raus für Appell!» – кричит надзирательница Аттила, это прозвище ей дал конвой из тридцати пяти тысяч женщин. Накануне эта блондинка избила голодную заключенную под окнами блока. «Аттила» – это первая выдумка, первая свобода для тридцати пяти тысяч в Равенсбрюке. Кофе или W.-C. – нужно выбрать. Наполниться или опорожниться. Затем выйти.
Первый Appell – это момент, когда зрачки бегают, как глаза мухи. Смотрят. Определяют пространство. Можно двигать зрачками от одного угла глаза к другому и сверху вниз, не поворачивая голову, не дрогнув ни одной мышцей, нужно оставаться неподвижной, француженки сказали: «Притворись стелой[17]». На песчаной земле тени. Вверху несметное количество звезд. И наконец, бледнеет горизонт. И вот уже сорок тысяч женщин выходят из ночи к рассвету. Сорок тысяч стел. Четыреста карантинных стоят в стороне, но они все видят, и это ужасно. Уродство одинаковых лиц, лохмотьев, тощих безжизненных тел, которые в конце площади уменьшаются до размеров спички. Позади сорока тысяч – одинаковые бараки, за бараками – зеленые стены, за зелеными стенами – верхушки сосен и колючая проволока. Вот что попадает в поле зрения и молчания, а еще силуэты и голоса эсэсовцев, Aufseherins[18] в униформе и псы с татуировками. После услышанного слова Appell, после увиденного Appell через окна блока теперь они на себе испытывают, что такое Appell. Это стоять, как стела, в сиреневом рассвете на укрытой ковром из инея площади. Камнем заковать колени и щиколотки. Сдерживать каменный мочевой пузырь, до смерти сжимать промежность. Всматриваться во что-нибудь, в какую-нибудь точку, чтобы превратить тело в камень. Например, в женщину, стоящую напротив на другом конце Lagerplatz, или лучше в пятно ее лица. Прилепиться к нему. Надолго. Держаться, не щуриться – ну хотя бы попытаться – и содрогнуться при виде женщины, на икрах ног которой не хватает плоти. Понять, что эта женщина – подопытный кролик, инфицированный стрептококком, потом ей резали гангрену, пересаживали мышцы другой заключенной, и лагерный врач наблюдал невооруженным глазом за процессом заражения в открытой ране на икре, бедре или животе, об этом рассказывали француженки. Во что бы то ни стало стоять как стела. Отбросить мысли о скрытом в чреве ребенке, о потенциальной смерти, таящейся в утробе. Нужно смотреть далеко, на что угодно, лишь бы не на очертания людей, наполненные страхом, гневом, трепетом. Ветки, синева небосклона. Первые лучи солнца отражаются от крыш бараков. Подумать об Италии, далекой, нематериальной, воображаемой территории, безопасной для тела, где на согретых солнцем каменных домах греются ярко-зеленые ящерицы. По ногам Милы медленно течет моча, прямо в ботинки.
В блоке, неизвестно как это прижилось, вероятнее всего из-за скуки (да и потом, женщины просто сильны духом), они начали беседовать. Одна говорит о Бретани, другая – о природе Амазонки, третья преподает немецкий язык, коммунистки собрались в группу и читают стихи. Лизетта говорит Миле: «Ты должна заниматься сольфеджио». И в ожидании того, что должно последовать и о чем она ничего не знает, Миле не приходит никакой другой идеи, чтобы себя отвлечь. Она разводит пальцы на левой руке, расположив их как нотный стан, защипывает их большим и указательным пальцами правой руки и начинает. И тогда она вспоминает о проведенных под лампой ночах на улице Дагер, где за опущенными шторами она шифровала сообщения на чистом нотном стане, засунув их между страницами партитуры. Для каждой буквы алфавита есть своя нота – на это потребовалось чуть более двух октав, включая белые и черные клавиши. «Сокол десять часов то же место» – фа до соль# ре ре до# ре# соль# си соль ми соль# фа ми фа# до ми до ми ми до# ре# фа ре ля соль на одном нотном стане в 4/8. Левая рука – чистая фантазия, она сочетает звуки, но мелодия из них режет уши. Здесь, в лагере, она пытается создать что-то красивое, нежную мелодию для тех четверых, которые хотят научиться. И они тихо напевают простой мотив фальшивыми, дрожащими голосами вперемешку с сухим хриплым кашлем.
Позже Blockhowa приказывает раздеться и выходить. Надзирательницы орут, скоро Мила больше не будет этому удивляться: ор – норма, и очень быстро это слово исчезнет из обихода их конвоя, как оно исчезло не только из лексикона предыдущих конвоев, но даже из их мыслей. На улице Мила стоит обнаженная рядом с Лизеттой вместе с четырьмя сотнями, не считая умерших. Она ждет. Долго. Это карнавал, подходят эсэсовцы и разглядывают слишком короткие одежды, истертые на локтях, коленях, запущенные стрижки. Они показывают пальцем, комментируют и смеются, пуская сигаретный дым. И в теле Милы отзывается болью жуткая картина: шрам на животе от диафрагмы до паха, свисающие до ребер груди, бедра и ягодицы, продырявленные целлюлитом, слишком узкая грудь и широкие бедра. Ей так же больно и за другие тела с приятными формами, ведь некоторые женщины еще в теле, старухи вызывают отвращение, но вот молодые с полными грудями питают мечты эсэсовцев, и этой ночью они попрыгают верхом на них, а сейчас они возбуждают их фантазии. Мила и Лизетта замыкают строй, женщины прижимаются друг к другу, а ведь они никогда не видели зад ни матери, ни сестры. Формируется блок из кожного покрова, заполняются все пустоты, слипаются в непроницаемый снаружи панцирь, мягким к твердому, кость к плоти, мускулы к мускулам. Они стоят спиной, закрыв глаза, как дети, уверенные, что их не видят, их не могут увидеть. Лают собаки и разгоняют их. Tsu fünt! Оплеухи, пинки под зад.
В комнате, куда Мила входит обнаженной, один мужчина раскрывает ей челюсти, осматривает рот, изучает зубы, дыры в зубах. Одна заключенная записывает. Raus. В комнате, куда Мила входит одетая, стоит стол, на столе лежит женщина с задранным платьем, раздвинув ноги. Мужчина осматривает ее половые органы. Мужчина ныряет рукой у нее между ног, она вздрагивает, он высовывает руку, смотрит на пальцы и вытирает их о полотенце. На нем нет перчаток. Raus. Женщина опускает платье, надевает трусы и выходит. Теперь очередь Милы. Мужчина дает ей знак снять трусы. Она ложится на стол. Мужчина поднимает ей платье, прощупывает живот, рассматривает лобок, хватает зубную щетку и проводит по волосам. [Kannelonseu], «вшей нет», переводит ассистентка-заключенная. Затем мужчина разводит ей бедра. Он сделает это. Он сделал это другой, теперь он это сделает ей. Он будет ощупывать ее живот изнутри. В животе – ребенок, он потрогает ребенка в глубине слизистой оболочки, он будет скрести своими ногтями слизистую, исцарапает ребенка. Она сжимает бедра. Как там все внутри устроено? Закрыто ли там? Может ли это открыться от ударов? Есть ли нервы у ребенка, которому три с половиной месяца? Она знает, что есть красная труба с мячом на конце, ей кто-то говорил об этом, кузина или учительница, она уже не помнит. Может ли этот мяч лопнуть, как воздушный шар? Выпадет ли ребенок? Знают ли об этом другие девушки, те, у кого была мать и которая не выбросилась с балкона, когда им было семь лет, потому что смерть была менее страшной, чем болезнь? Знают ли они, как устроен женский организм, его чрево, из чего оно состоит, его формы, толщина, расстояние между внутренними органами и внешней оболочкой? Она напрягает мышцы. В день, когда у нее началась менструация, учительница помогла ей застирать марсельским мылом пятно на платье и одолжила ей другое. «У тебя есть тетя? – спросила учительница. – Или бабушка, которая могла бы тебе все объяснить? Нет? – Тогда она объяснила сама: – Когда ты будешь вынашивать ребенка, это больше не будет выходить из тебя каждый месяц». И Сюзанне пришлось рассказать об этом отцу, поскольку следовало сделать необходимые покупки, а потом, оцепенев от стыда, она закрылась в своей комнате. Отныне будет течь кровь. Но откуда и как? Женские разговоры – неизведанная территория. Сюзанна представляла себе извивающиеся трубы, внутренние полости, узлы вен, фиолетовые спирали, наполненные жидкостью, она никогда не была в этом уверена, но никто и не опровергал ее представления. Она трогала вязкое, то белое, то темно-красное вещество, которое выходило из нее, и понимала, что она уже больше не девочка. И действительно, после этого отец ей сказал: «Сюзанна, не приближайся к парням». Она корит мать за то, что они так плохо друг друга знали, за то, что мужчина в белом халате знает больше, чем она. И теперь он это сделает, он сильнее ее, и здесь нет никакого инструмента, которым можно было бы раздолбить ему руку, – ни рейсмуса, ни рубанка, ни пилы. «Не тронь меня» – до# ми до ми соль ре соль# ре соль ми ре# до фа#. Вот именно, «не тронь меня!». Но мужчина принуждает ее и погружает палец между бедрами, и тогда у нее срабатывает рефлекс: она сводит ноги, словно челюсти, две выпрямленные ноги зажимают его руки, будто в тисках. Он орет, бранит ее на своем языке, затем изучает руку и пристально смотрит на Милу: «Oncinte? Oncinte?» Заключенная, которая ведет запись, едва заметно трясет головой, глядя Миле прямо в глаза. «Нет», – тихо выговаривает заключенная. А Мила выкручивает себе пальцы и про себя умоляет: «Нет». – «Oncinte?» – повторяет мужчина. Мила смотрит на заключенную, копирует движение ее губ. «Нет, – говорит она, – не беременна». – «Да, oncinte, да, да, да!» – «У меня были месячные на прошлой неделе». Пауза. Мужчина в белой рубашке смотрит на часы. «Raus».
Во второй половине дня Мила узнает о детях. Ассистентка врача проскальзывает в блок № 11. Она не выдает Милу, а привлекает внимание всех женщин. Она говорит быстро, на одном дыхании. Она говорит, что раньше – намного раньше, неопределенно когда, но до ее приезда в лагерь в январе 1944-го вместе с конвоем двадцати семи тысяч, – женщинам здесь делали аборт даже со сроком в восемь месяцев, а потом плод сжигали прямо в котельной. Женщины также умирали от кровотечения, когда им связывали веревками ноги и ребенок оставался внутри. Потом женщинам разрешили рожать, но после рождения ребенка топили на глазах у матери. И тут всплывают в памяти котята, которых они не смогли оставить. Там дома, на улице Дагер, когда кошка приводила за раз пять или шесть котят, отец Сюзанны топил их в ведре с водой, а малышка рыдала на кухне и смотрела на часы, с нетерпением ожидая, когда это наконец закончится. Отец кричал ей со двора: «Им не больно, Сюзанна, это быстро пройдет, и потом, на улице они подхватят чесотку, или попадут под колеса, или сдохнут с голоду!», – но проходило добрых полчаса – о, это долгое тиканье! – перед тем как отец выходил из дому, держа в руке мешок с маленькими трупами. Для Сюзанны это было непросто, она не была деревенской девочкой, равнодушной к тому, как с кролика сдирают шкуру, как свиньям перерезают горло или как петухам рубят голову над тазиком. Она не привыкла к крови. Она смотрит на завязанный мешок, на бесформенные очертания утопленных руками отца котят – с желанием сделать им могилку в керамическом вазоне, ее мать тоже где-то похоронена в таком. Но каждый раз она останавливается при мысли, что ей придется прикасаться к мертвым котятам. И тогда отец, успокаивая ее, говорит: «Сюзанна, они попадут в кошачий рай». Заключенная говорит, что теперь детей оставляют в живых, но сама она никогда не видела хотя бы одного младенца в лагере, не видела и не знала хоть одной беременной женщины с момента своего приезда в Равенсбрюк. Она ничего точно не знает, но считает, что сейчас менее страшно, чем раньше, однако ни в чем не уверена. Мила спрашивает: «Почему вы все это рассказываете?» – «Потому что это трудовой лагерь. Здесь женщины вкалывают до изнеможения, работа забирает у них все силы, а из-за беременности ты уже не такая производительная Stück, поэтому лучше ничего не говорить». Потом заключенная уходит.
Для первого раза слишком много потрясений: крики, собаки, нагота, вши, голод, жажда, отбор смертников, пули в затылок, Revier, отравление ядом, работа, которая убивает, подопытные кролики, беременность, невидимые новорожденные. Каждое открытие порождает у Милы новые вопросы, которые лишь расширяют поле неведения, ужаса, и Мила чувствует, что потрясения и дальше будут продолжаться. Лизетта говорит: «Скоро в Европе высадятся союзные державы. У тебя еще живот не вырастет, как мы отсюда выберемся!» И таких, как Лизетта, много, они верят в скорую победу. Но Мила видела и тех женщин, которые затыкали уши, когда заключенная рассказывала о новорожденных, они не могли ее слушать, так как не могли в это поверить.
Во время поверки Мила ищет взглядом беременных женщин и детей. Платья скрывают животы. Ничего не видно. Она рыщет по рядам, рассматривает идущих в колонне, а в блоке целый день приклеена к окну. Она просит про себя: «Пожалуйста, пусть будет кто-нибудь еще такой, как и я, пожалуйста». Никому ничего не говоря, умоляет саму себя не терять надежду: «Пожалуйста, поверь, что это возможно, поверь в это». От ветра одежда прилипает к костлявым ребрам. Нет беременных женщин. Нет младенцев.
Глава 2
Через шесть дней и семь ночей четыре сотни, не считая мертвых, освобождают помещение. Конец карантина, блок № 11 пуст. Женщин распределяют в три блока, объединяют с толпой незнакомых тел, которые хоть и отличаются цветом кожи, формами, количеством зубов, олицетворяют картину их ближайшего будущего. Теперь обитательниц лагеря можно рассмотреть вблизи. Увидеть себя в их зеркале, проникнуть сквозь зеркало, коснуться их тел и сказать себе: «Это я. Все эти женщины – это я». Прочитать нашитые на рукавах номера и задать себе вопрос: сколько недель пройдет, прежде чем твое тело станет таким же? Пока женщины ждут, чтобы войти в блок, в черном ночном окне ты замечаешь размытые черты своего лица, неясные, похожие на другие лица, лица Stück. Ты уже знаешь, какая тебя ждет деградация.
Когда они входят в блок, по толпе пролетают слова «тридцать пять тысяч», в толкотне слышны тихие приветствия и пока еще вежливые «извините», «прошу прощения»; из уст в уста передаются слова, и шеренга новеньких растворяется в сутолоке блока. Мила движется среди русских, полек, немок, а также француженок. Глубинный гортанный голос изрыгает слово: «Холера». Холера, холера, холера, всюду двухъярусные нары, холера. К Миле подходит одна француженка и говорит: «Нас уже по двое, иногда по трое на нарах шириной шестьдесят пять сантиметров. Вчера отправили конвой военнопленных, и освободилось немного места, но вы посмотрите, здесь все равно битком набито». Это они – холера, прибывшие сюда тридцать пять тысяч. «Идите сюда, – говорит женщина, – мы найдем вам уголок». И несколько человек, среди которых Мила и Лизетта, следуют за ней.
Женщина проводит их в глубь барака. Здесь полно француженок. Она говорит: «Свое место нужно охранять, потому что их захватывают. Каждый день нужно искать себе место, изо дня в день все повторяется. И ничего не оставляйте на нарах, ни зубную щетку, ни одежду, ничего и нигде. Все привязывайте к себе, воруют все. Все. И нужно найти веревку».
Мила, Лизетта и остальные женщины садятся на край соломенного тюфяка. Поднимается ночной холод. Женщины ищут друг у друга вшей, согревают теплым дыханием между лопаток. Их слившиеся голоса создают отдельное, временно изолированное от остальной части помещения пространство.
– Я во время поверки смотрю на звезды. Я считаю их, как точки волшебного рисунка, и возникают образы, я вижу колесницу, вижу лошадей, вижу льва.
– А я думаю о рецептах, особенно о сладостях.
– А я читаю стихи.
– А я стараюсь ни о чем не думать.
– Я тоже вся в кулинарных рецептах, например кролик и вкусное пюре с маслом.
– Или торт «Париж – Брест»[19]. Со сливками и орехами.
– А я всматриваюсь в небо, в его цвета, я никогда не видела подобных рассветов.
– Я тоже. Небо здесь красивое. Грустно.
– А я про себя пою.
– А я думаю о дочери. Мне хотелось бы услышать ее голос. Пытаюсь пресекать такие мысли, но не могу.
– Заткнись.
– А мне очень плохо. Я думаю только о том, как бы не упасть. Не падай, Жоржетта, не падай…
– А я повторяю немецкий, все, что выучила накануне с Марианной.
– Я слушаю. В это время поют птицы, не знаю, какие именно, но их пение восхитительное.
– А у меня бывает по-разному. Это не зависит от меня, иногда приятные мысли, я думаю о том, когда снова встречусь с детьми, мужем. А бывает, эти же мысли меня убивают.
– Американцы скоро высадят десант, это вопрос времени.
– А твоя сестра?
– Мы видели взрывы бомб, недалеко отсюда, русские наступают, это точно.
– А твоя мать, она занимается гимнастикой?
– А я прикрываю глаза и пытаюсь напитаться ощущениями. Свежий воздух. Солнце нежно пригревает. Как у меня дома, в Берри.
– А я боюсь поноса и сжимаю сфинктер[20].
– Я решаю уравнения.
– А еще антрекот с кровью, и хрустящий жареный картофель, и острая горчица.
– Клубника со сливками…
– Яйца кокот…
– Заткните глотки!
– Вот дерьмо, у меня от этого спазмы.
– Ты добавляешь уксус к яйцам?
– Моя мать больна. Была больна. Сейчас не знаю. Во время поверки я думаю о матери, молю, чтобы она меня дождалась.
– Кого ты молишь?
– Я тоже молюсь. А ты, Лизетта?
– Я представляю, как возвращаюсь в Париж на Восточный вокзал, встречаюсь с подругами, иду на завод, вот.
– Ты мечтаешь.
– Я хотела бы верить в Бога.
– В любом случае со дня на день бошам[21] крышка.
– А ты, Мила?
– А я, – говорит Мила, – я шифрую. Как делала раньше, когда шифровала сообщения на музыкальной партитуре.
– А что ты шифруешь?
– Все. Все, что вижу: цветок, дерево, заключенную; все, что чувствую, слышу, иногда слова из песни.
– Цыпленок с вареными овощами и рисом, с сочным сладким перцем…
– И с сидром, и с сидром.
– Мила, а как зашифровать «ах, с сидром»?
– До соль ми соль# ре соль# ми фа ми.
– Сегодня утром мне на плечо села божья коровка и пробыла там почти всю поверку.
– И хоп, задохнулась от дыма крематория!
– Мила, а божья коровка?
– Ре ре ре ре соль# до# ми си си ми.
Мила не рассказывает о том, что во время поверки она ищет беременных женщин. Стремится их найти, хотя на самом деле она старается шифровать все, что видит; она это делала со дня ареста, в тюрьме во Френе и в Роменвиле, и это превратилось в рефлекс. Брижит говорила ей через свинцовую трубу: «Не спи, малышка, заставляй работать свой мозг». И тогда Мила шифровала, шифровала часами, шифровала в камере, шифровала во время допросов. Они могли ее бить, а она не теряла нить. Это помогало ей держаться, несмотря на боль в разбитой челюсти. Она шифровала, держа в голове клавиатуру – две с половиной октавы, двадцать шесть белых и черных клавиш, на которых она перемещалась, как по алфавиту: до – это А, до# – Б, переводила изображение на окно, на пустой синий квадрат. И не важно, какие слова, даже те, которое произносят они. «Говори!» – до ми фа си ми. Шифровала, когда держала голову под водой, шифровала, стуча зубами, шифровала, чтобы замолчать, шифровала, чтобы не разодрать до крови кожу, пожираемую клопами, шифровала, чтобы держать спину прямо, и во время поверки, тайно охотясь за животами и младенцами, она продолжает шифровать. Шифровать – значит быть вне. Быть в Париже. Быть на улице Дагер под светом лампы, за закрытыми шторами, с пером, чернилами и чистым нотным станом. Быть в музыкальном магазине. Встречать Матьё на выходе из «Двух Селезней». Быть свободной. Не беременной.
– А я больше не хожу на поверку, я остаюсь на крыше.
– А я – это поток воздуха внутри меня, который течет миллиметр за миллиметром.
– Тсс!
Впервые после мартовского ночного перехода от Фюрстенберга до Равенсбрюка Мила видит озеро при свете дня. Длинная колонна женщин tsu fünt выходят за ворота лагеря. Как сказала одна заключенная, они направляются к железной дороге разгружать вагоны. Озеро, высокая колокольня, деревья, камыш – ну просто почтовая открытка в буколическом[22] стиле, от которой у заключенных щиплет в глазах, как от перца. Они изголодались по красоте, их глаза привыкли к мерзким картинам: судорогам, побоям, укусам собак, слизи, язвам, фурункулам, роже, тифу, туберкулезу, крови, гною, гангрене. И тут вдруг поднять глаза и увидеть зелень и водную гладь – это почти чересчур, но это жжение успокаивает. Увидеть цветы, анютины глазки и красные сальвии. Увидеть листья. Увидеть, как из земли выползает толстый розовый земляной червь, словно кусок сала. Увидеть, как вразвалочку ходят утки, как в грязи валяются свиньи, а вдалеке огород для эсэсовцев, где созревает сладкая морковь, фасоль и еще белая клубника, где процветает жизнь, а им, заключенным, кричат: «Schneller! – Не трогать!» Каждый день видеть, как переливается свет в усеянной росой паутине между двумя стебельками ириса. Видеть озеро, деревья, бабочек. Но это как в кино, словно все это – изображение на экране, бесплотное и недоступное. А озеро, с его прохладной и обманчивой водой, – это озеро-мираж.
Было бы так хорошо напиться. Попить и сберечь немного воды еще на один раз, потому что у Милы из-за тошноты все выходит обратно: суп, кофе. Рвота извергает то малое, что она поглощает, – немного жидкой массы, где плавают один-два кусочка овощей, и хлеб. Француженки говорят, что нельзя пить воду из Waschraum из-за зараженности ее бактериями, вызывающими тиф и дизентерию, поэтому Мила воздерживается. Но озерная, темная и неподвижная, вода манит. Не смотреть на воду. Не прикасаться.
Спазмы возобновляются. Неужели желудок такой же твердый, как камень? Давит ли он на ребенка? На голову или куда-то еще? Придавливает ли его желудок, сворачивается ли он калачиком? Она уже держала младенца в руках и знает, что вверху на голове у него есть мягкий участок, где кости еще не закрылись, может быть, он разрывается, как пенка на молоке? Рвет ли она тем, что питает ребенка? Умирает ли ребенок от тошноты? Вчера Лизетта спросила: «Мила, ты уверена, что беременна?» Мила ответила: «У меня нет месячных уже четыре месяца». И на мгновение она засомневалась. Пока колонна из сотен женщин продвигается вдоль озера, Миле очень хочется поговорить с Брижит, как во Френе, приложить рот к трубе и сказать: «Брижит, объясни мне». Она хотела бы спросить у Брижит, как можно быть в этом уверенной. Достаточно ли того, что ее тошнит и у нее больше нет месячных? А если ребенок умер? Мила хочет пить, у нее такая жажда, а ребенок тоже хочет пить? А вдруг он засохнет? И в этой бесконечной череде вопросов и ежедневном неведении она все меньше думает о ребенке – ведь пока для нее это всего лишь невесомое слово, – а все больше о себе: может ли она умереть, если в утробе будет мертвый ребенок?
Германия разграбила всю Европу и теперь собирает добычу, как попало сваленную в вагоны. Тут есть книги на немецком, чешском, польском, разгружают медикаменты, газовые плиты, картины, хрустальные бокалы, рулоны хлопчатобумажной ткани, вилки и шкафы времен Людовика XV, женские головные уборы. Ангары наполняются грудами шуб, посуды, стульев. Мила разгружает ящики с книгами. Подняться в вагон, взять ящик, поднять ящик, сначала сгибая спину, потом, по примеру других женщин, присев на корточки, чтобы поберечь спину, затем поднять, напрягая мышцы живота, сделать несколько шагов своим обескровленным туловищем. Подождать, держа ящик на уровне таза, пока пройдет головокружение от голода, пока растают пятна перед глазами, и передать ящик Лизетте, стоящей снаружи, которая в свою очередь передаст его третьей, – и снова то же самое. Выиграть несколько секунд, когда надзирательница отойдет и отвернется, разговаривая с другой надзирательницей или своим псом. Дождаться этой передышки между двумя ящиками, застыть на мгновение. Может ли ребенок задохнуться под бетонной тяжестью на животе? Больно ли ему, если так болит спина?
Ночь наполнена звуками: кашель, храп, шум испражнений тел в Waschraum, а также слышно, как что-то медленно капает с одного тюфяка на другой. Мила и Лизетта укладываются валетом, положив обувь под затылок, – они стараются ногами не касаться лиц. На фоне общей вони ноги уже не пахнут: потоотделение; гниющие открытые раны; следы испражнений на одежде из-за дизентерии; экскременты, высыхающие по периметру блока, – не в силах ждать, когда освободится единственная дыра, заключенные предпочитают скорее присесть тут, чем сделать это под себя. Мила прижимает к себе кусок веревки, она нашла его сегодня в вагоне и спрятала в манжете. Завтра нужно продырявить зубную щетку и консервную банку, которая служит котелком, и привязать к платью. Миле холодно, Лизетте холодно, они дрожат, прижавшись друг к другу; неуемная дрожь не дает заснуть. Женщины с нижних тюфяков шепчут:
– Мне снится муж.
– Ты только приехала. Подожди немножко. Скоро будешь видеть сны о еде.
– А потом однажды упадешь, полностью разбитая, на тюфяк и провалишься в сон, как камень в воду. Мне больше не снятся сны.
– А я вам говорю, закройте пасти, балаболки.
На какое-то время Мила засыпает или почти спит, но этого достаточно, чтобы не слышать звуков, издаваемых ртами и телами, и погрузиться в сон. Мила видит мать у пианино – старого семейного пианино с желтыми клавишами, стоящего в прихожей. Мила смотрит, как мать играет, как ее очень длинные пальцы пробегают по клавиатуре. Нужно видеть эти руки, иногда они отбрасывают тень на стену, и эта тень похожа на длиннокрылых птиц, целый птичник – лебеди, розовые фламинго, чайки. Во сне Мила кладет свои руки на руки матери, как она делала в детстве, мать ставит ее ноги себе на ноги, и они начинают танцевать. Это вальс рук, и они двигаются под управлением матери, и Мила чувствует, как у нее под ладонями двигаются сухожилия, фаланги, – мать больна, но ее руки живые. И вдруг клавиши кусают кисти матери. Лента хищных зубов отрывается от пианино и плывет в сторону открытого окна. Тянет мать к окну. Бросается в пустоту вместе с матерью.
Проснувшись, Мила вспоминает пианино, которое вчера сгружали из вагона с награбленным. Светлое пианино, похожее на пианино из прихожей, на котором играла ее мать. Пять заключенных с трудом вытащили его из вагона и поставили прямо среди лежащих на земле скрипок, виолончелей, гобоев, туб и труб, сваленных в кучу сверкающих флейт, чьи формы напоминают тела мужчин и женщин (пианистов, скрипачей, виолончелистов – музыкантов призрачного оркестра, которые теперь где-нибудь в тюрьме, или в лагере, или мертвы) и тело погибшей матери. Нет никаких сомнений, что пианино напомнило Лизетте о тетке, о том времени, когда она была Марией, а ее кузина Мила – Сюзанной; затем перед ней возникла картина: ее тетка лежит на мостовой и рука какого-то взрослого прикрывает ей глаза. Яркими вспышками последовали другие картины: закрытый гроб от самого морга; кричащее красное платье Сюзанны на погребении – красный цвет был талисманом ее матери; приезд Сюзанны с братом летом в их дом в Манте. Во время летней жары они каждую ночь держались за руки, лежа втроем на большой двухместной кровати, и пытались заснуть. Вдруг на пианино закапал дождь. Мила тут же представила, как металл покрывается ржавчиной, как от воды дерево коробится и трескается. «Schneller, du Sauhund, du Schweinerei!»[23] Еще новое, полированное пианино, на вид нетронутое, становится гнилым. Следовало бы его порубить топором.
В другом сне Мила склеивает кусочки тела матери, собирает паззл из разбросанных на земле частей тела. Она складывает руки, ноги. Но что делать с какими-то внутренними органами, розовыми и красными слизистыми трубками и непонятной плотью? Она очень хотела бы знать, как это нужно соединить; она по всей комнате ищет инструкцию, но безуспешно. Мать не оставила инструкцию. Мила пристально смотрит на неподвижное тело. «Как ты могла забыть оставить мне инструкцию?» Она ругает мать, она не знает, как устроен женский живот, она кое-как забрасывает внутренности в дыру в животе. «О, этот живот» – для нее это огромный пробел. Она знала о Германии, все остальное оставалось для нее неведомым.
Затем к ней в сон приходит лагерь. Каждую ночь повторяется день, то есть она проживает два раза один и тот же день, и новый день похож на предыдущий. Она теряет чувство времени, теряет связь с внешним миром. Лагерь – бесконечный день, который длится все дни и ночи, длинный, бесшовный день, усеянный образами мертвых.
Сначала картины первых трупов. Это происходит ночью. Мила встает в темноте, натыкается на нары, ноги, свисающие с тюфяков руки, на нее проливается дождь проклятий. Она идет в Waschraum с мучительными позывами помочиться, поскольку долго терпела из-за усталости и из-за тех усилий, которые нужны, чтобы выпрямиться и встать. Она идет вперед, держа обувь в руках, на шее висит зубная щетка, а котелок привязан к поясу, фотографии отца и брата в левом носке. Она сгорбилась и напрягает мышцы, чтобы добежать до дыры. На земле понос недобежавших женщин. Ей навстречу идут поникшие молчаливые призраки. Она входит в Waschraum. И тут она видит лежащую на плиточном полу кучу тел. У них открыты глаза, открыты рты, груди и лобки выставлены напоказ. Сегодня утром их не было, значит, это ночные трупы. Уже голые, раздетые. Один труп соскользнул с вершины кучи, он свисает, уравновешенный на плече и бедре, одеревенелые руки и нога образовали угол в сорок пять градусов, как стрелки компаса. Сквозняк шевелит волосы, нежно поглаживая щеку. На серой коже дрожит прядь волос, которую так и хочется ласковым движением заправить за ухо, как младшей сестре или подруге, почувствовать под пальцами теплую кожу с пульсирующими венами. Натянутая кожа обнажает зубы, язык. До этого дня смерть для Милы была невидимой, замурованной под сосной, как тело матери. В Waschraum входит женщина, переворачивает свалившуюся лицом вниз мертвую и обшаривает ее волосы. Приподнимает другое тело. Из-под него выбегает крыса. Мила прижимает к животу обувь. Женщина вытаскивает тело, прощупывает его и ничего не находит. Вздыхает. Потом садится на куче мертвых и массирует себе ноги, глядя в пустоту.
Затем появляется образ маленькой блондинки Луизы, французской заключенной, стоящей перед табуретом. Она рисовала лотарингские кресты на стенах лицея, а по ночам ездила на велосипеде и разбрасывала листовки. Луиза пристально смотрит на табурет, на котором сидела ее седоволосая мать и каждый день вязала носки – по двенадцать часов подряд, подобно другим «розовым карточкам», которых освободили от физической работы. Луиза слушает заключенную, определенную в Revier, куда на прошлой неделе попала ее мать с гноящимися ногами и горячкой. Заключенная говорит, что этой ночью в Revier и в комнате для сумасшедших был отбор. «Сколько женщин?» – спрашивает Луиза. «Пятьдесят, – отвечает заключенная. – Их увезли на грузовике». – «Ты видела мою мать?» – «Да». – «Она понимала, что происходит?» – «Само собой разумеется». И Мила думает: «Вот что они называют “плохой транспорт”, “черный транспорт”». «Слушай, Луиза, – говорит заключенная, – я принесла тебе ее котелок». Луиза берет котелок, и ее взгляд застывает на нем. Шепчет: «Когда через несколько дней вернется ее одежда, я хочу, чтобы мне оставили ее номер».
Есть также образ детей на прогулке. Воскресенье, выходной день, в блоке повсюду женщины. Лизетта показывает пальцем на пятерых детей. «Мила, смотри», – говорит она. Возможно, их больше, но Мила видит лишь этих пятерых, в двадцати метрах от блока они играют галькой в шарики. Детям, вероятно, от шести до восьми лет, две девочки и три мальчика, они присели на корточках в тени, их руки белые от пыли. Они по очереди бросают камни, затем собирают их и начинают все сначала. Ноги у них, как палки, головы чересчур большие для скелетов, в которых нужно искать место для органов. Несомненно, эти дети не толще котят. Они похожи на ярмарочный стенд, куда просовывают голову, перед тем как сфотографироваться. Тело опережает лицо, оно ближе к смерти. Мальчик шлепает младшую девочку. Он орет: «Du Sauhund![24]», затем другим детям: «Tsu fünft», – и они направляются к блоку.
Есть образ Лизетты. Во время подъема она сжалась, как раздавленный паук. «Я сейчас схожу под себя», – говорит она. Блок полон, раздают кофе. «Я помогу тебе, – говорит Мила, – пойдем вместе». Лизетта качает головой: «Не могу». – «Пойдем». – «Там очередь, я не могу стоять, сегодня ночью я пыталась, я отвратительна». Мила хочет усадить Лизетту, но та сопротивляется: «Оставь меня». Лизетта должна встать, ведь время поверки. «Если ты не пойдешь на поверку, ты попадешь в Revier, а в Revier ты станешь первым кандидатом, чтобы закончить, как мать Луизы. Твой котелок, – говорит Мила, – справься как-нибудь с котелком, мы его почистим». И Мила плачет и поет, чтобы заглушить звуки Лизетты.
Есть еще пламя крематория. Оно напоминает ей маленький красный огонек, горящий на алтаре, и указывает на присутствие освященных облаток[25], тела Иисуса, о чем ей рассказывали очень давно. Тогда, в детстве, она верила – считала, что верила, – и представляла истинную всевышнюю сущность, а причастие внушало ей страх, как акт каннибализма. Каждый день в крематории горят тела, горят красным пламенем настоящие тела, пожираемые Германией.
Наконец, есть образ Марианны, а вернее того, что от нее осталось. На поверке справа от Милы стоит на подгибающихся коленях Марианна. Она шатается после полученных накануне ударов по ногам. Во время марша она потеряла ботинок, который был без шнурка. На площади Марианна бодрится, несмотря на сковывающую боль в ногах. Боль обездвиживает суставы. Марианна сжимает губы от напряжения, прищуривает глаза, чтобы держаться. Она держится. Двадцать секунд. Ноги дрожат, удерживать положение тела все труднее. Марианна выпрямляется. Сгибается. Снова выпрямляется. Десять секунд. Выпрямляется, сгибается еще быстрее. Пружинистые движения привлекают взгляд Аттилы, светловолосой женщины с плетью. Она молча проскальзывает сквозь ряды, как угорь сквозь тину, и медленно, уверенно, волоча сбоку, как тонкую змею, плеть, приближается. Марианна кусает губы. Аттила приближается. И прямо перед тем, как Марианна оказывается перед Аттилой, она напрягает правое колено и вдруг выпрямляется на своих черных от побоев ногах, замирает, уставившись в какую-то точку перед собой. Аттила стоит перед Марианной, Мила шифрует мольбу, чтобы Марианна выдержала, волшебную формулу, поток немых нот. Марианна держится. Она стоит. Не моргает, глаза сухие. Смотрит на верхушку сосны, вспарывающую солнце. Или на стрекозу с дрожащими крыльями. Или на освещенный затылок стоящей впереди девушки, на ее выступающие шейные позвонки. Возможно, она считает секунду за секундой, пытаясь протянуть минуту, продержаться до того момента, когда внимание Аттилы привлечет другая женщина, чей-то выступающий палец, или дерьмо, текущее по ногам, или чей-то шепот. Аттила кривится в улыбке. У нее есть время. Солнце поворачивается и бьет Марианне в глаза. Жужжит муха. Аттила широко улыбается, ведь это продлится недолго. Вдалеке раздается ржание. Облако пыли. Все, Марианна чихает, ноги подкашиваются. Хрустит кость, из носа Марианны брызгает кровь, моча льется на платье и на пыль. Марианна стонет, снова выпрямляется, ноги согнуты в коленях под прямым углом, как будто она собирается присесть. Она захлебывается кровью, которая залила ей горло, но пока еще стоит. Шифровать безумные мольбы, стиснуть зубы, не имея возможности поддержать Марианну, не отвернуться, не убежать, не заткнуть уши, не заплакать, не закричать, не вырвать. И тут Аттила опускает взгляд и видит ботинки Марианны, зашнурованные настоящими шнурками, которые Мила украла в вагоне с награбленным. И тогда Аттила ликует: за незашнурованные ботинки вчера были удары по ногам, сегодня шнурки есть, а значит, они украдены. И вот уже рука поднимается и с силой опускается: «du Dummkopf!»[26] – по ребрам, «du Scheisse, franzosische Scheisse!»[27] – по почкам, «du Schuft!»[28] – сапог бьет на совесть. Одно женское тело уничтожает другое женское тело, зная все его слабости: «du Schwein!» – бьет по груди, «du Sauhund!» – в низ живота, между ног, «du Unrat!»[29] – бьет, не обращая внимания на мольбу Stück, для собственного удовольствия, бьет уже неподвижное тело, уже мертвое.
Но, как всегда, женщины преодолевают страх, они уверены в победе и черпают силы, надеясь на восстановление справедливости. Мила видела таких во Френе: уцепившись руками за решетку, они во все горло пели «Марсельезу», когда вели на расстрел мужчин, среди которых были их братья, отцы, сыновья, мужья. Она видела также таких, которые натирали ботинки колбасной шкуркой, сохранившейся из передач, заботясь о чувстве собственного достоинства во время допросов, с которых они, скорее всего, выйдут навсегда изувеченными. В Равенсбрюке женщины воруют жилеты. Спрятавшись внутри вагонов, они тайком рисуют краской большие кресты, такие же, какими помечают одежду, выдаваемую в лагере. Краска тоже украдена во время предыдущей разгрузки вагонов. Украсть жилет. Жилет, чтобы согреться. Согреться, чтобы протянуть. Чтобы немного дольше прожить. Верить в то, что прожить дольше, – это возможно. То есть спроецировать себя в будущее в теплом жилете. На выходе, где будет три обыска, не бояться наказания, а ведь в случае обнаружения кражи наказание – от двадцати пяти до семидесяти ударов палкой, в зависимости от размера кражи. После пятидесятого удара обеспечен разрыв селезенки, печени, почек, кишечника. Не думать о наказании, о боли, подняться, невзирая на витающую вокруг смерть, быть в теплом шерстяном жилете, верить в это. «Значит, украсть, – думает Мила, – украсть или умереть».
Есть такие, кто ворует мыло. Умереть за мыло или же настолько верить в жизнь, чтобы не думать о смерти и воспользоваться маленьким душистым, пенящимся кусочком, который устраняет запахи и осветляет кожу, кусочком роскоши размером пять на три сантиметра. Пятьдесят ударов за кусок мыла, но в тот момент они об этом не задумываются.
Украсть булавку, платок, аспирин, спрятать их во рту, в трусах, в подшивке юбки, в волосах, поверить, что риск того стоит или что смерть не для них. Украсть. Украсть или испортить. Подумать о том, чтобы поднять у фортепиано крышку, оставить его под дождем вместе с духовыми инструментами, подумать о ржавчине, о потрескавшейся древесине, после чего фортепиано станет непригодным для немцев, и сдвинуть, мысленно смеясь, защитную парусину на куче буржуазной посуды, которая им уже не пригодится. Радость живых среди мертвых – это испортить немцу фортепиано, как другие портят электрические детали в цехах «Siemens» или одежду в швейных мастерских, не останавливаться и продолжать борьбу, рисовать кресты на шерстяных жилетах, засунуть отвертку под клавиши из слоновой кости, оставить под дождем, чтобы он полностью их залил.
Мила даже восхищается той женщиной, которая обворовала ее в Waschraum. Мила только-только постирала под тонкой струйкой холодной воды свои одеревеневшие от грязи носки. Она отжала их, положила на край умывальника и набрала в ладони воду, чтобы умыться. Длинная очередь, толкаются женщины, Мила на мгновение закрывает глаза и проводит руками ото лба к подбородку. Когда она открывает глаза, носков уже нет. Кто-то украл носки в середине мая. Кто-то, кто верит, что доживет до зимы, и хочет иметь еще одну пару. Эта женщина предвидит жизнь до зимы. Или думает, что поменяет носки на еду. И такие женщины, которые предвидят, меняются, двигаются ради жизни, прибегнув к старой мудрости, – они все еще существуют, эти женщины.
И особенно Мила восхищается той женщиной, которая растапливает в руках кусочек маргарина, десять граммов, который она выменяла за рубашку, и медленно наносит эту массу, словно крем, на лицо. «Чтобы быть красивой, когда выйду», – говорит она.
Мила размышляет: «Что они с нами сделают, я знаю. Мы все умрем, я умру если не от работы, так от голода, или от жажды, или от болезни, или от отравления, или при отборе, или от пули в затылок, или из-за ребенка, которого ношу в себе, или еще по какой-нибудь причине, но я все равно в итоге умру. Равенсбрюк – это верная смерть, не быстрая, не такая, как в газовой камере, о которой с ужасом рассказывали приехавшие из Аушвица[30] заключенные нееврейки. Но тот, кто видел то, что видели мы, расскажет об этом. Поведает, что он видел. Его глаза выплюнут картины, его рот, тело изрыгнут то, что они с нами сделали, и то, что мы не можем еще себе представить, мы же уже мертвы, каким бы ни был конец истории, и все это унесем с собой в могилу. Марианна сказала, что слово «Равенсбрюк» означает «вороний мост». Каждый вечер в розовом закате во́роны садятся на крыши блоков и эсэсовских домов. Вороны питаются отходами и трупами. Они ждут нас. В этом лагере нет ни младенцев, ни матерей, потому что родить здесь – значит обречь себя на смерть. Тогда нужно отказаться от ребенка. Сейчас же. С этой минуты не знать о нем ничего, как и не знать о том, что находится внутри тела. Как будто у тебя нет матки или, даже если она есть, тебе ничего не известно о всех этих странных мягких штуках, которые находятся у тебя внутри, ты не знаешь ни их форму, ни вид. Нужно сделать из ребенка еще один внутренний орган вроде кишечника, желудка, других органов пищеварения, не наделенных собственной жизнью, немедленно начать скорбеть по ребенку, приговоренному к смерти, как и все мы здесь.
И пусть Миле не говорят, что ничто не стоит жизни.
Глава 3
Это видно. Мила это видит, все женщины видят, несмотря на одежду или из-за одежды, слишком широкой на узких плечах, спадающей на впалую грудь. Видно, что голодающее тело черпает свои резервы. Поглощает собственный жир за неимением поступлений извне, высасывает всю вплоть. Тело поедает само себя, вгрызается в жир на руках, бедрах, ягодицах, груди: невидимые зубы и языки поедают мягкие ткани, высасывают их, слизывают, как мороженое, разъедают до тех пор, пока кожа не превращается в ультраоблегающий шелк, идеально пригнанный по бедрам, ключицам, ребрам и который может вот-вот разорваться. Каждую ночь Мила чувствует, как к ней прижимается Лизетта своими бедрами и коленками. Но это только начало. Внутри органы сморщиваются, как сушеный инжир. Тело поглощает само себя. Переваривает само себя. Мила задается вопросом, не станут ли видны очертания ребенка под кожей живота, не заметят ли это однажды, например на улице, когда она будет стоять обнаженной под взглядами эсэсовцев. Этот живот похож на мешок с котятами, которых топил ее отец. В нем в любом случае оказываются трупы.
Тело выделяет прозрачную мочу, жидкий стул, из ран течет гной, фурункулы избороздили кожу, из расцарапанных от чесотки ранок выделяется жидкость, укусы вшей инфицируют ссадины, тягучая слизь выходит из горла. Из-за авитаминоза на мягких тканях открываются язвы – подобно тому, как лопается кожура на переспевшей хурме, а поскольку в Revier не найти ничего, кроме медицинской бумаги, то именно ею закрывают раны. Приклеиваешь бумагу к ране, и она становится твоей новой кожей, если ты ее снимаешь, то отрывается все вместе с корочкой или едва сформировавшейся пленкой, покрывающей язву, и из тебя начинает вытекать жидкость. Все, что выходит, воняет гнилью. Ты пожираешь сама себя, и ты вытекаешь. Мила смотрит на свою левую ногу, которую она не может вытянуть, боясь повредить пленку, образовавшуюся на порезе трехдневной давности, когда, разгружая вагон, они нарочно уронили ящики с вазами, прибывшими из Чехословакии. О, этот хрустальный звук, отблески солнца в тысячах рассыпавшихся по платформе осколков, которые потом нужно было собирать голыми руками под ударами шпицрутенов[31]! Кровь брызжет на сверкающие диаманты…
За исключением дерьма, мочи и гноя, тело экономит на всем: оно запасает кровь. У Лизетты нет менструации, у Жоржетты нет менструации, и ни у одной из женщин во французском блоке. Ни у полек, ни у чешек, говорят бывалые заключенные, в конечном итоге ни у кого в лагере больше нет менструации – слизистая оболочка сухая. Вся кровь идет на жизненные функции, на счету каждая капля. У женщин больше нет пола, в шестнадцать они такие же, как в шестьдесят.
– Со мной это случилось в первый же месяц. Я подумала, что забеременела.
– Я тоже испугалась, что я, ты представляешь, здесь забеременела.
– А я девственница, я вообще не понимала, в чем дело.
– И не было никакой защиты.
– А я не мучилась в догадках, мне уже пятьдесят лет.
– А у меня была менструация два месяца, все это текло у меня по ногам.
– Значит, ты осталась живой чуть дольше.
– Я подкладывала в трусы листья деревьев.
– А я видела беременную женщину.
– И?
– Ничего. Во время визита к врачу он сказал: «Вы беременны» – и все. Я не знаю, где она.
– В любом случае такие были, это уж точно.
– И потом эти сукины боши.
– А я думаю, что это даже к лучшему, что у нас нет месячных, иначе это было бы омерзительно.
– Ты думаешь, они вернутся, когда мы выйдем отсюда?
– Ну, ты смешная.
– А я хочу детей.
– Ну, конечно, они у тебя будут, ты еще молодая.
– Теперь уже не настолько.
– Ты нам надоела.
– Мила, а у тебя они есть?
– Нет.
– Оно и к лучшему. Так удобнее.
Навязчивая идея, как наполнить живот. Кусок овоща, упавший из котелка, в пыли и слюне, – все это съедается. Брошенные свиньям очистки – все это съедается. Фиалки, которые иногда можно найти вдоль озера, по пути к вагонам, – все это съедается. И корм для собак возле домов эсэсовцев, куски сырого мяса малинового цвета вперемешку с кусками жира, вместе с огромными зелеными мухами, – все это съедается. Луиза украла из собачьей миски кусок мяса. Пес укусил ее за щеку – мясо за мясо. В бункере она получила пятьдесят ударов палкой. Луиза рассказывала, что после тридцатого удара она потеряла сознание, они пощупали пульс, вылили ей на лицо ведро холодной воды и оттащили в лазарет, где она отлеживалась два дня. Потом ей влепили оставшиеся двадцать ударов. На семьдесят пятом ударе ты уже не жилец, но на пятидесяти еще не все сыграно. Тело выдержало. Прокушенная и увеличившаяся в три раза щека – тоже.
Наполнить живот. В вагонах Мила и Лизетта подбирают лоскутки и другие мелочи, которые становятся «деньгами». Чтобы беспрепятственно пройти через три вечерних обыска, они глотают мелкие предметы, которые потом легко найти в Waschraum, подставив руку под анус. Пуговицы, кулоны, бусины они обменивают на сосновые иголки или еловые шишки, которые приносят женщины из колонны лесорубов. Иголки хрустят на зубах, даже имеют вкус, немного сочные, чуть горькие, похожи на лекарство от кашля, – и все это съедается. Мила питается не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы заглушить боль: успокоить скручивающийся в спазмах желудок.
Мила отказалась от посылок из Франции. Она отправила отцу разрешенное письмо на немецком языке: «У меня все хорошо, целую», которое ей перевела одна французская заключенная. Написав «Ich gehe gut, Ich kusse dich», она спросила: «Это все? Ты не просишь о посылке?» Мила считала, что письмо все равно не дойдет, а если случится чудо и посылка попадет в лагерь, то ее – сто процентов – разграбят. Об этом ей рассказывала Жоржетта. Так что, «да, это все, спасибо».
Однажды утром Мила рассматривает свой кусочек хлеба. Кусочек, который она будет разжевывать крошку за крошкой. Она вертит его в руках и говорит про себя: «Это то, что окружит нимбом мои костлявые бедра; это четверть миллиметра жира на бедре Жоржетты, что позволяет отличить женщину от скелета. Вот этот кусочек». И перед ней всплывает яркое воспоминание детства, когда она присутствовала на мессе: «Примите, ядите – сие есть тело Мое, за вас ломимое». Хлеб – это тело. Теперь воистину.
Они сидят на тюфяке, Лизетта причесывает Миле волосы, ищет вшей и давит их большим и указательным пальцами с отрывистым глухим звуком.
– А твой живот? – спрашивает она.
– Что мой живот?
Лизетта смеется:
– Ты что, издеваешься?
– Тс-с-с, Лизетта.
– Да, ладно, и как ты?
– Меня это не интересует, я до этого не доживу.
– Покажи мне.
– Нет, слишком много людей, я не хочу, чтобы они догадались. И я не знаю, есть ли у меня живот.
– Да что с тобой?
– Будем считать, что этого ребенка нет. В любом случае он не сможет жить, и я вместе с ним.
– Дай мне потрогать, и потом, клянусь, я оставлю тебя в покое.
– Но только быстро.
Лизетта засовывает руку под платье, улыбается. Убирает руку. Мила смотрит на Лизету, которая до сих пор улыбается.
– Ну и?..
– Я думала, что ты не хочешь знать.
– Говори же!
Лизетта пожимает плечами:
– У тебя ничего нет. Как по мне, ты ошиблась, у тебя внутри пусто! В любом случае, что бы ел малыш, кишки твои, что ли?
Ночью Лизетта пять раз встает и пять раз ложится, вся дрожа. На шестой раз Мила открывает глаза. Она ждет, когда вернется Лизетта, слушая звук босых ног, который так напоминает ей Мант, чердак, где они спали после самоубийства матери и ходили на цыпочках, чтобы их не услышали этажом ниже. Тогда золотистая солома кололась под рубашками, мыши на полной скорости носились вдоль балок, а они никак не могли их поймать; они прижимались друг к другу на заре, дрожа от холода так, что их пальцы на ногах с черными от земли ногтями устраивали танцы. А еще им приходилось пригибаться под наклонной крышей. Лизетта не возвращается. Мила встает, идет в Waschraum. Проходит мимо кучи мертвых, видит Лизетту, согнутую пополам над дырой сортира.
– Что случилось?
Лизетта стонет:
– О Мила, это не прекращается…
Мила подходит по липкому полу, садится перед Лизеттой на корточки, кладет руку на мокрый от пота лоб и убирает прилипшие волосы.
– Это должно же прекратиться в конце концов! Что у меня там такое? Проклятье, что со мной?
Какой-то силуэт движется по Waschraum, останавливается, прислушивается. Мила понижает голос:
– Потрогай, Лизетта. Потрогай себя. Покажи мне. Пойдем к окну, здесь ничего не видно.
В лунном свете пальцы Лизетты в крови.
На следующий день одна девушка дает Миле кусок ткани. Она говорит: «Это для твоей подруги, чтобы она не пачкала юбку, прошлой ночью я была в Waschraum и видела вас». Мила впервые слышит голос девушки, чье лицо она видела практически каждый день. Она думала, что это полька, возможно, так и есть, поскольку у нее легкий акцент. Она говорит: «Меня зовут Тереза, я работаю в швейной мастерской». Мила прижимает ткань к животу, всматривается в девушку, в ее неодинакового цвета глаза, голубой и зеленый, смотрит на ткань, потом на девушку. И тогда девушка улыбается и говорит: «Я не видела твою подругу ночью, но увидела тебя, страх в твоих глазах; ты похожа на мою сестру».
Жоржетта уверена, что на этот раз у Лизетты дизентерия. «Ты убираешь из ее супа овощи, – говорит она Миле, – съедаешь их и оставляешь ей немного жижи. Нужно, чтобы она пила». Мила вылавливает редкие волокна, плавающие в жидкости, и отливает свой суп в котелок Лизетты. «Пусть она ест свой хлеб сухим, ты слышишь, чтобы он был очень твердым. Если хочешь, я этим займусь, я положу его на солнце, пока буду вязать», – говорит Жоржетта, у нее «розовая карточка» и она проводит весь день в блоке. И Мила думает: «А если Жоржетта съест этот хлеб? Потеряет или его украдут?»
– Почему вы все это делаете? – наконец спрашивает она.
Жоржетта качает головой:
– Ты поступила бы так же, не правда ли? И потом, теперь мне хоть есть чем заняться.
Мила протягивает ей хлеб. После возвращения с работ Лизетта без сил спит сидя, ее юбка испачкана в крови. Утренняя поверка для нее как пытка. Позади блока Жоржетта нашла палку, конец которой расширяется, словно маленькое седло. «Держи, милочка, – говорит она Лизетте, – ты спрячешь это под платье и постараешься стоять ровно, опираясь на нее; и ты не попадешься». В вагонах с награбленным Лизетта носит пустые ящики, поддерживает кончиками пальцев мебель, которую разгружают другие. Все, о чем ее просит Мила, – это держаться на ногах, сбить с толку надзирательниц.
Несколько раз в неделю прибывают новые конвои, среди которых небольшие группы француженок. Несмотря на отборы и возврат пронумерованной одежды, несмотря на черный транспорт, сейчас приходится по три заключенные на один тюфяк, и так почти на каждых нарах. Бывалые говорили: «Холера», когда четыреста женщин зашли в блоки после карантина. «Холера», – теперь говорит конвой из тридцати пяти тысяч женщин перед новыми прибывающими; некоторые говорят это тихо, но они, как и другие, согласны с этим, даже Лизетта, даже Мила видят, как холера временно занимает блок. Соломенный тюфяк шириной шестьдесят сантиметров делится на трех женщин, то есть по двадцать сантиметров на каждую, к счастью Равенсбрюк утончает фигуры. Лизетта и Мила делят тюфяк только на двоих – роскошно. Лизетта отпугивает всех кандидаток на свободное место: помимо привычного зловония, ее тело и одежда заражены.
– Они во Франции! – кричит Мари-Поль, войдя в барак. – Они высадились шестого июня!
Новость переходит из уст в уста, на лицах появляются улыбки.
– Я знала, что это произойдет, с того самого момента, как об этом заговорили.
– Американцы в Нормандии! Фрицам крышка!
Некоторые плачут, ошеломленные новостью.
– Опять враки или как?
– Враки, враки!
– Заткнись, дай ей договорить.
– Правда-правда, они высадились в Нормандии и подходят к Парижу! Шестого июня, говорю же вам!
– Три недели назад ты приходила и говорила нам то же самое…
– Да здравствует Франция!
– Нам уже как-то говорили, что Гитлера убили, в следующий раз – что он покончил жизнь самоубийством, потом – что Германия капитулировала. А в итоге – ничего.
– Кто тебе сказал на этот раз?
– Мария, Schreiberin[32].
– Ну, по крайней мере Мария знает немецкий язык.
– Она – секретарь.
– Она читала «Beobachter»[33].
– Эту нацистскую газетенку? И они сообщили бы о десанте? Вздор!
– Вчера прибыли новые француженки. Я видела их в карантинном блоке, и они подтвердили, что десант высадился!
– Боже правый!
Мила прислушивается. Кому верить? И потом, что это меняет, если они все равно здесь умрут? Чему радоваться? Как бы хотелось быть вместе с ними, с теми женщинами, которые так твердо в это верят. Быть такими, как они. Ненормальной. Два дня назад Мила видела одну заключенную в бежевом платье. Женщина прошла перед ней, еще полноватая, наверняка новенькая или буфетчица. Мила в ступоре остановилась, женщина, идущая позади, наткнулась на ее спину, и колонна рассыпалась. Взгляд Милы был прикован к платью. Это платье, в котором она прибыла в лагерь. Это оно, это точно оно, девичье платье, двадцать раз залатанное во время войны, край юбки отпущен – его цвет немного темнее, а на спине теперь нарисован крест святого Андрея: еще один знак того, что она никогда отсюда не выйдет. Конфискованное платье, отмеченное печатью лагеря, как в младшей школе вышивали имя на изнанке блузы красной нитью. Что делать с шестым июня, с этой далекой победой?
Мила видит сидящую на тюфяке Лизетту с синяками вокруг впалых глаз. Свою «пятидесятилетнюю» Лизетту. Она говорит:
– Они здесь, вот… видишь, Мила, они здесь.
Мила силится улыбнуться:
– Да, Лизетта, вот это новость, не так ли?
Француженки запевают «Марсельезу», надрывая глотки, и даже изнуренная Лизетта, и даже Мила поют ее, песню, которая сопровождала их от Френа до Роменвиля, в поезде от Роменвиля до Германии. Мила пристально смотрит в глаза Лизетты, она полностью отдается своей роли – надежда поможет выздороветь. Она крепко сжимает руку Лизетты, как в тот далекий день перед входом в лагерь без названия, когда она держала руку Лизетты и чемодан, единственное, что было ей знакомо и успокаивало ее. Эта рука так похожа на руку ее больной матери, которой она приносила из школы хорошие отметки и с которой делилась только радостью. Радостью от игры с друзьями, радостью от стихотворения, выученного наизусть и рассказанного с увлечением. Радостью от хорошей погоды, радостью от дождя, под которым она промокла. Радостью, когда расчесывала перед ней длинные волосы, когда гримасничала, закатив глаза, высунув язык и задрав нос, чтобы услышать ее смех. Делилась радостью от увиденных в Венсенском зоопарке слонов, китайских храмов. Она описывала матери все увиденное так, что уставало даже пианино. Делилась радостью от того, что верила в возможность заклинать страдания в другом теле. Она верила, что радость может передаваться: «Держи, крепко сожми мою руку, забери мою радость, мама, не умирай». Но она все же умерла, выбросившись с балкона. Но ее жизнь длилась – врач не мог в это поверить – дольше, чем это можно было предположить в самых радужных надеждах. Несомненно, Сюзанна не зря была там. Она сжимает руку кузины, радуется, умоляя про себя: «Не умирай, Лизетта». И даже дрожит от стыда: «Не умирай раньше меня». Мила больше не простирывает свою одежду, несмотря на то что она становится жесткой от пота, от грязных пятен, супа, воняет в местах, где соприкасается с подмышками, пахом, ногами, потому что тогда ей пришлось бы ложиться в мокрой одежде и прижиматься к дрожащим ногам Лизетты, а значит, усугублять ее лихорадку и тем самым приближать ее конец, приближать чудовищное одиночество после ее смерти.
На улице прекрасная погода. Говорят, что в прошлом году снег шел до самого июля. Но в этом году небо в июне ясное, прозрачное, застывшее в кобальтовой вечности. Это время для пикника. Для купания. На озере вода отблескивает бриллиантами, темные силуэты огромных рыб двигаются под водой. На другом берегу неподвижно сидят люди, рыбачат. Кажется, все вокруг мирно, чудесно, безучастно. Паук снова принялся плести паутину на ирисе. Та же паутина, те же ирисы вот уже на протяжении нескольких недель. Лизетта испражняется своими внутренностями, буколический пейзаж постепенно разбавляется зеленью, но от этого не становится более реальным.
Воскресным утром поверка длится четыре часа. Они сбиваются со счета и начинают считать снова и снова. Мила больше не думает. Не пытается отвлечься. Она притворилась стелой. Она просто ждет.
Вернувшись в блок, Лизетта смотрит на Милу своими черными глазами: «Мне холодно, мне так холодно, меня сильно морозит». Жоржетта трогает ее лоб, потом заговаривает о лазарете. Мила отказывается, лазарет – верная смерть, она это сразу поняла. «Мила, речь идет о том, чтобы просто принять аспирин и сбить температуру. В любом случае в лазарете нет ничего, кроме аспирина». К счастью, у Милы горячий лоб, она кашляет и отхаркивает мокроту, она могла бы пойти вместе с Лизеттой. «Мила, выйди на солнце, нужно, чтобы ты горела. Сейчас повысим тебе температуру, если у тебя будет меньше сорока градусов, они вернут тебя в блок».
Мила ведет в лазарет маленькую старушку, поддерживая ее так, что мышцы на руке напряжены до предела. Она приподнимает ее шаг за шагом, сохраняя невозмутимое лицо и не выказывая своих усилий, чтобы никто не догадался, что Лизетта для нее – обуза, что она – добыча для черного транспорта. Лизетта волочит по дороге ноги, оставляя за собой небольшие клубы желтой пыли. Мила умоляет ее поднимать ноги: «Медленно, но только поднимай их, слишком заметно, что ты еле держишься на ногах. Давай, Лизетта, мы почти на месте, ты вскидываешь голову, поднимаешь ногу». Лизетта старается. «Мила, я сейчас схожу под себя». Мила не отвечает и идет не останавливаясь. «Держись прямо». На входе в лазарет Мила сплевывает накопившуюся во рту мокроту. На термометре: у Милы – сорок градусов, у Лизетты – сорок один.
Здесь ждут десятки женщин: кто стоит, кто сидит на земле, а кто и вовсе лежит. Они стонут. Чешутся. У одной женщины из черной зияющей дыры, где должен быть глаз, течет кровь. Некоторые терпеливо ожидают, опустив подбородок на грудь и согнув шею, или беспрестанно дрожат, покрытые красными пятнами на коже или гноящимися ранами.
– Поспи, Лизетта, обопрись на мое плечо.
– Мила, они меня убьют.
– Тс-с-с, спи.
Солнце медленно движется за окном, бледный ореол под слоем синей краски. И начинается безнадежное ожидание, постоянно прерываемое еле видимыми движениями, морганием, вздыманием груди, соскальзыванием с плеча головы Лизетты, которую нужно постоянно поправлять. На плече увеличивается пятно слюны. Солнце исчезает в углу окна. Теперь Мила умеет читать по солнечному пути, она может определить время по положению солнца на небе. Они здесь по меньшей мере четыре часа. Когда Лизетта просыпается, она смотрит на женщин вокруг, слышит речитатив их страданий и вдруг объявляет: «Идем отсюда». Мила удерживает ее за руку. Лизетта тянет в противоположную сторону, в бешенстве впивается ногтями в тело Милы: «Или мы уходим, или я им расскажу, что ты беременна». Голос вызывает: «Номер 37569! Номер 27483!» Мила, оторопев, в упор смотрит на кузину. В безумном взгляде Лизетты она видит не страх, а невероятное желание жить. И тогда она берет Лизетту под руку, и они возвращаются в блок.
Жоржетта говорит, что с этого момента начинается другая жизнь. Игра в прятки – нужно прятать Лизетту, чтобы уберечь ее от работы. Теперь жизнь Лизетты зависит от тех, у кого «розовые карточки» и кто остается на целый день вязать в блоке, от их молчания. Она также в руках более молодых и работоспособных Verfügbars, не занятых работой, которые ежедневно рискуют своей шкурой ради лишнего рта: они незаметно поднимают Лизетту на балки крыши и засовывают ее под соломенный тюфяк вместе с крысами. Она в руках подруг, которые делят с ней суп; ведь если тебя нет на поверке, нет на работе, то нет и пайки. Она в руках женщин, которые разгружают брикеты между озером и домами эсэсовцев, потому что они должны были согласиться обменять свой уголь, чтобы из него сделать черную пудру для кишечника Лизетты. А также в руках Милы. «Ты запомнишь название медикаментов, которые вы найдете в вагонах, – говорит Жоржетта, – и закопаешь их, а я тебе скажу, нужно ли их брать». В руках Stubowa. «Надеемся на ее снисходительность, на ее слепоту или на то, что она идиотка. Надеемся на то, что она не увидит и не услышит, что до поры до времени ее глаза и уши будут закрыты». – «До каких пор?» – спрашивает Мила. «До тех пор, пока это будет нужно» – отвечает Жоржетта. Что означает: до тех пор пока Лизетта не выздоровеет или не умрет.
Четырнадцатое июля. Мила разгружает банки с краской. Дади свистит, это сигнал. Не раскрывая рта и стиснув зубы, как все француженки, разгружающие вагоны с награбленным, Мила поет «Марсельезу». Для Милы это даже не поступок. Она это делает, потому что так поступают все остальные. Не думать ни о чем. Женщины сказали: «Когда свистнет Дади, вы начинаете напевать» – она и поет. Она позволяет собой управлять, вот и все. С платформы доносится легкий гул, не прерывающий привычных движений тел, и так продолжается до тех пор, пока надзирательница, невосприимчивая к незначительному изменению звуков, продолжает беседовать с эсэсовцем; руку она держит на бедре, вокруг запястья – гибкий собачий поводок. Вдруг она прислушивается. Она смотрит на заключенных – каждая на своем месте, в тех же лохмотьях, все повторяют неизменные «хореографические» движения. И тут она слышит пение. Ruhe! Ruhe! Она бьет наугад. Тщетно. Прикрываясь руками, француженки сносят удары и допевают «Марсельезу» до конца. Что могут потерять приговоренные к смерти?
Когда Мила возвращалась с разгрузки вагонов, ампула кардиозола[34] натерла ей ногу до синяка. Она сунула ее в носки, которые связали «розовые карточки» и которые были идеальным тайником. Она не знает, найдет ли Лизетту: спрятали ли ее снова Verfügbars, будет ли Stubowa молчать. Да и неизвестно, подействует ли кардиозол. Она устала. Хоть бы ампула не разбилась… На противоположном берегу озера идет колонна. До этого момента Мила не видела на том берегу никого, кроме детей и рыбаков. Две колонны идут навстречу друг другу. Они сближаются, ноги ударяют о землю в неровном ритме. Против света вырисовываются силуэты. И вскоре становится ясно, что они в штанах. Это мужчины. Колонна женщин замедляет шаг. «Schneller, Sauhund!» Топот мужских ног, топот женских ног, они должны где-то пересечься. Женщины останавливаются, изучают колонну. Мужчины-заключенные проходят на расстоянии вытянутой руки, тяжелой поступью, устало волоча ноги, и, конечно, они хотят продлить это мгновение. Мужчины. Дыра во времени, дыра в пространстве. Мила пристально смотрит на первого попавшегося ей на глаза, пока уже не может повернуть голову. Запечатлить в памяти хоть одно лицо. «Schneller, Schweinerei!» Чтобы лучше запомнить, она перечисляет в уме: светлые глаза, добрый взгляд, невысокий рост, лысый, тонкий нос, пухлые губы, широкий лоб, прорезанный морщинами. Она успела рассмотреть его лохмотья, опухшие кисти рук и – самое главное – волосы на груди. Мужские волосы, волнующие до слез. Они виднеются из-под воротника робы и ярко контрастируют с отражениями сорока тысяч таких, как она. Она смотрит на этого человека с волосами. Некрасивый. Худой. Страждущий. О, если бы только пришить пуговицу на его робе, чтобы он закрыл свою грудь, чтобы он не замерз. Кто знает, возможно, он догадался, что у нее под платьем еще осталось кое-что от груди, от женской груди, тогда он тоже вспомнил об ужасе, о гнетущей его печали и пожалел самого себя. Колонна удаляется, движение возобновляется. Мила нажимает на глаза ладонями, вдавливает глазные яблоки, только бы стереть образ мужчины. Перед глазами расплываются большие черные пятна.
Вернувшись в блок, Мила видит, что Лизетта сидит с закрытыми глазами. Тереза, полька из швейной мастерской, дует ей на волосы.
– Я пытаюсь сбить температуру.
Мила наклоняется над Лизеттой, у нее потрескавшиеся губы, слипшиеся глаза, у нее нет больше ни слюны, ни слез. «Добрый вечер, моя красавица», – говорит Мила. Из тела Лизетты вытекла вся вода. Жоржетта предупреждала: «В какой-то момент лицо станет пергаментным. Потом все произойдет очень быстро». Мила присаживается рядом с Лизеттой, целует ей руки, лоб. Целый день она работает как в вакууме, ни о чем не думая и ничего не желая, словно в подвешенном состоянии, но, когда она видит Лизетту, она снова кем-то становится. Лизетта – это та девочка, которая видела, как умерла ее мать. Мила обязана ей за вновь обретенную радость в жизни и должна ее чем-то отблагодарить. Поэтому она сейчас с Лизеттой, она выслушивает ее, она любит ее. Под своими губами она ощущает шершавую кожу.
– Ты ела?
– Да, но меня вырвало.
– Ты пряталась?
Лизетта качает головой и показывает на пол.
– Там внизу?
– Да.
– Там были крысы?
– Нет. Мила, смотри, – говорит Лизетта, отворачивая рукав. На изнанке пришит белыми нитками крошечный сине-бело-красный флаг. – Это Мари-Поль, видишь, она сделала его в Betrieb[35]. У нее и для тебя такой есть, в честь четырнадцатого июля.
Мила улыбается. Ей на это наплевать, они все равно умрут. Лизетта говорит: «Вечером будет маленький праздник». Лизетта говорит в будущем времени: «Будет маленький праздник». Будет. Мила тоже начинает дуть на волосы Лизетты.
Вечером супа нет. Девочка, которая везла бидон в барак, перевернула его, у заключенных на ужин только хлеб. Но одна француженка сохранила из своей посылки кусок пряника. Он зачерствел, и женщина разламывает его шпилькой для волос на маленькие коричневые крошки. Тянутся руки, на отворотах рукавов виден трехцветный флаг, и Жоржетта раздает крошки.
– Да здравствует Франция!
Они кладут крошки в рот. От резкого вкуса сахара болью сводит челюсти, а вкус меда, словно взрыв, – это слишком сладко, слишком насыщенно. Лизетта сплевывает.
– Давайте поговорим о Франции! – говорит гробовой голос с верхнего – третьего – этажа нар, расположенного прямо под потолком.
– Опять?
– Подумаем о чем-то прекрасном, чтобы поддержать настроение.
– От одной только мысли у меня наступает хандра.
– А я однажды отправилась в отпуск с мужем. Мы поехали на юг. Там мы видели холмы, покрытые лавандой, словно ковром, до самого горизонта. Мы сошли с дороги и погрузились в фиолетовое море, мы разминали цветы в руках, вот так. Вокруг так сильно пахло, что можно было подумать, что мы оказались в магазине мыла. Мое воспоминание – это мы, я и Робер, на лавандовом поле в соломенных шляпах.
– А жасмин, ты его когда-нибудь нюхала?
– А я вспоминаю воскресный рынок. Мясную лавку, сардельки, перевязанные шпагатом, на тарелке нарезанные красные ломтики окорока для пробы, а на прилавке паштеты, муссы, фарши, испачканный кровью фартук ученика, который, отрезая куски для бифштекса, тут же вытирает нож о бедро.
– Каждый раз одно и то же, вы говорите только о жратве!
– А у меня, – говорит Адель, – есть карета. Мы ездим на ней из замка в деревню, с лакеем в ливрее и служанкой, которая носит пакеты с продуктами. У меня белый конь, и его зовут Цезарь.
– Вчера он был бежевым.
– И это была кобыла.
– Я сама знаю, какого он пола и окраски, это мой конь!
– Масти. Не окраски, а масти.
– Представьте, золотая карета. У нас ее конфисковали во время Революции, потому что мы были дворянами, но дедушка выкупил ее в одном музее.
– А я думала, что ее продали на аукционе.
– Карета дедушки? Не-е-ет! В нашей семье есть королевская кровь, и мы можем позволить себе такие вещи. Так вот, мое воспоминание – это я, Адель, выглядываю из окна своей золотой кареты и машу рукой прохожим на церковной площади.
– Белая горячка.
– А для меня важен тот день, когда я впервые увидела, как мой живот зашевелился, как под кожей проступили маленькие неровности, было так необычно на это смотреть. Думаю, что до этого я сомневалась, что в моем теле есть ребенок. Ведь нельзя знать наверняка.
Мила не ищет картинки. Ясная картинка для нее – это терпение, она предпочитает ждать, она привыкла к онемению, которое мгновенно было разорвано при встрече с колонной мужчин. Но оно зарубцевалось бы, если бы женщины сегодня вечером помолчали. Мила выслушивает женщин только из-за Лизетты, потому что это доставляет ей удовольствие. Иногда Мила думает, что уже все – тело все в ней съело и принялось за мозг, и от этого становится легче. Она просто дышит, она больше даже не шифрует, она невосприимчива к картинкам и звукам. Она – сухое дерево, вырванный клок, стаз[36]; она ждет разрушения. Она уходит в себя. Однажды, еще до войны, она была с одноклассницей в бассейне Молитор. Она стояла у бортика, а потом соскользнула вдоль стены в воду, пока полностью не погрузились ее лицо, уши, волосы. Она стала слушать. Там, внизу, в безмолвии, медленные подводные потоки поглощали звуки, искажали их, увеличивая диапазон даже женских голосов, даже криков детей, а еще Сюзанна видела под водой мягкие и беззвучные движения ног. Выйдя из оцепенения, она выныривает из воды, и ее оглушает преломленное эхо прыжков, ныряний, криков, болтаний ног, свистков тренеров – до тех пор, пока она снова не погружается. Здесь она сидит на краю тюфяка, и слова рассыпаются на кусочки, растворяются, по мере того как они погружаются и доходят до нее обрывками – какие-то разбухшие, искаженные фонемы, блом, лонм, уам. Она не здесь.
– Эй, ты спишь? С тобой разговаривают!
– А какое у тебя самое приятное воспоминание?
Мила улыбается. К чему все это? С каждым днем она потихоньку исчезает, бам, гаум, гул слабеет, удаляясь в другой мир. Она плавает на поверхности, в бассейне Молитор она оторвалась от бортика, выпустила из легких воздух тонкой струйкой пузырьков и с легкостью погрузилась в воду. Она забывает даже про паутину – постоянно обновляющееся золотистое кружево между стеблями ириса на берегу озера.
– По правде говоря, я даже не знаю.
Наступает утро, солнце проходит по своему обычному пути. Согласно неизменному графику все снова приступают к работе, снова бессознательно совершают какие-то жесты, новые движения, стоит только повторять их за другими женщинами. Мила старательно это делает, пока не наступает время вечерних движений, улыбок, адресованных Лизетте, когда она в тишине держит ее за руку.
Каждое утро Мила размыкает объятия Лизетты, руки которой охватывают ее ноги. Сначала руки немного сопротивляются, потом ослабляют хватку. Этим утром она тихонько зовет: «Лизетта, Лизетта». Женщины уже встали и выстроились в очередь за кофе. Мила приподнимается и склоняется над спящей Лизеттой. «Давай, я должна вставать. Лизетта», – говорит она. Мила трясет ее за плечо, поднимает ее руки, но они, подвешенные в воздухе, расходятся в стороны. А потом падают, словно подстреленные птицы. Упавшие руки. Неподвижные руки. Неподвижное тело. Теперь она знает. Она отталкивает труп и подтягивает свои ноги к груди. Она дрожит, часто дышит, уставившись в закрытые глаза мертвой. «Я не умерла!» Она ощупывает свою шею, грудь, руки, щупает свой живот, щеки, глаза вылазят из орбит в поисках чего-то потерявшегося, отверстия в коже, но ничего. «Raus für Appell!» Вдруг она протягивает руки, срывает с Лизетты ботинки и натягивает их на свои израненные ноги, отвязывает с пояса ржавый котелок и мешочек, где находит конфету и крошечный кусок хлеба, прижимает все это к животу. Мила начинает беззвучно смеяться, это смех от страха. «Это не я». Она смеется, уставившись на носы ботинок, еще хранящих тепло Лизетты. И вот уже какая-то женщина снимает с трупа платье, обшаривает волосы в поисках тайника, переворачивает тело, ничего не находит и оставляет Лизетту лежать лицом вниз, как тряпичную куклу, а несгибающаяся рука торчит с тюфяка. Мила смеется. Мила плачет.
Вечером полька Тереза садится на Милин тюфяк: «Я могу здесь спать?» – и Мила кивает головой в горестном отупении. «Ты похожа на мою сестру», – сказала Тереза в тот день, когда Лизетта истекала кровью в Waschraum. Мила смотрит на Терезу, на девушку, которая ее выбрала и которая снимает ботинки и ложится на место умершей.
Глава 4
– Ты больше не чистишь зубы. Ты больше не расчесываешь пальцами волосы. Ты больше не умываешь лицо. В швах твоего платья кишат вши. Ты чешешься. Твоя одежда вся в пятнах. Ты воняешь.
Мила сидит на нарах и не отвечает.
– Я сплю рядом с тобой уже две ночи. Я видела тебя вначале, когда ты только прибыла. У тебя были густые светлые волосы и молочная кожа. Ты высоко держала голову. Посмотри на себя.
Тереза проводит рукой по волосам Милы, по сбившимся в колтуны прядям, нежно касается удивительно гладкой ладонью ее щеки. Она молодая, возможно ей около двадцати пяти лет. Ее черные волосы завязаны на затылке в хвост. У нее идеально ровные белые зубы.
– Я – полька, моя мать – француженка. Я была в Париже несколько раз. Ты из Парижа?
– Да.
– А я из Кракова. Слышала?
– Нет.
– Ты сморкаешься в рукава, твои ногти омерзительны. Я здесь уже три года. Посмотри на мои зубы. На мои ногти.
Полька гладит Милу по шее, проводит рукой по позвонкам.
– Скажи, а это правда, что там, за стеной, есть озеро?
– Да.
– Опиши мне его. Я никогда его не видела. Там есть утки?
– Да.
– А лебеди?
– Да.
– А цветы?
– И цветы тоже.
– У тебя есть зубная щетка?
– Да.
– Ну, тогда иди умываться. Потом займемся твоим платьем.
– Не хочу.
Полька качает головой:
– Еще одно усилие, и у тебя получится стать идеальной Schmuckstück[37]. Согни спину, волочи ноги, немного пусти слюну, и ты отлично подойдешь для отбора.
Мила пожимает плечами:
– Сейчас или позже…
– Если тебе наплевать, сделай это ради меня. Ты вызываешь у меня отвращение.
Мила смотрит на свои руки. Встать. Почистить зубы. Ее все удручает.
– Не хочешь? Тогда не трать время. Беги из лагеря и бросайся на колючую проволоку под напряжением, если в тебя не попадут пули, – и дело с концом.
Мила вздрагивает.
– Разряд электричества, мозг зажаривается практически безболезненно.
Мила отворачивается. Полька зажимает ее подбородок в своей ладони.
– Ты, как и я, слышала о женщине, пулей выскочившей из колонны, которую вели на земляные работы, чтобы схватиться за колючую проволоку! И ты, наверное, ее видела. Она закусила проволоку, клац, решительно сжала челюсти, она уцепилась в нее, зажав в кулаках. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Ее пронзило с ног до головы, она почти не шевелилась, и ты, конечно, об этом помнишь. А потом сохни, как старое белье и та женщина. Это очень эффективно. Чего же ты ждешь?
Мила пытается высвободить голову, убрать руку польки, отцепляя по одному пальцу, но девушка впивается в щеки, вдавив их между челюстями, как насильно сдерживают пасть собаке. Изо рта Милы слышно лишь клокотание.
– Я отпущу тебя, только если ты пойдешь и бросишься на колючую проволоку.
Привкус ржавчины сдавленной слизистой, кровь смешивается со слюной и течет по руке польки.
– Вперед, лагерь – это медленная смерть.
Мила дрожит, закрывает глаза, выворачивает шею, сопли размазываются по ее смятым губам, а девушка говорит прямо у ее рта:
– Нет? Не хочешь? Я видела тебя, когда умерла твоя подруга, я видела, как ты ощупывала свое тело, и ты с облегчением поняла, что умерла она, а не ты. Я видела, как ты забрала у нее мешочек и сорвала с нее ботинки, которые лучше, чем твои, и ты сразу же съела ее хлеб. Ты хочешь жить. Ты не бросишься на колючую проволоку. Тебе не все равно – умереть сейчас или позже. Поэтому поднимайся и иди чистить зубы!
Она отпускает Милу. Мила вытирает нос, рот. Потом встает, держась за челюсть. Она всматривается через окно в верхушки стен; за ними колючая проволока – легкое освобождение, такое близкое. Она отводит взгляд, идет в Waschraum и чистит зубы.
Поскольку Тереза полька, дежурная заключенная скребет по дну бидона с супом, добывает немного овощной гущи, наливает в котелок Терезы и ее землячек, и этот суп Тереза вечером делит с Милой.
Позвякивание ложек, чавканье, вдохи и выдохи, которые напоминают Миле город Мант, как они ели в Манте, – красное вино в тарелку, и можно было пить суп, просто его всасывая. Ели не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы есть, и все внимание было приковано к тарелке.
Мила ставит свой котелок и говорит:
– Я хочу есть, это не жизнь.
А Тереза усмехается:
– Неужели? А что такое жизнь? Где это?
– Не здесь, – говорит Мила. – Это покупать хлеб в булочной, продавать музыкальные партитуры, целовать отца и брата по утрам, гладить платье, ходить на танцы вместе с Лизеттой, варить рисовую кашу…
Тереза смеется.
– Но ты здесь! – говорит она. – И быть живой – это вставать, есть, умываться, мыть свой котелок, это выполнять те действия, которые тебя сохраняют, а уж потом оплакивать потерю, пришивать ее к собственному существованию. Не говори мне о булочной, платьях, поцелуях, о музыке! Жить здесь – это не опережать смерть, в Равенсбрюке все так же, как и везде. Не умереть раньше смерти, устоять на ногах в короткий промежуток времени между днем и ночью. Никто не знает, когда она придет. Человеческий труд одинаковый повсюду – в Париже, Кракове, Тимбукту и даже в Равенсбрюке. Нет никакой разницы.
«Если пес не кусает, я думаю, это хорошо», – решает Мила. Здесь может произойти все, что угодно. Если нацистский пес тебя не кусает, когда ты ему бросаешь вызов на пустынной Lagerplatz, – значит, это искажение логики, после чего никакие рассуждения не могут больше отвергнуть возможность чуда. «Если он не кусает, я буду чистить зубы, стирать платье, буду стоять на ногах ровно, как столб. Бьюсь об заклад».
Мила стоит на Lagerplatz перед ровной полосой травы. Низкое солнце удлиняет тень, делая из нее солнечные часы. Восемь часов вечера. Все заключенные находятся в блоках, а блоки закрыты, прокаленные июльской жарой. Против света видно, как по проходам скользят призраки, больные в Revier, Verfügbars, надзирательницы, медсестры с повязками на рукавах. Тишина, слышно лишь жужжание пчел – звук от их вибрирующих крыльев. Пахнет горячей травой и примятыми цветами. Пахнет горелыми костями, от пламени крематория мерцает столб воздуха.
Мила срывает горсть свежей травы и кладет ее в рот. Жует ее, она сухая, дерет в горле. Кажется, собаки делают так же, чтобы очистить желудок, даже утки и лебеди, щиплющие траву на берегу озера и водоросли на глубине и в совершенстве перемалывающие их в клюве. Жадно ест зелень. Мила срывает вторую горсть травы и съедает ее. На тот момент Aufseherin стоит к ней спиной. Затем эсэсовец показывает пальцем в сторону Милы. Aufseherin оборачивается. Она пристально смотрит на Милу, выкрикивает приказ, кидается к Миле, натравливая на нее пса с отвисшими розовыми губами. «Du Sauhund, du Dummkopf!»[38] Пес лает и брызжет белой пеной. Мила ждет. Ее жизнь зависит не от того, что она ест, а от пса, поскольку она так решила, устав оценивать шансы к сопротивлению лагерю. Пес рвет поводок, Aufseherin начинает идти быстрее, потом уже бежит за псом, в то время как Мила срывает третью горсть травы, ее мочевой пузырь сжат, а сердце учащенно бьется. Голос Aufseherin отскакивает эхом от стены к стене вокруг Lagerplatz, усиливая лай пса, который уже в трех метрах от Милы, у нее на губах блестит зеленая слюна, и вдруг Aufseherin резко останавливается, пес заходится в лае. «Genug! Oh, wie Schade…»[39] – говорит Aufseherin нежным голосом, наклонившись к земле. «Ein Vogel! Bist du tot?»[40] Она держит в свободной руке серо-голубое тельце маленькой птицы с обвисшим крылом и приближает к своей шее с пульсирующими венами. Она шепчет нежные слова, гладит покрытую перьями головку с открытым клювом. «Mein kleiner Vogel…»[41] – и, не поднимая взгляда на ошарашенную Милу, ударяет ее плетью по затылку, оставляя ярко-красный след, затем медленно разворачивается, дергая одной рукой послушного пса, а во второй унося с собой раненую птицу в сторону эсэсовских домов.
Как и все, они спят валетом. После полоскания у Милы влажное платье, а, несмотря на то что на дворе август, ночью в бараке все стучат зубами. «Хочешь согреться? – шепчет Тереза. – Я прижмусь к тебе и буду дуть тебе в спину». Мила соглашается, Тереза изгибается и приникает к телу Милы: ртом – к затылку, животом – к спине, тазом – к ягодицам, коленями – к сгибу суставов. Она дотрагивается до бугорчатого черепа Милы, до суперчувствительной кожи, которую никогда никто не видел и к которой никто не прикасался, там, где зона нервных окончаний обжигает и разливается теплом по всему телу. Пальцы Терезы легко пробегают от лба к затылку, от одного уха к другому. Тереза прикладывает губы к влажному платью и выдыхает теплый воздух, который широко расходится под тканью. Она перемещает рот на правую лопатку, на левую лопатку, тепло распространяется от одного плеча к другому, потом вниз до пояса.
– Чем ты занималась в Польше?
– Ничем. В девятнадцать лет я вышла замуж за богатого парня, потом устала скучать на вечеринках с танцами. Мой муж был патриотом. Когда до нас дошла война, я сразу же согласилась перевозить оружие. Сначала это было ради того, чтобы заставить учащенно биться сердце, чтобы как-то разнообразить свою жизнь. Потом я стала это делать из ненависти к немцам. Они арестовали мою сестру и забрали мою няню, которая была еврейкой.
– А я работала в музыкальном магазине. Я шифровала сообщения и укрывала людей. Все вокруг поддерживали Сопротивление, я тоже вносила свою лепту.
– Меня крестили два раза, первый раз в Кракове – из-за моего отца, второй раз в Париже, в Десятом округе, – из-за матери. Мое польское имя – Тереза, а французское – Соланж.
– Соланж? Так звали мою мать. Соланж – мой единственный ангел, как говорил отец.
– Она мертва?
– Она выбросилась с балкона, когда мне было семь лет.
– Свободная женщина. Я тебе говорила, что нет границ между лагерем и свободой. Каждый день ты выбираешь, продолжать или остановиться. Жить или умереть. Видишь, ты свободна, как и твоя мать.
– Замолчи.
Тереза кладет руку Миле на живот. Они прижимаются друг к другу, тепло одной переходит к телу другой, платье Терезы впитывает влагу платья Милы. Они почти забыли о голоде, о постоянной боли, газы выходят из живота, как из взрывающихся кишок разложившихся трупов, лежащих на солнце. У Милы в животе поднимается пузырек воздуха прямо под пальцами Терезы. Медленно, уверенно, к поверхности кожи. Рука Терезы останавливается и прижимает его.
– Ты беременна.
– Я думаю… Откуда ты знаешь?
– Это шевелится.
– От голода.
– Нет.
– Ты уверена? У тебя есть дети?
– Нет, детей нет, но есть братья и сестры. Вот здесь ты разве не чувствуешь выпуклость?
– Я не трогаю там себя. Мой живот – это смерть. Ребенок здесь умрет, нет никаких сомнений.
– Тебя не укусил пес, ты слышишь? Я сделаю так, чтобы тебя взяли на работу в Betrieb. Швейное ремесло – это самое лучшее для тебя. Темп работы, конечно, высокий, но ты будешь сидеть. Договорились?
– Не знаю.
– Если ты скажешь «да», то это наш ребенок. Твой и мой. И я тебя не оставлю.
Мила оборачивается:
– Почему ты это делаешь? Чего ты хочешь?
– Того же, что и ты. Того, ради чего стоит жить.
Остается несколько часов для сна. В три часа утра придется отклеиться друг от друга, чтобы не начали судачить и считать их парочкой. Но в данный момент нет ничего важнее, чем сохранить тепло прилипшего к тебе тела, которое повторяет твои контуры, соединяется с тобой, делает тебя устойчивей. В приятном оцепенении Мила рисует в своем воображении Краков – город под ясным небом, с величественными зданиями и широкой рекой. Мила наложила на незнакомый город солнечный образ Терезы, ее высокий птичий голосок, ее голубой и зеленый глаза и ее звонкий смех. Она нанесла на поверхность воды искристое сияние, подула ветром на листву, посеяла дикие ирисы, чьи фиолетовые и сиреневые головы склонились над водой.
И снова одно и то же, очень долгий Appell. Ходят слухи, что Гитлера убили. Мышцы с трудом вытягиваются, от спазмов в желудке хочется рвать, но нечем. Гноятся ноги, старые заключенные исчезают в крытых брезентом грузовиках, свиньи маршируют колоннами туда-сюда, срут, спят, дохнут, поют, мечтают о пиршествах во время мира и беспрерывно и без оснований ожидают. Но есть тот пес, который ее не укусил. И никогда не укусит. Это действительно произошло, и Мила вспоминает об этом каждый раз, когда у нее сгибается спина, когда у нее не чищены зубы, когда у нее грязное платье. Пес ее не укусил, и еще одна девушка несет с ней двойную ношу: неведение ее судьбы, неведение родов, бремя ее страхов.
Глава 5
Очень скоро Тереза подумала о Жоржетте. У Жоржетты пятеро детей и седые волосы, и наверняка есть внуки. Жоржетта – учитель математики, она сможет объяснить, как объясняла детям в школе теоремы и сложные правила, которые не пригодятся обыкновенному человеку в повседневной жизни, все эти тангенсы, интегралы, абстракции, которые забываешь сразу же после того, как выучишь. Жоржетта умеет раскрывать невидимое.
Мила соглашается. В воскресенье, сидя на нарах, она шепчет Жоржетте: «Я беременна, думаю, с января, и я не знаю, как там у меня внутри все устроено». Жоржетта медленно кивает – охваченная жалостью, а возможно, любовью. А может быть, не веря этому признанию, которое привносит что-то от нормальной жизни, обычной жизни, жизни вне лагеря, признание, которое стирает границу. Лагерь – это отклонение от обычного существования. Это ужасно, осознает Мила.
Жоржетта кладет руку Миле на живот. «Ты такая худая, – говорит она. – Ребенок такой маленький. Или он у тебя вместо живота. Сколько тебе лет? Двадцать?» Она рассказывает о матке, о коконе среди внутренних органов, где находится ребенок, о каком-то красном и выпуклом укрытии и о том, что этот временный карман увеличивается. Это то, что, по ее словам, у нее было пять раз, выпуклость, круглый живот, набухшие от молока груди, все, что она прятала под широкими платьями, дабы избежать внешней агрессии. «В некоторой степени это было все равно, что показаться на людях голой, понимаешь, таким образом ты объявляла всем о том, что ты была в постели со своим мужчиной, что это действительно произошло, мы это сделали, но показывать это было непристойно». Поэтому носили платья-чехлы темно-синего или темно-коричневого цвета, которые скрывали беременность. «Но у тебя ничего не видно. Он шевелится там? Немного? В таком случае нужно, чтобы ты ждала этого ребенка в своей голове, – сказала Жоржетта, – он нуждается в том, чтобы его ждали». У Жоржетты была мать. «Наши мамы не рассказывали нам об этом, – говорит она, – в этом не было необходимости, было достаточно их присутствия. Они знали, мы нет, и это было вовсе не важно, потому что они были рядом, вмешивались во все. Выполняли вместо нас нужные движения, которые мы, успокоившись, безоговорочно потом повторяли, увековечивая предания и ритуалы, причины которых никто не знает и которые, несомненно, мы передадим однажды сами». Жоржетта рисует на пыли палкой влагалище, яичники, круглую матку. Пока еще новые слова для Милы. Жоржетта говорит: голова ребенка скоро опустится вниз и будет давить на шейку матки, вот здесь, готовая выйти, и потом ты вытолкнешь ребенка и обволакивающую его плаценту. Мила слушает. Все это у нее внутри. Эти полости со странными названиями, эти мягкие трубочки, эта жидкость… Все, как у мясника на его керамических блюдах, – у нее в животе находятся кишечник, кровь, почки, печень, точно так же как у быка, свиньи, барана. Мила отгоняет кровавые картинки и думает о Брижит. Жоржетта – это лицо Брижит, которую она не видела, она только слышала ее голос, слышала ее колыбельную через трубы во Френе: las hojitas de los árboles se caen, viene el viento y las levanta y se ponen a bailar. Ветер поднимает листья, и они начинают танцевать, говорится в песне. «Танцевать, понимаешь, Мила, просто танцевать, это не вихрь их срывает, ничего не бойся, это просто танец»: ре# до до# фа# ми.
Мила входит на новую территорию. Как в день прибытия в лагерь, она обнаруживает неизвестную действительность. Нужно представить себе, что находится у нее внутри, представить себе картинку, дать всему название. Мила слушает Жоржеттту, записывает слова: сокращения, матка, толчки, роды. Последнее слово ей нравится больше остальных, и не потому, что оно означает окончание беременности и внутреннего неведения, а потому, что оно означает новую очевидность: вопреки всем ожиданиям то, что происходит, – это хитрость, ведь живот – это место, которое никто, никакие власти, никакие институты, никакие партии не смогут завоевать, колонизировать, присвоить, пока Мила держит это в секрете. И только она одна его хранит, она никому ничего должна, да, действительно, у нее можно забрать котелок, украсть платье, избить до крови, довести работой до изнеможения, можно ее убить, пустив пулю в затылок, или отравить газом в соседнем лагере, но это пространство принадлежит только ей, она ни с кем его не делит до самых родов. Она сделала их, этих бошей; помимо ребенка у нее есть еще это – неприкосновенная зона наперекор им. И, как говорил ее отец, «да пусть они сдохнут, эти ублюдки».
Другие женщины, она вдруг увидела в них матерей. Видит их прежние деяния, которые могут связать между собой тела женщин по ту сторону от настоящего страдания. Тысячи матерей со всех стран, говорящих на разных языках, ведущих различные войны, от матерей к матерям идет длинная жизненная цепочка, включая надзирательниц и эсэсовок, расширяет круг им подобных, переносит границы: была ли у Аттилы маленькая девчушка в кружевной шапочке? Или мальчик в коротких штанишках? Аттила занимается любовью, носит ребенка, рожает ребенка, гладит его по волосам, почему бы и нет, кормит его грудью, потом с ложечки, целует его в лоб. У Аттилы наверняка есть влагалище, матка. Она наверняка была женщиной, матерью, как станет матерью Мила. Как была матерью Соланж. Соланж, фа# ре си до ре фа# ми. От всего этого кружится голова.
«Теперь тебе нужно есть, – говорит Жоржеттта. – Ты ешь вместо ребенка, он ест тебя. Я слышала, что беременным женщинам полагаются дополнительные пайки, тебе нужна справка». Мила думает о пальце врача в день визита к гинекологу, о голом среднем пальце, засунутом ей между ног. Справка о беременности. Значит, туда снова засунут палец, и ей нужно будет признаться в обмане. «Нет, не беременна», – сказала она тогда, и он сможет намеренно сделать ей больно. В любом случае она не хочет, чтобы об этом узнали. «Дополнительный черпак – это приманка для того, чтобы женщины признавались. Таким образом их легко вычислить, и их убивают», – думает Мила. Она будет молчать. «По крайней мере, отдыхай, малышка. Ты не готова рожать на платформе, стоя между двумя вагонами. Тереза устроит тебя в швейный цех».
Мари-Поль, Луиза, Жоржетта и Тереза становятся кормилицами еще не рожденного ребенка. Они несут гущу, добавки, очистки, картофель, дополнительный хлеб, выменивая все это на лоскутки шерсти, ниток, мини-скульптуры, выдолбленные на галалитовых пуговицах с завода «Siemens», чтобы Мила лучше ела, чтобы выжил ребенок, если она его доносит.
– Тереза? Прижмись ко мне перед сном. Поговори со мной. О Кракове.
– Краков красивый, как Париж.
– А как сказать «это красиво» по-польски?
– To jest ładne.
– То-ест-ла-дне.
– Там много церквей и больших площадей. Я жила в средневековом квартале, на площади Главный рынок, в доме пятнадцатого века. А еще там река Висла и невероятные восходы солнца на холме Вавель: от солнца река полностью красная. В Гданьске Висла впадает в Балтийское море, не очень далеко от Равенсбрюка. Я думаю о ней, Мила. Когда идет дождь, клянусь, я о ней думаю. Я спрашиваю себя: откуда эта вода? Может быть, это испарилось море, а море – это немного Висла, а Висла – это моя родина.
– В самом деле? Здесь есть море?
– Да, чуть северней.
– Ты видела карту?
– Нет, мне рассказали. Фюрстенберг в восьмидесяти километрах от Берлина. Это к югу от Дании.
Мила пытается представить местность. Она не может впомнить ни границы, ни расположение морей, ни Берлина, которые она должна была учить в школе на больших цветных картах «Vidal-Lablache»[42]. Равенсбрюк по-прежнему находится нигде, плавает в пространстве с размытыми границами, на континенте, это точно, и точно, что это немецкая территория, больше Мила ничего не знает. Она думает о том, что Лизетта так и не узнала, где умерла.
– Ты любила эту девушку, не так ли? – выдыхает Тереза в Милину шею.
– Да. Как на твоем языке говорят «да»?
– Так.
– Я ее любила. Она была моей кузиной, но я ее любила не поэтому. А потому, что наши жизни переплелись на несколько месяцев, после того как я стала сиротой. Она видела мою мать в ее последние минуты. Лизетта рассказывала, что моя мама пронеслась синим факелом между балконом и землей, волосы развевались, платье задралось к груди, глаза закрыты, как у Офелии. Она была бледной, ее тело было как у марионетки, словно она умерла еще до падения. Лизетта хотела меня заверить, что моя мать была мертва до того, как коснулась земли, до удара, которого Лизетта не видела, потому что отец закрыл ей глаза, мертва до того, как взорвалась ее голова. Жаль, если это было не так. Даже если Лизетта намеренно лгала, это к лучшему. Понимаешь, единственное, что имело значение, так это то, что она разговаривала со мной, как моя мать. Она хотела меня защитить.
– Я тоже хочу тебя защитить.
– В то утро, когда она умерла, я не в состоянии была отнести ее тело в Waschraum. Это сделали Мари-Поль и Луиза. Потом я не заходила в Waschraum до тех пор, пока они не забрали ее в морг. Целых три дня. Именно поэтому я была такой грязной, когда ты меня нашла, такой вонючей. Еще хуже, чем раньше. Умываться там, как лежит Лизетта, я не могла этого вынести.
– Что ты от нее сохранила?
– Ботинки. Остальные забрали ее вещи и шпильки для волос.
– У тебя остался ее мешочек?
– Да. Зубную щетку я отдала Луизе. Себе оставила малиновую конфету.
– У тебя есть конфета!
– Она была у нее с момента ареста. Накануне у ее сестры был день рождения. Малышка попросила в подарок конфеты, и отец раздобыл их у одного кондитера, который хранил их на складе еще с довоенной поры. Пакетик малиновых конфет, завернутых в розовую бумагу. Когда на рассвете пришло гестапо, малышка сунула свою последнюю конфетку в карман Лизетте. Конфета была с Лизеттой во Френе, в Роменвиле, в поезде до Фюрстенберга, здесь, в Равенсбрюке, хранилась в маленьком мешочке.
– Ты мне ее покажешь?
Мила трясет головой:
– Я очень хотела есть, я ее съела.
В ожидании работы в Betrieb Мила каждый день идет за колонной, следующей разгружать вагоны с награбленным. Несмотря на трехкратный обыск, она приносит оттуда лекарства, которые зарывала по мере того, как прибывали поезда. Среди них аспирин, ампулы с кардиозолом, которые не смогли спасти Лизетту, но которые ждут в Revier больные чахоткой: один кусочек сахара уже совершил чудо. Выживать – это коллективная работа. Она засовывает ампулы в носки, таблетки в трусы и в зашиваемую и распарываемую подшивку платья. Каждое утро она распарывает, каждый вечер переделывает работу, стежок за стежком, когда надзирательница отводит взгляд, используя каждую секунду, сто раз укалывая пальцы. Мила черпает смелость от эсэсовского пса, того пса, который ее не укусил, после чего все становится возможным, включая тайную доставку лекарств в лагерь. А на день рождения Жоржетты Мила находит в одном ящике издание «Сида» на французском языке. Она отрывает твердую обложку, разрывает текст на две части и делает из них две чаши в ботинках. У нее в носках спрятаны укрепляющие ампулы, в ботинках – книга, под платьем – рубашка, украденная с чешского склада, в кишечнике – жемчужины, в матке – ребенок; за все это можно умереть пять раз, и пять раз она этого избегает, но все же прихрамывает, едва поднимая ноги, боясь потерять свои ботинки, набитые до краев текстом Корнеля. Она возвращается, выжив пять раз. Проходя мимо озера, Мила ищет взглядом паутинку, дрожащую на солнце между стеблями ириса, находит ее нетронутой и радуется этому. Вечером задувают зажженные вместо свечей веревочки: Жоржетте пятьдесят семь лет. Девушки, работающие на «Siemens», дарят ей четки из электрических деталей кораллового цвета и крест из латуни, Тереза – вышитый носовой платок, Мила – «Сида», который Жоржетта сразу же открывает:
Эльвира, твой рассказ звучит нелицемерно? Все, что сказал отец, ты изложила верно?[43]И в завершение всего француженки плюс Тереза, четырнадцать пар рук, отстукивают по полу кончиками пальцев ритм песни «La Java bleue»[44] – легкий шум, почти треск, накануне они репетировали и теперь очень стараются. Всплывает лицо Фреэль[45], представляющее образы лета 1939 года, того года, когда появилась эта песня, которая так близка и так далека одновременно. И они играют веселый вальс тем, что имеют, тем, что у них осталось и что они с таким трудом сохранили к празднику, – своими ногтями. Они дарят Жоржетте концерт на ногтях на глазах у Stubowa, молча стоящей в глубине барака.
Целый день – шум швейных машин, десятки работающих механизмов, темп которых прерывался внезапными остановками, нить, выскользнувшая из игольного ушка, сломанная игла, которая иногда стоит удара лицом о бобины, отвешенного рукой эсэсовца, выбитого зуба, сломанного кровоточащего носа, разбитой брови. Женщины, работающие в ночную смену, не могут открывать окна из-за самолетов союзников, и они задыхаются, их легкие сжаты двенадцать часов подряд, многих отправляют в блок № 10, в блок туберкулезниц, которым уже ничем не поможешь. Днем ты умираешь медленней. На конвейере одни сшивают рукава для курток, норма – четыреста шестьдесят штук в день, другие – штанины для тюремной формы, у каждого своя задача, петли, пуговицы – семьсот пятьдесят штук в день, полы, манжеты. Рядом сортируют прибывшую с русского фронта одежду: разорванную, испачканную кровью и потом, она укрывала раненых и мертвых, она действительно отдает смертью. Тут стоит запах мертвечины. Заключенные распределяют одежду по кучам: в одной куче – форма, которая не подлежит починке, в другой – та, которую можно использовать для униформ, если ее заштопать, распороть и заменить куски материи. То, что доходит до Милы для починки, – это негодные вещи, ей никогда не попадается что-то хорошее, потому что женщины саботируют, бракуя лучшие вещи и сохраняя тряпки. То, что попадает в руки Милы и Терезы, пробито пулями, протерлось, было надето на трупах. Они весь день прощупывают эти саваны, которые вскоре станут формой, а потом, вполне возможно, опять саванами, к тому есть все предпосылки. Они и сами помогают невидимой и благородной мести: не завязывают нити, которые порвутся от легкого натяжения, оставляют булавки в ширинках штанов, переделывают много раз свою работу – вредительницы, неспособные и медлительные работницы. Миле ничего не стоит представить, как мужчина такого же возраста, как и ее брат, возможно вовсе и не чудовище, надевает штаны и повреждает себе яички. День – время для заговора, для молчаливого сговора между заключенными, которые договорились работать в медленном темпе, неловкими движениями, как в начальной школе, делать неровные швы. И эта наигранная небрежность выматывает, требует постоянного усилия: нужно помнить о том, чтобы не завязать нить; помнить о том, что нужно делать широкие стежки и шить не двойной, а одинарной нитью, которая быстрее рвется; не ускорять темп, а для этого замедлять движения и не поддаваться автоматическим движениям, которые были бы результативнее, естественнее, освободили бы голову и позволили бы умчаться мыслями подальше отсюда, от ниток и иголок. Если она забывает, приказ Aufseherin сразу об этом напоминает. «Давай потихоньку!» – орет она в уши француженок после того, как одна немка спросила: «Wie sagt man schnell auf Französisch?»[46] «Давай потихоньку!» Каждый раз, когда немка ожидает ускорения ритма, женщины сдерживают смех, причину которого она не понимает и который выводит ее из себя. Днем мир сужается до размера нескольких стежков, глаза портятся от бесконечных тонких нитей, игольных ушек, волокон. Чаще всего Мила и Тереза сшивают рукава и крепят окат рукава к плечу. Скоро эти рукава, пришитые к курткам, наденут на тела, соединят их с винтовками и гранатами, а затем будут вырванные руки, вырванные кисти, разорванные тела. В конце концов куртки сорвут с тел, бросят на груду трупов на земле, и они снова прибудут на сортировку в Betrieb. Тысяча рукавов, тысяча швов, соединяющих рукав с плечом, гротескный паззл. Мертвый солдат? Изуродованный? И Мила сразу же вспоминает отца, культи его ног, ампутированных выше колен и завернутых в ткань коротко обрезанных брюк. Это случилось в 1917 году после взрыва снаряда в траншее. Она лишь раз видела его обнаженную кожу, затянутую широкими шрамами, как перевязь на сосиске. Это было в Манте, когда отец заехал на два дня к сестре, чтобы проведать детей. Они пошли к реке. Там отец разделся, сначала подумали, что ему жарко, но потом он снял штаны, приподнимая то одну, то другую ягодицу, и из кальсонов показались два куска плоти. «Я хочу искупаться», – произнес отец. Дядя Милы отнес отца на руках, как девушку, как принцессу из сказок братьев Гримм к замку, погрузил в зеленую воду. На это было страшно смотреть – из-за ног, из-за объятия между дядей и волосатым мужчиной с бородой и седыми волосами, который смеялся, бил по воде, брызгался вокруг себя, как маленький мальчик. «Худой», – думает Мила, и ее рука слишком быстро движется вперед. Не мечтать, контролировать свои жесты. Нить, игла, ткань, смотреть на них и не отводить взгляд. В швейном цехе нет никакой нагрузки на мышцы, не считая мочевого пузыря, который нужно сжимать до самого вечера. Но швейный цех изнуряет мозги.
Ночь полна шепота и молчания. Она наступает быстро, падает на вытянувшиеся в изнеможении тела, желание одно – забыться. Ночь – это нежность: тело Терезы приникает к телу Милы, ее пальцы расчесывают отрастающие, как пушок цыпленка, волосы, поглаживают по затылку, иногда Мила чувствует легкое касание ресниц. Слышен скрип коек, кто-то ворчит, кто-то кашляет, разговаривает во сне и видит кошмары. Можно представить себе корабль, трюм, полный людей, а на борту чума, где больные лежат прямо на полу. И как только все это умолкает на несколько секунд, в Равенсбрюке сгущается ночь. Она погружает тебя в сон, словно тебя омывает со всех сторон вода, и ты не сопротивляешься, она полностью тебя покрывает. Но перед этим, в короткий промежуток времени перед сном, Тереза и Мила скользят по улицам Парижа, Кракова, Манта. За неимением будущего они вспоминают прошлое, далекое, как детство, ту территорию, которую они описывают друг другу в темноте, перед тем как уйти в бессознательное состояние.
Грудь висит и не набухает, вместо нее какие-то высохшие, непонятной формы мешки. Жоржетта называла грудь молочной фабрикой, но где, интересно Миле, в каком месте хранится молоко: у нее под пальцами перекатываются ребра. Если она правильно посчитала, то у нее срок через месяц, в конце сентября. Он спрашивает себя, что же она родит, учитывая, насколько она худа: ребенка-котенка? саламандру? маленькую обезьянку? Как узнать, что то, что появится, – это настоящий ребенок? Или продукт Равенсбрюка будет массой, на которую нельзя будет смотреть, которая будет полностью покрыта гноем, ранами, отеками, чем-то без жира? Она не решается поговорить об этом с Жоржеттой, тем более с Терезой. Она не испытывает никакой любви, никакого желания, лишь при виде эсэсовцев Милу возбуждает мысль о ее тайном пространстве. Когда появляется нежность? Во время беременности? Перед родами? Пробудится ли она при виде ребенка? Существует ли материнская любовь или это выдумка?
Женщины по-прежнему прибывают – конвои из Пантена, Лиона, Восточного Парижа, а также из Аушвица. Партии из Франции были отправлены восьмого и шестнадцатого августа. Нужно напрячься, чтобы запомнить эти даты, сами по себе числа восемь и шестнадцать не имеют никакого значения, но это точки отсчета во времени. Восьмое августа, шестнадцатое августа… Какие это были дни недели? Когда это было?
Блоки переполнены, прибывшие остаются в карантинных помещениях. Их не отправляют на работу, не проводят поверку. Мила им завидует. Повсюду Verfügbar, которые каждую секунду рискуют попасть под отбор, но их так много, что их масса их и защищает. Они всюду: под потолком, под нарами, их ежедневная забота – найти себе пропитание.
Вдеть нить в иголку, прикрыв один глаз, который уже с трудом видит и не в силах фиксировать взгляд на мелких деталях. Протянуть нить, прокладывать шов ровно, но медленно, постоянно следить за Aufseherin, которая ходит туда-сюда, ускорять темп при ее приближении, а потом возобновлять ритм сопротивления – не больше одного стежка за две секунды.
Поговаривают об освобождении Парижа. [Цимердинст], уборщицы карантинных блоков, получили этому подтверждение от француженок, и Мария расшифровала закодированный язык «Beobachter»: «Наши войска заняли новые позиции в окрестностях Шартра». А союзники освобождают Прованс. Они продвигаются на восток, они продвигаются на запад, они продвигаются на юг. Но здесь это ничего не меняет и не уменьшает шансов умереть: нужно, чтобы немцы допустили, чтобы они выжили, а значит, разрешили им заговорить, и нужно пережить зиму, если зима их тут застанет.
Украсть нитки. Каждый день по нескольку сантиметров. Иголку, обрезки ткани, пуговицу. Это на потом. Для ребенка. Кусок рукава серо-зеленого цвета, край плеча – из них она сошьет пинетки, одеяло, шапочку, оденет ребенка в мертвого солдата, в одежду из обрезков эсэсовских униформ.
– А я, – говорит Адель, – в тот день, когда вернусь, сразу же помчусь в замок! Я уверена, что наш слуга Люсьен будет меня ждать на вокзале на нашей карете и с блинчиками с медом. Чтобы отметить нашу встречу, мы устроим пышный праздник под липами. Все в белом, мы будем вальсировать под музыку оркестра!
– Прекрати нести бред, ты нас утомляешь!
– По крайней мере, эта малышка улыбается.
– Вы мне не верите?! Вот увидите: моя черная кобыла Оникс будет ждать меня на вокзале.
– У тебя белый конь, и в последний раз это был жеребец.
– Вот брюзга! Ну и что, не важно. О Париж, Париж!
– Тереза, ты веришь, что мы отсюда выйдем?
– Я не верю в ангела-спасителя. Я верю в невидимые силы, я верю в удачу, в элемент случайности. Мы не знаем, что произойдет. Нельзя делать никаких выводов.
Еще один вечерний Appell. Так много Verfügbar и «розовых карточек», что не хватает глаз для установления дисциплины. Мари-Поль укоротила подол юбки и смастерила себе маленький элегантный воротник, Луиза заложила складки на плечах платья, а Виолетта подогнала по фигуре пиджак. Через несколько дней все это сорвано в сопровождении пощечин и дополнительного часа или двух после работы. Однако то, что это можно сделать прямо сейчас, так смешно – разгуливаешь по концентрационному лагерю в строгой робе с воротником, сшитым по последней моде. Несмотря на обыски, женщинам удается украсть даже фарфоровую посуду и халаты, которыми никто потом не пользуется – слишком заметно. Но это игра: кто принесет самый большой предмет.
Три тысячи пришитых пуговиц, пятьдесят сломанных иголок, спрятанных в ширинки, тысяча незавязанных узлов… Мила, не забывай: не завязывать узлы и не шить двойной нитью, не делать больше одного стежка в две секунды.
Теперь в блоке столько женщин, что ночью ты идешь по телам. Они лежат на полу, сидят вдоль стен, ты идешь и ощупываешь ногой пол, проскальзываешь между костями, ступаешь на мягкий живот и слышишь стоны. Больше не существует официального Waschraum, больше нет отведенного места, ямы вокруг блоков теперь не только для больных дизентерией, поэтому дерьмо повсюду, оно медленно стекает в развороченные канализационные отверстия, повсюду густые лужи, куда в полуденную жару садятся жирные мухи. А теперь еще появилась палатка с венгерскими еврейками, только что прибывшими после изнурительного перехода. Говорят, что в палатке есть также русские, чешки, цыганки и даже француженки. Палатка – это блок № 25. Несколько дней женщины выравнивали катком площадку между блоками № 24 и 26, не догадываясь о назначении этого болотистого участка, где постоянно стояла вода. Затем тут установили палатку и назвали ее блок № 25. И потом пришли они – тысячи и тысячи женщин, детей, грязных и зловонных, как Schmuckstücks. Мила видела, как они заходили в ворота – не tsu fünft и даже не молча, это была непрерывная волна платьев, волос и лиц с прищуренными от солнца глазами, они волочили ноги, поднимая пыль на Lagerplatz. Плач невидимых детей, стоны больных, чуть слышное пение. Они вошли в палатку без карантина, нашли там несколько промокших тюфяков и легли прямо на землю, точнее в воду. И сразу же они начали умирать от голода, от жажды, от истощения, они испражнялись и мочились на землю, у них не было санузла, Тереза сама это видела. Она видела, что было внутри палатки, где стояла вонь разлагающихся трупов, в глазах которых уже кишели черви. Она разыскала полек, поговорила с ними, дала хлеба.
Приделать рукава к неповрежденным курткам, устранить следы от пуль, снарядов, газа, крови, грязи, стереть запах смерти, вновь пошить униформу для следующего трупа. Каждый день Мила выполняет эту задачу, как другие женщины сортируют вещи умерших заключенных, – они это делают каждую минуту часа, каждую секунду минуты, у времени нет границ, оно бесконечно, а число заключенных растет и доказывает непрерывность цикла: лагерь кишмя кишит заключенными, как тифозная голова вшами. Конечно, их нужно убить, вместо того чтобы кормить. Мила это понимает, все это понимают, это смахивает на казнь.
Три женщины сидят на нарах Жоржетты. Обладательницы розовых карточек и седых волос сидят, выпрямив спины, степенно, как вдовы военных, положив руки на колени и уставившись в пол. Они поднимают взгляд, когда Мила и Тереза приходят и занимают соседние нары. Мила садится, ее горло пылает огнем. «Добрый вечер, дамы». Она закрывает глаза. Стоит ужасная жара, жирные мокрые волосы слипаются, по лицу течет пот, платья прилипают к телу. Эсэсовцы заколотили окна в швейном цехе, потому что одна девушка попыталась сбежать. Мила потеряла сознание над машинкой, Луиза сразу же ее подхватила: «Мила, скорее, очнись», – и колола ее кончиком иглы до тех пор, пока она не выпрямилась, а кровь выступала крошечными каплями. «О, извини… Мне так жарко». На воздухе Мила выставила шею навстречу ветерку, вдохнула его ртом, открыла ему свои бедра, этот жар-холод был приятен и опасен. Ей так хотелось увидеть озеро, но, чтобы дойти до швейного цеха, не нужно покидать территорию лагеря, просто проходишь вдоль блоков до Industriehof[47], а вокруг возвышаются очень высокие стены, за которыми видны лишь верхушки деревьев. Именно эту картину Тереза видит со дня прибытия в лагерь. В такой день озеро наверняка голубое, покрытое рябью, окруженное высокой пожелтевшей травой, и по нему плавают лебеди. Мила ловит ветерок, позволяет ему осушить каждую клеточку своей кожи, мочки ушей, голову, сдуть с себя мелкий песок, от которого все чешется; ей хотелось бы разуться, но это запрещено, и ноги варятся в обуви. По земле перекатываются сережки и легко узнаваемые среди всех остальных круглые листья ольхи. В детстве Сюзанна видела мало живых деревьев, в основном ее окружали срубленные деревья, подготовленные для столярных работ, но у нее был гербарий, который для нее собирал отец. Это были высушенные листья и куски коры, которые по мере высыхания обесцвечивались, изменяли цвет, подобно тому как белая древесина свежеспиленной ольхи становится сначала коричнево-оранжевой, а затем розовой. Отец говорил, что сваи для фундаментов домов в Венеции были именно из ольхи. Вот они, деревья ольхи, настоящие, с густой листвой, с освежающей тенью, которые заключают Равенсбрюк в живую зеленую изгородь, внутри которой – смерть.
Мила открывает глаза. Нужно выпрямиться, подождать, когда пройдет головокружение, снять обувь. Ломит спина, и в горле стоит кровь. Три пожилые женщины не двигаются. Клоди расчесывает укусы от комаров.
– Мы знаем, где Жоржетта. Она не в лазарете, как мы думали.
– Что? Как же так?
– Вчерашний вечерний отбор.
Отбор – окончательный приговор. Услышав это, Тереза садится рядом с Милой, ее худое тело склоняется к трем женщинам.
– Вот что рассказала Зенка. Это произошло в лазарете. Жоржетта вылезла из окна блока, чтобы проведать больную сестру. Вдруг в лазарете Schwester[48] захотела осмотреть у всех ноги. Жоржетта спряталась под нары. Они заставили больных ходить с задранными юбками, тщательно осматривали их икры, слушали дыхание, смотрели, у кого больше седины. По приказу Schwester Schreiberin ставила крестики напротив имен некоторых женщин. Среди них оказалась сестра Жоржетты. Женщины, у которых были открытые раны и рожа, понимали, что они уйдут, а другие останутся.
Пока ждали грузовик, который должен был увезти попавших под отбор женщин, Schwester решила запереть их в комнате с сумасшедшими. Зенка рассказывала, что женщины, цепляясь друг за друга, падали на землю и что те, кто должен был остаться, силились не закрыть глаза и до конца быть вместе со своими подругами: они смотрели на весь этот ужас, не уберегали себя от него. Сестра Жоржетты не сопротивлялась, поскольку была очень слаба, она вошла в комнату сумасшедших. И тогда Жоржетта вылезла из своего укрытия, посмотрела на сестру, которая смиренно улыбалась, понимая, что пришел ее час и ничего нельзя изменить, и сказала ей: «Я иду с тобой». Та в испуге замотала головой: «Уходи», но Жоржетта спокойно вошла в комнату. Одна женщина выкрикнула: «Жожо, вернись, что ты делаешь?» Надзирательница ударила Жоржетту, но та крепко держала сестру за руку. В конце концов Schwester рявкнула: «Ты ищешь приключений? Да? Ладно. Los![49]» Она закрыла за ней комнату сумасшедших, а грузовик приехал во второй половине дня.
– Зенка ничего не смогла сделать.
– Ничего.
– Жоржетта сама этого захотела.
Мила кивает головой. Пот течет по вискам, по шее, пропитывает одежду. Жоржетта ушла. Жоржетта бросила ее. Жоржетта скоро умрет, она будет похожа на трупы, которые лежат в Waschraum, будет похожа на Лизетту, голую, окоченевшую, с открытыми глазами, с открытым ртом, обнаженными половыми органами. Кто теперь будет разговаривать с Милой? Кто объяснит невидимое? Тереза берет Милу за руку. «Мы как-нибудь выкрутимся, – говорит она. – Jakoś to będzie[50]». Мила не чувствует никакой горечи. Сейчас она ненавидит Жоржетту, как ненавидела мать на следующий день после ее самоубийства, – они ее бросили.
В блоке разрешили петь хором. Женщины поют «Господи, помилуй», народные песни, а в память о Жоржетте – «Голубую джаву», аккомпанируя себе ногтями, которые стараются сохранить длинными, но они все равно крошатся, ломаются, хрупкие, как мел, из-за недостатка кальция. «Голубая джава» – это Жоржетта, это мгновение, когда Мила снова начала жить после смерти Лизетты, это «Сид», украденный в вагоне с награбленным в подарок ко дню рождения Жоржетты, это ботинки Милы, набитые текстом Корнеля, разделенным на две части, это вера в то, что у Жоржетты будет время прочитать его, что она доживет до финала «Сида». Голубая джава, самая красивая джава, которая нас околдовала[51]. Джава, Жоржетта, ля до ля до, и все следуют ритму. Каждый день Мила вполголоса поет «Голубую джаву», когда отряд начинает движение, когда пересекает Industriehof, когда швейные машины в Betrieb трещат, как пулеметы. Самая красивая джава, милая, в моих объятиях, хочу покрепче тебя обнять, тепло и ласку твоего тела сохранить.
Приступ тошноты. Капля за каплей течет в трусы. Сжатый мочевой пузырь расслабляется. Мила сжимает бедра, сейчас только раннее утро, и еще несколько часов она не сможет попасть в Waschraum. Но капли продолжают течь, намокает платье. Мила откладывает рукав, который шила, и хватается за край табурета. Выпрямляет спину и пытается сконцентрироваться, фаланги пальцев белеют от усилий. На полу растекается струйка жидкости. Мила закрывает глаза, живот становится твердым, и прерывается дыхание, затем она мигом встает и просит: «Das Waschraum bitte – Пожалуйста, в туалет». Женщины вокруг поднимают головы и смотрят на нее. Она неподвижно стоит в испачканном платье, ее лицо искажено от боли. К ней подбегает Тереза:
– Что с тобой?
– Это потекло само собой, это не моча, я не могу это удержать.
Мила смотрит на небольшую лужу, и вдруг одна француженка выкрикивает:
– Ты беременна?
Мила не отвечает – она привыкла это утаивать и боится наказания. Тогда одна женщина говорит:
– У нее отошли воды, малышка рожает.
Но Мила услышала «отходят кости»[52]. Через ее шейку выйдут кости. Она держится за живот, испуганно спрашивает у Терезы, которая ее поддерживает:
– Какие кости? – и дышит рывками между схватками, которые происходят помимо ее воли.
Вода, кости, Жоржетта, Брижит, мама. Что происходит? Что это такое? «Ruhe, Schweinerei!»[53] А потом одна француженка подходит к Миле раньше, чем надзирательница, за несколько секунд до ударов.
– Что это за жидкость? – спрашивает Мила. – Что это такое?
– Ты наполнена водой, малышка, это нормально. Теперь она вытекает, потому что выходит ребенок. Беги в Revier.
На плечо женщины тяжело опускается резиновая палка. Она сжимает челюсти, сгибается вдвое, держа Милу за руку. «Sie ist schwanger[54]», – шепчет она надзирательнице, это наверняка означает «беременная», поскольку у надзирательницы округляются глаза: «Schwanger?» Концом палки она приподнимает Миле платье. Чуть выше свисающих трусов видна небольшая округлость живота, похожая на вздутие от голода, а вдоль ног что-то течет. «Raus, faule Schwangere! Raus, jetzt!»[55] Мила и Тереза покидают Betrieb. На улице светит белое солнце.
Глава 6
Ш-ш-ш-ш… Вдруг медсестра, Schwester, зажимает Миле рот и шепчет ей на ухо так близко, что выбившаяся из хвоста прядь волос щекочет ее щеку, так близко, что она чувствует движение ее губ у себя на шее, так близко, что она ощущает запах мыла и пота. Она не видит лицо медсестры, слышит только ее повелительный шепот: «Schrei nicht, stör den Doktor nicht, schrei nicht! Bitte»[56]. «Пожалуйста» она добавляет совсем тихо. Они стоят друг напротив друга, их лбы соприкасаются, медсестра крепко держит Милу за затылок, едва отодвигает ее лицо от своего и, широко раскрыв глаза, смотрит на нее, прижав указательный палец к губам. «Ruhe, verstehst du? – Тихо, ты понимаешь?» Она понимает, боль подступает к горлу, она проглатывает ее, как кусок черствого хлеба. Большим пальцем медсестра указывает позади себя на приоткрытую дверь – там кабинет врача, который не желает слышать крики, не хочет, чтобы его беспокоили. Они стоят посреди коридора, усеянного телами живых и мертвых, и медсестра повторяет сквозь зубы: «Verstehst du?» Мила кивает головой. Она пошатывается, и тогда медсестра сильно сжимает ее за шею, чтобы не упала, и удерживает в прямом положении, пригвоздив свои зрачки к ее. Мила закрывает глаза, кусает медсестру за пальцы. Подкашиваются коленки. Милу медленно опускают на пол, кладут на спину, она повторяет: «Ruhe, Ruhe, Ruhe». Ее рот кровоточит, как вишня.
На потолке муха натыкается на белый плафон, бьется об него и снова натыкается. Сдержать крик, посмотреть на муху, которая опять ударяется о плафон. Под лопатками, под позвоночником, тазом холодная плитка впивается в кости. Терять кости. Сжать челюсти. Schwester здесь, она наклоняется над тобой, ее лицо не выражает никаких эмоций. Она смачивает кусок ваты, говорит: «Schnell, schnell». Такое впечатление, что она боится, что ее застанут с ватой и пузырьком, что она совершает что-то запрещенное, а ты, Мила, будешь ее слушаться, ты дышишь быстрее. Это пахнет миндалем, оно холодное, как снег, оно успокаивает все тело, отгоняет боль, мешает кричать. Ты прижимаешь вату к носу, и еще больше чувствуются миндаль и снежный холод, но Schwester убирает ее – «das ist genug[57]», как раз перед тем, как ты теряешь сознание. Она закрывает пузырек, приподнимает тебя и тащит твое легкое, как водоросль или облако, тело на тюфяк, покрытый белой простыней, затем нажимает на верх живота, и ты снова становишься мясом, ты кусаешь губы, ш-ш-ш-ш-ш.
Мила ощупывает рукой пол, ищет вату с хлороформом, в то время как ее кожа разрывается. «Ruhe, Fräulein»[58], – произносит Schwester, но у Милы сквозь губы вырывается звук, и тогда Schwester затыкает ей рот платком. Кровь бьется в деснах, бьется в висках, бьется в легких, в ее затвердевшей груди, бьется между ног, бьется в матке, пачкает рот и платок. «Ш-ш-ш-ш», – шепчет Schwester. Кровь пульсирует в тонких венах. Мила повинуется медсестре, повторяет ее движения: опускает руки, тужится, и ее глаза вылезают из орбит; Schwester подносит свои руки к груди и вдыхает полной грудью, Мила тоже вдыхает, раздираемая на части. И это повторяется и повторяется, этот немой язык: тужиться, вдохнуть, еще раз тужиться, напрячь живот и проглотить крик. В какой-то момент ей к шее кладут кусок плоти, она трогает что-то красное, вышедшее из нее, – без костей, безмолвное, истощенное, и у этого чего-то есть лицо, оно не плачет, оно, возможно, мертвое, или же оно тоже понимает приказы. «Ruhe, schreist du nicht»[59]. Не беспокой доктора. Оно знает, оно молчит – это ребенок концентрационного лагеря. «Ein Junge» – мальчик, говорит Schwester, и Мила сразу же думает, что мальчик – это солидно. Мила ощупывает эту красную и безмолвную вещь: голова, два уха, две руки, две кисти. Еще одна волна сокращает матку, и Schwester отбрасывает то, что из нее выходит, и Мила вспоминает, как котята разрывают сковывающий их полупрозрачный мешок, который кошка тотчас же съедает. Она продолжает свое исследование: две ноги, две стопы – равенсбрюкский ребенок похож на обычного свободного ребенка. Но она все же сомневается, она приподнимается, и кровь течет у нее между ног, образуя лужу под ягодицами, она хочет посмотреть, действительно ли у младенца два глаза, две ноздри. Вот они – два глаза, две ноздри, рот, покрытый красными и белыми выделениями. Мила снова ложится, а Schwester запихивает ей между ног свернутое белье, обнажает ее грудь и прикладывает к ней ребенка. На потолке мерцает белый свет. Муха бьется о плафон. Какая-то женщина кашляет, сплевывает. Пахнет кровью, миндалем, супом. Вязкое вещество высыхает между ног и на шее, куда Schwester положила ребенка. Она потеряла кости, осталась слизистая оболочка, мягкая, трепещущая масса. Дрожит пламя свечей. Голос Терезы, еще чей-то голос говорит: «Она потеряла много крови». Ветер в сосновых ветвях разносит шепот, лепет ангелов, Соланж, ее единственный ангел, ш-ш-ш-ш-ш, ветер залетает в окно и запутывается в волосах Милы. Она обнимает ребенка, завернутого в одеяло, и убаюкивает его, она считает, что Тереза права, что внутреннее и внешнее соприкасаются, снаружи – жизнь в ожидании смерти, внутри – то же самое, снаружи – беременность и красные новорожденные, внутри – то же самое, и Равенсбрюк – одна из частей мира, где жизнь протекает так же, как и в других местах. Сосны нашептывают испанскую колыбельную: las hojitas de losárboles se caen, viene el viento y las levanta y se ponen a bailar, история о танцующих листьях, которые срываются с веток, но не падают, а начинают танцевать, рука Лизетты – это белый и нежный лист, он гладит ее по лбу, прохладный, легкий, как листок ольхи.
Его больше нет. «Fräulein!»[60] Мила ищет его, одеяло тоже исчезло. «Wo ist mein Kind?»[61] Подбегает Schwester, держа палец у рта: «Ein Moment»[62]. Через некоторое время она возвращается и протягивает ей ребенка. Мила держит его перед собой и пристально на него смотрит. Он смотрит на Милу. Значит, это ты. На коже засохшая кровь, это красный ребенок со слипшимися от крови волосами, с черными ногтями – от черной крови своей матери, с запекшейся кровью вокруг ноздрей, со складками с засохшей кровью, он пахнет железом. Это он, покрытый коркой. Мила просит воды. «Kein Wasser», воды нет. Ей приносят утренний кофе. Она дует на кофе, остужает его. Садится, макает пальцы в черную жидкость, моет ребенка над котелком, сантиметр за сантиметром, смывает кровь, корку, вытирает носовым платком. Под пальцами она чувствует родничок на черепе и спрашивает себя, нормально ли, что у него голова без костей; она потеряла кости. Он смотрит на нее черными глазами, блестящими глазами, он сосет тыльную сторону своей руки, а его черные волосы похожи на птичий пушок. Schwester спрашивает: «Wie heisst er?»[63] Мила смотрит на младенца. «Джеймс», – говорит она не задумываясь, как будто разговаривала с ним. Раньше она об этом не размышляла, не выбирала имя, потому что не надеялась, что ребенок выживет. Буквы соединяются в целое, в состоянии истощения и обволакивающей ее боли. Ей нравится имя Джеймс, так зовут его отца, Джеймс, неожиданный, сбивающий с толку и открытый аккорд: ля до до ми фа#, который требует продолжения, который призывает к решительности, это имя начала. Возможность давать имя – это неимоверная радость, бо́льшая, чем впервые увидеть лицо ребенка, бо́льшая, чем быть матерью, – ей страшно быть матерью. Она радуется оттого, что дает имя тому, что не полностью принадлежит лагерю, тому, что принадлежит ей. Джеймс. Произнести слово, решить, что он Джеймс, и покинуть лагерь. Пора сказать: «Джеймс, прижмись к моей шее» – и перепрыгнуть через высокие стены. Потом Schwester сообщает, что у Джеймса такой же номер, как у Милы, только заканчивается на «а», и ее голос читает запись из ведомости: Langlois James, politische Deportierter, Franzose, geboren am 29 September 1944, 12 Uhr – Ravensbrück.[64] Ну вот, и у Джеймса есть номер. Теперь он тоже принадлежит им. Schwester указывает Миле на нары, которые она будет делить с другой больной. Та лежит, накрывшись простыней, и постоянно дрожит. Schwester снова берет ребенка. Мила спрашивает, куда она его забирает. «Ins Kinderzimmer»[65], – отвечает медсестра. «Ins Kinderzimmer?» – «Ja». В детскую комнату.
Мила старается не прикасаться к женщине. Она очень юная, она не говорит ни по-французски, ни по-английски. «Ее зовут Сили», – говорит Zimmerdienst, чешка, которая моет пол барака, словно тот факт, что у нее есть имя, очеловечит ее, вернее, то, что спрятано под простыней, откуда выглядывает лишь грязная шевелюра. Мила лежит на самом краешке, но все равно чувствует дрожь Сили. После карантина она знает: микробы переходят с одного тела на другое, с тела Сили – на ее тело, с ее тела – на тело Джеймса. В любом случае, на обходе доктор приказывает Миле вставать, она не больна, нечего ей лежать, она может выспаться ночью, «faule Dummkopf[66]». Она садится на край нар.
Das Kinderzimmer. Детская комната. Ну, конечно же, комната для младенцев, ведь дети постарше остаются в блоках, играют в шарики и в эсэсовцев, давая друг другу пощечины на Lagerplatz, да, Мила это помнит. Там, должно быть, находятся новорожденные, которых никогда не видно на поверке. Они оставались невидимыми на протяжении всех пяти месяцев, пока их искала Мила. Младенцы – возможно, но где же матери?
Schwester зовет Милу и приказывает следовать за ней. Она проходит по коридору, пересекает Tagesraum[67] лазарета и открывает дверь. За ней стоит очень юная девушка, почти ребенок с белокурыми локонами, голубыми глазами и белоснежной кожей, как у монахини. «Меня зовут Сабина, – говорит она, – я ухаживаю за грудными детьми». Увидев удивление Милы, она, запинаясь, бормочет: «Мой отец – педиатр». Schwester уходит. Сабина так и стоит в дверном проеме и, держа дверь минимально приоткрытой, преграждает Миле путь. Она интересуется, пришла ли Мила за Джеймсом, и Мила кивает в знак согласия. В глубине комнаты суетится еще одна девушка, но видны лишь ее темные волосы. «Это за Джеймсом!» – говорит Сабина, не оборачиваясь. Через какое-то время девушка из глубины комнаты подходит к двери и осторожно протягивает Миле ребенка. На нем белая распашонка и бирочка из ткани на запястье. «Это, чтобы не перепутать», – говорит Сабина. Мила хочет спросить, как можно его перепутать и сколько младенцев насчитывается в Kinderzimmer, но Джеймс ищет грудь матери. Сабина указывает Миле на стул в Tagesraum и просит постучать в дверь, когда закончит кормить ребенка.
Мила садится. Задирает рубашку, обнажает грудь, настолько крошечную, что сосок занимает всю ее поверхность. Она прикладывает рот младенца к груди, он сосет – это странное ощущение, новое, не похожее на поцелуи любовника. Джеймс смотрит на нее, его черные шарики глядят в черные глаза Милы очень серьезно. Она задается вопросами: все ли она правильно делает? так ли она его держит? сколько времени это длится? как узнать, что ребенок закончил, остановится ли он, когда насытится, или нужно это решать самой? и самое главное: есть ли что-то в груди? Она сжимает под рубашкой левую грудь, и из нее выделяется прозрачная капля, которая ее успокаивает. Но в тот же миг новые вопросы: а этого достаточно? возобновляется ли это? Они смотрят друг на друга, он – сжав кулачки, не двигаясь, впившись своими зрачками в зрачки матери. Она готова улыбнуться, но не решается, растерянная, как перед неизвестным инструментом, не способная судить, правильно ли все делает, и обращается про себя к сыну: «Джеймс, я рассчитываю на тебя, помоги мне, покажи мне».
Приходит еще одна женщина, у нее тоже ребенок, лицо которого Миле не видно. «Dzień dobry!»[68] Полька. Она садится напротив Милы, прячет ребенка под рубашку, Миле кажется, что женщина совершает те же самые действия, что и она сама. Она вспоминает все польские слова, которым ее научила Тереза, и представляется: «Jestem tzw Mila, jestem francuski»[69]. И женщина с улыбкой отвечает: «Jestem tzw Magda»[70]. Женщина спокойна, и от этого Миле становится легче. Она ждет. Смотрит на женщину. Она не знает, что должно быть дальше. Что будет происходить в ее теле и в теле младенца. Входит третья женщина, кивает головой Миле и Магде, садится на стул, прикладывает ребенка к груди. Холодно. Говорят, что осень и зима здесь суровые, руки уже мерзнут. Джеймс отпускает грудь. Сидящая напротив Магда меняет грудь, и Мила повторяет за ней. Но Джеймс больше не сосет. Он закрыл глаза. Мила поднимает его крошечную руку, и его пальцы раскрываются, как лучики солнца: он не мертв, он спит. Мила укачивает его, прижав к себе, затем еще раз всматривается в него, потому что забыла его лицо. На ее взгляд, у него голова, как у боксера, потому что глаза опухшие, как после нокаута, он держит перед собой сжатые кулачки, снова готовый к бою, нос деформирован после того, как прошел у нее между ног. «Мой маленький житель Сердана[71], – говорит она прямо возле его закрытых глаз, но он далеко. – Джеймс!» Он спит, ему все равно. «Мой марокканский мини-бомбардировщик, мой Джеймс». Перед тем как отнести его в Kinderzimmer к очень юной девушке, она нежно целует его в лоб. Сабина держит дверь едва приоткрытой, чтобы ничьи взгляды не проникли в комнату, говорит Миле прийти на следующий день утром, после подъема, ночью приходить нельзя. «А что, в Равенсбрюке младенцы ночью не едят? Мой маленький боксер, сможешь ли ты подождать?» У нее всплывают смутные воспоминания о том, как ее кузины просыпались ночью каждые два-три часа от криков голодных младенцев и как отец, спящий на втором этаже, закрывал уши подушкой, чтобы хоть как-то уснуть. Но сейчас об этом лучше не вспоминать. Она ложится спать рядом с Сили.
На следующий день она четыре раза приходит в Kinderzimmer. Четыре раза ей протягивают ребенка с биркой и в белой распашонке, которая постепенно теряет свою белизну. Четыре раза она прикладывает ребенка к груди в Tagesraum, меняет грудь, появляются новые лица, новые матери с маленькими молчаливыми свертками, которые садятся на стоящие вдоль стен стулья, образуя странный круг, где младенцев кормят грудью тощие молчаливые женщины, похожие на старушек, хотя им наверняка еще нет и тридцати лет. Они приветствуют друг друга, каждая на своем языке. Полька, чешка, венгерка, фламандка, русская, англичанка, немка, и ни одной француженки, ни одного знакомого лица, можно подумать, что все они разбросаны в тридцати двух блоках. Но стоит вспомнить, что говорила Мария, Schreiberin: «Сейчас в лагере насчитывается более сорока пяти тысяч женщин, и встретить знакомое лицо или услышать знакомый голос – всегда чудо». Матери придвигают свои стулья друг к другу, иногда смыкают круг, надеясь, что то малое тепло, которое исходит от их тел, продержится дольше, увеличится, что они поделятся им друг с другом. Но это ненадолго: через несколько минут Schwester возвращает их к ледяным стенам. Однако это лучше, чем ничего.
На третий – и последний – день в Revier медсестра сказала, что сегодня вечером нужно вернуться в блок. О Джеймсе она не сказала ничего. Мила стучит в двери Kinderzimmer. Открывает Сабина, у нее на руках два младенца, одного она протягивает Миле. «Это не Джеймс, не его бирка, у этого ребенка нет волос». Сабина снова уходит к нарам, где лежат младенцы, ее помощница-голландка заболела, и она еле справляется, она просит Милу подождать и подержать ребенка, который ей мешает. И тогда Мила смотрит на то, что она держит в руках. Оно ужасно. Оно размером с ребенка, но у него голова старичка. Желтая кожа. Оно сморщенное, как гнилое яблоко. Вздутый живот. Вместо одежды у него грязная тряпка. Оно тощее. Кожа да кости, ножки как соломка. А в сказке про Гензель и Гретель колдунье не нравилось, что указательный палец ребенка был толщиной, как куриная косточка. Оно холодное. Синего мраморного цвета. Парализованная, Мила всматривается в маленькое существо. Возращается Сабина: «Спасибо, давайте мне его». Мила спрашивает: «Что с ребенком?» Сабина берет его, качает и очень тихо бормочет: «Что с ним? Он голоден». И вот уже другая рука стучится в дверь.
Мила медленно заходит в комнату. Здесь есть стол, небольшой шкаф, умывальник, две корзины, потухшая печь и едва заметный просвет окна. Со сжатым желудком, превозмогая запах кала и мочи, она движется к двухъярусным нарам, ее туда тянет словно магнитом. На нарах неподвижно лежат в ряд черепа младенцев, прижатые друг к другу. Подойдя ближе, она замечает наполовину обнаженные тела, смрадные и грязные пеленки. И лица. Целая серия миниатюрных старичков, похожих на то существо, которое она только что держала, с морщинистыми и желтыми лицами, со вздутыми животами и синими тощими ногами. Пятнадцать маленьких тел вверху, пятнадцать внизу, самые чахлые и морщинистые лежат на одном тюфяке – настоящая коллекция крошечных монстров. А Джеймс лежит вверху, она сразу его замечает и берет на руки. Она узнает его бирку, целует его в мягкую головку, и он открывает глаза. У Джеймса розовые щеки, у Джеймса под кожей течет кровь, Джеймс похож на младенца.
– Вы не можете здесь оставаться, берите Джеймса и идите в Tagesraum.
Мила не двигается с места, она прижимает Джеймса к груди.
– Чьи это дети?
– Женщин-заключенных.
– Сколько им?
– Не больше трех месяцев.
– А потом?
Сабина заправляет за ухо прядь волос:
– Я должна вас оставить, у меня нет даже пеленок для каждого ребенка, а у них дизентерия, мне нужно за ними ухаживать, а сегодня я одна…
– Что с ними будет в три месяца?
Сабина закусывает губу, ее взгляд теряется в далеком окне. С верхней полки раздается тихий кашель. Мила повышает голос, это впервые после того, как она попала в лагерь:
– И что с ними?
Сабина глубоко вздыхает:
– Они умирают.
На этот раз Джеймс хватает грудь и тут же ее бросает. Он дрыгает ногами, как насекомое, перевернувшееся на спину. Мила сжимает одну грудь, потом другую. Они пустые. Сабина говорит, что больше нет сухого молока, сегодня умерло мало детей, а установленное эсэсовской медсестрой правило очень строгое: одна коробка сухого молока от Красного Креста за каждый труп младенца, доставленного в морг. И тогда Мила возвращается в Tagesraum, кладет палец в рот Джеймса. Он его сосет в ожидании.
Чуть позже Сабина зовет ее. Она больше не преграждает путь в комнату и широко открывает дверь перед Милой, которая уже побывала в Kinderzimmer. Сабина вернулась из морга, Keller. Есть умершие младенцы, а значит, есть молоко. Джеймс сможет поесть. Сабина берет коробку с сухим молоком, размешивает порошок с водой в стеклянной бутылке, прикрепляет к горлышку отрезанный от хирургической перчатки палец и проделывает иглой отверстие. «Целое сокровище, – говорит она. – Две украденные перчатки, два риска для жизни, десять сосок для пятнадцати младенцев; позаботьтесь о них».
К вечеру резерв молока иссякает, несмотря на то что были новые умершие младенцы: эсэсовская медсестра скормила молоко приплоду котят. И тогда Сабина знакомит Милу с русской заключенной, Ириной. Она говорит, что вчера умерла ее дочь. Что у нее есть молоко. Что она готова кормить грудью Джеймса. Мила разглядывает женщину. У нее еще розовые щеки, упругая грудь. Настоящий живой человек. Здесь еще живут настоящие живые люди. Как долго она в Равенсбрюке?
– Скажите, почему она это делает?
– Потому что у нее болит грудь, потому что вы поступили бы точно так же и потому что быть кому-то полезной – значит продлевать жизнь. Как бы там ни было, Джеймсу повезло.
Мила спрашивает, как поблагодарить Ирину по-русски: spacibo. «Только бы она не украла его у меня, – умоляет про себя Мила. – Хлеб, носовой платок, четки из электрических деталей «Siemens», фотографии отца и брата, носки, пусть даже котелок, только не его. Лишь бы она не заняла мое место, лишь бы эта женщина не стала для него важнее, чем я».
Мила, а за ней Ирина заходят в Tagesraum. Последняя прикладывает ребенка к груди. Она, наверное, представляет на его месте свою дочь: Аню, Еву или Беллу. Она произносит неслышимые для ребенка слова, возможно, это стихотворение, слова нежности, у нее мягкий и глубокий голос, и Мила слушает ее, поглаживая пальцами лоб Джеймса. Миле интересно: что передается с молоком этой женщины, переливается ли вместе с жидкостью ее любовь? Затем Мила откидывает голову на спинку стула, складывает руки на коленях и смотрит на Ирину и Джеймса. Они пребывают в благодушной временной сытости, и становится очевидно, что они подпитывают друг друга.
Завтра они увидятся снова, Джеймс остается здесь, в Kinderzimmer, он здесь живет. Мила временно освобождена от работ, но не знает, надолго ли, значит, она может брать сына на время кормлений, четыре раза в день, и делить его с русской. Потом Джеймс снова займет свое место с номером среди маленьких костлявых старичков. Так проходит время младенца – он неподвижно лежит, погруженный в мочу и кал, с оледеневшими пальцами, глубокой осенью.
Перед тем как покинуть Revier и вернуться в блок, Мила склоняется над нарами Сили, желая попрощаться. Но нары пусты. Zimmerdienst моет шваброй пол и сообщает, что Сили умерла.
Она идет одна. Проходит через мокрую после ливня Lagerplatz, еле передвигая ноги, на которые налипла грязь. Она потирает замерзшие руки, прячет их под мышки, в воздухе уже чувствуется холод, а это только начало октября; от малейшего попадания воздуха в рот болят десны. Она щурит глаза, которые привыкли к искусственному освещению, серебристые отблески луж режут глаза. Она видит проходящие мимо тени, тени сгорбленные, тени с легкими, изъеденными бронхитом, пневмонией, кашлем и мокротой. Чуть дальше стоит палатка, блок № 25, в нем невидимая сутолока, которая хрипит, шепчет и стонет. Вот блок Милы. Судя по полумраку и уходящему солнцу, уже почти вечер, скоро должны вернуться рабочие отряды. Миле интересно: есть ли там Луиза? есть ли там Адель? есть ли там Мари-Поль и Мария? ждет ли ее Тереза? знает ли, что она вернется этим вечером? делит ли свои нары с другой заключенной? найдет ли она себе место для ночлега? а может быть, Тереза уехала на завод с внешней Kommando[72] или на какую-нибудь стройку? и вообще, жива ли Тереза? Грязь брызгает на щиколотки, марает черной жижей. Под таким сине-зеленым небом озеро, наверное, совсем темное, а до наступления зимы деревья и трава станут черными.
Она входит в блок, Blockhowa хватает бумагу из Revier, временное освобождение от работы и разрешение на посещение Kinderzimmer. Мила уже ищет взглядом Терезу, слышит голоса Мари-Поль, Луизы, Адель, Марии, ее тело тянется вглубь барака, где толпятся француженки, но тут одна из Aufseherin приговаривает ее за дерзость простоять один час перед блоком. Один час на улице в наступившей темноте, как раз когда полька затаскивает бидон в блок и разливает суп по котелкам. Один час стоять с посиневшими губами, дышать только носом, чтобы не застудить легкие и не заболеть.
Внутри ее ждет котелок холодного супа, который наполнили до краев ее подруги. Они сидят на привычных местах. Тереза сохранила для нее место: на нем спала одна чешка, которая пообещала уйти, когда вернется Мила.
– Значит, его зовут Джеймс?
– И он красивый, правда? Ты говоришь, он как маленький боксер? Надо было его назвать Марселем!
– Какая Kinderzimmer? Что это такое?
– Там дети должны умирать как мухи, но младенцы все-таки живут! У этих бошей никакой логики.
– Да ты еще и жалуешься?!
– Вчера опять был черный транспорт.
– Я тебе связала пинетки из шерсти, которую мне дала одна женщина с розовой карточкой. Жоржетта обязательно сделала бы это, а так пришлось мне.
– У меня есть пеленки, я их взяла в вагонах с награбленным.
– А из этой ткани ты можешь ему сделать рубашечку, да?
– Ах, им не хватает угля… Бедные малютки. Два брикета в день, это ничего.
– А я знакома со многими женщинами-лесорубами, и стоит мне только шевельнуть мизинцем, как ты получишь уголь! Я помогла стольким заключенным!
– Да ладно, Адель, ты нам не предлагала уголь, а по ночам уже заморозки.
– Вы у меня не просили.
– Перестань говорить невесть что…
– Джеймс – это английское имя?
– Думаю, да, а имя при крещении?
То, что они говорят, не важно. Важно то, что они говорят, что они сплетают вокруг вернувшейся Милы сладкозвучный платок из голосов, что они вышили имя «Джеймс» на носовом платке, что они складировали на ее нарах пеленки, ткань, пинетки, словно боевое оружие, что вокруг нее столько открытых сердец, что они наполнили ее котелок супом, что они подходят к ней, прижимаются плечом к плечу, удерживают тепло, как могут, образуют вокруг Милы заграждение из живых, в то время как любимые мертвые бесстрашно витают вокруг них – Жоржетта, Виолетта, Лизетта, сгоревшие в ярко-красном пламени Krematorium, и множество других часовых, которые вместе сторожат эту безумную возможность, жизнь в Kinderzimmer, вопреки всякой логике. Мила закрывает глаза, приникает всем телом к телу Терезы, она чувствует на затылке ее дыхание, теплые руки Терезы плотно прилегают к ее животу, как теплые и прочные плиты, и у Милы странное, нелепое, но ясное ощущение, что она вернулась домой. «Home», – сказал бы отец Джеймса. Home, домой, в надежное и защищенное место.
– Я была беременна, – говорит Тереза. – Я его потеряла на трехмесячном сроке.
– Как?
– Однажды он упал, как сгнивший фрукт. Я не хотела иметь ребенка. Вероятно, он почувствовал, что я не была для него крепкой веткой.
– Но ты хочешь Джеймса?
– Это ты его ветка. А я – твоя. Я достаточно крепкая для этого.
Четыре раза в день она пересекает Lagerplatz в обоих направлениях. Kinderzimmer, Сабина с синяками под глазами протягивает ей Джеймса в испачканной распашонке, силуэт голландки, склонившейся над нарами… В этой комнате царит такая тишина, что лежащие в ряд головы похожи на миниатюрный оссуарий[73], – ничто не шевелится, ни единого звука, если не считать время от времени урчащих от голода животиков. Четыре раза в день маленькая голова Джеймса, которую он еще не держит, прячется у нее на шее, от него пахнет прогорклым молоком и поносом. Четыре раза в день Ирина сидит на стуле, и рот Джеймса держит бледно-розовый сосок. Четыре раза в день Мила всматривается в сына, надеясь, что хоть что-нибудь в ее взгляде насытит его, как молоко Ирины. Но вскоре Мила отступает: любовь к Джеймсу побеждает внутренний спор, кого он больше любит. Четыре раза в день она рядом с ним, во время кормления грудью, и чем больше проходит дней, тем дольше длится кормление. «У нее пропадает молоко», – объясняет Сабина. Ирина и Джеймс устали бороться с холодом и голодом, они становятся все слабее и слабее: у нее – пустая грудь, у него – уставший рот, который изо всех сил старается удержать сосок, но он постоянно выскальзывает, у малыша уже ослабли губы. Два часа, три часа, четыре часа на кормление грудью, иногда по шестнадцать часов в день они сидят в Tagesraum, с полузакрытыми глазами, внезапно просыпаются и, дрожа, спрашивают, который час, стоит ли продолжать или остановиться, насытился ли Джеймс. Ирина худеет, она проводит ночи, лежа под нарами в Kinderzimmer, отгоняя голодных крыс: они царапают детей до крови, грызут их пальцы на руках и ногах, мочки ушей, носы, любой выступ, за который можно уцепиться зубами. Однажды в Kinderzimmer Мила видит, как Schwester Элена поднимает на руках младенцев, целует их в щеки, во вздутые животы, в голые синие ягодицы, и весело смеется, и даже одного покачивает, прижавшись губами к его лбу, можно даже подумать, что она мать. Она трется о его крошечный нос, как целуются эскимосы, ее глаза сияют пугающим блеском, но она кажется искренней. Однако, когда Schwester Элена обнаруживает маленькую чешку с рваными ярко-фиолетовыми ранами, липкую от лимфы распашонку, новорожденного венгерца с обглоданными ноздрями и поврежденными кистями, она таращит глаза, а потом догадывается: это крысы – и расплывается в веселой улыбке. «Wie Schade![74] – Она зовет: – Schwester Eva, Eva, komm und sieh!»[75] Та прибегает и смотрит. Сабина просит: «Rattengift bitteschön»[76]. «Für die Kinder?[77] – спрашивает Schwester Элена, затем качает головой с усмешкой: – Nein, nein, Ratten lieben frisches Fleisch!»[78]
Матери покидают Равенсбрюк, они соглашаются уехать во внешний Kommando, об этом ей рассказала Сабина. Они уходят вместе с детьми, это не может быть хуже, чем Равенсбрюк, где царят голод, болезни и абсолютная нужда. Им обещали, что они будут работать в деревне, дети будут находиться рядом. Но когда несколько дней спустя в лагерь возвращаются их платья с номерами, подобно одежде вывезенных на черном транспорте, женщины понимают, что в Kommandos матери идут на смерть: пуля в затылок, голод, истощение, газовая камера – это уже не важно.
– Я хочу увидеть Джеймса, – говорит Тереза.
– Ты целый день в Betrieb.
– Я хочу попробовать во время последнего кормления, перед комендантским часом.
– У тебя нет пропуска.
– Ну и пусть.
– Ты сумасшедшая.
– Сейчас столько заключенных. Ты же сама видишь, что идет постоянное движение. Они больше не могут за всеми нами уследить.
– А если тебя поймают?
– Ради этого стоит рискнуть. Сегодня вечером я иду вместе с тобой.
Нужно просто литься, как река, объясняет Тереза. Терпеливо, от одного места к другому. Медленно разливаться. Скользить. Передвигаться от рабочего отряда к Revier, проходя мимо мертвых, наполовину мертвых, живых, которые скучились в ожидании, сантиметр за сантиметром до самой Kinderzimmer. Шаг за шагом сливаться с каждым пейзажем, замирать в нем, чтобы заставить окружающих поверить, что ты здешняя, что ты одна из них. Это ультрамедленное движение, даже почти не движение, невидимое невооруженным взглядом, так ползет солнечный луч, так передвигается тень с утра до вечера. В конце концов Тереза входит в Tagesraum и перед ней нет никаких преград: такое впечатление, что она тут была всегда.
Она здесь. Она видит Милу, Ирину и Джеймса, тела, переплетенные в нежности, как гнездо из ветвей. Она придвигает стул и садится. Проводит рукой по голове Джеймса. Разворачивает синий кусок материи, добытый из вагонов с награбленным, и накрывает младенца. «Ему один месяц, – говорит она, – а у него голова старичка». Она поглаживает пальцами изборожденный морщинами лоб, складочки вокруг глаз и рта. Уменьшенная копия старичка: редкие волосы, беззубая челюсть, слабый кишечник. Пересушенная кожа, лопающаяся от прикосновения ногтя. Мила видит, что он стар. Но это происходило постепенно, день за днем, это не было для нее внезапным потрясением, как это случилось с Терезой, и она видела других грудных детей, еще более сморщенных, чем Джеймс. Молод, стар, она забыла о возрасте, забыла о существовании детей с пухлыми щечками и мышцами. Тереза встает, идет от стула к стулу, от матери к матери. «А этот розовый, – говорит она, – он только родился». Она возвращается к Ирине, целует ручку Джеймса.
«Was machst du hier?»[79] Они не заметили, как бесшумно вошла медсестра. Это та медсестра, которая принимала у Милы роды, та, которая зажимала ей рот и украла для нее хлороформ, чтобы уменьшить боль. Она пристально смотрит на Терезу. Она повторяет почти шепотом: «Was machst du hier?» – «Я пришла повидать сестру», – отвечает Тереза. Медсестра читает нашитые на рукавах Милы и Терезы буквы: F – Франция, P – Польша. «Hast du eine Schwester in Frankreich?»[80] Мила сцепила зубы. Сколько же за это будет ударов палкой? Двадцать пять, пятьдесят? Медсестра медленно подходит, она ничего не говорит, склоняет голову, смотрит на Джеймса. Сколько ударов? Strafblock? Bunker?[81] «Wie schön…»[82] – Она улыбается. Schwester Элена тоже улыбалась детям, перед тем как стала корчиться от смеха при виде ран, которые нанесли детям крысы. Медсестра засовывает руки в карманы. «Du kannst noch zehn Minuten hier bleiben, dann raus»[83]. Медсестра уходит так же, как пришла, бесшумно и, похоже, без вражды.
Ирина прячет грудь, держит Джеймса вертикально и похлопывает по спинке. Затем Тереза берет его, смотрит ему прямо в глаза: «Джеймс, ты должен держаться. Я для тебя принесла синее одеяло. У тебя есть грудь Ирины. У тебя есть мама, и у тебя есть я. Мы раздобудем для тебя уголь. Ты должен держаться, Джеймс». Джеймс пока не ведает, что он тоже ветка. Ветка Милы, Терезы и, быть может, Ирины.
Невозможно больше узнавать лица. Еще никогда Равенсбрюк не был настолько забитым и постоянно пополняющимся новыми заключенными. Прибывают заключенные из других лагерей, потому что с востока наступает Красная армия. Их эвакуируют пешком, они приходят и сотнями заполняют нары, в блоках ставят дополнительные этажи, на одних нарах спят по трое-четверо, сменяя друг друга несколько раз. В блок заходят через окна, ты больше никого не узнаешь, нет никаких шансов, беспрестанно живые и мертвые сменяют друг друга, а блок № 25, стоящий прямо на земле, где все кишит червями, опять наполняется заключенными, перед тем как из него снова уберут трупы. «Больше нет грязи, – говорит Тереза, – есть тела, привычные лица, которые блекнут и теряют вчерашний образ, за несколько часов ты теряешь свое лицо». Дети попрошайничают, Verfügbars едва прячутся, сгорбленные Schmuckstücks бродят и чешут головы, и им даже не грозит стрижка. И тут вдруг обрушиваются побои, начинается отбор, грузовики готовы к погрузке. Забирают седых, с опухшими ногами, с гноящимися ранами женщин, а чтобы набрать норму, выхватывают наугад из блоков и коридоров тех, кто стоит на расстоянии вытянутой руки. Внезапно Bunker, Strafblock, оскорбления, собаки, кровь, хруст костей, а потом ничего. Ты возвращаешься с разгрузки вагонов, под юбкой спрятаны три книги, не было даже обыска. На следующий день во время Appell за одно произнесенное слово ты рискуешь получить пятьдесят ударов палкой. Набирают «розовые карточки», идет массовая кампания вербовки женщин старше пятидесяти, больных, неработоспособных заключенных, которым вручают пару вязальных спиц и обещают, что их скоро увезут в лагерь отдыха, где с ними будут обращаться уважительно. И многие идут добровольно, наивные или уставшие, веря в то, что наконец избавятся от мучений, и спешат туда, поскольку разве их могут обмануть, разве они простофили? Вечный отдых – это смерть. Потоки незнакомых лиц прибывают с восточных территорий, из освобожденной Польши, доходят новости из отвоеванной Франции, недолгое ликование. С утра до вечера смеется Адель, представляя, как на вокзале ее ждет белый конь с каретой: «Вот вы увидите, дамочки, Польша освобождена, затем волна на запад, Равенсбрюк сметут русские – и мы свободны, мы здесь почти на стыке востока и запада! И тогда, дамы, вы отправитесь в Париж, где вас встретят с поезда!» Но каждый день крематорий сжигает следы совершенных преступлений, десятки тысяч измученных тел, уничтожая доказательства. «Посмотри, Адель, посмотри, это все равно что мы никогда и не существовали».
Слишком много ртов в Равенсбрюке, не хватает супа. В нем плавают бинты, куски тряпок, которые нужно долго разжевывать: если ты долго жуешь, у тебя вырабатывается слюна, твой язык опадает и увлажняется, и это хорошо. Мила ворует брюкву и морковь, которые сгружают у озера. Они лежат в ледяных кучах рядом с кухнями. Женщины ходят туда по нескольку раз, по очереди, Мари-Поль, Луиза, Мария, Тереза и недавно появившиеся заключенные, чью внешность надзирательницы еще плохо знают, путают их, в любом случае их не найдут, потому что многие из них даже не получили регистрационный номер. За овощами идут несколько человек: одна ворует, другие отвлекают, разбегаясь в разные стороны, что оставляет меньше шансов Aufseherins и собакам. Иногда удается раздобыть картофель, они прячут его в трусах, а в блоке режут на тонкие ломтики – одна девушка заточила свою заколку, сделав из нее лезвие. Они отдают Blockhowa огромную картофелину и взамен получают разрешение пожарить прямо на печке эти желтые кружочки. Для Джеймса всегда есть половина картофелины, Мила пережевывает ее, как птичка, и кладет это жидкое пюре ребенку в рот. У Ирины больше нет молока. Эстафету принимает венгерка. Джеймс пьет молочную смесь, когда в морг относят очередной труп или когда котята Schwester сытно поели. В некоторые дни то русская, то полька теряют своих детей или только что прибывают в лагерь со своими грудничками – у них еще пышная грудь и есть жир на бедрах. Слишком много тел, слишком много лиц, чтобы Джеймс их запомнил, есть лишь одно постоянное – лицо Милы.
Холодно. Сабина говорит, что, когда ты ешь, ты сопротивляешься холоду, чем меньше ты ешь, тем больше тебе нужно внешнего тепла, а значит, угля. И тогда из уст в уста передается: уголь для Kinderzimmer. Адель впервые не солгала. Она заказала у женщин-лесорубов уголь в обмен на кусочки хлеба. Воровать стало легче: ты теряешься в бесчисленной массе слабых, больных, буквально изуродованных тел, у них больше нет внешности, ты растворяешься среди других тел, у всех женщин твое лицо, а твое лицо – у каждой из них. Ты исчезаешь, большего наказания не придумаешь. Однажды вечером одна женщина приносит в блок уголь. Мила берет большие, размером с картофель, куски угля. Температура воздуха ниже нуля, доказательство тому – тонкая корочка на лужах мочи. Мила держит в руках уголь, черную, маслянистую и хрупкую массу, словно держит сердце в ладони. Она спрашивает себя, сколько же часов дополнительной жизни содержит каждый кусок. Она прячет уголь в свой маленький мешочек, вытирает руки об изнанку юбки. Она чувствует, как уголь постукивает по бедру. Она вылизывает котелок и готовится выйти. Она всматривается в светлую морозную ночь. Видны четкие контуры луны, звезд, голых веток ольхи. Невозможно поверить, что здесь бывает такое прозрачное, такое красивое небо.
– Отдай мне это, – шепчет девушка на пороге блока. Она молода, темные волосы собраны в узел, глаза лихорадочно блестят.
– Что тебе дать?
– Твои куски угля.
– Это для детей.
Девушка переминается с ноги на ногу, потирает руки о юбку.
– Моя мать поносит, из нее уже текут кишки, без угля она пропадет.
– Мне очень жаль. Тебе могла бы помочь Адель, но эти куски мне нужны для детей.
Девушка трясет головой, ухмыляясь:
– Я же тебе говорю, она сдохнет.
– В Kinderzimmer пятьдесят детей.
– Эти детишки все равно умрут, я слышала, как ты говорила, что они все доживают до трех месяцев, и твой не заговоренный, он – как и все остальные, и для него это будет лучше. А я возвращаю к жизни свою мать.
– Перестань.
– Дай мне хотя бы один, я же видела, что у тебя их несколько!
– Я не могу.
– В обмен на носовой платок…
– Нет.
– Три куска хлеба.
– Да у кого есть три куска хлеба?!
– Мыло, клянусь, что я завтра раздобуду кусок мыла.
– Если ты можешь раздобыть мыло, значит, сможешь найти и уголь.
Девушка сглатывает слюну. Она сжимает кулаки. У нее дрожат губы, и она поднимает голову, сдерживая слезы ярости.
– Твой сын все равно сдохнет!
Нужно всегда помнить, что пес ее не укусил. Один шанс из миллиона, из миллиарда, что пес не укусит, и Миле он был дан. Нужно сохранить уголь для Джеймса. Джеймс жив. Девушка держит Милу за юбку. «Ты не уйдешь», – говорит она. Она крепко держит, дергает за мешочек, веревка обрывается, и мешочек остается в руках у девушки. Теперь она пятится назад в блок, держа мешочек возле ребер, угрожая Миле указательным и средним пальцами с острыми ногтями. И тогда Мила кусает девушку за пальцы, ногти впиваются ей в язык, девушка ослабляет хватку. Мила выхватывает мешочек и уходит в ночь.
Со вчерашнего дня Мила – Zimmerdienst в Revier, разнорабочая, в чьи обязанности входит мытье полов, перевязки, отчетность о смертности и даже чтение партитур для Schwester Евы, за что она получает дополнительную порцию на обед; свой вечерний суп она меняет на кусок угля, который бросает в печь Kinderzimmer. Она смотрит, как уголь пожирается огнем, оживляя ее сомнения: это коллаборационистский[84] уголь, она это понимает, она покупает у врага жизнь Джеймса, предательская мелочь, но все-таки предательская, романс для Schwester Евы. Сабина нашла для нее утомительную работу, но рядом с Kinderzimmer, куда Мила может постучаться, войти в комнату и на минутку прижать к себе Джеймса. «Сегодня семнадцатое ноября, эта ячейка отмечена птичкой в календаре Schwester, висящем над столом. Семнадцатое ноября – это какая-то значимая дата». Мила проводит шваброй под нарами переполненного барака, где стонут сотни несчастных. «Семнадцатое ноября, что же это?» Лужа крови. Лужа дерьма. Окунает швабру в холодную воду и разжижает выделения, разносит по всему блоку невидимые микробы и бактерии тифа, дифтерии, пневмонии. Но суть в том, что все это невидимое, это не воняет, это кажется чистым. «Семнадцатое ноября – это какое-то событие, это уж точно». Сквозь дождь Мила замечает в окне, что здание из красного кирпича уже построили выше стены ограждения. «Значит, в Равенсбрюке строят. Значит, это еще не конец. Они строят, у них есть планы, они расширяются. Значит, они еще в это верят. Семнадцатое ноября… праздник, день рождения?» Она собирает котелки, будит больных, умоляет их поесть немного супа, перед тем как его скормят собакам. «Счастливицы, – шепчет она на ухо тем, кому дали суп, – ешьте, полумертвых больше не кормят, заключенные, которых поместили в Revier, жадно поедают или продают свои порции каждый день, посмотрите на эту потаскуху Алину, польку, с толстой мордой и сияющими волосами. Ей это еще аукнется». Семнадцатое ноября – день рождения отца. Она считает. 1944 год, почти пятьдесят лет. Самое странное – не день рождения, в блоке тысячи дней рождений, а мысль об отце. Она замечает, что его лицо и голос растворились в памяти. Когда же начал стираться образ отца? Отец и брат где-то чем-то занимаются, она совершенно ничего не знает об этом. Фотографии с зазубренными краями испорчены постоянными поглаживаниями большим пальцем, их черты поблекли, стерлись контуры и некоторые фрагменты, а память не поможет, она помнит только эти истертые карточки. Мила стоит перед ними, как перед затопленной наводнением деревней, чьи размытые очертания колеблются глубоко под поверхностью воды. День рождения отца. Отец. Брат. Это по ту сторону, в ушедшей жизни. Вначале не стало матери, затем исчезли отец, брат, другие мужчины, Лизетта – так музыканты покидают один за другим оркестр в «Прощальной симфонии» Гайдна, партитура обнажается, и в конце остается лишь одно дуновение, соло скрипки, а потом тишина. Нынешняя жизнь – это Равенсбрюк, Тереза, Джеймс, лица, тела, внезапно появившиеся здесь и не имеющие никакой связи с прошлой жизнью, никаких совместных воспоминаний. Это было тысячу лет назад на улице Дагер: верстак, запах распиленного дерева, сломанное пианино, музыкальный магазин, ресторан «Ла Фоветт» и остатки печеночного паштета, которые приносил Матьё после работы. Тысячу лет назад было скрипящее кресло на колесах, тысячу лет назад существовала посуда с рисунком в цветочек, тысячу лет назад была связанная крючком занавеска, подаренная тетушкой из Манта. По эту и по ту сторону разлома человеческая работа одинакова, везде и во все времена главное – не умереть раньше смерти. Жить, как говорится.
Новый враг – это холод. В сентябре всех начал пробивать озноб, но в конце концов организмы адаптировались, сжигая свои резервы. В октябре бессонные ночи, синие губы, мокрые носы, первые лихорадки. Продержаться, еще немного продержаться. В ноябре снег, ртуть застывает ниже нуля. Какая в Равенсбрюке зима? Отапливают ли блоки? Раздают ли одеяла? Дополнительную одежду? Работают ли на улице меньше? Интуиция отвечает «нет» на все вопросы, на малейшие удобства, на малейшие затраты для взаимозаменяемых Stücks, которых холод эффективно отбирает. Мила расспрашивает Терезу. Тереза говорит, что зима здесь такая же, как весна, такая же, как осень, погода почти все время одинаковая, а это хуже всего. В Равенсбрюке чаще всего холодно. Мекленбургский[85] холод, который хуже, чем просто холод. Такой холод усиливает голод. От него боли в теле становятся невыносимыми, он кусает, словно собака, укус за укусом. Ты не можешь его изгнать, он пробирается в кости, во впадины твоего скелета. Холод становится твоим костным мозгом. Ты не можешь с ним бороться.
В блоке печь служит для того, чтобы поджаривать лепестки из картофеля и согревать Blockhowa. Всю ночь дыхание женщин сгущается, замерзает на стеклах узором, а утром ты скребешь его ногтями, ломая их о стекло. «Одеяла – большая редкость, и они влажные, лучше всего, чтобы согреться, растирать кожу, – говорит Тереза, – нужно тереть руки, тереть ноги, создавая этакое первобытное тепло. Ты прилипаешь к телу другой женщины, чувствуешь горячее дыхание у себя между лопатками». Мила и Тереза уже давно приникают друг к другу.
На улице выпал первый снег, и кажется, что это навсегда. Крыши, земля, голые деревья застыли в белом одеянии. Нет ни единой птицы, стоит тишина, не считая глухого звука падающих с веток комков снега. Во́роны черными пятнами, словно вырезанные ножницами, выделяются на белом снегу; они сидят на крышах эсэсовских домов, кружат по спирали вокруг дымящихся труб. Ты больше не чувствуешь своих пальцев. Ты больше не чувствуешь ног. У некоторых пальцы на ногах почернели, их обжег холод. Если ты работаешь или долго стоишь на улице, уголки твоих глаз замерзают. Когда ты смыкаешь веки, ты не решаешься их больше открыть, боясь разорвать себе роговицу. С крыш падают сосульки с острыми, как у кинжала, концами.
Ты постоянно думаешь об Appell. На тебе платье и куртка, а на улице – ты не знаешь – минус пятнадцать или минус двадцать, может быть, температура упала еще ниже. При подъеме темно, ты стоишь ровно, притворяешься стелой в свете оранжевых прожекторов, которые будут включены до рассвета. И это напоминает тебе день прибытия в лагерь, твое неведение. Ничто не изменилось. Ты считаешь, что что-то знаешь, но все, о чем ты узнаешь, порождает новые вопросы, расширяет твое поле неведения. Итак, какой будет эта зима? Ледяная земля замораживает твою обувь, минута за минутой замораживает твои ноги, поднимается к спине, замораживает позвонки поясницы, поднимается по позвоночнику, сковывает шею. Ты засунула под платье газетную бумагу, тебе это стоило хлеба, но ты по-прежнему дрожишь. Если Aufseherin надавит рукой тебе на грудь, если от нажатия зашуршит бумага, если она где-нибудь вылезет, если она упадет на землю, ты будешь проклинать себя, что не отдалась холоду: это прямая дорога в бункер. Как только немка проходит мимо тебя и твоих подруг, вы группируетесь по трое или четверо, как «овечки», инстинктивно повинуясь закону теплопередачи. Вы образуете компактный круг, вы дышите на свои окоченевшие пальцы. Но это длится недолго, возвращается надзирательница, а вы не имеете права собираться в группы, дышать на свои пальцы, вы – стелы, ваша поза хорошо продумана. Вы временно разъединены, каждая выбирает для себя индивидуальную стратегию. Маленькие прыжки. Еле заметный бег на месте. Чуть позже вы снова начнете все с начала.
– А я постоянно шевелю пальцами на ногах, чтобы по ним циркулировала кровь.
– Я иногда покусываю себе щеки, язык, так не даю себе заснуть.
– А я тру Виржинию по спине, а потом она меня. Если этого не делать, я трясусь до кончиков пальцев.
– По ту сторону стены есть каток.
– Это озеро! Дети, что там катаются, наверняка из Фюрстенберга.
– Я обожала кататься на коньках. Мама подарила мне пару белых коньков с черными лезвиями, а на Рождество мы выписывали с ней пируэты на озере в Анси!
– Адель, дай догадаюсь: твоя мать стала профессиональной фигуристкой? А ты получила медаль на Олимпийских играх? Ты уже натянула коньки, Пиноккио?
– А кто видел замерзшее озеро?
– Я, – говорит Мари-Поль, – ребятишки пересекали озеро наперегонки, создавая такой шум, как будто рвется бумага.
– А я больше не пойду на Appell. Я спрячусь, а потом пусть будет что будет.
– В любом случае, с наступлением холода больше не воняет мочой и дерьмом, и то хорошо.
– Крематорий работает почти без остановки, вы видели? Холод убивает.
– Зиму придумали нацисты.
Мила вдыхает. «Я хочу выстоять в мороз, стоять прямо и твердо, как сосновая иголка. Я хочу быть зеленой и крепкой. Я хочу сберечь себя до возвращения света, замедлить биение сердца, сделать последние запасы свежего и чистого растительного сока, я хочу быть готовой к продолжению, если таковое будет. Хочу выйти замуж за холод, хочу быть зимой, чтобы ускользнуть от него, как тот принц из сказок братьев Гримм, который спрятался в комнате своего врага, где стал невидимым. Я принимаю холод, снег, обжигающий пальцы мороз при температуре ниже минус десяти, я всегда к этому готова. Я хочу быть холодом, жить вместе с ним без вражды. Приручить его. Я вдыхаю, набираю в легкие воздух, задерживаю дыхание, он опускается, поселяется во мне и все замораживает. И он находит приют в легких Джеймса в форме маленьких груш. Заполняет его альвеолы. Переполняет их и замораживает».
Мила стучится в Kinderzimmer. Сабина открывает дверь и остается в проходе. «А, это ты. – Сабина смотрит Миле в глаза. – Так холодно, – говорит она, – так холодно, даже улитки обледенели». Она берет руки Милы в свои, и Мила видит в ее глазах то, что Сабина не может произнести. Джеймс меньше улитки. Холод забрал Джеймса.
– Мне так жаль…
Посмотреть на Джеймса. Сейчас.
– Где он?
– В Keller, в морге.
– Я хочу его видеть.
– Ты не можешь. Это ни к чему, морг – ужасное место.
– Я хочу его видеть.
– Я позаботилась о нем, о том, чтобы у него было хорошее место, понимаешь. Для последнего пути.
– Как это?
– Доверься мне.
– Я хочу его видеть, хочу увидеть его сейчас.
Keller представляет собой насыпь с маленькой дверью возле лагерной стены. Сабина говорит, что все умершие ждут здесь, перед тем как попасть в крематорий. Она знает Keller наизусть, она ходит сюда каждый день.
– Ты можешь передумать…
Мила не шевелится. Она ждет, когда дверь откроется. Она ничего не ощущает, даже боли. Она оглушена.
Сабина открывает дверь. Отвратительный запах разложившихся тел, Милу тошнит, но нечем. Они поднимаются по нескольким ступенькам. Обнаженные тела. Десятки тел. Задубелые ноги, руки торчат в разные стороны. Разлагающиеся головы, изуродованные тела. На этажерке коллекция золотых зубов.
– Он там, – говорит Сабина.
Там. Да. Там единственное тело женщины с закрытыми глазами, с очень белой кожей, она словно заснула. У нее вытянуты ноги, руки лежат вдоль тела. Рядом с ее грудью – маленький комочек, который она придерживает плечом. Они лежат друг к другу лицом, она и ребенок. Это Джеймс. В руках этой женщины.
– Ее зовут Нина, – говорит Сабина, – она русская. Это мать двухнедельного ребенка, Саши.
Джеймс и Нина выделяются из массы трупов. Белые, почти голубые, как тело Христа, снятого с креста, с «Пьеты» Эль Греко[86], Мила где-то видела эту картину. Но то, что она видит перед собой, – это несуществующая картина.
– Мила…
Картина. Как называется эта голубизна?
– Мила, можно поменять детей. Я скажу, что умер Саша, а не Джеймс, и ребенок Нины станет твоим сыном.
Мила едва слышит. Ее взгляд прикован к женщине и ребенку, она машинально говорит:
– Это почти икона. Как это – моим сыном?
– Я усыновила десятерых, чьи матери умерли, семеро из них потом умерли, я больше не могу их терять. Возьми Сашу.
Эта чудовищность выводит Милу из оцепенения. Она пристально смотрит на Сабину. Сабина предлагает ей живого ребенка, после того как ее ребенка отдала этой русской женщине?
– От чего она умерла?
– Не знаю.
– А Джеймс?
– От холода. От голода. Я даже не знаю.
Мила наклоняется над лбом своего малыша. «Джеймс, мой маленький Джеймс. Мой открытый и сбивающий с толку аккорд: ля до до ми фа#, который требует продолжения, аккорд, который призывает к решительности, это имя начала. Возможность тебя назвать была неимоверной радостью, еще большей, чем та, когда я увидела твое лицо, чем радость быть матерью. Назвать что-либо, что не принадлежит лагерю. Произнести, решить, что ты Джеймс, сказать: “Джеймс, прижмись к моей шее” – и перепрыгнуть через высокие стены».
– Мила, пора уходить.
И в этот момент сжимается горло: ты понимаешь, что это последний раз, что ты больше никогда не увидишь это крошечное тело. А еще тебя пронизывает ужас от того, что языки пламени будут обгладывать плоть до костей. «Потерять кости». Тебя разрывает от чувства, что отнимают самое сокровенное. Может, это и есть любовь?
– Мила…
– Да, уходим.
– Возьми ребенка этой женщины. Возьми Сашу.
– Дай мне ночь подумать.
Тереза и Мила сидят на нарах перед супом. У Милы в голове пустота и никаких образов. Она смотрит на дыру в своем ботинке. На ее форму, на вытрепавшиеся нити по ее краю. Она вспоминает: она знала, что Джеймс умрет. Она это знала с самого начала, он был мертв с самого начала, просто она на некоторое время об этом забыла, все возвращается на круги своя. Сквозь дыру видна черная от грязи нога, а может, это от дерьма. Глупо, что она забыла. Что она все же привязалась к нему. Мила медленно качается вперед-назад.
– Он мертв. Он мертв. Мертв. Совершенно мертв. Мертв. Мертв. Мертв.
Тереза берет Милу за руку. Слезы градом льются из ее широко открытых глаз. Вокруг Луиза, Мари-Поль, Адель переживают ее молчание, ее оцепенение.
Когда они остаются вдвоем, лежа на нарах, Мила рассказывает о Саше. Она говорит о нем отрешенным голосом, очень усталым, как будто не было разговора с Сабиной, как будто это был мираж. Она говорит, что не знает, возможно ли любить другого ребенка, быть матерью другому ребенку.
– Мила, ты не знала, любишь ли ты Джеймса, пока не родила его. Возьми Сашу.
– Тереза, сколько это будет длиться? – вяло отзывается Мила. – Саше две недели, через два с половиной месяца, а может быть и раньше, он умрет от холода, голода, дизентерии или крыс. Сколько я еще поменяю детей, сколько трупов, сколько Джеймсов я буду оплакивать, пока мы не выйдем из лагеря?..
Выйдем из лагеря… Тереза хорошо услышала эти слова, слетевшие с Милиных уст. Она запомнит их. Это произошло раньше, чем она ожидала. И при таких шокирующих обстоятельствах. Надежда выжить.
Она не знает, что такое бездействие. Один ребенок заменяет другого. В Kinderzimmer Сабина вручает Миле Сашу. «Саша, ты – Джеймс. А я – твоя мама». Саша смотрит на Милу. Ни крика, ни плача. Саша не удивляется склонившейся над ним новой женщине. Все младенцы Равенсбрюка знают: нечего и думать, что когда-нибудь над ними склонится ангел, приложит палец к их губам (ямочка над верхней губой и есть этот след) и скажет: «Забудь!» – после чего жизнь начинается или возобновляется и необходимо все учить заново.
Она раздевает его возле печи и внимательно рассматривает. Пупок. Половой член. Яички. Две ноги. Две стопы, десять пальцев на ногах. Правая рука, пять пальцев. Левая рука, пять пальцев. Два глаза, две ноздри, два уха. Теперь она смотрит на него самого. То есть сравнивает его. Глаза голубые, а не черные. Голова лысая, а не темноволосая. Ямочка на левой щеке, более полные губы. Она узнает его. Дает ему шанс на особое существование. Но она будет называть его Джеймсом, а не Сашей. Джеймс – это только ее. А также ее подарок для него.
На этот раз она знает: у нее есть три месяца, не больше, потом жизнь угасает. Мила считает. Девяносто один день минус четырнадцать – семьдесят семь дней отсрочки, которые закончатся в середине февраля, в конце зимы. И каждый день, когда она идет в Revier, в Kinderzimmer, она вычитает один день. Минус семьдесят шесть до конца. Минус семьдесят пять. Минус семьдесят четыре. «Каждый день может быть для него последним», – говорит она Терезе. Та отвечает, что за колючей проволокой дни считаются по такому же принципу, как и везде: каждый день – это шаг по пути к отведенному тебе сроку. Мила постоянно об этом забывает: в Равенсбрюке все так же, как и вне его. И пес ее не укусил.
Говорят, на улице двадцать градусов ниже нуля, и не хватает угля. В Revier толпятся больные. Перед моргом один на другом громоздятся трупы, одеревенелые и промерзшие. Keller собирает тела перед печами крематория. Недавно запустили еще одну печь, и теперь день и ночь высоко в небо поднимаются красные языки пламени. Красная армия наступает, и все больше заключенных переводят из других лагерей, и все больше их умирает здесь от холода. Женщины пешком приходят в Равенсбрюк, изнуренные, харкающие кровью. Сотни пали по дороге, растянувшись на снегу, приконченные пулей в затылок. Есть даже еврейки.
Двадцать градусов ниже нуля; запасы овощей, сложенные рядом с кухней, замерзли. Больше нечего воровать, все, что можно укусить, твердое как камень и приросло к целой глыбе. Травы больше нет. Цветов тоже. Тереза подобрала с земли кусочек брюквы, нагрела в ладонях. Укусила и сломала резец. Она крепко держала свой зуб, погрузив его корнем в десну, в надежде, что зуб снова прикрепится, снова приютится в красной нише. На ее лице отпечатался ужас: потеряв зуб, она в один миг стала старой. Зуб не прикрепился и выпал из рыхлой массы. Тереза увидела кровь на льду и забросила зуб в окно.
Двадцать градусов ниже нуля, вечер двадцать четвертого декабря. Рождество, к которому, как к горизонту, стремились последние несколько месяцев, стремились, как к вероятному окончанию войны: без всяких сомнений, еще до Рождества союзники соединятся в центре Германии. Они поверили в возможность Рождества со свечами, настоящим столом, елкой с разноцветными огоньками, платьями и губной помадой. «Рождество во Франции, Рождество дома, с выдержанными ликерами, собранными моим отцом», – говорила Адель, и она слышала позвякивание своих серег и звон бокалов. И на протяжении всего этого времени в лагере, когда часы, дни, месяцы смешивались и повторялись бессчетное количество раз, в календаре фиксировались определенные этапы перед Рождеством как перед последним пределом: смена сезонов – двадцать первое марта, двадцать первое июня, двадцать первое сентября. Они говорили себе, что не переживут в Равенсбрюке весну 1944-го; они говорили себе, что не переживут лето, а особенно зиму в этом собачьем краю. А еще дни религиозных и светских праздников: Пасха, первое мая, одиннадцатое ноября[87]. Всякий раз женщины надеялись, что у дат будет смысл, они ждали знак, как они ждали знак, который указывал бы на пересечение франко-германской границы, когда ехали сюда в конвое на поезде. Они дали волю своему воображению и представили семейные ужины, прогулки на лодках, вишню в цвету, огонь в камине. И поскольку пересечение границы и даты оказались событиями, не оправдавшими ожиданий, время потекло равномерно, слившись в размытую массу дней. Рождество пройдет в Равенсбрюке. Мила смотрит на Адель, которая в прострации сидит на тюфяке, закрыв глаза ладонями, поглубже пряча в свою голову все неудавшиеся фантазии. Наступило Рождество, а она не села в карету, запряженную своим любимым конем Ониксом. Никто не желает обмениваться мечтами. Горизонт – это настоящее, минута, секунда; об этом знали и раньше, просто с продвижением союзных держав позволили себе поддаться безумным прогнозам; им стоило бы держаться за настоящее. И Мила стала на якорь в нем; вот уже в течение нескольких месяцев она боится продолжения, ни о чем не знает, все игнорирует и ни в чем не уверена. Минус сорок семь дней. Минус сорок шесть. Те женщины, кого разочарование не подавило, будут играть в Рождество. Будут его праздновать – заявляют они. Им удается сорвать с уст улыбки и организовать Kommandos, которым поручили заниматься организацией мероприятий, украшением блока, изготовлением подарков для сотен детей, скитающихся по лагерю, которых они даже не знают. В итоге: рождественская елка из сосновых веток, подобранных женщинами-лесорубами; снежинки из кусочков ваты, украденной в Revier; гирлянды из витого шнурка, добытого в Betrieb, золотые шарики из проволоки «Siemens», под ветками рождественские ясли из хлебного мякиша, двенадцать персонажей размером с большой палец, форму которым придали с помощью пальцев и заостренной палочки, – это сколько же дней без хлеба? Stubowa закрывает на это глаза, немцы пьют и веселятся в эсэсовских домах, и женщины поют во все горло и на всех языках – колыбельные, национальные гимны, псалмы и молитвы. Они танцуют, читают Верлена, Шекспира, играют сцену из пьесы «Смешные жеманницы»[88], а вместо банкета декламируют рецепты запеченной индейки, обильно политой маслом, со всевозможными гарнирами, пюре из каштанов, сельдерея, жареного картофеля, который трудно найти даже во Франции, где продовольствие строго нормировано. Женщины раскрывают винную карту. На передвижном столике рядом стоят эльзасский пирог, тирамису и нормандский торт. Передают по кругу красиво написанное меню с бесконечными фруктовыми шербетами и ликерами. И Мила празднует, хотя она и не принимала участия в подготовке, поскольку отдает все свое время Джеймсу, отдает всю свою добычу, чтобы достать уголь, одеть его, накормить вареным картофелем. На Рождество ты – мать, как и во все остальные дни. В какой-то момент все начинают обмениваться подарками: носовыми платками, которые вышивались с огромным терпением, разными украшениями из галалита, камня, стекла, дерева, резными крестиками и четками. Для Джеймса одна женщина с розовой карточкой связала маленькую шапочку. Поток бесконечных теплых слов прерывает шумный вход Blockhowa: «Ночная поверка».
Рождество – это не перерыв. Ночная поверка в рождественскую ночь. Сколько там градусов? Минус двадцать? Ты стоишь ровно, ты притворяешься стелой, как и всегда, как и в другие дни, ты замерзаешь, и вдруг тебя ударяют резиновой дубинкой по мизинцу, который немного выступает. Ты – бестолочь, дрянь, ты – свинья, даже не думай потереть спину своей соседке, приклеиться к ней, подышать на свои пальцы. Ничего не меняется, некоторые женщины падают, парализованные инсультом, их сердца остановились, снег потихоньку их укрывает. Это Рождество, один из трехста шестидесяти пяти дней года, при свете прожекторов эсэсовцы считают заключенных, пересчитывают, ночь переливается в день так же, как и в остальные дни. Так же как и накануне, твои ресницы покрыты инеем, ты больше не чувствуешь губ, ничего, кроме горящего горла, ты не знаешь, как еще стоишь на ногах, и говоришь себе, что, может быть, ты затвердела, поскольку больше не испытываешь никаких чувств: ты на грани сна, полностью онемевшая и неподвижная среди сорока тысяч женщин. Минус сорок пять дней. Ты думаешь о том, что пропускаешь кормление Джеймса. Что ни одна из его кормилиц не может покинуть ряды. Ты думаешь, что наступает 1945 год, что вечером тридцать первого декабря в бараке будут петь, возможно, ты напишешь партитуру для хора. Это будет обычный день. Минус сорок дней, Appell и утренний иней. Ты ищешь взглядом Терезу. Ты улыбаешься ей. Она улыбается тебе, с закрытым ртом из-за выпавшего зуба. Ты тронута до слез ее кокетством. Фосфорная бомба украшает блестками горизонт. Вы дрожите. У вас болят челюсти. У вас кровоточат десны. Тем не менее ничего не меняется – вы стоите.
Глава 7
Говорят, Германия проиграла. Реальность настигает сверхоптимистичные выдумки. Волна слухов, газеты, говорливые уста Schreiberins, до которых доходит эхо сражений, поражений в кабинетах, где они переписывают статистику, ведут учет живых и мертвых, они ухватывают любой обрывок новости, который просачивается в блок. А потом из блока в блок – нужно быть глухим, чтобы не услышать. Фиолетовые треугольники – свидетели Иеговы, кормилицы и прислуга в эсэсовских семьях – вызывают в памяти тихие вечера на виллах, тихие попойки, и это, вероятно, вызывает страх. Освободили зеленые треугольники – немецких заключенных-уголовниц, которым нечего делать в Равенсбрюке, потому что они не имеют никакого отношения к войне, те, кто получил по заслугам за то, что, воспользовавшись резким изменением своего статуса, дал волю своему внутреннему тирану; в один день их не стало. Когда заключенные получают редкие посылки, они находят там записки, плавающие в банках с вареньем, послания на картонках среди грецких орехов: «Германия зажата в тиски с запада и востока. Нужно только продержаться, крепитесь». Еще может фантазировать, угадывая дату капитуляции немецких войск, впрочем, какая разница, вывод один: капитуляция – вопрос нескольких недель, максимум месяца, все предрешено, нужно терпеть. Польша почти освобождена. Польша – это совсем рядом. Через стены сведения о событиях просачиваются извне так быстро, как никогда ранее, идет почти непрерывная связь со свободными территориями, и это уже не слухи. Известно, что это произойдет где-то возле реки Одер, остается лишь вопрос «когда?». Когда Германия капитулирует? Вот уже два дня, как эсэсовцы заставляют убирать глыбы замерзшего дерьма вокруг блоков, стоит посмотреть, как Aufseherins дубинками управляют группами вооруженных лопатами Zimmerdienst, которые разбивают ухабы льда на Lagerplatz, чтобы сделать ее чистой, потому что, если завтра придут американцы или русские, лагерь должен быть вылизанным, они спасают свою шкуру как могут. Убрать дерьмо. Все дерьмо. Сделать лагерь чистым, респектабельным, заставить врага посмотреть в эту отполированную зеркальную поверхность. Но сколько же людей при этом умрет?
За озером, за колокольней Фюрстенберга, небо вспыхивает от бомб, мерцает фосфорным дождем; теперь небо принадлежит не только пламени крематория, но и союзным державам. Теперь даже Мила не сомневается: Германия проиграла. Но в данный момент ей на это наплевать. Поражения немцев на линиях фронта ее не касаются. С момента прибытия в лагерь и до сих пор неизвестно, выживешь ты или умрешь. В Равенсбрюке Германия имеет право на жизнь и на смерть всех. И тут до сих пор есть то, против чего бессильны пулеметы и бомбы: болезни, жгучий мороз, голод. Это война в войне.
Каждый день в Revier прибывают новые больные – одурманенные и в горячке. Они дрожат, страдая светобоязнью, прячут глаза от света, от солнца, от электрических ламп, они закрывают лицо, опуская на него волосы или задрав рубашку, их тела покрыты красными пятнами. Их голоса корчатся в кратком, пронзительном бреде, который поглощают одежда и ткань простыней, под которыми скрыты их фигуры и которые они запихивают в рот, чтобы заглушить этот бред, потом, задыхаясь, они выплевывают ткань с кашлем, похожим на скрежет наждачной бумаги. Вдруг они скрючиваются, как паук под каблуком. Одна полька постоянно зовет мать, Мила узнает звуки, которым ее научила Тереза. «Mama, mama, gdzie jesteś? – Мама, где ты?» Теперь полька идет в Waschraum, вытянув одну руку вперед, а второй прикрывает глаза от света. «Mama», – она натыкается на нары, врезается в стену, до тех пор пока Мила ее не помогает. К счастью, в бараке нет эсэсовцев. «Mama, gdzie jesteś?» Мила спрашивает у Дарьи, чешской медсестры: «Чем больна эта женщина?» Дарья отвечает: «Flecktyphus[89]». Дарья указывает пальцем на одни нары: «Flecktyphus». На другие: «Flecktyphus». На женщину, лежащую на полу: «Flecktyphus». Еще на одну, напротив: «Flecktyphus». Два этажа нар и труп, который она только что накрыла. «Flecktyphus, alles Flecktyphus».
В коридоре медсестра, принимавшая роды у Милы, бьет по рукам женщину, которая в кровь расцарапывает себя. Медсестра достает из кармана кусок веревки и связывает запястья молоденькой девушке, которая отрешенно сидит с полузакрытыми глазами и даже не сопротивляется, бьет по пальцам другую, которая скребет себе локти. «Kratz dich nicht, du Dummkopf!»[90] Спокойно и решительно медсестра ходит от женщины к женщине, бьет по рукам всех, кто пытается сорвать корочки, расчесывает кожу. «Kratz dich nicht!» Заметив Милу, которая стучится в Kinderzimmer, медсестра идет прямиком к ней и, пригвоздив взглядом, говорит: «Du auch nicht, horst du?»[91] Дверь открывает Сабина. Мила смотрит вслед уходящей немке.
Сабина впускает Милу в комнату и говорит: «Повсюду тиф. Ни в коем случае не дотрагивайся до укусов вшей, их экскременты попадают под ногти, а потом инфицируют раны. И тогда бактерии, которые переносят насекомые, размножаются в ране, питаются ею и пожирают тебя. Женщины, которые чешутся там, в коридоре, которые еще переносят свет, пока не заражены, возможно, у них грипп или дизентерия, но еще не тиф, их еще можно спасти. Немецкая медсестра бьет их из лучших побуждений».
Следует избегать вшивых женщин, как, например, ту русскую, чья шевелюра и декольте кишат насекомыми, а она их даже не ловит. В сторону таких заключенные плюют и выказывают презрение. Каждая на своем языке: odpychający, nechutný, dégueulasse, отвратительно, modbydelig, undorító. Каждый день приток новых заключенных, вши кишат в нескончаемом человеческом мясе. Вши сосут кровь у мертвых в Revier, они гроздьями висят под мышками еще теплых трупов.
Сабина говорит, что у детей тоже есть вши. Она приспускает ползунки Саши-Джеймса. Саша начал стареть, Мила замечает медленное истощение, как у Джеймса, и вместо того, чтобы смотреть на его увядающее лицо, она смотрит на тонкие, но пока еще почти не тронутые голодом, едва желтые ноги – они еще держатся; на бедре маленькая красная дырочка. Сабина говорит: «К счастью, он не может почесать свою рану, она расположена слишком низко. Другие дети исцарапали себе лицо». Сабина и голландка раздевают детей два раза в день и одну за одной снимают спрятавшихся в складках вшей. Когда Мила возвращается к тифозным больным и берет в руки швабру, она думает: «Эти женщины точно все умрут, от тифа или после отбора, поскольку они слишком опасны для лагеря и для эсэсовцев, а самое главное – их нельзя показывать русским или американцам». Какое облегчение, когда Kinderzimmer переводят в блок № 32, освобожденный от заключенных, подальше от тифозных. Блок окружен колючей проволокой. Колючая проволока внутри колючей проволоки – зачем это?
Однажды в Revier приходит дрожащая Адель, глаза она прикрывает рукой. У Адель длинные белокурые волосы, бледная кожа. Она похожа на сказочную принцессу с книжной картинки, которая сидит на вершине башни, подперев щеку рукой. Ее волосы украшает цветок, и за ней приезжает принц на белом коне. Мила видит, что Адель идет маленькими шажками вслепую, и крепче сжимает рукоятку швабры. Адель укладывают на нары к одной тифозной, и она натягивает себе на голову простыню. Мила подходит ближе, медленно проводит шваброй под нарами Адель, выигрывая время:
– Адель, это я, Мила.
– О Мила, сегодня так солнечно!
Под простыней ее тело съеживается.
– Я хочу потрогать твой лоб.
– Нет, ни в коем случае, ни в коем случае.
– Ты хочешь пить?
– Мне нужно поспать, потом станет лучше, понимаешь, отец ждет меня на вокзале, не хочу, чтобы он волновался!
Простыня пропитывается потом, на ней прорисовывается лицо Адель, его впадины и изгибы, словно на саване.
– А возможно, мой пес тоже там будет. О, это солнце! Мила, закрой шторы, пожалуйста…
Мила делает круг вокруг нар, продолжая мыть.
– Мила, будь осторожна, у многих тиф. Мы с женихом поедем в Анси на озеро, если бы ты видела мое платье… о, мои глаза…
Кашель раздирает ее.
– Ш-ш-ш-ш, Адель, отдохни.
– Нужно немного поспать… Я сажусь верхом на Оникса, а ты позади меня.
– Конечно.
Наверное, в Равенсбрюке Германия никогда не проиграет. Тогда о чем говорят воскресные хоры на пяти языках, песнопения в праздничные дни, рождественские фигурки из хлебного мякиша, которые стоили десяти дней выживания; о чем говорит рассказанное однажды вечером подругам стихотворение, маленькое стихотворение из детства про бабочку и полевой цветок, которое никак не забывается; о чем говорит жалость эсэсовки к раненой птице; о чем говорит концерт на ногтях, сыгранный для Жоржетты; о чем говорят ажурные носовые платки, вышитые по ночам, кусочки украденного угля, четки, изготовленные из бракованных деталей «Siemens»; о чем говорит то, что одна женщина вырезает орнамент на своем деревянном котелке, просто для красоты, и то, что другая ворует твои носки, лежащие на краю умывальника; о чем говорят отломанные от булавок иголки в ширинках солдатских брюк, которые шьют в Betrieb; о чем говорит то, что в день твоего прибытия в лагерь ассистентка врача, тоже заключенная, умалчивает о том, что ты беременна, и спасает тебя; о чем говорит урчание в животе младенцев в Kinderzimmer; о чем говорит грудь Ирины, полная молока, которое она отдает Джеймсу; о чем говорит забота Сабины, когда она укладывает мертвого Джеймса в руки мертвой матери; о чем говорят открытые глаза Саши-Джеймса, о чем говорят слова любви, которые ему говорит Мила; о чем говорят тощие дети, которые играют в шарики на Lagerplatz; о чем говорит то, что каждую ночь тело Терезы приклеивается к телу Милы; о чем говорит колючая проволока под напряжением и то, что уже на протяжении многих месяцев там не сушится ни единого клочка мяса; о чем говорит то, что немка бьет по рукам женщин, которые чешутся; о чем говорят сотни раз произнесенные вслух кулинарные рецепты; о чем говорит белый круглый воротник заключенной, который она пошила из подола своего платья и который стоил ей двадцати пяти ударов палкой; о чем говорит смех Blockhowa, когда она видит, как заключенная копирует Аттилу; и самое главное: о чем говорит то, что ты еще можешь радоваться при виде отблесков солнца в сугробах на Lagerplatz во время утреннего Appell, при виде хрустальных вспышек, которые тебе совсем не безразличны? О чем это говорит? О том, что ты это видишь, что от этого у тебя слезятся глаза, что на одну секунду все отодвигается на задний план и в эту долю секунды ты прикасаешься к прекрасному. О чем все это говорит? Да о том, что даже в Равенсбрюке Германия не выиграла и никогда полностью не выиграет.
Но Лизетта мертва.
Виолетта мертва.
Мать Луизы мертва.
Джеймс мертв.
Марианна мертва.
Сили мертва.
Мать Саши мертва.
Венгерские еврейки из палатки исчезли.
Адель умирает, и все те, у кого нет имен, – Германия никогда не проиграет.
Что же это значит: выиграть или проиграть? Тереза ответила бы: «Ты проигрываешь, когда ты сдаешься».
Повсюду смерть. В это утро, пятнадцатого января, Мила запоминает число. Она начинает запоминать даты. Не сдаваться, говорит Тереза, и Мила начинает в это верить и верить в то, что однажды она сможет об этом рассказать. Утром пятнадцатого января в блоке № 10 не проснулись десять туберкулезниц, остальные на грани комы. Одно за другим выносят тела, Schwester Марта отдает приказы, и даже Милу зовут на помощь. Они тащат тела, чьи ноги волочатся по земле и кровоточат от рывков, – эти женщины умерли только что. Мила второй раз идет в морг, возле ступенек ее рвет. Этой ночью работала Дарья, и, пересекая площадь, она шепчет Миле: «Schlaftablette». Все понятно, Schlaf – это сон, tablette – это таблетка, Schlaftablette – снотворное.
Дарья продолжает, оглядываясь вокруг: «Schwester Martha, zu viele Schlaftablette. Weiss Pulver, – говорит она, глотая слова. – Zu viel weiss Pulver, – и, уходя: – Du musst sprechen».[92]
Так вот, пятнадцатого января, нет, в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое января, нужно запомнить дату, отпечатать ее в памяти раз и навсегда, Дарья видела, как Schwester Марта давала туберкулезницам белый порошок, и многие из них умерли. Говорить прямо сейчас. Настал ее черед, она не сдастся. Мила рассказывает об этом, распространяет новость, ей больше не нужно шифровать послания музыкальными нотами, чтобы перенести на них реальность, записать на партитуре вещи, перед тем как о них узнают в реальности. Она говорит, она не сдается, она видит. И эта новость распространяется по всему блоку, переходит из блока в блок, и это не сплетни, потому что это кто-то видел, а самое важное – увидеть. Дарья видела, Мила «позаимствовала» ее глаза: если туберкулезницы не идут в Revier, их травят.
В тот же день, пятнадцатого января, сотни женщин топчутся tsu fünft на лагерплац. Среди них Мила узнает Франсуазу, Вивиан, Марсель. Все с розовыми карточками. Мила встречается взглядом с Франсуазой, чьи пальцы едва заметно шевелятся в прощальном жесте, а на лице – робкая улыбка. Перед Франсуазой стоят пожилые женщины, позади нее – пожилые женщины, все вязальщицы стоят в дисциплинарных рядах. «Значит, это великий день», – говорит про себя Мила. Их отправляют в Уккермарк[93]. О нем уже давно рассказывают всем уставшим женщинам, побуждают их взять розовую карточку, которая откроет им путь в лагерь отдыха, где они будут меньше работать, будут лучше питаться. Это небольшой лагерь недалеко от Равенсбрюка, и теперь они стоят в очереди туда. Каждая сжимает свой котелок, котомку, на шее привязана зубная щетка – целая колонна скелетов, которая движется, как класс, отправляющийся на пикник, очень послушно, прямо к выходу из лагеря. Они идут, под их ногами трещит лед. Кажется, что Уккермарк находится по ту сторону стены. Женщины из других блоков, из блока № 27, французские политзаключенные говорили всем, и особенно «розовым карточкам»: «Не уходите, настоящий отдых – это смерть, они вас убьют». Мила тоже это слышала. Но что поделаешь, поставьте себя на их место: получить надежду на комфорт – теплая печь, конец поверкам, добавка маргарина и хлеба. Они мечтают об этом, они берут карту, отваживаются на отсрочку, а у Милы и многих других заключенных сжимается сердце, вспыхивает одновременно и злость, и любовь. Но что можно противопоставить мечте? Они записались в Уккермарк и теперь уходят. В этих рядах и Даниэль. И Франс. Они из тех, кому страшно уходить, кто взял розовую карточку, а затем почувствовал опасность вечного покоя, который должен наступить. Почему они здесь? Дарья тоже отправляется в путь. На своем примитивном немецком она говорит:
– Мила, смотри. Внимательно смотри и запоминай.
Пятнадцатое января. Запомнить дату и положение солнца в небе. В блоке Verfügbars спрятали на балках под крышей двух женщин с розовыми карточками.
Не сдаваться. Обнимать Сашу-Джеймса, говорить ему слова любви. Сабина утверждает, что он понимает, и, даже если это ложь, не важно, Мила сама слышит слова, которые произносит, она договорилась с собой не отступать. Она видит, как отблескивает солнце в сугробах. Говорит Джеймсу слова нежности. Немцы, наверное, не выиграют.
Не сдаваться, даже когда двадцать второго и двадцать третьего января – нужно запомнить числа, двадцать второе и двадцать третье, – Мила видит, как в Revier возвращаются врачи-заключенные и медсестра Дарья, которую отправляли вместе с «розовыми карточками» в Уккермарк. Одна из врачей слегла в постель и больше не поднимается. Она больше не говорит. Больше не шевелится. Больше не ест. Она спит, чтобы забыться. Дарья говорит между двумя прибытиями больных: «Уккермарк – это лагерь смерти». И Мила возвращается в блок «с глазами» Дарьи, со словами Дарьи. Десятки женщин перехватывают ее взгляд, и Тереза, конечно, первая, и те, кто еще остался, Мари-Поль, Луиза, они внимают ее голосу: «В Уккермарке у тебя тотчас же забирают все вещи; ты стоишь минимум пять-шесть часов в день, иногда целый день в хлопковом платье босиком на снегу, и во время Appell окоченевшие женщины замертво падают; ты спишь на земле; порции хлеба и супа уменьшены вдвое, поскольку их себе забирает немецкий персонал. Иногда женщины умирают от отравлений».
Франсуаза, Марсель, Вивиан, Даниэль и Франс в Уккермарке. Не сдаваться, даже когда с наступлением ночи грузовики покидают Уккермарк и едут не по обычной дороге – заключенные отлично знают шум удаляющегося грузовика, – а движутся вдоль лагеря и останавливаются напротив Krematorium – ухо улавливает вибрацию мотора у стены ограждения. Заключенные блоков № 1 и 12 слышат выстрелы сквозь шум мотора: стреляют в затылок, об этом знают все, и они об этом рассказывают. Теперь очень легко переходить из одного блока в другой из-за переполненности лагеря. Schreiberins, которые каждый день ездят в Уккермарк, тоже обо всем рассказывают, и их слова быстро распространяются: «Эсэсовцы приказали составить специальный список, сгруппировав имена увезенных в грузовиках женщин по пятьдесят-шестьдесят человек». Помимо обычного списка есть еще «список задержанных, которых переводят в лагерь Mittwerda[94]».
Итак, об этом говорят на нарах.
– Mittwerda?
– Что это такое, какой-то Kommando?
– Нет, потому что грузовик едет прямиком в Krematorium!
– Ты уверена?
– Так же как и в том, что меня зовут Дениз.
– Тина из блока № 1 и еще одна девушка из блока № 12, я не помню, как ее зовут, – Мила думает: «Нужно узнать имя девушки, выучить его», – они слышат звук моторов грузовиков с другой стороны стены.
– Так вот, это то, о чем я говорю: Mittwerda – это вранье.
– Эх, вы, шайка страусов, Mittwerda – это Krematorium.
– Пуля в затылок – и в печь.
Значит, Mittwerda – это смерть. Несколько дней спустя не сдаваться, запомнить число, в то время как Джеймс усыхает в желтухе. Возле Krematorium слышен звук мотора, но больше ни одного выстрела.
– Никто ничего не слышал, только звук мотора.
– Девушки из блоков № 1 и 12 слышали крики женщин, когда грузовики остановились.
– Но потом не стреляли.
– Ты несешь вздор, бестолковая.
– Значит, их сразу запихивают в печь.
– Живых? Мы бы тогда долго слышали, как орали бы «розовые карточки»!
– Ну, тогда их туда отправляют мертвыми. Их убивают в Уккермарке.
– Нет, потому что Тина слышала крики.
Остается одно предположение. Тихий метод. Массовый. Грузовик полон женщин, нет никаких выстрелов; сначала крики, а потом мертвая тишина. Многие об этом подумали, но ни одна из них не решается произнести вслух, пока Тереза не произносит это слово – «газ». Мила размышляет: «Если в Равенсбрюке есть Kinderzimmer, то наверняка есть и газовая комната. Газовая камера. Газовый грузовик. Называйте, как хотите». В скором времени рабочим колоннам, направляющимся в цех «Siemens», не разрешают проходить вдоль стены и крематория. Заключенные рассказывают, что делают огромный крюк по лагерю, проходят мимо казарм, сторожевых постов, эсэсовской столовой и Industriehof. Они переходят через рельсы, склады с награбленным и входят в мастерские с восточной стороны. Этот путь в три раза длиннее, чем раньше, но у эсэсовцев наверняка есть на то причины.
Продержаться еще немного, несмотря на предположение о газе.
В феврале забирают женщин из туберкулезного блока, Мила сама это видит. Этих женщин отправляют на грузовиках в Уккермарк, это же видят и Schreiberins. Мила сообщает Мари-Поль номера увезенных заключенных. Мари-Поль говорит, что эти номера есть в списке Mittwerda – она видела список. Теперь, когда в руки Мари-Поль попадает список женщин, отобранных в Mittwerda, она сообщает имена этих заключенных, чтобы Мила смогла заменить их номера на номера трупов из Revier, – и список Mittwerda содержит уже мертвых. Это гонка на время: отпороть номера у отобранных женщин и у трупов, поменять номера, быстро пришить ниткой и иголкой, украденными Терезой в Betrieb, потереть нить и испачкать ее, чтобы она не казалась новой. В итоге четыре женщины спасены от смерти. Затем отбор происходит в блоках с больными. Осматривают ноги, волосы, седые – это плохо, женщины натирают волосы сажей. Учитывают возраст, продолжительность постельного режима, хроническую форму болезни. И сразу направляют в Уккермарк. Нет даже пометки Mittwerda, не лгут даже о каком-нибудь другом месте: тебя забирают и убивают без всяких церемоний. Но нельзя молчать, нужно говорить до изнеможения, везде, при любых обстоятельствах, сказать все, что она видела. Видеть – самое важное слово. Отпечатать в себе, а затем извергать из себя картинки, реальность. Говорить в Kinderzimmer с матерями на всех языках и на всех смесях языков, говорить в Tagesraum, в блоке, говорить сейчас, чтобы однажды это было сказано – ею или одной из них, не важно, – там, снаружи, теми, кто спасется, чтобы они были вооружены своими глазами, ее глазами, глазами всех. Лишь бы только они об этом помнили. Все в деталях. Каждый вечер они с Терезой еще раз повторяют события. Имена. Цифры. Даты. Не сдаваться, рассказывать. И всегда сохранять слова любви для Джеймса.
Продержаться. Даже когда они приходят производить отбор в блоки. Когда они приказывают женщинам проходить перед ними с поднятыми юбками, заставляют их бегать и смеются над ступором тех, которые ждут своей очереди, над старыми женщинами с опухшими щиколотками, над теми, у кого полные трусы дерьма и мочи, кто стоит в рваной обуви, с гноящимися ранами; над лысыми и беззубыми, с желтыми глазами, с чесоткой на локтях и коленях, над теми, кто сильно выпрямляется, чтобы произвести хорошее впечатление, над хорошими ученицами, которые для того, чтобы их на этот раз еще не забрали, держатся в группе справа, в той группе, где еще остались сильные, те, кого можно представить врагу. Смотреть во все глаза, ничего не забыть, запомнить первое число, восемнадцатое января:
– смех врача во время гротескного показа – wie elegant![95]
– селекционера, «продавца коров», который, как сумасшедший, носится на велосипеде по рядам tsu fünft,
– слезы, которые никак не польются у женщин из левой группы,
– реверанс Кати в конце бега,
– окровавленный кулак Терезы, которым она в ярости бьет по стене,
– огонь Krematorium, который горит день и ночь, до тех пор пока от перегрева одна из печей не взрывается,
– ликование женщин при виде рухнувшей крыши.
Двадцать восьмого января Тереза видит, как полек выводят из лагеря. По словам Мари-Поль, они идут в Уккермарк. Тысяча восемьсот женщин.
Каждый вечер список вещей, которые нужно запомнить, удлиняется. Повторить его пять раз, десять раз и поверить в то, что можно сохранить невредимыми все эти картинки, факты, эмоции. Держаться.
Мила больше не помнит точных дат. День, когда прибыли бельгийки с толстощекими младенцами, упитанными, без сомнений из внешних Kommandos. Женщины прижимают к себе этих великолепных, хорошо откормленных младенцев, с розовой мягкой кожей, которые мирно сопят во время поверки. У них красные губы, полные красной крови. Мраморно-молочная кожа. Мила всматривается в них: какого же они возраста? День за днем дети худеют. Усыхают. Примерно через три недели женщины стоят одни.
Джеймс. Согреть Джеймса, поднести его к груди всех женщин, которые торопятся в Kinderzimmer, одну каплю здесь, другую каплю там, пережеванный Милой картофель. Сухое молоко. Петь для Schwester Евы и уходить с одной, двумя или тремя ложками сухого молока для Джеймса. Вследствие аварии электросети блок погружается в темноту с шестнадцати до девяти часов следующего дня. Несмотря на это, нужно идти в Kinderzimmer, на ощупь, уповая на лунный свет. Голландка уже без сил, Сабина заболела. Самой найти своего ребенка в темноте. Помнить, что Джеймс – десятый справа на нижнем этаже нар. Те, кто поздоровее, лежат на верхней полке, а Джеймс чахнет. Девяносто один день минус шестьдесят один – еще тридцать дней. Посчитать головы, прикасаясь указательным пальцем к холодным лбам: один, два, три, четыре… А если кто-то умер? А если Джеймс девятый? А если кто-то родился? Тогда одиннадцатый? Она считает несколько раз: один, два, три, четыре; у них нет ни отличительной одежды, ни лиц – у них у всех лица, как у смерти. Она берет десятого ребенка, выносит его в погруженный в темноту коридор. Она подносит лицо под лунный свет. Она не уверена, кладет ребенка на место и берет девятого. Это должен быть он. Или нет? А если это кто-то другой? Какой-нибудь Александр, Петр или Марианна? Она смотрит на бедро. Красная ранка. Это Джеймс. Легкий, как тряпичная кукла.
Сабина говорит, что из лагеря готовится отъезд небольшого внешнего Kommando.
– Есть пять мест, для пяти матерей. Поезжай ради Джеймса. По словам Schreiberin, это ферма недалеко отсюда.
– Уккермарк тоже недалеко отсюда… – Мила пристально смотрит на Сабину. – Что же выращивают на ферме в промерзшей земле?
– Ничего.
– Это ферма? Ты уверена?
– Нет. Возможно, там есть животные. Может быть, там лучше, чем здесь. А там, где есть животные, есть молоко.
– Они нас отправляют подальше. Мы слишком уродливые животные.
– Джеймс слаб. Тебе решать. Я только знаю, что отъезд может произойти в любой момент.
Сегодня пятнадцатое февраля. Конечно же, она поедет. Пес ее не укусил, не весь транспорт черный. Не сдаваться, помнить о псе. Она покинет Равенсбрюк, чтобы поехать в какое-то место, о котором она ничего не знает, даже названия, не имеет ни малейшего представления о нем. У нее появляются такие же ощущения, какие она испытывала в поезде, когда ехала из Роменвиля в Германию. Она возьмет с собой Сашу-Джеймса, единственную известную ей территорию размером 51 на 21 сантиметр, и прижмет его к себе так, как прижимала тогда маленький чемодан, как сжимала руку Лизетты в ту майскую ночь. Перед тем как за ней приходят, она просит Сабину передать несколько слов для Терезы: «Тереза, будь моими глазами; запоминай даты, имена, все увиденное, все услышанное. Будь моими глазами».
Когда Милу вызывают и ведут к выходу из лагеря, она еле держится на ногах. Снаружи стоит телега, запряженная лошадью, на ней уже сидят четыре женщины, их платья отмечены крестами святого Андрея, на месте кучера – старик. Только не оборачиваться. Смотреть на грязную дорогу, убегающую к горизонту, такому далекому и расплывчатому, что даже взглядом не за что зацепиться. От этого кружится голова. Надзирательница сказала, что ребенка принесут, но, как только Мила садится в телегу, старик бьет коня плетью и копыта начинают стучать по ледяной земле. Мила и женщины переглядываются, оборачиваются к воротам и приходят в бешенство. Одна женщина спрыгивает с телеги, бежит к Равенсбрюку и кричит: «Mein Kind!»[96] Спрыгивают все, одна за одной, Мила – последней. Им навстречу бросаются два эсэсовца, угрожая резиновыми палками. Старик останавливает телегу, конь ржет. Женщина, которая спрыгнула первой, в ожидании двух эсэсовцев стоит прямо, как деревце: «Ich will nicht ohne mein Kind gehen»[97]. Эсэсовец дает ей пощечину. Четыре женщины, среди которых Мила, становятся рядом с ней, образуя стену. «Töten Sie mich![98] – говорит женщина. – Но я не уеду без своего ребенка». Эсэсовец замахивается палкой. Ни одна из них не моргнула, они замерли, лишь видно, как вздымаются груди и рывками выходит пар. Мила не сильная, просто она пришла в ужас от того, что оказалась вне лагеря без ребенка. И тогда, не отводя взгляда от женщин, эсэсовец отдает команды, и другой немец идет к лагерю. Это может затянуться на три часа, но Мила знает, что никто из женщин не пошевелится, они вросли ногами в землю. Три часа или целая жизнь – целая жизнь, пожалуй, меньше. Вдруг прибегают Сабина и Дарья, держа в руках свертки. Они протягивают женщинам детей. Хоть что-то временно спасено. Слишком холодно для новых прощаний, поэтому женщины снова взбираются на телегу, возница погоняет коня, и они погружаются в белоснежное поле, одновременно печальное и нежное, размытое и новое, как сон.
Глава 8
Им говорили, что Фюрстенберг недалеко. Это неясное направление, которое не позволяет что-то определить. Вокруг все настолько белое, что они прищуривают глаза. По обе стороны от телеги белоснежные поля, словно причесанные гребнем: под снегом видны борозды. По обочинам дороги – кусты, покрытые инеем. На горизонте едва видимые деревья, они почти растворились в небе. Там и сям посреди поля торчат, пробив лед, пучки тростника. Пошел снег, широкие, словно перья, хлопья цепляются за ресницы, волосы, посыпают одежду, и они сливаются с пейзажем. Вокруг ни звука, кроме стука копыт и ровного дыхания коня. Да еще время от времени нарушает тишину харканье извозчика.
Теперь они смотрят друг на друга, они изучают друг друга. Мила рассматривает треугольники, пришитые на рукавах: красные треугольники – все политические заключенные. Одна француженка, одна бельгийка, две польки. Лагерь исчез из виду, извозчик – это не эсэсовец. Нет никакой угрозы, ни резиновых палок, ни плети, ни оскорблений, ни Strafblock, старик ни о чем их не расспрашивает. Повсюду ослепительная белизна, без всяких границ: нет ни колючей проволоки, ни смотровых башен, ни ворот. Они могли бы спрыгнуть в снег со своими детьми, ноги тихо ступили бы на землю, и белизна их сразу бы поглотила. Но никто из них не прыгает, никто не убегает, они даже не двигаются – зима удерживает их в телеге надежнее, чем любой эсэсовский патруль. В первую очередь им мешает совершить это привычка к неподвижности и послушанию. Никто из них не говорит, не думает даже пошевелиться, они выдрессированы ждать и молчать. Мила смотрит на видимый конец дороги, далеко впереди ее края сходятся, образуя очень вытянутый треугольник. На данный момент вид свободного пространства вызывает лишь головокружение.
Иногда внезапно появляются дома, с белыми крышами, с белым дымом из трубы, они становятся видны только тогда, когда с ними равняется телега, а затем растворяются, как короткий мираж. Нужно укутать Сашу-Джеймса, спрятать его от мягкого ледяного снега, подуть ему на лицо, разморозить маленькие ноздри, тонкий рот, словно нарисованный кисточкой, шелковые веки. Дорога не прекращается, прямая и мрачная, она постоянно отодвигает вершину треугольника, где сходятся ее края. Дорога пуста, вся растительность пожухла. Ни единого зверя, ни единой птицы. Ни человека. Ни мычания, ни журчания воды, ни человеческого крика. Ни хлопанья дверей, ни скрипа калитки, ни шума крыльев мельницы. Ничего. Они пересекают мертвую землю, свободный корабль рассекает акваторию. Есть ли где-то место, где готовят суп? Где звонит колокол? Безжизненная белая страна. Женщины могли бы поговорить, но еще слишком рано. Сначала нужно по-настоящему покинуть лагерь, содрать его с себя, избавиться от его норм и правил, освободиться от него километр за километром, почувствовать пространство, расстояние. Проститься с женщинами, которые остались там. С подругами, сестрами, матерями, которых они, вероятнее всего, уже больше никогда не увидят, уезжать было очень больно. Подумать о Мари-Поль. О Луизе. О Сабине. О Терезе, отсутствие которой кажется просто временным, которую она не поцеловала на прощание и которая осталась в плену у блока, у стен Равенсбрюка, где газовая камера пожирает тела, истерзанные голодом и болезнями. «Тереза, сестра моя, любовь моя, мать моя, подруга моя, добрая моя, милая моя, моя спутница, между нами бесконечные снежные просторы».
Извозчик лениво погоняет коня, и он пыхтит, это, без сомнения, старый конь. Он идет рысью, шоры сужают его обзор, и все, что он видит, – это покрытую льдом дорогу. Извозчика укачивает, и его голова склоняется к груди. И тогда одна женщина начинает смеяться, указывая на него подбородком. И все подхватывают ее смех: полумертвый извозчик везет их в никуда. Но конь продолжает идти вперед, везя свой груз живых и одного полумертвого. А когда он останавливается и фыркает перед одним из дворов, извозчик просыпается, протирает глаза и гладит коня по черному крупу: «Dankeschön schwarzer Prinz»[99]. Он ставит ноги на землю и подает женщинам руку, спуская их по одной с телеги, потом сплевывает, садится в телегу и уезжает в обратном направлении.
Двор покрыт льдом. Перед ними большое здание из кирпича и дерева, за которым скрыты остальные строения. Позади них – поля. Там мужчина разбивает киркой лед. Он замечает женщин и, покачивая киркой, направляется к ним. На нем штаны в сине-белую полоску. Башмаки на деревянной подошве, рубашка тоже в сине-белую полоску, черная куртка и колпак. Колпак… Мила пристально смотрит на колпак, она не видела такого всю зиму. Когда мужчина подходит ближе, его улыбка исчезает. Он издалека увидел женщин, возможно, они возбудили в нем желание. Но теперь он четко видит заключенных из Равенсбрюка. Мила смотрит, как он подходит. Увеличивается в размере. Она видит его полные, покрытые бородой щеки. Розовые скулы. Красные губы, которые ели красное мясо. Тело заполняет одежду, это настоящее живое тело. Она вспоминает мужчин из колонны, которую она видела у озера позади лагеря. Их тела были такими некрасивыми, такими хрупкими, что ей хотелось пришить пуговицы им на рубашку, чтобы они не замерзли, приложить к их лбам руки и согреть их. Мужчина с киркой – сильный. В добром здравии.
– Здравствуйте! Мне сказали, среди вас есть француженки?
«У него сильный акцент, южный, – определяет про себя Мила. – Марсельский или что-то в этом роде».
– Да, – говорит Мила, – есть француженки.
– Женщины… Женщины на ферме! Теперь все изменится! Здесь есть коровы и козы. А я – Пьер. А это что? – говорит он, показывая на сверток у Милы в руках.
– Ребенок, – говорит Мила.
– Что? Дети, здесь? Да откуда вы приехали?
– Из Равенсбрюка.
– Не знаю такого. Дети… Ладно, мне сказали дождаться вас и показать вам, где будете ночевать.
– Военнопленный? – спрашивает другая француженка.
– Да, и здесь нас много. Ну, я вас быстро провожу, а то мне нужно очистить всю дорогу этой гребаной киркой.
Они двигаются в линию tsu fünft, держа детей на руках, идут в один ряд за французским военнопленным, который через каждые три шага оглядывается, чтобы убедиться, что они за ним следуют.
– Вы хоть не добровольно?
– Добровольно что?
– Добровольно работаете на Германию?
Мила останавливается, остальные женщины тоже. Она показывает рукав с нашитым красным треугольником.
– Мы – политические заключенные. Все.
– В самом деле? Мы живем там, напротив, в большом доме.
Военнопленный идет быстрым шагом и насвистывает, затем опять оборачивается:
– А что это вы идете все в одну линию?
Tsu fünft, он не может этого понять. Женщины переглядываются, Мила переводит: «Wir gehen tsu fünft!»[100] И польки смеются.
– А малыши… – говорит он. – Откуда они взялись?
– Из наших животов, – отвечает вторая француженка.
– А их отцы?
Ну вот. Он принимает их за шлюх, за шлюх бошей.
– А отцы, – говорит француженка, – может быть, сдохли на горе Валерьен или умерли с голоду или от тифа, кто знает. А может быть, живы.
Мужчина кивает головой. Шлюхи не знают голода, они не живут в лачугах, и у них теплые шубы и шапки.
Он открывает дверь одной из построек. Вход выложен плиткой. За второй дверью стоит умывальник и кувшин для воды. За третьей дверью комната с пятью соломенными тюфяками.
– Вот. А для малышей я даже не знаю, мне об этом ничего не говорили. Я должен возвращаться, мне не положено болтать.
Мужчина подходит к Миле. Бросает взгляд на сверток в ее руках, но ему ничего не видно, кроме грязно-белых складок. Мужчина, который свободно передвигается по двору, который хорошо питается, должен быть с ними заодно. Нужно показать ему Джеймса, растрогать его. Мила убирает ткань и открывает желтое морщинистое лицо младенца, который спит, как маленький мертвец.
– Это Саша-Джеймс.
Пленный наклоняется, и у него отвисает челюсть. Он не может отвести взгляд от ребенка, несмотря на испуг. Конечно же, он такого никогда не видел. В его взгляде – оцепенение, которое было у Милы, когда она видела умирающих во время работы. Она к этому привыкла. К нему подходят остальные женщины и одна за другой показывают лица маленьких старичков с потрескавшимися губами.
– Леа.
– Анн-Мари.
– Павел.
– Янек.
Мужчина пятится, поднимает воротник.
– Ну, я должен идти.
Он медленно выходит и закрывает дверь. Все пять женщин смотрят друг на друга, они одни в небольшом деревянном бараке. В комнате два окна, за одним виднеется дерево. В бараке есть печь, на каждой кровати сложенное одеяло, на потолке лампочка. Бельгийка садится первой. Остальные следуют ее примеру, умостившись все вместе на одном тюфяке.
– Меня зовут Симона, – говорит француженка.
– Меня – Катрин, – говорит бельгийка.
– А я – Мила.
– Nazywam się Klaudia[101].
– Вера.
Они не решаются выйти, посмотреть, что там снаружи. Катрин встает и наполняет кувшин водой, которая течет тонкой струйкой из замерзшего крана. Капля за каплей они вливают детям воду в рот. Потом пьют сами, это что-то новое для них – пить воду из крана. Сбитые с толку, они ждут и укачивают детей. Пахнет свежесрубленным деревом. «Наверное, пихта», – думает Мила, и этот тонкий запах вдруг сжимает время: возникает мимолетное видение отцовской мастерской, гладкое, как кожа, дерево, аромат смолы, который никогда полностью не улетучивается, несмотря на сушку. Это было как вчера, она видит, как руки со вздутыми венами и сломанными ногтями гладят доску. Это было в другой жизни.
Здесь не блок. Нет Blockhowa, нет Stubowa. Нет проходов, нет лагерного плаца, нет очереди в туалет, нет Schmuckstück, нет Verfückgbars, спрятанных под потолком. Нет затхлого запаха дерьма, мочи, нет крематория. Общая комната для них и детей, вдали слышен звук пилы, и чувствуется слабый запах животных.
– Что будем делать? – бормочет Симона.
– Не знаю, – отзывается Катрин.
– Was sagen Sie?[102] – спрашивает Вера.
– Кто хорошо говорит по-немецки?
– Я, – отвечает Катрин, – я переведу.
– Где мы?
– Думаю, недалеко от Фюрстенберга.
– Unglaublich…[103]
Действительно, трудно поверить в происходящее: эта комната, эти кровати, одеяла, печь, незапертая дверь, двор, выходящий на дорогу, дорога, выходящая в поля, и поля, выходящие в Германию, в безграничную белизну. Они удивляются: это уж слишком.
И тут открывается дверь и входит дородная женщина в испачканной землей длинной юбке, свитере и шерстяном колпаке, ее пухлые щеки испещрены угрями.
– Ich heisse Frau Müller, jetzt kommen Sie und essen![104]
Фрау Мюллер замечает детей.
Озадаченная, она хмурит брови, подходит к женщинам, откидывает один за одним уголки одеял и в испуге пятится.
– Sie haben Kinder? Sie alle? У вас дети? У всех? Aber das wussten wir nicht. Мы ничего об этом не знали… это невозможно, das ist unmoglich! Mit Kindern arbeiten? Работать с детьми? Im Schweinestall und in der Sagemuhle? В свинарнике и на лесопилке? Kriegsgefangene sind teuer, aber sie haben keine Kinder!
Катрин тихо переводит: «Военнопленные стоят дорого, но у них нет детей».
Фрау Мюллер трясет головой и сквозь зубы повторяет: «Kinder, das ist unglaublich… unglaublich!»[105] Пять женщин ждут. Конечно, фрау Мюллер – не эсэсовка. У нее нет плети. Нет резиновой палки. Здесь нет Strafblock. Ферма – это не лагерь. Но они ничего не знают о том, что во власти фрау Мюллер. Вполне вероятно, она может довести до смерти холодом, работой или лишив еды. А может быть, отнять ребенка. Вернуть тебя в Равенсбрюк, с ним или без него. Фрау Мюллер сжала челюсти – ей подсунули испорченный товар, ее обвели вокруг пальца.
– Wie alt sind die Kinder? – говорит она, указывая на ребенка.
Она спрашивает об их возрасте.
– Drei Monate, три месяца.
– Mein auch, моему тоже.
– Zwei Monate, два месяца.
– Ein Monat, месяц.
– Zwei.
Фрау Мюллер садится на кровать, расставив ноги и облокотившись на колени, начинает разминать себе руки. Она смотрит на женщин, оценивая каждую из них.
– Es geht, – бросает в конце концов фрау Мюллер, устало махнув рукой. – Aber ich will nichts von diesen Kindern hören. Und: es ist verboten mit den Kriegsgefangenen zu sprechen[106].
Мила и остальные женщины укладывают всех детей на одну кровать и укрывают маленькие тела одним одеялом. Фрау Мюллер с любопытством смотрит, как они укладывают детей спать. Затем они следуют за ней в соседнее помещение, в пристройку к свинарнику, где усаживаются на лавки вокруг стола. Фрау Мюллер достает из огромного мешка вареный картофель, раскладывает по деревянным мискам женщин, а остальное содержимое мешка высыпает в корыта для свиней.
Женщины молча поглощают картофель, обжигая язык, затем фрау Мюллер сообщает: «Morgen, halb fünf»[107]. Пятеро женщин возвращаются в комнату, разминают припасенный для детей картофель в небольшом количестве воды и кладут эту кашицу малышам в рот. Павел слишком мал, ему нет еще и месяца, он чуть не давится и выплевывает, для его кормления нужно найти что-то другое. Перед тем как лечь спать, Мила открывает дверь, и холод проникает в комнату; она, закрыв глаза, стоит в потоке воздуха: их не заперли. Напротив, с другой стороны решетчатого забора, стоит дом, где живут военнопленные, в окнах мерцает слабый свет. Мила долго не может уснуть, лежа на краю кровати, как в Равенсбрюке: она впервые спит со своим ребенком. Она придвигает к себе голову миниатюрного тельца, дышит ему в одежду, чтобы тепло разошлось по всему его телу. Теперь Саша-Джеймс по-настоящему ее ребенок. Нет больше ни Сабины, ни голландки, ни Терезы, и от этого даже становится страшно. Всю ночь или почти всю она следит за ним, боится раздавить его, проверяет его сердцебиение, кладет ладонь ему на живот и пытается почувствовать мельчайшее движение воздуха от его дыхания, каждый миллиметр колебания. Она слышит, что соседки тоже ворочаются, и, когда внезапно открывается дверь и бьется о стену «Aufstehen!»[108], ей кажется, что она только-только заснула.
Снег больше не идет. Земля покрыта скользкой твердой коркой, и к свинарнику нужно продвигаться маленькими шажками. Они идут позади фрау Мюллер, расставив руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Чуть дальше Пьер разбивает лед, который от ударов кирки разлетается дождем бриллиантовых брызг. С ним работают трое мужчин, одежда которых тоже в сине-белую полоску. Они смотрят на проходящих мимо женщин и незаметно приветствуют их кончиками пальцев.
В свинарнике хорошо. Фрау Мюллер зажигает лампочки, подбрасывает дров в печку, показывает на кучу сосновых пахучих и светлых лучин, сложенных в углу. Слышно шуршание соломы, хрюканье. Женщины чередой переходят из одного помещения в другое, Катрин переводит то, что говорит фрау Мюллер: «Здесь свинья, там хряк, сейчас свинья супоросая». Впрочем, эти слова они все понимают с лету, это те слова, к которым они привыкли, как и к оскорблениям равенсбрюкских надзирательниц, оравших: «Schweinerei! – Свинство!», «Sauhund! – Грязные свиньи!» Губы Милы трогает легкая улыбка от таких лингвистических перемен: слова приобрели свое первоначальное значение, и свинья – это свинья, свинство относится к свинье, а ты становишься человеком в мире людей.
Фрау Мюллер работает здесь, в свинарнике, где пятьдесят животных, и в небольшом коровнике, где всего десять коров, – женщины знают слово «корова», а именно «hysterische Kuh!» – «истеричная корова!». Чуть дальше находится лесопилка, где работают военнопленные. Фрау Мюллер говорит, что в это время года невозможны земельные работы, земля твердая как камень. «Кто-нибудь из вас знает хоть что-нибудь о ферме? Нет», – вздыхает фрау Мюллер. На лесопилке они будут набирать в джутовые мешки опилки, а напротив в ангаре – солому, чтобы менять свиньям подстилку. Свиньи, коровы, солома, доски, живые запахи, тепло печки – от всего этого накатываются слезы, дрожат губы, они ищут друг друга взглядом, чтобы удостовериться, что это действительно правда, что это происходит на самом деле, что они вырвались из лагеря и что, возможно, здесь они не умрут от холода, голода или побоев.
Они учатся высыпать свиньям варево, густую коричневую массу, которой в Равенсбрюке никто бы не побрезговал. Картофель варится в огромных кастрюлях, затем женщины вручную толкут его в металлических цилиндрах. Миле становится жарко от пара, исходящего от горячего картофеля, она закатывает рукава, с каждым движением становится все труднее погружать картофелемялку в глубину емкости и вытаскивать ее, а нужно, чтобы твердые клубни превратились в комковатое варево. Мила бросает в емкость рыбную муку, отчего смесь становится еще гуще. Мила наполняет ведра, а женщины молча разносят их по проходам, слышен только шорох соломы, когда свиньи спешат к корытам, а затем яростное чавканье. Иногда фрау Мюллер добавляет отваренные очистки картофеля, свеклу и другие корнеплоды, капусту, которые нужно измельчить, прежде чем давать супоросым свиньям. И тогда пот течет по телу женщин и по телу Милы, которая еще больше склоняется над цилиндром; она надеется высохнуть до того, как выйдет на улицу.
– Мила, komm hier!
Мила спрашивает себя, не в первый ли раз немка называет ее по имени. Фрау Мюллер ведет Милу вглубь свинарника, туда, где находятся свиноматки, которые вот-вот должны опороситься. Они заходят в отсек и садятся на корточки перед огромной свиньей. «Schau mal»,[109] – говорит фрау Мюллер. Не выдерживая своего веса, свинья лежит на боку. Фрау Мюллер смачивает руки в тазу с теплой мыльной водой и ласковыми спокойными движениями моет свинье живот, разминает набухшие розовые соски. Мила повторяет за ней, стараясь изо всех сил, ей нравится массировать это мягкое тело, горячий живот, в котором чувствуются какие-то движения. Мила разглядывает неподвижную голову свиньи, мокрое рыло, глаза с очень тонкими ресницами, лощеную щетину на серой коже. Невозмутимое животное позволяет себя гладить. Миле интересно, сколько же их там внутри, тех, кто шевелится, хочет выйти; если бы они знали, что такое внешний мир… Тяжело дыша, фрау Мюллер гладит животное по спине, животу. Она тихо шепчет какие-то слова, затем поднимается и сообщает Миле, что это – вопрос нескольких часов. Они заходят в следующий отсек, моют теплой водой еще один живот, соски, уже набухшие от молоко. Еще десять свиноматок должны скоро опороситься, и нужно продезинфицировать каждый отсек, для чего в огромных ведрах стоит раствор щелочи, поменять опилки, постелить чистую резаную солому, ведь в длинной поросята могут задохнуться. Мила ухаживает за супоросыми свиньями, теперь это ее обязанность, и ей доставляет удовольствие выполнять эти простые действия: менять подстилку, заботиться о животных, ожидая опороса. Остальные женщины готовят варево и разносят его по корытам, ухаживают за хряками и молодняком.
На следующий день они уже здесь, десять поросят расположились в ряд вдоль своей матери, они дрожат и шарят рыльцами в поисках соска. «Идите посмотрите, – зовет Мила, – идите сюда!» Женщины подходят. Мила стоит перед отсеком, оперевшись рукой о деревянную дверцу. Женщины заглядывают ей через плечо. Они видят мирно лежащую свинью и поросят, жадно дергающих ее за соски. Там, в комнате, их младенцы: Саша-Джеймс, Леа, Анн-Мари, Янек, Павел. Им больно от того, что их дети худеют и желтеют. При виде свиньи и поросят, которые ее беспрепятственно сосут, женщины с такой силой сжимают ручки ведер, что белеют пальцы. Женщины прячут глаза, эта сцена вызывает у них тяжелые чувства.
Мила идет на лесопилку с джутовыми мешками. Она еще никогда не ходила на лесопилку, и фрау Мюллер описала ей здание, стоящее на краю поля. Миле запрещено разговаривать с военнопленными под страхом быть снова отправленной в Равенсбрюк. На голых черных ветках сидят вороны. Под низким серым небом даже сосны кажутся черными. Продрогшая, Мила стучится в дверь лесопилки. Слышны звуки пилы, стук по дереву. Она призывно кричит. Чья-то рука открывает дверь. «Herr Hess?»[110] Мужчина кивает, приглаживает седые усы и впускает ее внутрь. Около двадцати мужчин работают вокруг очень длинных бревен без коры. Безусловно, они ее видят и сразу же опускают глаза, им, должно быть, тоже давали указания. Все мужчины, как и Пьер, худые, но хорошо сложенные, у них тела и головы, как у нормальных мужчин. Здесь пахнет деревом, желтая пыль летает под голыми лампочками, и они идут по полу, устланному опилками и светлой стружкой. Гер Хесс указывает на пол, и тогда Мила наклоняется, набирает горстями опилки и наполняет ими мешки. Она подносит опилки к носу и вдыхает сладковатый аромат. Гер Хесс смотрит на нее, а потом провожает к двери. Пьер задевает Милу необструганной планкой, извиняется и незаметно всовывает ей в ладонь бумажку, а потом быстро уходит с планками под мышкой. На улице Мила разворачивает крошечную бумажку: «У нас есть коза, поставьте вечером палку перед забором под вторым окном справа, завтра там будет молоко». Сердце бьется с неимоверной скоростью. Молоко. Она быстро идет, чуть не поскальзывается на льду, держа на бедре мешок с опилками. Она входит в свинарник. «Боже мой, молоко». Она высыпает опилки в вычищенный отсек, подгребает, накалывает на вилы солому и распределяет ее по всему отсеку. В груди все колотится. Она заходит в отсек к свинье, чей живот почти касается пола. Свинья ложится, а Мила готовит таз и моет ее теплую кожу. «Молоко для Джеймса». Она думает, что козье молоко слишком жирное. «Вот так, моя красавица. – Она гладит уставшую свинью по голове. – Удачи тебе». И когда фрау Мюллер на время выходит из свинарника, Мила передает новость по цепочке от женщины к женщине, и лица их озаряются: да, молоко, Milch, mleko, козье молоко! Она поставит вечером палку перед забором, под вторым окном справа.
На рассвете Мила идет вдоль забора. В это безлунное утро нет ни теней, ни шума, только снег соскальзывает с крыши да машут крылями слетающие с деревьев птицы. Мила находит палку, вытаскивает ее из снега, который примерз к ней, как цемент. Внизу она находит металлическую флягу, переставляет палку чуть дальше и возвращается в комнату. Едва зайдя в помещение, она открывает флягу, наливает наполовину замерзшую жидкость себе на ладонь и пробует. «Да, это молоко!» Она входит в комнату, высоко держа флягу, и торжествующе говорит: «На завтрак – молоко!» Но женщины стоят спиной к ней, склонившись над кроватью Веры. Мила подходит, женщины расступаются. На тюфяке лежит Павел с синими губами. Мила кладет флягу, смотрит на маленький труп и присаживается рядом. Поскольку фрау Мюллер их предупредила, что не хочет ничего знать о детях, они спешат на улицу за Верой. Земля слишком твердая, чтобы ее можно было копать, но позади свинарника недавно выкорчевали пень, и там осталась яма. Стоя на коленях, они голыми руками отгребают снег, разламывают тонкую ледяную корочку. Павел лежит укрытый ветками и снегом, и за упокой они напевают ему пять колыбельных. Из уст Милы звучит песнь Брижит, песнь, которую она пела при рождении и смерти Джеймса: las hojitas de losárboles se caen, viene el viento y las levanta y se ponen a bailar – листья упадут на Павла, и ветер заставит их танцевать. Мила помнит морг в Равенсбрюке, Джеймса в окружении трупов, на руках той женщины, их смертное объятие. Здесь лес и зима позаботятся о теле Павла, укутают его, он будет спать под ветками, под нежными иголками, на бело-зеленой кровати из ели, того самого дерева, из которого делают гробы. Конечно, от этого его смерть не становится менее трагичной, но это не Keller, это не крематорий. Павел растворится в земле. Смешается с ней, превратится в чернозем.
На следующее утро постель Веры пуста. Симона замечает это первая. Недавно выпал снег, и видны следы, которые идут к воротам, а затем удаляются к дороге, ведущей в Фюрстенберг. Мила стирает их ногой, а когда сообщает фрау Мюллер, что у Веры умер ребенок и она ушла, фрау Мюллер не ищет Веру, не сообщает о ее исчезновении: к чему гнаться за этой женщиной? Она крестится, глядя на небо, которое освещают всполохи от разрывов бомб союзников.
Саша-Джеймс жив. Леа, Анн-Мари и Янек живы. Теперь им, матерям, нужно продержаться до окончания войны. Продержаться ради детей, потому что поле неведения сокращается с каждым днем. Уже можно даже представить себя где-то вне этого белого поля, без пришитого на рукаве номера, в чем-то неясном, но без террора, потому что Мила не представляет, что фрау Мюллер или гер Хесс их пристрелят, повесят, сожгут перед приходом русских или американцев. Возможно, в один прекрасный день они с детьми будут спасены. Поэтому нужно держаться, терпеливо и стойко, в то время как с сосулек на крыше капает вода. Иногда Милу что-то сладко обжигает внутри, отчего у нее появляется улыбка на губах, когда она гладит свиней, разминает им соски, чешет их горячую спину, когда склоняется над Сашей-Джеймсом и по ложечке вливает ему в рот козье молоко, когда он шевелит кулачками, боксируя воздух в комнате, когда появляется первое солнце над снежными полями, яркое, ясное голубое-голубое небо, зеленые ветви, что-то колет глубоко внутри, похожее на радость. Этим утром под палкой Мила находит сообщение от военнопленных, в котором говорится о бомбардировке Дрездена, падении Будапешта и Щецина и о приближении русских к Берлину. Держаться. Держаться, в этом есть смысл.
Держаться, кормить детей козьим молоком, вареной кашицей из муки и сухого молока, которые им добывают военнопленные. Держаться, укрывать детей теплой одеждой, куском рубашки, переданной мужчинами, шерстью, найденной в вагонах с награбленным, которые пленные разгружают в Фюрстенберге и из которой женщины вяжут вещи по вечерам при свете велосипедного фонарика. Выносить детей по ночам, чтобы они подышали свежим воздухом. Держаться, питаться. Они проглатывают сырой кровавый стейк и муку, которые им с бойни и с мельницы приносят мужчины в своих кальсонах. Держаться. Тереза, если бы ты нас видела…
Мила, если бы Тереза видела, как ты, сидя на тюфяке, убаюкиваешь Сашу-Джеймса. Как ты, зажмурив глаза и сконцентрировавшись, стараешься вспомнить как можно точнее все события, все выученные даты с января месяца, когда начался окончательный разгром немцев. Ты спрашиваешь себя, занимается ли тем же самым Тереза на своем тюфяке, ты не знаешь, жива ли она, но ты не представляешь иной возможности. Вспомнить, чтобы потом рассказать: в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое января в блоке № 10 Дарья видит, как Schwester Марта дает белый порошок больным туберкулезом; пятнадцатого января десять туберкулезниц мертвы; пятнадцатого января «розовые карточки» отправляют в Уккермарк; двадцать второго и двадцать третьего января возвращаются врачи-заключенные и медсестра Дарья, которая описывает Уккермарк как лагерь смерти; двадцать четвертое, двадцать пятое января… это через два дня, она уже точно не помнит, прибывшие из Уккермарка грузовики останавливаются перед крематорием, а затем возвращают одежду, хотя никто не слышал выстрелов; двадцать восьмого января Тереза видит, как сотни полек выходят из лагеря, кто-то – но кто? Мари-Поль? Луиза? – говорит, что они идут в Уккермарк; пятнадцатого февраля Мила уезжает на ферму. Она столько не помнит. Кто первый умер? Когда она впервые попала в Keller? Она больше не помнит, когда умерла Лизетта; когда умерли Жоржетта и Виолетта; когда умер Джеймс, знает только, что это был ноябрь. В висках пульсирует кровь, она не понимает, то ли она забыла, то ли никогда не знала и никогда не запоминала даты. Она хочет все записать безотлагательно, все, что помнит и что еще вспомнит. Она просит у военнопленных бумагу и карандаш и однажды утром находит под палкой маленькие прямоугольные серые листочки и графит. А в одно мартовское воскресенье матери, пригрев в объятиях детей, отваживаются выйти с ними на улицу среди бела дня. Четыре женщины с четырьмя детьми ходят под соснами вокруг постройки в косых лучах солнца, держа руки козырьком над крошечными лбами. На дороге, ведущей из Равенсбрюка в Фюрстенберг, Мила видит военные грузовики, и, возможно, не только немецкие. Она видит, как далеко на фоне белых полей проезжает конвой, безусловно, что-то происходит; теперь ей хочется писать вместе с тремя другими женщинами, собрать все даты и события. У нее такое чувство, что очень скоро об этом придется рассказывать и оголять свои нервы, чтобы слова становились более весомыми. Вернувшись в дом, она достает листочки и графит.
– В апреле прибыл новый конвой. После карантина я больше не видела свою мать, это было в начале мая. Ее платье вернулось в Effektenkammer вместе с номером.
– В июне, пятнадцатого или шестнадцатого, точно не помню, это было вскоре после моего дня рождения, был большой транспорт, по меньшей мере сотня женщин покинула блок. Они не умерли, во всяком случае не сразу, так как их одежда не вернулась. Позже я узнала от одной Schreiberin, Жизель, что они уехали в рабочий Kommando в Нойбранденбург.
– Ich war im Strafblock, Juli 15 bis Juli 30.
– Она была в штрафблоке с пятнадцатого по тридцатое июля.
– Ich wurde fünfundzwanzig Mal mit dem Stock geschlagen und habe mein Kind nicht verloren.
– Она получила двадцать пять ударов палкой и не потеряла ребенка.
– В июле или, скорее, в августе… нет, в июле одна девушка видела через решетку лагеря, как заключенных заставляли прыгать вокруг таза, как лягушки, вот так, – и Симона широко открытой ладонью скачет по бедру, – а когда они больше не могли, их избивали до смерти, а прыгать продолжали другие мужчины – до тех пор пока тоже не падали без сил. Я запомнила это, потому что девушка, которая об этом рассказала, думала, что в Равенсбрюке ее тоже заставят скакать, пока она не сдохнет.
– Я уже столько забыла.
– Ты помнишь, в августе прибыли заключенные из Аушвица?
– Да, тысячи.
– Und im September die Frauen von Warshau. Am 2. September, so viel weiß ich noch[111].
– Точно, польки из Варшавы прибыли как раз после женщин из Аушвица, второго сентября.
– Девочки из палатки?
– Ja.
– Да, девочки из палатки.
– Ты видела палатку? Я хочу сказать – то, что внутри нее?
– У меня есть подруга, полька, она видела. Терезу вырвало при виде сваленных в кучу трупов прямо на земле, живые там же мочатся и едят.
– Мне тоже об этом рассказывали.
– В ноябре был черный транспорт в Зводау[112]. Там была моя сестра.
– Я видела женщин из Аушвица, которых отправляли в начале декабря в Уккермарк.
– До «розовых карточек»?
– Да, еще до Рождества.
– Моя бедная сестра.
Мила записывает. Каждый день она записывает даты, имена погибших или место смерти, затем складывает маленькие серые листочки вчетверо и прячет у себя под одеждой, потому что на память надеяться нельзя, а это как архив.
– А ты помнишь «продавца коров», который приезжал отбирать нас на велосипеде?
– Мне нужна дата.
– Все равно запиши. Это было в декабре или в январе?
– Слушай, вот точная дата: Рождество 1944 года, мы простояли весь день на морозе.
– Восемнадцатого января они повесили девушек-парашютисток.
– Ты это видела?
– Да, я это видела. Издалека.
– Die genauen Tage… das ist schwer[113].
– Да, действительно, вспомнить даты тяжело.
Третье апреля, нужно записать: грузовики с огромными красными крестами движутся вниз по дороге. В это едва верится. Катрин вышла из свинарника: они только что отняли поросят от матки, и Катрин шла за новой соломой, но вернулась ни с чем. «Мила, грузовики Красного Креста, ты думаешь, это возможно?» Мила вышла, всмотрелась в пустую дорогу, подумала, стоит ли верить миражу, но все же записала: «Катрин увидела три грузовика с большими красными крестами».
Бомбардировка, фосфорное небо, завораживающая картина солнца, заходящего в облаках дыма. Иногда Миле становится страшно: «А если они начнут стрелять по нам? Вдруг союзники, американцы или русские, начнут бомбить? Знают ли они о нашем существовании? Что тут есть женщины, дети, военнопленные?» Сейчас поросята питаются коровьим молоком и мукой и поправляются. Новые свиньи поросятся, другие к этому готовятся, и Мила массирует им животы – каждый день одни и те же движения, хряки покрывают свиней, боровы идут на бойню, цикл продолжается. Записывать, все записывать: время бомбардировки, проходящие грузовики, цвет грузовиков, количество грузовиков.
Двадцать второе апреля: почки набухли на деревьях, и клейкий сок выступил на кончиках веток, тает снег. Саше-Джеймсу пять месяцев, он уже пережил тот возраст, в котором умирали дети в Равенсбрюке. Тереза, если бы ты знала, какой он худой, но зато живой, вчера я услышала его голос, впервые. Не плач, не смех, а нечто похожее на удивление при виде молодых еловых шишек, прилипчивых, как мяуканье котенка. Это тоже нужно записать, для себя, на серых листочках, так же как записать о нежных, как птичий пушок, волосах Анн-Мари. Записать еще про красные кресты, про машины, про «скорые помощи», которые сегодня утром видела Катрин. Неужели это действительно «скорые помощи» от Красного Креста?
Двадцать третье апреля: военнопленные уходят в поле с инструментами. Против света видно, как они идут вереницей, словно караван. Симона зовет со двора, стоя напротив открытых ворот. «Идите сюда! Идите сюда!» – кричит она. Самое невероятное – это то, что она повышает голос, что она не шепчет, что она говорит громко, не боясь наказания. Она позволяет себе кричать: «Девочки, идите сюда!» Фрау Мюллер тоже вышла из свинарника, они видят, что вдалеке медленно движется конвой из четырнадцати машин, Катрин пересчитывает их одну за другой. Это Красный Крест. Нужно записать. Фрау Мюллер говорит:
– Ich glaube, sie fahren nach Ravensbrück.
Она думает, что машины едут в Равенсбрюк.
Двадцать четвертое апреля: талая вода, скопившаяся вокруг фермы, находит освобождение в ручье, по краям которого взбивается сверкающая пена. Женщины опускают руки в ледяную воду, навстречу им встает солнце, и под их пальцами брызги превращаются в золотые капельки. Пробиваются первые маргаритки. Этим утром фрау Мюллер поставила на стол хлеб, мед и молоко. Четыре женщины уставились на тарелки, на горшочек с медом, на куски хлеба и молоко с дрожащей пенкой.
– Essen Sie, – приказала фрау Мюллер. – Ешьте! Вы в этом нуждаетесь.
Они едят, медовая сладость вызывает излишнее слюноотделение. Вкус молока сладкий, жирный, даже чересчур…
Когда женщины съели хлеб и выпили молока, фрау Мюллер встает:
– Sie durfen weggehen[114].
Как уходить?
– Sie sind frei[115].
– Frei? И куда идти?
– Das weiss ich nicht, этого я не знаю. Домой. К своим семьям. Русские приближаются, и вы мне здесь не нужны.
Мила молча сидит на лавке, уставившись на дрожащее молоко в кастрюле, на муху, которая села на край горшочка с медом. Уходить? Сейчас? Как это? Быть свободной? Свободной от чего? Когда ты открываешь дверцу клетки, где сидит синица, неужели она сразу расправляет крылья? Куда она летит, очутившись на свободе? От открытого пространства до сих пор голова идет кругом.
– Verstehen Sie?[116]
– Да, фрау Мюллер.
– Ja, фрау Мюллер.
– Ja.
Шуршит солома, свиньи хотят есть и роются рылами в пустых корытах. На улице мычат коровы, они вышли есть настоящую траву, идут по настоящей грязи, отмахиваются от настоящих мух рыжими хвостами, как плетью.
Фрау Мюллер протягивает Миле небольшой холщовый мешок. Внутри – круглый хлеб.
– Viel Glück[117].
Катрин встает первой, по привычке освобождает свою миску и собирается ее помыть в тазу.
– Nein, – говорит фрау Мюллер, останавливая ее руку. – Gehen Sie jetzt[118].
Тогда они встают и уходят. Мила думает: нужно ли сказать «прощайте», нужно ли говорить «спасибо»? Она бормочет: «Danke»[119]. Нужно ли обернуться, помахать рукой? Смотрит ли фрау Мюллер им вслед? Видит ли в окне, как они молчаливо и растерянно идут, и все из-за этого слова – frei, свободны? Они так об этом мечтали, а что теперь с этим делать? Они входят в комнату, берут детей, заворачивают их в одеяла. Они выходят и идут к воротам. Никто из них не произнес ни слова, они шокированы. Они оборачиваются. Фрау Мюллер задернула шторы, никто с ними не прощается. Они выходят за ворота, как много недель назад сделала Вера, и останавливаются на краю дороги. Женщины уставились на черные поля: вспаханная и засеянная земля курится на солнце. Направо или налево? Куда идти?
– Налево!
Мила оборачивается. Это Пьер и еще четверо военнопленных в полосатых костюмах и с узелками: Томас, Би Джей, Вивиан, Альбатрос.
– Дамы, направление – Фюрстенберг. Разве вас раньше было не пятеро?
– Да, было пятеро. Вера ушла.
И они начинают напевать «Марсельезу» с таким акцентом, что режет слух, дети своей родины, они засевают черные неподвижные поля, и уже скоро трава пробьется сквозь черную почву. Они поворачивают налево, мужчины идут впереди, женщины – позади, неся своих детей. В какой-то момент Мила срывает гроздь сирени, подносит ее к носу. Она не понимает, счастлива ли. Она идет рядом с военнопленными, всматривается в горизонт и думает о том, что нужно обязательно запомнить эту дату: двадцать четвертое апреля, первая сирень.
Глава 9
Один километр, два, три, и дорога становится людной. Русские солдаты на грузовиках оттесняют на покрытую травой обочину растерянных людей с заторможенными рефлексами. Группы мужчин и женщин, заключенные, в полосатой или помеченной крестом одежде, изнуренные, у всех силуэты как лезвие ножа. Целые семьи, немецкие или польские – кто ведает, – жертвы и палачи вперемешку, с разными судьбами и разного возраста, но у каждого есть причина, чтобы бежать. Мила идет. У нее горят сбитые ноги. Но она идет, и все остальное не важно. Нужно идти вперед.
Нужно дойти до Карлсбада, говорят французские военнопленные, встреченные по дороге. Это место встречи запада и востока, американцев и русских. Так хочется отправиться с ними в Эгер, который находится в двадцати пяти километрах отсюда, правда, нет ни карты, ни компаса, только солнце. Но американцы пропускают только военнопленных; женщины, на которых нет лагерной одежды (на их рукавах лишь нашиты треугольники), не вызывают у солдат, едва достигших половой зрелости, сочувствия. Они с презрением смотрят на женщин и завернутых в одеяла младенцев: а что, если это шлюхи? добровольные работницы? а может, даже коммунистки? Мила протягивает Сашу-Джеймса и шепчет солдату, который ни слова не понимает: «Посмотри, посмотри на моего увядшего ребенка, посмотри на его лицо, пропусти нас», – умоляет она. Солдат, похоже, взволнован: эта женщина представляет такую трагическую картину. Мила смотрит на него, впившись в зрачки: «Разрешите нам вернуться домой». Солдат хлопает себя по затылку. «Fuck![120]» Он рассматривает руку, на которой видно ярко-красное пятно, явно след укуса какого-то насекомого. Он трясет головой, швыряет женщинам сигареты и маленькую коробку с сухим молоком: «Sorry, I can’t let you, I can’t»[121].
Ему восемнадцать или девятнадцать лет, у него кожа, как у ребенка, но в этот момент Мила чувствует к нему такую глубокую ненависть, какой она никогда не испытывала даже в Равенсбрюке по отношению к надзирательницам, даже к Аттиле, которая носила униформу палача. На лицо же этого парня надета маска ангела, и он убивает тебя с улыбкой маленького мальчика: «Sorry, madam, I can’t». Похоже, Пьер заметил огонь во взгляде Милы – и сдерживает ее, увлекая за собой: «Пойдем, мы уходим». Би Джей и Вивиан покидают группу и переходят на другую сторону американского поста, в сторону Франции. Мила бежит за ними, хочет прокричать: «Вы не могли бы взять моего ребенка? Вы не заберете его с собой во Францию?» Но это окончание войны так похоже на войну, что еще неизвестно, доберутся ли они до Франции.
Остаются Пьер, Томас и Альбатрос. Их направляют к русским, указывая рукой на восток. Русские внушают опасения: взобравшись на повозки, опьяненные близкой победой, они мчатся по дорогам, громко распевая песни. Иногда среди них встречаются даже гармонисты. Однажды один из красноармейцев спрыгивает с повозки, подходит, прихрамывая, хватает Катрин в охапку и целует ее прямо в губы, пока Пьер не врезает ему по челюсти.
Их ноги сбиты в кровь, и, пока русские в столь возбужденном состоянии, Томас крадет у них повозку с лошадью. Мила пытается представить себе пройденный путь, рисует его на воображаемой карте. Каждый день – это разгромленные села, дымящиеся дома без крыш, разбитые витрины, развороченные магазины, бездомные мужчины и женщины, которые попрошайничают на всех языках. Они останавливаются на ферме, их встречает мужчина с ружьем. Они хотят лишь молока для детей. Мужчина дает им флягу молока и холодный вареный картофель, и они уходят прочь. Дети спят на улице, худеют, их укачивает на телеге, и они рвут молоком. Однажды утром у реки Симона просыпается, держа в руках мертвое тело. Анн-Мари умерла. Они закапывают ее на берегу реки, от земли у них черные колени. У Симоны нет слез, это неизмеримая боль, а ведь они уже так близко к границе. Теперь нужно записать на серых листочках мелким шрифтом дату смерти Анн-Мари: 8 мая 1945 года. Симона больше не говорит. Она превратилась в нечто, что они кормят, будят, гладят кончиками пальцев, но это нечто не отвечает ни взглядом, ни звуком, ни движениями. Остался только призрак, трое матерей и трое детей.
Говорят, что Гитлер умер.
Мила больше не считает дни. Их блуждание – это долгая кома, отсутствие самой себя. Она свободна. Ей хочется есть, ей хочется пить. Нужно выдержать. Она думает только о Саше-Джеймсе, смотрит на него, дышит ему на лицо, целует его, прижимает его к своей теплой груди. Как-то вечером они спят в хлеву, крестьянин угощает их горячим супом, а для детей дает коровье молоко. В другой раз они проводят ночь в переполненном госпитале на покрытых плесенью матрасах. Именно там в лихорадке умирает Янек.
– Ihr wollt nicht seine Kleider nehmen?[122] – спрашивает Клаудия у Милы и Катрин.
Они трясут головой. Они не будут хоронить его без одежды, они уже не в Равенсбрюке, они больше не раздевают мертвых.
И тогда Клаудия смотрит на своего сына:
– Dann warst du umsonst gestorben.[123]
Они хоронят Янека в разоренном саду госпиталя, на клумбе, где еще остались розы, пятнадцатого мая. Два дня спустя, семнадцатого мая, за Янеком следует Клаудия – от истощения и от горя. Нет, война еще не закончилась. Конец войны будет тогда, когда Саша-Джеймс выберется из всего этого живым.
Остаются двое детей, Катрин, Мила, безмолвная Симон и трое мужчин. Как-то утром Альбатрос тоже покидает группу, он переходит на территорию, которую занимают американцы, и возвращается к себе на родину. Двое мужчин, три женщины, двое детей.
Это бег наперегонки со временем. Враги – это время и пространство. Время и пространство отделяют их детей от крыши над головой, от запасов молока, от лекарств, от теплой одежды.
Время ускоряется в тот день, когда Пьер подскакивает с места извозчика: «Смотрите, Красный Крест!» Пьер ударяет плетью коня, настолько худого, что Мила удивляется, как он еще может передвигаться. Конь переходит на рысь. «Давай, старичок, быстрее!» Конь идет через поле, топча засеянную землю, они видят машины Красного Креста, стоящие вдалеке на дороге. Конь брызжет пеной, еще двести метров – и они доедут. Взгляд Милы прикован к белым и красным пятнам, виднеющимся напротив зеленых деревьев и притягивающих, как магнит. Она подгоняет животное: «Ты же не дашь нам это упустить!» Томас встает, машет руками, кричит через все поле, пытаясь перекричать грохот колес. Симона – как бревно, ни живое, ни мертвое, которое раскачивается на телеге. У Катрин больше нет голоса, и она начинает кашлять, тогда к Томасу и Пьеру присоединяется Мила, но ветер проглатывает их крики. Сто метров, машины трогаются. Пьер хлещет коня, но он обессилен, он грузнет в мягкой вязкой жиже. «Дерьмо, дерьмо». У него подгибаются ноги, Мила сцепила зубы: «О, только не падай». И тогда Пьер бросает вожжи, и теперь они вчетвером машут руками, конь бежит сам по себе, рысью. Наконец останавливается одна машина. Из нее показывается человек и тоже машет рукой – до тех пор пока повозка не доезжает до дороги. Конь ржет. Пьер и Томас спрыгивают с повозки, помогают Миле, Катрин и Симоне спуститься на землю. Конь падает, и повозка переворачивается. Через несколько минут силуэты Пьера и Томаса в пыльных стеклах машины уменьшаются, погружаются в темноту и исчезают.
Машины полны депортированных. Они медленно едут через деревню, зеленые просторы шелковистых трав, цветущие фруктовые сады, тучи птиц срываются с электрических проводов и взвиваются в небо. Когда Мила видит дорогу на Фюрстенберг, что в нескольких километрах от Равенсбрюка, у нее начинает учащенно биться сердце. Но машины проезжают мимо. «Они поедут через Швейцарию, – говорит молодая женщина из Красного Креста, – затем возьмут курс на Страсбург». Швейцария, Страсбург. Мила с восхищением смотрит на столь уверенные уста, которые спокойно говорят о вечере, о завтрашнем дне, о будущем, которые обещают стабильную перспективу, дают ей первую уверенность после ареста во Франции в январе 1944 года, – Швейцария, Страсбург. Конечно, она помнит, что война еще не окончена, ни здесь, ни в Страсбурге, достаточно посмотреть на обезвоженное тело Саши-Джеймса. Каждый лес, каждый поселок, каждая река, каждая пересеченная граница – еще одно выигранное сражение, потому что ребенок жив. Зубы Милы заново учатся жевать, желудок – переваривать сладкое, жирное. Она накопила достаточно сил, чтобы без остановки петь колыбельную Брижит по дороге в Швейцарию, до Страсбурга, до самого Парижа. Она ткет очень мягкую нить между Сашей-Джеймсом и внешним миром, чтобы он в нем остался, чтобы не ускользнул в мир небытия, и она привязывает его к нити, обворачивает ее вокруг него, наматывает теплый тугой клубок вокруг крошечного тельца: las hojitas de losárboles se caen, viene el viento y las levanta y se ponen a bailar. Она поет, и Катрин поет для Леа. В Страсбурге Катрин уходит – она направляется в Бельгию. А Мила продолжает петь до самой Лютеции[124], только бы не разорвать нить, впрочем, никто не просит ее замолчать, есть даже те, кто напевает вместо нее, когда она спит над ребенком, но только мелодию, потому что слов никто не знает. А когда в Лютеции она стоит среди сотен репатриированных мужчин, женщин и детей, Мила слышит голос отца: «Сюзанна Ланглуа», а потом еще один голос, который указывает на нее: «Вот она, месье». Она стоит спиной и сразу не оборачивается, она хочет продлить этот счастливый момент и не перестает напевать. Она ждет, когда отец позовет ее, она готовится. «Сюзанна!» – и тогда она к нему поворачивается, тетушка из Манта толкает его кресло. Мила держит на руках ребенка, и колыбельная еще не умирает на ее губах, потому что Саша-Джеймс еще не спасен, война еще не окончена.
Всю дорогу до улицы Дагер никто из них не произнес ни слова: ни тетушка, ни отец, ни сама она, они даже не прикоснулись друг к другу от самой Лютеции. По пути домой Мила рассматривает улицы Парижа, такие родные и одновременно далекие, как на киноэкране. В доме стоит неизменный аромат дерева. Солнце пробивается сквозь известковые пятна на окнах. Дубовый стол, шероховатый под ладонью. Ужасные стенные часы и стук маятника. Мила всматривается в отца, который подъезжает к столу. Он все такой же. Седые волосы, седая борода, мозолистые руки, худой и сухой. Тетушка ставит на стол кувшин с водой и три стакана. Они усаживаются вокруг стола. Отец разливает всем воду, раздает стаканы. Все движения нужно учить заново. Наливать воду из графина. Мыть стекла. Заводить часы. Протирать суп через сито. Гладить рубашки. Закрывать дверь на ключ. Она уехала отсюда тысячу лет назад.
Они пригубили воду, глядя в пустоту. Мила смотрит на мух, которые приклеились к сладкой ленте, свисающей с потолка, они умрут от истощения.
– Где Матьё?
– Мы не знаем, – отвечает отец.
– Как?
– Мы его больше не видели, – говорит тетушка.
– Твой дядя Мишель умер.
– О… Мишель…
Они выпили еще немного воды. Тетушка склоняется над молчащим ребенком.
– Как его зовут?
– Саша-Джеймс.
– Саша – как?
– Саша-Джеймс.
– Он твой?
– Да, он мой.
Прямой вопрос отец боится задать. Мила его опережает:
– Тебе нечего стыдиться. Он не от бошей, я уже была беременна, когда меня арестовали.
Тетушка высвобождает голову малыша, которая едва ли больше кулака.
– Эй, он очень худой. И ты тоже.
– У тебя есть молоко?
– Жан, твоя дочь просит молоко!
– Да, там, за хлебом.
Мила думает: пройдет ли это? Поговорят ли они? Перестанут ли быть чужими? Возможно, они спросят, все ли в порядке. И она скажет: «Да, уже лучше». Позже они захотят узнать, как это было. Она попытается рассказать. Она будет говорить на языке, который выучила там и который им неизвестен, точно так же, как она не знала его до тех пор, пока не попала в лагерь. Она будет говорить: «Block, Blockhowa», она будет произносить: «Appell, Kommando, Kinderzimmer». А они будут сводить брови и не осмелятся перебить ее, для них это будут всего лишь наборы звуков, чистые фонемы, слетающие с ее уст и ни о чем им не говорящие. Безусловно, у них не будет образов для этих слов. Она будет вспоминать, что в Равенсбрюке образы приходили медленно, болезненно и придавали смысл лагерному языку. Им пришлось называть те вещи, которых раньше не существовало: Stück, Strafblock. И откуда они, сидя на кухне вокруг стола, могли бы взять эти образы?
Они говорят, что боялись за нее. Или точнее: «Ты нас напугала». На самом деле они испугались ее. То, что она видела, они не хотят ни видеть, ни слышать. Они говорят: «Мы тоже голодали, мы мерзли». Она понимает, что именно она должна вернуться в мир, в их мир, начать жить той жизнью, которую она оставила там, где они ее оставили. Как раньше, начищать воском стол. Как раньше, готовить на кухне. Как раньше, топить печь. Вставать в семь часов утра и, как раньше, идти в музыкальный магазин. Как раньше, штопать носки. Снова стать Сюзанной Ланглуа, отказаться от Милы. Избавиться от Равенсбрюка. Найти свободное место, с четкими контурами прошлой жизни, как должен будет найти свое место Матьё, если он когда-нибудь вернется. Другие не расступятся перед теми, кто будет возвращаться к мирной жизни, месяц за месяцем, преодолевая темноту. Она понимает, что будет носить в себе Равенсбрюк, как она вынашивала своего ребенка: одна и втайне.
Окружающие хотят об этом забыть, они хотят просто жить. И она день и ночь ухаживает за Сашей-Джеймсом, до тех пор пока врач не говорит твердо: «Ребенок слаб, но жить будет». Он будет жить. Наконец-то война, кажется, заканчивается. Это было 27 июля 1945 года.
Эпилог
Сюзанна Ланглуа опускает штору и садится в кресло. Она дрожащими руками открывает плотный конверт, раскладывает на столе серые кусочки бумаги, исписанные неровным почерком. На листочках загнуты углы, а карандаш почти стерся. За окном садится солнце.
Первый раз после войны она рассматривала эти листочки в один из ноябрьских вечеров 1965 года. Саше-Джеймсу тогда только исполнился двадцать один год. Его жизнь была уже у него в руках. Его история – пока еще нет.
Она постучалась в его комнату. Вошла, стол и пол были засыпаны раскрытыми партитурами, а Саша-Джеймс стоял на стуле и играл на воображаемой гитаре, I got a ticket to ride, I got a ticket to ride but she don’t care[125], светлая прядь волос упала ему на глаза. Она улыбнулась, ее сын еще мальчишка, и ее это радует. «Ты не хотел бы выключить музыку?» Он спрыгнул со стула, выключил и, запыхавшись, спросил: «Ну?» Она села на кровать и похлопала рукой рядом с собой. Он присоединился к матери. Она считает его красивым, у него высокий лоб, который сейчас блестит от пота, после игры на призрачной гитаре, голубые глаза, длинные загнутые ресницы. Она подумала: «Он даже не замечает несходства». Сын же смотрел на виниловую пластинку на проигрывателе, в нетерпении подергивая коленом. Сюзанна подумала: «Мой сын счастлив». Он повернулся к матери: «Что случилось?» Она протянула ему маленькое картонное удостоверение. Саша-Джеймс взял его, увидел на нем свою фотокарточку, которую сделали, когда он был в девятом или десятом классе: серьезный, безупречный пробор, воротник рубашки заправлен под шерстяной пуловер. «Что это такое, мама?» Справа от фотографии он прочитал свое имя: Делорм Саша-Джеймс. Делорм – фамилия его отца и та, которую его мать присоединяет к своей, Сюзанна Ланглуа-Делорм. Он начал читать дальше: дата рождения – 29 сентября 1944 года, адрес – улица Дагер, а потом дата интернирования – с 29 сентября 1944 года, период депортации – с 29 сентября 1944 года по 7 июня 1945 года. Он нахмурился и глянул на Сюзанну, которая тоже смотрела на удостоверение. В самом верху, над строкой «Министерство по делам ветеранов и жертв войны», Саша-Джеймс прочитал «Удостоверение политического ссыльного».
– Что это за штука?
– Оно твое.
– Как мое?
– Посмотри вот здесь. – Сюзанна указала ногтем на строку в удостоверении.
Саша-Джеймс прочитал:
– «Родился в Равенсбрюке, Германия». – Он засмеялся. – Я родился не в Равенсбрюке, я родился в Париже!
Она показала ему свое удостоверение. Он склонился над ним. Осенью 1944 года, в день, когда родился Саша-Джеймс, она была в Равенсбрюке.
– Нет, что это за история?
Сюзанна прикусила губу:
– Ты родился в Равенсбрюке.
Саша-Джеймс уставился на мать. Сквозь нее он увидел замученные тела, ему об этом рассказывали, но немного – ему это не нравилось. Он наложил на эту картину младенца; в это невозможно было поверить, это нельзя было себе представить. Он вытер лоб, вскочил с кровати и затряс головой, как собака, которая сушится. Он пытался избавиться от наваждения.
– Саша… – прошептала Сюзанна, она догадывалась, что вызывала у него в памяти жуткие образы, но это нужно было сделать, правда – это огромный камень.
Она рассказала все. О том, что не была его матерью, что его матерью была русская женщина, о ней она ничего не знала, знала лишь то, что она назвала его Сашей. Она нежно гладила сына по руке, в которой он до сих пор держал удостоверение. Рассказала, что потеряла своего ребенка, а Саша потерял свою мать. Что она взяла его и вернулась с ним во Францию. Она встала, подняла его подбородок и заставила посмотреть ей в глаза.
– Во Франции я встретила твоего отца. Я вышла замуж, он тебя усыновил.
– Да что ты такое рассказываешь… Что ты рассказываешь, мама?!
Саша-Джеймс медленно попятился, сбежал по лестнице и вошел в кабинет отца. Дверь стукнула о стену. Он стал посреди комнаты и спросил:
– Что мама такое рассказывает? Что она – не моя мать, что ты – не мой отец, что это за вздор?
Отец снял очки, поднялся с кресла, и тогда Саша-Джеймс вдруг тихо, почти без сил, сцепив зубы, произнес:
– Почему ты не сказал мне об этом раньше? Почему именно сейчас?
В кабинет вошла Сюзанна, с дрожащими губами, но прямой спиной, потому что ее сын должен иметь достоинство, он родился не от несчастья, ужаса и слабости, а в результате обдуманного и взвешенного решения и от безупречной любви.
– Потому что мы не говорили о Равенсбрюке. Не говорили о лагерях. Мы не могли рассказать о тебе, это пугало людей. Ты бы их пугал, ты бы тоже боялся, ты бы не понял.
– Но я не понимаю! Я и сейчас ничего не понимаю!
– Ты уже совершеннолетний. Это твое удостоверение.
В тот же день Сюзанна раскрыла конверт и по одному вытаскивала серые листочки. Она смотрела на этот склад воспоминаний, где все лежало в беспорядке. Она сказала:
– Помоги мне, нужно все рассортировать по датам, я буду тебе рассказывать.
– Это все написала ты?
– Да.
И Саша-Джеймс разложил кусочки бумаги на столе и начал расшифровывать карандашные каракули, потирая свои голубые глаза и бормоча: «Я ничего не понимаю. Что такое черный транспорт? Что такое розовые карточки?» Вдвоем они сложили паззл на большой белой скатерти по числам: 15/16 июня 1944 года – транспорт Kommando в Нойбранденбург; с 15 по 30 июля – Вера получает двадцать пять ударов палкой; ноябрь – черный транспорт в лагерь Зводау; январь 1945 года – женщины из Аушвица уезжают в Уккермарк… Саша-Джеймс рассматривал листочки, такие чуждые его собственной истории. А Мила, читая эти даты, события, записанные на скорую руку и теперь вновь возникшие, пыталась вспомнить, кто и что говорил в блоках, в свинарнике, на ферме недалеко от Фюрстенберга. Кому принадлежали эти слова? Эти образы? Сколько женских ртов, глаз на этих маленьких серых бумажках, которым удалось уйти от забвения?
– Скажи, как звали мою настоящую мать?
– Нина.
– Когда я по-настоящему родился?
– В конце ноября, точнее не скажу.
– Ты забыла или никогда этого не знала?
– Уже не знаю. Я не все записывала. Эти записи – не только мои воспоминания.
Сюзанна надеется, что время поможет разбудить память, что все эти воспоминания в конце концов создадут образ лагеря, доступный для Саши-Джеймса. Что однажды Саша-Джеймс придет в Ассоциацию жертв Равенсбрюка, услышит свидетельства, встретит двух французских детей, выживших в лагере, и Сабину из Kinderzimmer, которая взъерошит его волосы со словами: «А я видела тебя нагишом, мой мальчик, теперь ты выглядишь куда лучше!» Однажды он узнает свою историю, запечатленную в глазах этой толпы женщин, и он родится на свет второй раз.
Сорок лет спустя, вечером того дня, когда она была в лицее, Сюзанна Ланглуа сидит у себя дома в кресле и второй раз раскладывает серые листочки. Она снова спрашивает себя: что из всего этого принадлежит ей? Что принадлежит Мари-Поль? Терезе? Катрин? Вере? Клаудии? Жоржетте? Лизетте? Луизе? Адель? За все эти годы, после всех судебных процессов, где необходимо было говорить, она стала глазами, устами, памятью каждой из них, точно так же, как воспоминания каждой стали воспоминаниями всех. Бесспорно, где-то есть бывшие заключенные, которые рассказывают школьникам об озере в Фюрстенберге, которое они никогда не видели. Да, озеро действительно было по ту сторону лагерной стены. И правда, что многие из женщин никогда его не видели. В каждом лагере существовало множество подлагерей. И тогда она вспоминает о той девушке с красным кольцом в брови: «Существовала тысяча лагерей, но когда вы узнали, что этот лагерь назывался Равенсбрюк?» Видел ли кто-нибудь написанное где-нибудь слово «Равенсбрюк» или кто-то его произнес? Кто именно говорит, когда говорит Сюзанна, когда Сюзанна произносит «я», когда она с уверенностью утверждает: «Я шла в Равенсбрюк»?
Сквозняк переворачивает листочки. И Мила понимает, сколько здесь всего не написано. Колыбельная Брижит. Котелок Лизетты. Теплая рука Терезы в ее руке. Белые лебеди, скользящие по озеру. Окоченелые трупы в Waschraum. Заснувший Саша-Джеймс рядом с ней в кровати, на ферме. Возможно, однажды появятся такие люди, как эта девушка с красным кольцом, чтобы разобраться, проанализировать историю, вернуться к истокам, к моменту зарождения событий, в неведение, в начало всего, когда нельзя было сказать: «Я шла в лагерь Равенсбрюк», потому что они еще не знали этого слова, как и не видели еще озеро и не знали о его существовании. Возможно, эта девушка с красным кольцом и найдет способ, как можно встать на то место, где находилась Мила в апреле 1944 года и где она еще ничего не знала. Где было только неведение. Нужно писать романы, чтобы возвращаться назад, в начало всего.
Когда Сюзанна Ланглуа вернется в тот класс, она скажет: «Нужны историки, которые будут разбираться в событиях; обрывки свидетельств, которые поведают о страшном опыте; романисты, которые додумают то, что исчезло навсегда».
Она также скажет, стоя напротив карты, висящей на стене в глубине класса: «Во мне есть вещи, которые остались нетронутыми». Она посмотрит на девушку с красным кольцом, которая так похожа на девушку, которая восемнадцатого апреля 1944 года очутилась на платформе вокзала немецкого города Фюрстенберг. Она скажет ей, что, к примеру, не забыла, что пес ее не укусил и она осталась жива, жизнь иногда держится на такой малости. Жизнь – это вера. Она также скажет, что не забыла первую сирень весной 1945 года, что она помнит двадцать четвертое апреля, размытую дорогу на выезде с фермы и ярко-голубое небо, военнопленных, от которых падали косые тени, и себя, одну из четверых матерей, и как она одной рукой держала ребенка, завернутого в одеяло, а второй сорвала гроздь сирени, фиолетовой и пахучей, и поклялась помнить об этом, об этом сиреневом цвете, режущем взгляд на грязной дороге, и яркой траве, недавно пробившейся из-под снега. Она скажет: «Моя сирень осталась не в общей истории, а в моей личной. Сирень отмечает тот день, когда впервые после ареста я шла свободно и когда у меня появилась цель – спасти своего сына. В тот день я поверила, что это возможно, что он сможет выжить. Этого точно не напишут в школьных учебниках, однако именно благодаря этому крошечному событию мы вернулись, и оно значит для меня больше, чем разгром Дрездена или взятие Берлина, чем точная дата, когда я узнала название «Равенсбрюк», и тот факт, что я не могу об этом вспомнить. В день, когда я увидела сирень, двадцать четвертого апреля 1945 года, я думала о своей подруге, о своей сестре из Равенсбрюка, о Терезе, которой обязана жизнью. И сейчас, разговаривая с вами, я думаю о Терезе. А впрочем, посмотрите на эту белую ветку сирени, да, как раз позади вас, молодой человек; посмотрите, как она тихо стучит в окно».
Благодарности
Сильви Броджиак, чей энтузиазм и любопытство лежат в основе этого романа.
Мари-Жозе Шомбар де Лов, борцу за каждую жизнь, чья история лежит в основе этой книги.
Жану-Клоду Пассера, Ги Пуаро, детям Равенсбрюка, и Пьеретт Пуаро, чье доверие и признания вдохновили меня продолжать этот проект.
Жюльетте и Моник, дочерям женщин-заключенных, благодаря встрече и дружбе с ними я узнала об Ассоциации жертв Равенсбрюка.
Карин Толи, своей читательнице и верной подруге на протяжении уже десяти лет.
Гвенаэлле Обри, Ги Пелье, внимательным читателям.
Соржу Шаландону и Мишелю Кинту, литературные беседы с которыми осветили мой путь сомнений.
Своему другу Бернару Кристиану за его вклад в переводы.
Господину Хессу, преподавателю немецкого языка, который открыл для меня немецкую музыку, историю и литературу.
Моей дочери Лили, любовь которой оправдывает всякое сопротивление.
Моей матери, которая стала для меня примером.
И наконец, Франсуазе Ниссен, Еве Шане, Мириам Андерсон, Бертрану Пи из издательства «Actes Sud» за их веру в этот роман.
Примечания
1
Помещение в лагере, где содержались младенцы. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)3
Мон-Валерьен – гора, а точнее, холм в Париже. Во время Второй мировой войны, при оккупации, на этой территории нацисты расстреливали участников Сопротивления и заложников. (Примеч. ред.)
(обратно)4
ЛПР – лагерь принудительных работ.
(обратно)5
С деревьев падают листочки, ветер поднимает их, и они начинают танцевать (исп.).
(обратно)6
Нашивка на одежду, цвет ее зависел от категории, к которой относилась заключенная: красный цвет – для политзаключенных и участников Сопротивления, желтый – для евреев, зеленый – для уголовников, фиолетовый – для свидетелей Иеговы, черный – для цыган, проституток, лесбиянок и воров; в центре треугольника стояла буква, указывавшая национальность. (Примеч. ред.)
(обратно)7
Черный транспорт – транспорт, отправлявшийся в лагеря, где были крематории; всех прибывших с таким транспортом сжигали.
(обратно)8
Розовые идентификационные карточки с буквами «V. V.» (нем. Vernichtungslager, Vernichten – лагерь смерти, уничтожить), которые сначала выдавались освобожденным от тяжелых работ, со временем стали настоящими паспортами смерти.
(обратно)9
Вон, прочь (нем.).
(обратно)10
Тихо! (нем.)
(обратно)11
Торговый человек, следующий в военное время за войском, торгуя съестными и другими припасами. (Примеч. ред.)
(обратно)12
Мекленбург – герцогство.
(обратно)13
По пять (нем.).
(обратно)14
Камарг – болотистая местность на юге Франции, в дельте Роны, где расположено несколько заповедников. (Примеч. ред.)
(обратно)15
Аналой – высокий, с наклонной поверхностью столик.
(обратно)16
Поверка, перекличка (нем.).
(обратно)17
Стела – вертикально стоящая каменная плита с надписью или рельефным изображением для увековечения кого-, чего-либо.
(обратно)18
Надзирательница (нем.).
(обратно)19
Торт «Париж – Брест» был впервые приготовлен французским кондитером Луи Дюраном в 1891 году в честь велопробега Париж – Брест – Париж. (Примеч. ред.)
(обратно)20
Сфинктер – кольцевидная мышца, суживающая или замыкающая при сокращении отверстие мочевого пузыря в мочеиспускательном канале.
(обратно)21
Бош – презрительное прозвище немцев во Франции. (Примеч. ред.)
(обратно)22
Жанр античной поэзии, идеализированно изображающий пастушескую жизнь и сельский быт на фоне природы.
(обратно)23
Быстро, собака, свинья! (нем.)
(обратно)24
Ублюдок! (нем.)
(обратно)25
Облатка – небольшая круглая лепешка из прессованного пресного теста для причащения по католическому и протестантскому обряду.
(обратно)26
Дура (нем.).
(обратно)27
Дерьмо, французское дерьмо (нем.).
(обратно)28
Прохвостка (нем.).
(обратно)29
Мусор (нем.).
(обратно)30
Аушвиц-Биркенау – комплекс концлагерей и лагерей смерти возле польского города Освенцим (немецкое название города – Аушвиц). (Примеч. ред.)
(обратно)31
Шпицрутены – длинные гибкие палки или прутья для телесных наказаний в европейских армиях.
(обратно)32
Секретарь (нем.).
(обратно)33
«Beobachter» («Völkischer Beobachter», «Народный обозреватель») – немецкая газета, печатный орган НСДАП, выходила до 30 апреля 1945 года. (Примеч. ред.)
(обратно)34
Лекарство, применяемое при нарушении деятельности сердца, является как возбуждающее или регулирующее средство. (Примеч. ред.)
(обратно)35
Цех, фабрика, производство (нем.).
(обратно)36
Стаз – прекращение тока крови. (Примеч. ред.)
(обратно)37
Самый лучший экземпляр (нем.).
(обратно)38
Собака паршивая, дура! (нем.)
(обратно)39
Хватит! Какая жалость… (нем.)
(обратно)40
Птичка! Ты умерла? (нем.)
(обратно)41
Моя маленькая птичка… (нем.)
(обратно)42
Поль Видаль де ла Бланш – французский географ и геополитик, именем которого названы настенные карты, используемые во французских школах.
(обратно)43
Перевод М. Лозинского.
(обратно)44
Джава (Ява) – танец, изначально народный, который возник в 30-е годы ХХ века в Париже благодаря аккордеонистам с улицы де Лапп.
(обратно)45
Фреэль (1891–1951) – французская певица, представительница «реалистической песни». Ее самая известная песня – «La Java bleue» («Голубая джава»). (Примеч. ред.)
(обратно)46
Как будет «быстро» по-французски? (нем.)
(обратно)47
Промышленный двор (нем.).
(обратно)48
Медицинская сестра (нем.).
(обратно)49
Вперед! Марш! (нем.)
(обратно)50
Как-то все пройдет (пол.).
(обратно)51
Слова из песни «Голубая джава».
(обратно)52
Здесь «вода» и «кости» – омофомы (по-французски «отходят воды» и «отходят кости» звучит одинаково).
(обратно)53
Тихо, свиньи! (нем.)
(обратно)54
Она беременна (нем.).
(обратно)55
Пошла прочь, вонючая беременная! Прочь, немедленно! (нем.)
(обратно)56
Не кричи, не беспокой доктора, не плачь. Пожалуйста (нем.).
(обратно)57
Все, хватит (нем.).
(обратно)58
Тихо, девушка (нем.).
(обратно)59
Тихо, не кричи (нем.).
(обратно)60
Девушка! (нем.)
(обратно)61
Где мой ребенок? (нем.)
(обратно)62
Одну минутку (нем.).
(обратно)63
Как его зовут? (нем.)
(обратно)64
Ланглуа Джеймс, политический депортируемый, француз, дата рождения 29 сентября 1944 года, 12.00, Равенсбрюк (нем.).
(обратно)65
В детскую комнату (нем.).
(обратно)66
Ленивая бестолочь (нем.).
(обратно)67
Общее помещение (в больнице, лазарете) (нем.).
(обратно)68
Добрый день! (пол.)
(обратно)69
Меня зовут Мила, я француженка (пол.).
(обратно)70
Меня зовут Магда (пол.).
(обратно)71
Сердан – область на границе Франции и Испании. (Примеч. ред.)
(обратно)72
Отряд, подразделение, команда (нем.).
(обратно)73
Оссуарий – вместилище для захоронения костей покойников; место, где сложены трупы.
(обратно)74
Какая жалость! (нем.)
(обратно)75
Медсестра Ева. Ева, иди посмотри! (нем.)
(обратно)76
Крысиный яд, пожалуйста (нем.).
(обратно)77
Для детей? (нем.)
(обратно)78
Нет, нет, крысы любят свежее мясо (нем.).
(обратно)79
Что ты здесь делаешь? (нем.)
(обратно)80
У тебя есть сестра во Франции? (нем.)
(обратно)81
Bunker (бункер) – карцер.
(обратно)82
Какой он красивый… (нем.)
(обратно)83
Ты можешь здесь оставаться еще десять минут, а потом уходи (нем.).
(обратно)84
Коллаборационист – лицо, сотрудничавшее с фашистскими захватчиками в оккупированных странах Западной Европы; изменник, предатель.
(обратно)85
Мекленбург – историческая область на севере Германии. (Примеч. ред.)
(обратно)86
Эль Греко (1541–1614) – испанский художник. Картина «Пьета (Оплакивание Христа)» создана им в 1575 году. (Примеч. ред.)
(обратно)87
Одиннадцатого ноября отмечается День памяти. В этот день в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, положившее конец военным действиям в Первой мировой войне (Примеч. ред.).
(обратно)88
«Смешные жеманницы» – комедия Ж.-Б. Мольера. (Примеч. ред.)
(обратно)89
Тиф (нем.).
(обратно)90
Не чешись, дура! (нем.)
(обратно)91
И ты тоже, поняла? (нем.)
(обратно)92
Медсестра Марта, слишком много снотворного. Слишком много белого порошка. Ты должна рассказать об этом (нем.).
(обратно)93
Уккермарк – так называемый «лагерь охраны прав молодежи». В декабре 1944 года здесь были построены газовые камеры. В конце января – в начале апреля 1945 года в Уккермарке были расстреляны или отравлены газом 5–6 тысяч заключенных лагеря Равенсбрюк. (Примеч. ред.)
(обратно)94
Приговоренных к смерти записывали в некий реестр лагеря, где отмечалось, что заключенных эвакуировали в Миттельверде, оздоровительный центр в Силезии. (Примеч. ред.)
(обратно)95
Какое изящество! (нем.)
(обратно)96
Мой ребенок! (нем.)
(обратно)97
Я никуда не поеду без своего ребенка (нем.).
(обратно)98
Убейте меня (нем.).
(обратно)99
Спасибо, Черный принц (нем.).
(обратно)100
Мы идем по пять! (нем.)
(обратно)101
Меня зовут Клаудия (пол.).
(обратно)102
Что вы говорите? (нем.)
(обратно)103
Невероятно (нем.).
(обратно)104
Меня зовут фрау Мюллер, а теперь к столу (нем.).
(обратно)105
Дети, это невероятно… невероятно (нем.).
(обратно)106
Ладно. Но я и слышать ничего не хочу об этих детях. И еще: я запрещаю вам разговаривать с военнопленными (нем.).
(обратно)107
Завтра утром в половине пятого (нем.).
(обратно)108
Подъем! (нем.)
(обратно)109
Смотри (нем.).
(обратно)110
Господин Хесс? (нем.)
(обратно)111
И в сентябре прибыли женщины из Варшавы. Второго сентября, насколько я помню (нем.).
(обратно)112
В Зводау находился оружейный завод «Siemens». (Примеч. ред.)
(обратно)113
Точные даты… это трудно (нем.).
(обратно)114
Вы можете уходить (нем.).
(обратно)115
Вы свободны (нем.).
(обратно)116
Вы понимаете? (нем.)
(обратно)117
В добрый час (нем.).
(обратно)118
Уходите сейчас (нем.).
(обратно)119
Спасибо (нем.).
(обратно)120
Мать твою! (англ.)
(обратно)121
Извините. Я не могу вас пропустить. Не могу (англ.).
(обратно)122
Вы не хотите взять его одежду? (нем.)
(обратно)123
Ты действительно умер ни за что (нем.).
(обратно)124
Лютеция – древнее поселение, располагавшееся в нескольких десятках километрах от современного Парижа. (Примеч. ред.)
(обратно)125
Искаженный текст песни «The Beatles» «Ticket To Ride»: «She’s got a ticket to ride, she’s got a ticket to ride but she don’t care» – «У нее билет на руках, у нее билет на руках, но ей все равно».
(обратно)




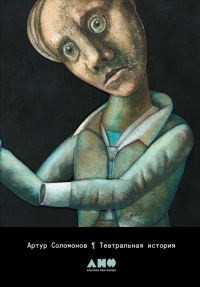

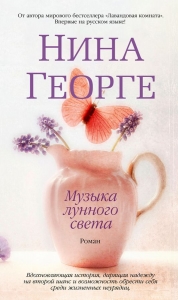



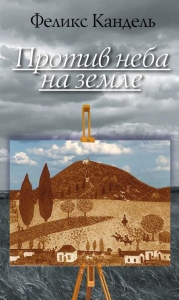
Комментарии к книге «Детская комната», Валентина Гоби
Всего 0 комментариев