Наталья Ключарёва Счастье
© Ключарева Н. Л., текст, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Глава первая Как он стал Алешей
Сначала он все ждал, что настоящая жизнь вот-вот начнется. Вот он вырастет, вот пойдет в школу, вот закончит школу, вот поцелуется с девушкой, вот устроится на работу….
Потом он вдруг понял, что все рубежи пройдены, ждать, кроме пенсии, уже нечего, а жизнь по-прежнему походит на невнятное топтание в прихожей.
По привычке он продолжал надеяться на какое-то более осмысленное и счастливое существование, в которое когда-нибудь войдет, как в светлую комнату, полную близких людей, войдет и скажет: «Простите, что так долго», а они засмеются, обнимут, хлопнут по плечу и нальют штрафную…
Однако предвкушение праздника, питавшее его с детства, уже истончилось, выветрилось и совсем не прикрывало неприятную пустоту.
«Это моя жизнь, и я ее живу», – повторял он, как мантру, меся нечищеными ботинками снежную кашу или жуя позавчерашнюю гречку, которую ленился разогреть.
Но живее не становился.
«Как сделать, чтобы все стало настоящим?» – спрашивал он у своего отражения в пыльном окне, за которым стояла грязнофиолетовая городская ночь.
И перебирал в уме давно известные рецепты: «Тяжелая болезнь, любовь, дети, делать что-то для других, просветление в ашраме, полнолуние на горе Белухе…»
Даже музыка текла мимо, омывая, но не наполняя, как вечно юная река вокруг вечно старого камня.
«У камней тоже есть душа. И мысли. Только очень медленные», – скажет потом девушка, которая уже заворачивает за угол его большого желто-белого дома со статуями в нишах.
Вот она идет, хлюпает мокрый снег, вязаные сапоги промокли, а из кармана рюкзака выглядывает синий медведь с глазами-бусинками.
Она идет в свое место силы: туда, где продают ленты, пуговицы, бубенцы и прочие сокровища эльфов. Спешит утешить себя пакетиком золотого бисера, подбодрить мотком ярко-желтой пряжи, подкормить свою продрогшую, напуганную душу простым и понятным зрелищем – разноцветным прилавком в магазине рукоделия…
Потому что в ее доме опять ругань, от которой не укрыться даже в своей комнате, даже под подушкой, даже в наушниках…
И бедная Санька с мальчишками на улице второй день. Ну, не совсем на улице, где-то у знакомых, но это все равно страшно, тоскливо и никак не помочь. Домой она не хочет ни в какую, да и нелепо называть домом место, где леденеешь от звука поворачивающегося ключа, потому что вот сейчас, сейчас оно начнется снова – то, от чего не спрятаться даже под подушкой, даже на улице с мокрым снегом под ногами, хотя эта улица и находится в часе трамвайной тряски от их окраины, за которой кончается город и начинается лес.
Да, лес! Самый настоящий, сосновый. Ее окна выходят прямо в лес, а «их» – на соседнюю новостройку.
«Поэтому мы такие разные», – думает она иногда.
«Я чувствую родство со всеми бездомными животными, со всеми незнакомыми людьми, особенно после первой стопки, со всеми соснами в твоем лесу, – говорит Санька, – и только к этим двум не испытываю ничего, кроме желания быть от них как можно дальше».
Но лес, лес примиряет ее со всем, делает дом все-таки домом. К лесу она возвращается, с лесом разговаривает, по лесу летает во сне. Лесу показывает своих мишек, а мишкам, едва у них появляются глаза, – лес. Она и шьет-то их перед лицом леса: сидя на широком подоконнике, отгородившись от всех плотными шторами, и часто советуется с лесом: так лучше? или так?
Но бывают дни слишком тяжелые, душа чернеет и черствеет, опускается на дно. И становится стыдно показываться лесу на глаза.
«Сосны растут, стараются изо всех сил, у них такие прямые оранжевые стволы, такие веселые макушки-верхушки, даже в плохую погоду. А я не могу им обрадоваться!»
Тогда она едет в центр города, везет свою тоску в трамвае, тащит по бульвару под крики ворон, кормит коржиком у хлебного киоска, гонит прочь от себя, а потом снова прижимает к сердцу…
Вот и улица, где, внушительный и желтый, стоит дом с белой женщиной в нише: облупившееся советское ню, статная спортсменка с суровым ликом. Вот ничем, кроме пыли, не примечательное окно. Но форточка открыта – и слышно музыку.
Он так и не смог вспомнить, что тогда звучало. Включал ей потом и «Бранденбургский концерт», и «Адажио» Альбиони, и Чайковского… Она слушала, иногда снова плакала, но потом качала головой: нет, не то.
«То было такое печальное, огромное и светлое, будто ангел укрыл меня крыльями, и жалеет, и защищает, но ничего не требует, никуда не зовет и не очень даже понимает меня, просто держит в свете и верит, что это поможет. И это помогает. Помогло. Тогда».
А он уже натянул ботинки, когда вспомнил, что не выключил музыку. Протопал в комнату не разуваясь, все равно грязища, но вдруг – будто зацепился за невидимый крючок – остановился у окна, решил дослушать. Стало как-то неловко просто подойти и ткнуть кнопку, словно оборвать на полуслове важный разговор, в смысл которого нет сил вникать.
Из форточки тянуло оттепелью, тающим снегом, мокрыми ветками, воздухом, согревшимся до нуля. Его вдруг окатила волна забытого детского ощущения, когда все в мире кажется правильным и значительным: и галочьи крики, и шелест шин по слякоти – каждый случайный звук словно стоит на своем месте и выполняет свою, совсем не случайную роль, о которой ты вот-вот догадаешься… Стоит только выбежать на улицу, вдохнуть полной грудью – и взлететь навстречу невероятному прекрасному далеку.
«Но это детское предвкушение смысла – обман, – думал он, слушая медленные, печальные шаги клавиш. – За ним лишь трагическое подростковое открытие, что все на самом деле не имеет никакого смысла. А следом – спасительная (или губительная) скорлупа прожитых лет, внутри которой тебя уже ничего не касается – ни смысл, ни его отсутствие, ни горечь обманутых надежд… Только иногда жалко детей. Эти их глаза. Доверчивые, ожидающие от мира всего хорошего… Ты-то уже вырос, ты знаешь: ничего они не дождутся, погаснут, перестанут смотреть. Даже в самой благополучной судьбе, не говоря о всяких ужасах… Хорошо, что у меня никого нет. Если б я знал такое про собственного ребенка, как бы я жил, что делал, как встречал бы этот взгляд?
Надо наконец выключить музыку. Что она без толку меня тревожит? К чему эта бесполезная, наизусть выученная грусть?»
И, уже отворачиваясь, он краем глаза увидел, что под его окном, почти вплотную к желтой стене, стоит кто-то в клетчатом пальто и смешном вязаном колпачке с помпоном.
«Школьница курит. Смешная, милая девочка. В художку, наверное, ходит. Или в группе поет. Пой, бедная, рисуй, подольше не сдавайся…» У него вдруг сдавило горло.
Он незаметно высунулся в окно и увидел, что она вовсе не курит, а плачет, и глаза у нее как раз такие, в которые стыдно смотреть, – распахнутые, полные света, но уже недетские: слишком печальные.
И вдруг он как-то разом и целиком понял ее всю. И сиюминутное: что она остановилась послушать музыку, звучащую из его окна, что она ужасно расстроена и промочила ноги, что смешной колпачок связала себе сама, чтобы хоть чуточку уравновесить какую-то свою постоянную тоску…
И одновременно с этим он уловил невыразимое словами звучание ее души. Ее одиночество и непохожесть. Ее хрупкость и – где-то в глубине, под слоями беспомощности и страха, – силу и стойкость.
И еще он почувствовал, что будущее живо, что оно не просто случается или нет, но каким-то образом зависит от него самого. И что можно еще успеть. Во всех смыслах.
Он глянул на таймер: оставалось тридцать секунд звучания. Метнулся к двери и выскочил в подъезд.
– Я так испугалась, – смеясь, говорила она потом. – Ты налетел на меня, такой запыхавшийся, весь взъерошенный, даже борода. И, ни слова не говоря, схватил за руку. Нет, я сразу увидела, что ты – нестрашный, но я думала – что-то страшное с тобой случилось, вот сейчас ты отдышишься и станешь звать на помощь. А ты позвал пить чай и сушить сапожки!
– Нет, ты права, со мной происходило страшное, причем уже много лет, изо дня в день. И я именно звал на помощь. И ты на помощь пришла.
– Это ангелы…
– Да, с тобой в мою жизнь вошли ангелы, о которых ты всегда говорила, и медведи, которых ты безостановочно шила, даже в трамвае или кафе. Ангелы и медведи – немыслимо щедрый дар для хронически одинокого человека. И эти ангелы (или эти медведи) за тридцать секунд, что я бежал по двору, доходчиво объяснили мне, что я тону и что ты – та самая соломинка. Вот я за тебя и ухватился!
– И я сразу почувствовала себя защищенной. Будто я всю жизнь падала – и вдруг меня поймали и поставили на твердую землю.
И она, боявшаяся всего на свете, обмиравшая, случайно встретив чей-то взгляд, робевшая продавщиц и кондукторш, спокойно пошла в дом к человеку, которого даже не знала, как зовут.
Они еще были безымянны друг для друга, а это имя уже слетело с ее языка и с тех пор так и вертелось между ними, выскакивая всюду, как Петрушка.
«Какие высокие окна! Санька была бы в восторге, ей так нужен свет, для рисунков». «Санька обожает кофе, она его варит даже на костре, когда мы в лесу гуляем». «Это старинное? Вот бы Санька…»
– Санька – это подруга? – не выдержал он.
– Сестра!
– Отлично, с сестрой я уже познакомился… Теперь хотелось бы…
– Правда? Вы знакомы с Санькой? Вы тоже художник?
– К сожалению, ни то, ни другое… Давай-ка выпьем чаю на брудершафт, а то, когда мне говорят «вы», я чувствую себя пенсионером…
– Это имбирь? Санька…
– …его обожает?!
– Простите, я вам, наверное, уже надоела со своей Санькой! Но она очень хорошая и…
– Не сомневаюсь! Но у меня в гостях ты, а не она. И я буду рад узнать что-нибудь о тебе. Например, имя…
– Мое?
– Твое, деточка, твое!
– Санька…
– Неужели?! Не может быть!
– Нет, я просто хотела сказать, что Санька всегда называет меня по-разному, у нее вообще страсть к именованию, и ей трудно остановиться. Когда мы были маленькие, она, например, давала имена нашим чашкам и ложкам, зубным щеткам, колготкам… Причем сегодня – одни, завтра – другие. А перед сном она брала меня за руки и рассказывала, как зовут каждый пальчик…
– Это ужасно трогательно… Но все-таки как тебя зовут? Санька – всегда по-разному, я понял, но родители-то как тебя назвали?
– Да никак! Никак они нас не назвали!..
– Никак?! Не может такого быть! Но звали-то как?
– Как придется. Чаще всего «эй, ты» и «пошла отсюда»…
* * *
Саньку назвали Санькой тоже не «они», а пожилой инвалид Полторы Ноги, их сосед по коммуналке. Долгое время он считал, что это громкое, везде лезущее, отовсюду падающее существо – мальчишка, тем более что у Саньки никак не отрастали волосы. По чистой случайности имя оказалось универсальным, и Санька осталась Санькой, даже когда ее девчачья природа, к большому разочарованию инвалида, убежденного женоненавистника, стала наконец очевидной.
Через два года у Саньки появилась сестра, и щедрая Санька каждый день дарила девочке новое имя, выуживая из потока телевизионной речи самые звучные слова, казавшиеся ей именами фей и принцесс: Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Перестройка, Орбитальная Станция, Долина Реки Иордан и Сектор Газа…
Часто Санька пририфмовывала младшую к себе: «Санька и Танька, Санька и Ганька, Санька и Тикаликалянька…»
Едва сестра научилась ходить, Санька потащила ее в свой садик, потому что «там – еда».
Воспитательницы уже не удивились отсутствию свидетельства о рождении. Они отудивлялись свое, когда Полторы Ноги привел к ним Саньку – без родителей, без документов и без нижнего белья.
Правда, эту ненормальную семью тут и так знали: в садике работало несколько теток из их подъезда, которые регулярно подкармливали безнадзорных сестер. И судьба девочек решилась в обход всяких правил.
Свидетельства о рождении сделали задним числом через чью-то родственницу, работавшую в загсе, принесли оставшиеся от детей-внуков одежки, а опеку беспокоить не стали, рассудив, что в родном доме, каким бы он ни был, лучше, чем в казенном, «откуда выходят готовые уголовники».
При записи в садик встал вопрос об имени младшей девочки. Не моргнув глазом, Санька срифмовала: «Санька и Данька».
«Дарья, что ли? – переспросила заведующая. – Или Дамира?»
Но Санька уже нырнула под стол за ускакавшим ластиком. И заведующая, поколебавшись, написала «Дарья», решив, что Дамира – чересчур экзотично, хотя Санька с ее тягой к прекрасному выбрала бы именно Дамиру, не случись там невиданного белого ластика со слоном.
Потом она продолжала называть сестру самыми разными именами. В садике Санька встретилась со сказками, и младшая становилась то Элизой, то Василисой, то Гердой…
А имя, случайно попавшее в документы, растворилось в недрах бумажной вселенной и так редко давало о себе знать, что сестры каждый раз удивлялись, его услышав.
Простой вопрос «Как тебя зовут?» всегда ставил ее в тупик. В детстве рядом была Санька, которая с ответом не затруднялась. Но потом ей пришлось учиться самой называть себя. Через силу произнося «Дарья», она неизбежно вспоминала, что ей не дали даже имени, и мир сразу схлопывался и гас.
– Деточка, прости! Ну, не плачь… Хотя как тут не плакать! Я и сам сейчас зареву. А ведь всего лишь хотел узнать имя! Давай лучше сыграем в игру.
– В какую?
– В угадайку. Будешь угадывать, как меня зовут.
– Я?
– Да! Посмотри внимательно. Только не торопись! Угадаешь, дам конфетку!
Он порылся в буфете и достал старый самолетный леденец. Она послушно принялась рассматривать его, внимательно, с полным погружением, и почему-то ни ему, ни ей не было неудобно от этой пристальности.
Все было правильно, все было как надо. Это ощущение, возникшее за минуту до ее появления, не покидало его, только усиливалось, наполняя непривычной уверенностью.
Он всегда изнурительно сомневался в самых простых вопросах. И незаметно вообще перестал двигаться, провалился мимо жизни. Но когда она остановилась и заплакала у него под окнами, он вдруг начал понимать, что от него требуется. Без усилий, без мучительных раздумий – будто кто-то сжалился над ним и стал давать четкие указания. Она потом, разумеется, сказала, что это он стал слышать подсказки ангелов.
Иногда правильными оказывались довольно странные вещи.
– Может, Алеша? – робко предположила она.
– Молодец! Держи конфетку!
Конечно, она не угадала. Но в тот момент для исправления чудовищной неправильности бытия ему показалось необходимым, чтобы эта девочка, которую никак не звали, дала имя ему. Чтобы в пустыне безымянности и в вихре случайных имен у нее появилась хоть какая-то точка опоры: имя, которым она наречет сама.
И он стал Алешей.
– Правда-правда… Твое любимое имя? Ну, рад, что угодил… Давай кипяточку добавлю, все остыло…
Глава вторая Чудо
Они проговорили все утро. Это было странно. С одной стороны, легко, будто сто лет знакомы. С другой – он то и дело натыкался в ней на огромные скопления боли, куда она тут же проваливалась. И исчезала.
Иногда за самым простым вопросом вроде вопроса об имени распахивалась пропасть. И он быстро понял, что с ней можно говорить о чем угодно, кроме нее самой. И перестал расспрашивать.
Картину ее жизни он складывал потом из случайных обмолвок, всегда прерывавшихся на полуслове, о многом просто догадывался, а о чем-то даже не решался думать.
Знакомство с Санькой, которое неминуемо состоялось в тот же день, мало что прояснило. Санька защищалась от пережитого яростными фантазиями. Она охотно рассказывала о детстве, и слушать ее было одно удовольствие, но в этих невероятных историях не было ни капли правды.
– Тебе бы книжки писать, – говорил он ей, отсмеявшись.
– Да ну, – отмахивалась Санька, – я запятые ставлю неправильно.
– А ты вообще без них – сейчас модно.
– Правда? Я однажды в диктанте наставила эти проклятые запятые после каждого слова. Думала, какие-то попадут на правильное место – и от меня отстанут. Ну и прославилась. Мой диктант потом в стенгазете напечатали, а психологичка даже в диссертацию вставила, как пример девиантного поведения!
У Саньки, по ее выражению, было «двое детей и ни одного мужа». Своим сыновьям-погодкам, Петьке и Пашке, она вдохновенно врала про их отцов. Это была бесконечная, смешная, невероятная сказка. Папы совершали кругосветное путешествие на деревянном самокате, взбирались на высокие горы, обмотавшись огромной жвачкой, летали в космос, спрятавшись в запасном скафандре, изобретали таблетки от старости, спасали от голода африканские деревни…
А где были эти папы на самом деле, Санька не говорила никому, даже сестре. Точнее, особенно сестре, которую страстно оберегала от всего плохого.
И он сразу пошел Санькиной дорогой: ничем не огорчать, только радовать, только лелеять и питать эту бедную, замерзшую душу. Не расспрашивать, не тревожить, не бередить.
В первое же утро во время их мучительного и чудесного разговора, напоминавшего танец канатоходца над пропастью, он понял, что есть только две темы, связанные с ней самой, о которых она может говорить безболезненно: ее лес и ее медведи.
– Есть одно бревнышко на краю поляны. За спиной – деревья, впереди – небо и трава. Я там столько мишек сшила! Зимой по нему скучаю. И, едва сойдет снег, иду навестить. Прихожу и слушаю, как журчит поляна, будто горная река. Когда талая вода сольется в овраг, прилетают бабочки и облепляют старую березу: пьют сок из трещин в коре. Если долго сидеть неподвижно, приходят две ящерки. Иногда они устраиваются прямо у меня на коленях. А летом я люблю лежать рядом, в траве, и глядеть, как пролетают мимо пушинки иван-чая, целыми стаями…
Внутри рассказов о бревнышках и полянках даже тяжелые темы проскальзывали почти незаметно, будто лес давал ей силы касаться больных мест, укрывал, прятал в зеленый сумрак, полный комаров, запахов, паутинок…
– Моя собственная, отдельная жизнь началась, когда я попала в лес. Нашу коммуналку в центре расселили, дали квартиру в самом крайнем доме города. У меня впервые в жизни появилась своя комната, но главное – прямо за окном начинался лес. И первый этаж! Можно даже не выходить в коридор, чтобы ни с кем не сталкиваться. Раньше меня заслоняла собой Санька. Я сама совсем не умела защищаться. И вдруг оказалось, что от всего я могу спрятаться там. И Санька почувствовала, что теперь есть на кого меня оставить, и сбежала – сначала в общагу, она уже была студенткой, потом в первое замужество. Она давно хотела вырваться, но я не давала…
Шли минуты. Капали за окном капли, кричали галки. Пыхтел чайник. Тикали часы. Два человека сидели на неудобных стульях с гнутыми спинками, говорили, молчали, рассматривали друг друга.
«Да? Неужели?!» – думала она, и ей становилось страшно и весело.
«Нет, не может быть», – думал он и все подливал, подливал ей чай.
– А кусочка хлеба не дадите? – наконец спросила она.
– Нет, милая, у меня ничего нет, я же старый холостяк! Пойдем, я тебя в кафе накормлю, сапожки твои, наверное, высохли.
– Ой, что вы, там дорого!
– Расслабься, на кусочек хлеба нам точно хватит!
Они вышли на улицу, и тусклый свет пасмурного дня показался слишком ярким для глаз, привыкших к полумраку квартиры. Воробьи наполняли тщедушный куст у подъезда, от их гомона сердце сжималось в предчувствии весны. Но до весны было еще очень далеко.
У мусорных баков во дворе стоял дедушка. Он выуживал бутылки, плющил ногой пивные банки, разрывал завязанные пакеты… В общем, являл собой довольно привычную, хотя и печальную картину.
И вдруг ему попалась книжка. Старик опустил на землю сумку, вынул из нагрудного кармана очки и погрузился в чтение, словно сидел в библиотеке, под лампой с зеленым абажуром.
Она остановилась. И на ее лице появилось беспомощное, паническое выражение – ну сделайте же что-нибудь! – которое он принял (и потом всегда принимал) на свой счет – и шагнул вперед, еще не зная, что скажет. Но ангелы, конечно, были тут как тут со своими подсказками.
– Доброго здоровья!
– Что?
– Хочу у вас книгу купить.
– Что?
– Я собираю редкие книги и, кажется, за этим экземпляром охочусь долгие годы. Можно взглянуть? Свердловск, тысяча девятьсот семьдесят седьмой. Да, именно! Из-за типографической ошибки тираж был пущен под нож. Осталось всего три книги. Две из них находятся в частных коллекциях – в Америке и Нидерландах… Вот это удача! Родная, посмотри, какое чудо – это же тот самый Луи Буссенар семьдесят седьмого года, о котором Илья Фабисович делал доклад на прошлой конференции!
Старик все твердил свое «Что?», а увидев пятитысячную купюру, проворно спрятал книгу за спину:
– Пойду к букинистам, так они, может, десять дадут!
Вдруг она оказалась рядом, обняла деда за плечи и сказала:
– Букинисты о ценности этой книги даже не догадываются. Таких специалистов, как мой муж, в мире единицы.
Старик обмяк, послушно взял деньги, отдал ей книгу и поспешил прочь, бормоча и качая головой.
«Она назвала меня мужем! – ошарашенно подумал новонареченный Алеша. – Да ладно. Я такой же муж, как это – редкая книга».
А вслух сказал:
– Спасибо за помощь! Теперь нам точно хватит только на хлеб! Зато на целый батон!
В магазине Алеша долго перебирал хлебные пакеты, смотрел дату на проволочных колечках и откладывал обратно.
– Можно и вчерашний, – робко предложила она.
– Можно и прошлогодний, если размочить. Но мне нужен с сегодняшним числом. На память.
Наконец он нашел, что искал. И на крыльце супермаркета аккуратно надел ей на палец кольцо из белой проволоки с напечатанной датой их знакомства.
– Разбогатею – сделаю настоящее, – сказал, будто оправдываясь.
– Это и есть самое настоящее… – Она покраснела и спрятала лицо в ладони.
– Ты так заразительно смущаешься, что я сейчас тоже провалюсь сквозь землю. Давай лучше преломим хлеб и пойдем на набережную ловить ветер.
– Чем ловить? – От удивления она смогла снова посмотреть на него.
– Какое счастье, что ты не спрашиваешь «зачем»! А чем? Так чем хочешь – ртом или капюшоном.
– А можно ленты к запястьям привязать!
– Или надеть коньки и подставить ветру зонт, как Циолковский!
Они медленно шли, перебрасываясь легкими фразами, ели каждый свою половину батона, и синий медведь смотрел у нее из рюкзака на крошки белого хлеба – для птиц, – которые она оставляла за собой, как Мальчик-с-Пальчик.
На набережной они встретили замерзшего пони в желтой попоне.
– Жаль, тут нет Петьки с Пашкой, вот было бы им счастье! – Она порылась в карманах и протянула пони кусочек сахара.
– Вы будто знали! – усмехнулась толстая девица-коновод.
– Всегда ношу с собой в надежде встретить лошадь. И вот – пригодился!
«Бывают же такие девочки, – удивился он. – Которые не выходят из дому без куска сахара для лошади…»
А вслух произнес:
– Кажется, я понял, зачем тебе медведь! На случай встречи с ребенком?
Она вдруг опять мучительно покраснела («Потому что ты угадал!») и воскликнула:
– Алеша, вы такой хороший! Можно я вам его подарю? На память?
– Ты что, решила со мной распрощаться? – испугался он, растерянно принимая синего медведя. – Какое еще «на память»? С чего это? Подожди!
Тут она заплакала в три ручья, чем еще больше его напугала, а потом неожиданно повернулась и шагнула к нему. Как в пропасть. Со всей бесповоротной решимостью своего маленького и слабого сердца.
И он, конечно, подхватил ее над этой пропастью, обнял и прижал к себе вместе с синим мишкой – крепко-накрепко, навсегда…
Девица-коновод мрачно закурила и дернула пони за уздечку:
– Идем, Борька! Тебе такое нельзя! Ты еще маленький!
– Санька, это удивительно! Ты же знаешь, как я всех боюсь, а с ним с первой секунды стало так спокойно, будто я сижу в моем лесу и знаю, что тут меня никто-никто, совсем никтошечки не найдет… Он отдал все деньги дедушке у помойки – и я поняла, что он добрый. И взрослый, и смелый. Ну а потом он угадал про самое важное! Про детей, которым плохо, что это для них я шью медведей… И так испугался, когда я сказала «на память». А ведь я просто не знала, что будет, и думала – вдруг мы больше не увидимся, а он такой хороший, и так хочется, чтобы что-то от меня осталось с ним… А он испугался по-настоящему, и я увидела, что зачем-то, совершенно непонятно зачем, нужна ему. Представляешь?! Это же чудо!
– Пора пришла – она влюбилась. А я уж думала, тебя никто никогда не расколдует, спящая ты моя красавица!
– Ну почему же? Ведь я и Алексея Степановича любила.
– Это не то. Мы его всем классом любили.
– Да! И он, кстати, тоже Алеша! Представляешь! Опять чудо!
– Чудо, чудо, не кричи, мальчишек разбудишь!
Глава третья Алексей Степанович
Алексею Степановичу, их бедному учителю математики, она подарила своего самого первого медведя, сшитого вкривь и вкось из разных, не подходящих друг другу обрезков, подобранных в кабинете труда. Даже одинаковых пуговиц для глаз не нашлось: один был желтым, другой – черным.
«Какой кособокенький. Совсем как моя жизнь…» – Алексей Степанович посадил мишку в карман вязанной кофты и больше с ним не расставался.
Его разноцветными лапами он держал указку и мел, носом-бусинкой тыкался в ошибки в тетрадях. С ним, напиваясь, беседовал по-французски в злачных рыгаловках, около которых они всем классом посменно дежурили, чтобы, якобы случайно, встретить его вечером и проводить домой.
Алексей Степанович был идеальной жертвой, сплошным поводом для насмешек. Он входил в кабинет и каждый раз спотыкался о порог, рассыпая тетради, в которых вместо двоек и замечаний красными чернилами писал мудреные стихи или рассуждения о смысле жизни. Его сутулая спина всегда была испачкана мелом, а синяя кофта, которую он носил не снимая, либо надета наизнанку, либо застегнута наперекосяк.
По всем законам подростковой стаи они должны были его затравить. Но этого не случилось. Непостижимым образом, не делая ничего, только тихо спиваясь и вдохновенно объясняя не нужную никому тригонометрию, он вошел в их дикие, неприрученные души, перевернул уже усвоенные представления о мире как месте всеобщей грызни, где либо ты, либо тебя, и научил самому главному – состраданию. «Милости к падшим», как он любил цитировать.
Он входил в класс, спотыкался, и завсегдатай детской комнаты милиции Кокшаров, похожий на стриженого неандертальца, бросался собирать разлетевшиеся по полу тетради. А рыжеволосая оторва Санька тихонько подзывала к себе и привычным материнским жестом поправляла задравшийся воротник синей кофты.
Алексей Степанович смущенно улыбался – и невозможное, невероятно неуместное сияние обрушивалось на их бедные головы. Будто ангел сошел с небес. Или прямо тут, на втором этаже обшарпанной типовой школы, зажглась сверхновая звезда.
– На меня только Пашка так смотрел, когда был совсем маленьким. Петька – нет, тот с самого начала – трудный человек, а Пашка столь оглушительно радовался, едва я появлялась, сиял навстречу… Но Пашка-то – родной младенец, а тут чужой взрослый…
– Мне кажется, это ангел был. Все же ангелы, когда рождаются. Только потом портятся. А он каким-то чудом уцелел…
– Ага, ангел, у которого трое брошенных детей в разных городах!
– Он же объяснял, помнишь? Хотя совершенно не был обязан оправдываться перед двумя девчонками…
– Ну да, что пытался сбежать от своего недуга, обрывая запутавшиеся связи, начиная с нуля… Но зачем каждый раз надо было замешивать в это ребенка?
– Наверное, он каждый раз надеялся, что ему удалось вырваться. И теперь у него будет нормальная жизнь, как у всех…
– Нет, брошенных детей я никому не прощаю. Даже ему.
– Но сияние-то было!
– Было. Это факт. До костей продирало, страшно вспомнить.
Затравили Алексея Степановича не они. А остальные – завучи, училки, бдительные мамаши. Слишком уж он выбивался из рамок. Говорил ученикам «вы», никогда не повышал голос и вообще не пользовался ничем из богатого арсенала подавления, который принято называть «воспитанием».
При этом он не боялся быть другим, не прятал свою вопиющую непохожесть, не заигрывал, не надмевался, не вступал в конфликты, не настаивал на своем. Но дети – «бессердечные, неуправляемые варвары, понимающие только силу», – смотрели ему в рот и чуть ли не молились на этого пьяницу. Что не могло не раздражать заслуженных педагогов, не удостоившихся за весь свой многолетний труд ничего, кроме обидных прозвищ и намазанных клеем стульев.
Тем более Алексей Степанович не стремился слиться с коллективом, но делал это без всякого вызова, искренне не замечая тех вещей, которые всем остальным казались жизненно важными. Он не участвовал в битвах за «часы», саботировал собрания и учебные планы, а зарплату совал в карман брюк, рассеянно скомкав и даже не пересчитывая, словно миллионер.
В пивных, где он проводил все свободное время, Алексей Степанович тоже был чужим. Не матерился, не качал права, стоял себе в углу ко всем спиной и писал многоуровневые формулы на мятых салфетках. К тому же всегда был чисто выбрит (этот, последний, рубеж он не сдавал ни при каких обстоятельствах), да еще имел привычку, захмелев, говорить с самим собой по-французски (восемь лет преподавания в Тунисе), за что собутыльники не раз торжественно отводили его в милицию как шпиона.
Они с Санькой чаще других оказывались провожатыми Алексея Степановича. Ведь им не приходилось врать дома, оправдывая поздние возвращения. Тем двоим было наплевать.
Уроки они делали в школьной библиотеке, до темноты шатались по улицам, глазея на освещенные витрины, грелись в чужих подъездах, катались на трамваях и троллейбусах.
– Помнишь говорящий троллейбус? Ты все время хотела ехать именно на нем, и мы околевали на остановке. Садились, и ты сразу начинала плакать, а я бесилась: неужели мы столько ждали, чтобы пореветь?! За поводом для слез далеко ходить не надо – всегда под рукой!
– Но он так печально говорил: «Я старый, больной троллейбус, помогите мне, купите билет». И всякий раз от этого «помогите» я вспоминала Алексея Степановича и начинала плакать, ведь мы ничем не могли помочь. Только провожать его в черный барак на остановке «Баня», откуда потом так страшно было возвращаться в полной темноте. А он думал, что мы живем где-то поблизости, весь класс.
Алексей Степанович искренне радовался, сталкиваясь с ними у дверей пивной: «О, девочки-сестры из непрожитых лет! Откуда так поздно?» – «С репетиции – от подруги – из кино», – Санька умела врать без запинки. «Хорошо, что я вас встретил, тоска такая, слово некому сказать!»
Однажды Санька набралась смелости и спросила: «Зачем же вы туда ходите, если там плохо?» – «Среди людей все-таки легче, чем дома одному». – «А давайте мы с вами побудем?» – «Чтоб я пил при детях?! Исключено!» – «Мы, Алексей Степанович, и не такое видели!» – «Не буду прибавлять свой минус к вашему». – «Но ведь минус на минус дает плюс!» – «Не в этом случае. Закроем тему».
И Санька послушно заговорила о чем-то другом. Она говорила, не умолкая, говорила за двоих, а то и за троих, когда Алексей Степанович слишком тосковал, чтобы поддерживать беседу.
«Что же будет, если Санька замолчит? – улыбался он. – Наверное, небо упадет на землю?»
Санька говорила о том, что было и чего не было, порой просто читала вслух объявления и надписи на заборах, пока Алексей Степанович не прерывал этот поток: «Дитя мое, твоя голова не помойка, не подставляй ее под всякий мусор!» – «Тогда положите туда что-нибудь стоящее!» – «С радостью! Вот слушай…»
И он, оживляясь, начинал рассказывать о гениях и безумцах, которых не было в школьной программе. О художнике-математике, рисовавшем уравнения как пейзажи неведомых планет. О музыканте, создавшем симфонию синуса. О дервишах алгебры и подвижниках анализа.
О волновой генетике и научно доказанной возможности телепортации, о теории относительности и черных дырах. О пересечении параллелей и непостоянстве бесконечности.
О поисках истины, более увлекательных, чем любой детектив. О грандиозных провалах и случайных озарениях. Об открытиях, совершенных во сне. Об ошибках, стоивших жизни.
Порой Алексей Степанович так увлекался, что они не понимали ни слова, будто он говорил по-китайски. Но это было неважно. Его путаные, задыхающиеся монологи неизменно вдохновляли жить, читать, двигаться, становиться.
Он непрерывно курил, кашлял, наступал на шнурки, спотыкался, забредал в лужи. Но при этом с таким восторгом смотрел куда-то сквозь привычно убогий мир, будто видел за ним совсем другую, радостную реальность, полную созидания и смысла. И они, захваченные его воодушевлением, тоже начинали верить, что она есть. Хотя ничего не видели.
Эти проводы домой подвыпившего Алексея Степановича дали им больше, чем все школьные уроки, вместе взятые. Жизнь перестала равняться выживанию. В ней появился непредусмотренный сценарием неделимый остаток, неуловимый сквознячок тайны, словно весть с той стороны… Алексей Степанович, конечно, не был ангелом, но кривая его падения пересекла слабый пунктир их судьбы явно не без умысла высших сил.
Он подбирал палочку и самозабвенно чертил в грязи волны синусоид, полные незыблемой гармонии и красоты. Не обращая внимания на усмешки вечерних прохожих, от чьих недобрых глаз они изо всех сил старались его заслонить своими тщедушными замерзшими телами.
«Икс может быть каким угодно! Он ни к чему не привязан!» – восклицал Алексей Степанович, счастливо глядя на них снизу вверх.
А они усваивали совсем другое, куда более важное послание, которое через него передавала им жизнь, желающая во что бы то ни стало наполнить их обесточенные души: «Ты можешь быть. Ты можешь проявиться. Ты можешь».
Но потом приходилось возвращаться. Голодные, с мокрыми ногами и пылающей головой они проскальзывали в прокуренную комнату и тут же гасли, как опущенные в воду лучины, сталкивались с теми двумя, в присутствии которых хотелось одного: развоплотиться, исчезнуть…
– Каким же он был изначально, если после долгих лет самоуничтожения и растраты его хмельная болтовня казалась нам касанием ангельских крыл?
– Или какими нищими были мы, если смогли на годы вперед напитаться рассказами пьяного чудака.
– А помнишь: «Всё – чудо, все – чудаки», «Ты не один», как мы писали мелом на стенах вдоль всей его дороги домой?
– Конечно! Даже на дверях пивной – чтоб уж наверняка заметил! Его любимое, что он всегда твердил: «Мир ловил меня, но не поймал…»
– Интересно, успел ли он увидеть?
– Да уж… Никогда не забуду: первый урок математики после каникул. Звонок, в коридоре наступает тишина, и в этой тишине – каблуки. Тяжелый, четкий шаг, как на плацу. И у меня от этого звука все холодеет… хотя, казалось бы, мало ли кто идет. Но нет, дверь с грохотом отлетает в стену, и никто не спотыкается на пороге, и вместо неземного сияния возникает этот крашеный комбат в обтягивающем леопардовом платье и сообщает, что она – новый учитель математики…
Все замерли, только преданный неандерталец Кокшаров пересилил страх и пробубнил: «А Лексей Степаныч куды делся?»
И она сказала, чеканя каждое слово, с явным удовольствием вбивая их, как осиновый кол: «Уволен за пьянство. Больше не придется у пивных дежурить».
Незадолго до этого он где-то забыл кособокого мишку и страшно убивался. Все повторял, что не медведя, а себя потерял. И что «теперь – совсем кранты». Вот они и придумали подбодрить его надписями на стенах. Но было уже поздно. Ничто не могло предотвратить катастрофу.
– Как в тот день мы летели к черному бараку, надеясь успеть. И как злорадствовали соседские старухи, когда мы тщетно стучали в закрытую дверь. И как мы не могли поверить и каждый вечер ходили проверять, не вернулся ли. Хотя куда ему было возвращаться? К кому? К ведьмам этим? Или к двум сопливым девчонкам?
– А я надеялась, что он вернется. Хотя бы попрощается с нами. Он же не мог не знать, что мы его любим. Вот я и ждала. И шила ему нового медведя. Шью, ничего не вижу от слез, иголка в палец, кровь, а остановиться страшно. Только шить или у черного барака мерзнуть.
Она верила, что он придет проститься. И он пришел. Во сне. Алексей Степанович стоял в полной темноте и мелом чертил на этой темноте, будто на доске, привычный крест координат.
«Здесь наши пути расходятся, – говорил он, ставя еле заметную точку на отрицательной оси. – Мне – вниз и налево, по направлению к минус бесконечности. Вам – в другую сторону. Дойдите хотя бы до нуля, девочки-сестры, выберетесь из минуса. На большее я не надеюсь. Ноль – это будет уже огромная удача. Желаю вам нуля».
Вскоре после этого математического сна они увидели свет в окнах Алексея Степановича.
– Заколотили в дверь как безумные, а там – чужие люди. И женщина, которая нам открыла, стала ругаться, что мы ребенка напугали. Малыш и правда ревел на весь дом. И ты вдруг присела и этого мишку, впитавшего твои слезы и кровь, ему протянула…
– Да, в тот вечер, потеряв последнюю надежду, я вдруг поняла, что буду делать дальше. Шить мишек и дарить их плачущим детям. Будто Алексей Степанович на прощание подарил мне смысл. И укрытие… И представляешь, Алеша об этом догадался!
– Какой еще Алеша?
– Ну этот, новый…
Глава четвертая Лес
Новый Алеша в день их знакомства так и не попал на работу. Они гуляли до сумерек, грелись пустым чаем у него дома, потом долго ехали в трамвае на ее окраину, шли пешком сквозь бесконечные одинаковые дворы – к самой последней многоэтажке, где кончался город и – за небольшим пустырем – начинался лес.
Было уже темно, но она хотела, не откладывая, познакомить его с лесом. То и дело спотыкаясь и куда-то проваливаясь, Алеша покорно побрел следом, испытывая неловкость и волнение, будто сейчас должен состояться ритуал представления родителям.
Дойдя до двух больших берез, стоявших у тропы как часовые, она остановилась:
– Всё пока. Дальше – потом когда-нибудь.
«Ну вот, – загрустил он. – Привела на кромку и испугалась. Хотя чего я хочу, мы же первый день знакомы… Сколько труда и осторожности, сколько внимательности, которой у меня нет, потребуется, чтобы она меня подпустила…»
– Там снег слишком глубокий, – сказала она, будто утешая. – Без лыж никак.
Шло время, они становились все ближе, солнце грело все ярче, сугробы таяли, высыхала непроходимая грязь на просеках, мелели огромные лужи в колеях, и она заводила его все глубже в свой лес, показывала укромные уголки, солнечные опушки, старые пни, молоденькие деревца, которые не просто росли здесь или там, а состояли с ней в таинственных и важных отношениях, и можно было не сомневаться, что, делясь чудесами леса, она дарит ему заповедные пространства своей души, куда еще не ступала ничья нога.
И он принимал ее робкие откровения с благодарностью и даже благоговением, затаив дыхание, чтобы не спугнуть, как бабочку, случайно присевшую на рукав. Выросший в городе, он искренне удивлялся и каплям росы, нанизанным на пружинки мха, и отражению облаков в вогнутых шляпках сыроежек, и кишению головастиков в мутной воде, и голосам неведомых птиц, и чьим-то следам на земле.
– Если бы я могла подарить лес Алексею Степановичу, – сказала она однажды, задумчиво поддевая палкой березовые сережки, плававшие в крохотном озерце, – то он бы, наверное, исцелился. И не исчез. Но тогда у меня самой еще не было ничего, кроме кособокого медведика.
– Может, там, куда он уехал, есть лес?
– Будем надеяться. Что еще остается, – вздохнула она и на секунду сделалась бесконечно старше своего всегдашнего, трогательно-детского образа.
Как-то раз она показала ему дупло, где живет Хозяин Леса.
– Смотри, он сейчас выглянет, увидит, что еще день, и спрячется обратно, – прошептала она, и глаза ее горели веселым огнем, таким редким, что он чуть не заплакал, вдруг ощутив, какой она могла бы быть.
А она приподнялась на цыпочки и вытащила из дупла одного из своих медведей, покрытого древесной трухой, сухими листьями и прочим лесным сором.
– Солнце высоко, – пробасила она смешным «толстым» голосом. – Пойду спать дальше. А вы гуляйте, только веток не ломайте, на жуков не наступайте, цветы не обрывайте! Поняли?.. Ну, отвечай же!
– Поняли, Хозяин, – послушно произнес он. – Хулиганить не будем. Спи себе с миром!
– До этого он только Петьке с Пашкой показывался, – говорила она, уводя его дальше, в глубину леса. – До сих пор вспоминают. Пашка однажды даже письмо прислал: «Дедушка медведь, приходи к нам в гости, есть конфету и играть в машинку…»
– Пришел?
– А как же! Корзину шишек в подарок принес. Они его чаем поили, вареньем перемазали, потом купали, потом портрет его рисовали. Не хотели отпускать. Но он ушел – сказал, что без леса долго не может… А хочешь, тайну открою? Это уже второй Хозяин Леса. Первый пожил-пожил, а потом исчез. Может, белки утащили, может, сороки. А может быть, сам ушел.
– Сам, наверное. Разве могут белки Хозяина утащить, как простую игрушку.
В лесу все виделось иначе. Будто проходило проверку на подлинность. Он заметил, что здесь трудно говорить о работе, деньгах, политике и прочей суете, которой засорена жизнь. Злые и пустые слова застревали в горле, а если и срывались с губ, то вызывали недоумение и неловкость. Так что хотелось сразу же попросить прощения у деревьев и облаков.
В лесу все вставало на свои места. Неважное наконец становилось неважным, пустой шелухой, которую так легко сбросить с себя. Мелочи, раздутые до размеров слона, скукоживались и делались не больше мухи. Правда, эта муха могла неожиданно укусить. Но от нее можно было и отмахнуться.
Мир на всех парах летел в пропасть. Каждый день он читал хроники Апокалипсиса в новостных лентах – и содрогался от ужаса и собственного бессилия… Но в лесу ничего этого просто не было. А были блики солнца на янтарной сосне, шум ветвей, скрип старых деревьев и вечный муравей, несущий свою травинку.
«Но разве я имею право забывать, что там творится? – сомневался он. – Вот так взять и убежать в лес, как раскольник? Не должен ли я что-то делать? Но я никогда не понимал – ЧТО? А теперь не понимаю и ЗАЧЕМ. Человеческое безумие вечно. Я слишком мал, чтобы пытаться противостоять ему где-то там, на внешних полях сражения. Я могу только отстоять себя. Попытаться выиграть внутреннюю битву, в которой лес – мой союзник. Значит, это не бегство, а моя форма сопротивления».
И все же почти каждую счастливую минуту отравляла мысль о необходимости «что-то делать» там, в большой жизни.
– Я чувствую свою личную ответственность за происходящее, – пытался объяснить он, путаясь под ее недоуменным взглядом. – Я не могу просто уйти в лес и радостно жить тут, с тобой рядом. Хотя мне только этого и хочется. Но я не могу… Вот представляешь, будут у меня дети, они вырастут и осознают, в каком мире живут, и спросят: а где ты был, что делал, почему не помешал? И что я им отвечу? Я в лес ходил?
– А что ты должен ответить, чтобы было правильно?
– Не знаю!
– Твое дело найдет тебя, когда ты будешь готов. Обязательно. А пока можно просто жить. Смотреть, дышать, копить силы, которые потом отдашь кому-то…
– А если нет? Если я просто потеряю время, сидя на пеньке? И не сделаю то, что должен? Знать бы только, что…
– Но ты тут. Значит, так надо. Если бы тебе нужно было оказаться на баррикадах, тебя бы привели туда.
– Но, душа моя, я считаю, что я сам хозяин своей судьбы. Сам решаю, куда идти. Сам иду. И сам отвечаю, если не дошел или ошибся в направлении.
– Бедный! Это же неподъемная ноша – думать, что от тебя все зависит! Но ты правда так считаешь? И у тебя не было повода усомниться? Неужели никогда с тобой не случалось чего-то незапланированного? Хорошего или плохого? Когда ты предполагал, что будет – так, а выходило совершенно иначе? Или вообще ничего не ждал – и вдруг…
– Вдруг кто-то останавливается у меня под окнами и начинает плакать от музыки…
– Вот видишь! Ведь нас с тобой явно привели друг к другу!
– Да-да. Как говорил один атеист, не знаю, кого благодарить, но я благодарен.
– И с делом так же будет. Ведь даже ко мне оно пришло.
– Твое дело? Шить и дарить медведей?
– Да, маленькое и смешное, но оно меня наполняет. И оно мне по силам. Я знаю, это капля в море. Ну и что теперь – не давать эту каплю, потому что она мала? Потому что другие могут больше? Кто-то стакан, а кто-то – целую бочку… Но я же не виновата! Мы можем дать лишь столько, сколько нам самим когда-то дали… Да и для моря что капля, что бочка все равно.
– Да, возможно, я слишком преувеличиваю свою значимость, воображая, будто могу что-то изменить. Конечно же не могу! Мир останется прежним. Значит, можно расслабиться и созерцать травинки? Что скажешь, лесной житель? Можно?
– Ну, попытайся.
Он смеялся, обнимал ее за плечи и позволял уводить себя все дальше в лес, испытывая легкость и полную безнадежность, от которой вдруг вырастают крылья.
– А что мне остается? Только поверить тебе. Бросить свой неподъемный багаж – и обрести свободу. Видимо, жизнь загоняет в угол, чтоб научить летать.
И деревья росли, никуда не спешили, являя собой всю отведенную им красоту, и он смотрел на их вершины, плывущие в облаках, и учился жить медленно и мудро. Учился верить, что именно этих несуетных прогулок в пригородном лесу и ждет от него жизнь. По крайней мере, сейчас.
Глава пятая Санька
Санька к их лесным походам относилась снисходительно. Созерцание, молчание – это было не для нее. Она любила шумные компании, многолюдные улицы, большие магазины.
На природе ей почти сразу становилось скучно, и она начинала придумывать себе разные дела: заняться йогой на полянке, собрать мусор, накиданный вдоль тропы, связать из травы кукол и разыграть спектакль для детей…
Санька мгновенно заполняла собой не только любое пространство, что помогало одомашнивать бесконечные съемные квартиры, но и каждого человека, попадавшего в ее орбиту, что несказанно мешало личной жизни.
Ее всегда было слишком много, так что хотелось попросить: нельзя ли чуть-чуть поменьше, потише и, желательно, подальше от меня?
Но за Санькиной экспансивностью скрывалось отчаяние, а ее зашкаливающая жизненная энергия была, увы, не полноценным проживанием жизни, а упрямой живучестью брошенного в воду котенка.
Она ежеминутно отвоевывала себя у небытия, утверждала свое существование, в котором постоянно сомневалась, боролась за присутствие в мире.
– В детстве Санька была моей жизнью. Она жила во мне, жила для меня, жила за меня. Я очень долго не отделяла себя от нее. Мы всегда были вместе, как сиамские близнецы. Она меня не оставляла ни на минуту, понимая, что одна я просто не выживу. Она и в школу пошла на год позже, а меня привела на год раньше, чтобы мы оказались в одном классе.
«Мы обязательно должны выжить, – внушала она мне. – Мы не должны попасть в детдом, умереть от голода, загнуться от тоски, мы должны вырасти и состояться во что бы то ни стало».
У меня часто бывали приступы апатии. И Санька неустанно расталкивала, встряхивала, вдувала в меня жизнь.
А еще она хотела, чтобы мы не просто выжили, но стали лучшими, чтобы что-то им доказать. Только когда я выросла, я освободилась от этого – и мне несказанно полегчало.
Я вдруг поняла, что могу выплыть сама, что незачем гнаться за Санькой, а ей больше не надо меня тащить на буксире, хотя она до сих пор по привычке тащит.
Она всегда говорила: «Барахтайся!» А у меня другой способ держаться на плаву – довериться течению.
Этому я научилась у леса.
Саньку невозможно было не полюбить. Но находиться с ней рядом означало исчезнуть самому, и инстинкт самосохранения отбрасывал от нее каждого, кто подходил близко.
Удержаться рядом с Санькой могли только совершенно «никакие» персонажи, безболезненно подставлявшие свою пустоту под ее извержения и наводнения. Но она слишком яростно хотела быть живой, чтобы терпеть такое мертвящее соседство.
«Общаться надо только с теми, кто восхищает и вдохновляет, – считала она и продолжала очаровываться, разочаровываться, разбиваться вдребезги и восставать из пепла. – Мне не привыкать, я уже могу собрать себя за три минуты, как солдат винтовку».
* * *
По части собирания себя Санька действительно была профессионалом. В дело шло все: психотерапия, медитация, молитва, гипноз, осознанное дыхание, утренние страницы…
Казалось, Санька задалась целью освоить все практики самопознания и самосозидания, изобретенные человечеством. Но это был не спорт и не перфекционизм, как считали окружающие, а жестокая необходимость. Едва она переставала «барахтаться», как пропасть, жившая внутри нее, тут же разевала смрадную пасть, готовясь одним махом заглотить все.
«Нет! – кричала ей Санька. – Не дождетесь! Я есть! Я живая! И я буду жить! Жить!»
А жить означало любить. То есть оставаться открытой. Как рана. Не заживать. Тогда как пропасть непрерывно твердила: «Нет, это слишком больно, слишком опасно, закройся, запрись, умри…»
Пропасть шипела, нашептывала, шепелявила, будто шуршала серая оберточная бумага или жужжала обреченная муха, копошась в старой вате между оконных рам.
Санька ненавидела этот голос. Но жить означало любить. В том числе и свою пропасть. Это была задача на будущее, а пока Санька, содрогаясь от отвращения, опасливо изучала ее края, постепенно привыкая смотреть в лицо бездне.
«Внимание – это зачаток любви. Внимание – это свет сознания», – повторяла она, когда становилось слишком страшно.
Луч внимания, направленный в область мрака, был, разумеется, слишком слаб, чтобы осветить ее всю, но благодаря его присутствию качество тьмы незаметно менялось. И омерзение сменялось жалостью, по мере того как Санька продвигалась вглубь.
Эта чернота была болью, этот разверстый зев – зияющей раной. То есть жизнью. Искалеченной, исковерканной, вывернутой наизнанку, но все-таки жизнью. А не наоборот.
«Исцелиться – значит стать целой. Принять себя целиком. Вместе с чернотой. Только так я смогу впустить туда любовь и изгнать мрак, – корябала Санька в своем „терапевтическом“ блокноте, зажатая между мерно сопящими Петькой и Пашкой, до пробуждения которых оставалось полчаса. – Это будет обычный день осознанности и выживания. День, когда я не дам себе опуститься на дно, не поддамся желанию исчезнуть. Не стану теткой. День, когда я буду живой. День любви, ее постоянных маленьких явлений. Не забыть улыбнуться. Не ругать, не выходить из себя, не говорить гадости. ВСЕГДА ВИДЕТЬ ИХ! Не отлучать от себя, не рвать связь, обнимать и принимать. Быть радостной и легкой… Я справлюсь, я проживу этот день… И когда-нибудь обязательно поеду к морю. Решусь быть счастливой…»
Яростнее всего Санька, лишенная собственного детства, боролась за чужое. Это был ее идефикс, главная точка приложения ее богатырской силы.
Своими руками, из ничего, она создала детский мир сестры, заслонив собой от пропасти, которая зияла на месте родителей.
А теперь непрерывно творила детство собственных детей, заполняя, подпирая, выпрямляя и сглаживая.
У Петьки и Пашки не было отцов – Санька выдумывала им супергероев; не было дома – Санька делала уютной даже лавочку в парке, где им порой приходилось ночевать; не было игрушек – Санька учила их играть с любой палочкой. Она превращала трудности в приключения, нехватку – в возможность, пустоту – в свободу.
– У тебя нет машинки, как у мальчика? Отлично! Зато у тебя есть фантазия – ты можешь сделать машинку из чего угодно! Его машинка сломается, потеряется, наскучит, а с твоей этого не случится никогда!
У Саньки было несколько разноцветных палантинов, купленных за копейки у странствующих индусов. С помощью этих незатейливых кусков ткани она преображала и себя, и окружающее пространство. Занавесить голые окна, спрятать ободранный стол, сделать домик из стульев, укрыть уснувшего ребенка от чужих взглядов, превратить матрац в ложе падишаха, а единственные джинсы – в богемный наряд…
– Хорошо, что у нас ничего нет. Мы все можем сделать сами. Так, как хотим. Мы свободны. У нас на самом деле все есть. У богатых – только богатство, а у нас – весь мир.
По всем законам жизни Санька, выросшая без родительской любви, должна была стать совершенно иной. И этот ее «законный» образ всегда был наготове, как ближайшая и самая естественная реакция на все. Усилием воли Санька вытесняла его в тень, выводила злобно и методично, «будто солдат – вшей», но стоило ей на секунду потерять бдительность, как тьма выпускала щупальца и мазала слизью небытия все самое дорогое: детей, любимых, способность преображать реальность…
В такие минуты Санька хотела лишь одного: лечь и умереть – и, отбиваясь от всего, что вставало на пути этого «желания», ругалась, пинала стены, орала на Петьку с Пашкой, била посуду…
А потом еще неделю щедро кормила свое небытие беспросветным чувством вины, которое лишало сил и требовало того же: лечь и умереть.
Санька яростно сражалась за себя и училась принимать поражения как этап борьбы, но часто отчаивалась, сдавалась и ставила на себе крест.
«Ты – чудовище, – нашептывала ей пропасть. – Ошибка. Тебя не должно быть. Исчезни, уйди, не порти никому жизнь, от тебя только несчастья».
Одно время Санька, пытаясь найти источник пополнения иссякающих сил, подалась в религию, но от этого ей стало еще хуже. Чувство вины выросло в геометрической прогрессии, а арсенал пропасти пополнился образом ада, что поставило Саньку на порог безумия. Она прекратила религиозную практику и больше к ней не возвращалась.
Санька всеми способами пыталась простить тех двоих, что наградили ее таким наследством. Простить, отпустить, перестать тратить жизнь на одностороннее выяснение отношений. Да и что тут выяснять, если и отношений этих никогда не было. Было зияние.
– Я прощала по Нагорной проповеди, прощала по Лууле Виилме, прощала по Луизе Хей, прощала по Свияшу. Я исписывала тонны блокнотов своей ненавистью, а после сжигала их на масленичном костре. Выкидывала в реку любимые кольца, чтобы вместе с ними утонуло непрощенное. Ходила к шаманам, ламам, гипнотизерам, драгдилерам, монахам, психотерапевтам… Но я до сих пор не могу выговорить слово «родители» и вздрагиваю, когда мои собственные дети называют меня мамой…
Материнство было главным Санькиным вызовом и подвигом. Тут, разумеется, пропасть вмешивалась в ее жизнь самым настойчивым образом, предлагая не услышать детский плач, отмахнуться, огрызнуться, посмотреть безразличными глазами.
Саньке приходилось биться за каждый ласковый взгляд, вытапливать из своей ледяной пустыни нежные словечки, которые у других сами льются с языка, выжимать из себя бодрость и радость, когда хочется упасть лицом вниз и никогда не вставать.
– Как я завидую тем, кому все дано изначально. Просто потому, что их детство было наполнено любовью и теперь они, не задумываясь и особо не утруждаясь, переливают эту живую воду в следующий сосуд, – говорила Санька, не замечая, что благодаря ежеминутным усилиям преуспела в непростом труде материнства больше многих благополучных.
Сама она, конечно, считала иначе. Не признавать свои успехи и таланты, не ценить себя, пренебрегать, видеть только плохое – это было для нее в порядке вещей.
Санька упорно отказывалась считать свою одаренность чем-то заслуживающим внимания и заботы. Она рисовала непрерывно: на снегу, на асфальте, на детских ладошках, на манной каше, на запотевших стеклах… Но купить альбом, а главное, выделить хотя бы час на то, что она любила больше всего на свете, этого Санька не могла себе позволить, все время придумывая более важные дела. И дела конечно же не заставляли долго ждать: заваливали с головой, не давая передышки.
Но если речь шла о зарабатывании денег, которых никогда не было, Санька эксплуатировала свой дар нещадно, на самых черных, прикладных работах вроде рисования пивных этикеток, оформления витрин супермаркета или создания логотипа какой-нибудь захудалой конторы.
Проклиная «беспонтовые шабашки», она выкладывалась в них по полной – больше-то было негде, – и вот за пыльными стеклами рядового гастронома в спальном районе вдруг взрывались оглушительными красками ее натюрморты. И окрестные дети убегали с уроков поглазеть на сказочный мир, ворвавшийся в серую реальность.
А реальность в лице озлобленных алкашей и бдительных бабок конечно же брала свое: била витрины, писала жалобы и за шиворот отводила беглецов обратно в общеобразовательный ад.
Но чаще всего проекты зарубались на стадии эскизов самим заказчиком, желавшим «чего-нибудь попроще».
Иногда выпадали Саньке и хорошие заказы: оформить кафе в театральном институте, создать костюмы к перформансу, нарисовать афишу фестиваля уличных театров. Но Санька с ее неверием в себя так изводилась в процессе работы, что жизнь, не желая доставлять ей лишних страданий, переставала стучаться в эту дверь.
Санька не позволила себе получить художественное образование, заменив его никому не нужным рекламным, что дало ей повод шарахаться от любых интересных предложений, оправдываясь «непрофессионализмом».
Рисуя, она всегда чувствовала себя самозванцем и боялась разоблачения. Ей казалось, что некие «настоящие художники», увидев ее работу, скривятся и скажут: «Фи, милочка, куда ты со свиным рылом? Малюй дальше свои пивные банки и не высовывайся!»
«Ты – бездарность, – твердила пропасть. – Тебе нечего дать людям. Ты пуста. Ты черна. Тебя просто нет».
Они познакомились с Санькой в тот же бесконечный предвесенний день, когда он стал Алешей, купил Луи Буссенара за пять тысяч и подарил своей любимой пластмассовое колечко с датой выпечки хлеба.
– Ты ее сразу узнаешь, – сказала любимая.
И он ее сразу узнал. Среди серых стен, под серым небом, в черно-коричневой людской толпе вдруг полыхнула оранжевая юбка, взрыли снежную кашу желтые ботинки с тракторной подошвой. И Санька, обмотанная слингом, обвешенная детьми, с хмурым Петькой за спиной и радостным Пашкой на груди, сияя янтарными глазами и огненной челкой, смеясь и что-то уже рассказывая, предстала перед ними и тут же заполнила собой весь мир.
И он вспомнил (и потом всегда вспоминал, видя Саньку): «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся… и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места…»
Глава шестая Ангелы
– Когда мы были маленькими, Санька рассказала мне про добрых ангелов. Она о них узнала, кажется, от нянечки, которая ходила в церковь. И я до сих пор в них верю, не смейся. Если их нет, кто же нам помогал все это время? Кто нас приводил и до сих пор приводит туда, где мы должны оказаться, как раз в ту самую минуту, когда нам туда надо попасть, если сами мы просто идем по улице и знать не знаем, что сейчас произойдет. Как тогда, когда я плакала от музыки, а ты выбежал и меня поймал…
Постепенно он принял ее язык описания реальности, ему было в общем-то все равно, как это называть: «ангелы», или «синхрония», или «циркуляция информационных потоков». В мире определенно действовали какие-то силы, и если она хотела, чтобы это были непременно ангелы, то ему не стоило труда согласиться.
– Я помню первый раз, когда ангелы нам помогли. Они, конечно, помогали и раньше, но этот случай будто открыл мне глаза. Мы сидели дома одни. Так часто бывало, почти каждый вечер. Но тут и соседей не было. Непривычно тихий коридор, и в темноте белеют запертые двери. А наша – чернеет, как чья-то пасть, она открыта. Я сижу на полу и тихо плачу от голода. Санька нашла на кухне пакет гречки. Но не может зажечь огонь: спички отсырели. Она стоит на табуретке у плиты, чиркает, чиркает – а они только ломаются.
И когда оставалась последняя спичка, Санька запрокинула голову и отчаянно закричала в потолок: «Добрые ангелы! Ну, помогите же! Неужели не видите? Нужно накормить ребенка!»
И спичка зажглась. Как в сказке. Первое чудо в моей жизни…
Я долго думала, что только Санька может их просить. Но однажды она заболела, соседи стали говорить про больницу. Я страшно испугалась, что останусь одна. Санька обняла меня слабыми руками и шепнула: «Не бойся, добрые ангелы о тебе позаботятся».
Дыхание у нее было горячее, как воздух из открытой духовки.
Я вышла в коридор и тихонько, ужасно стесняясь, сказала: «Добрые ангелы, пожалуйста, чтобы нам не разлучаться…» Потом вернулась и легла к Саньке на матрац. Мне стало тепло от нее, потом жарко, еще жарче… И когда приехала «скорая», у нас обеих была температура под сорок, и в больницу мы попали вместе!
Сейчас, когда вопрос выживания уже не стоял настолько остро, ангелы занимались другими – приятными и необязательными – делами. Подсказывали, какого шить медведя, подкладывали на дороге голубую бусину, если ей не хватало именно голубой бусины, делали так, что в магазине всегда оказывалась шерсть нужного оттенка, причем зачастую – единственный моток.
Каждый день ангелы творили десятки мелких, смешных, почти незаметных чудес, которые она всегда замечала – и радовалась.
Главным же делом ангелов было привести ее к ребенку, которому плохо. Это случалось всегда нежданно-негаданно, но именно в тот момент, когда очередной медведь занимал свое место в кармане потертого рюкзака. Ни разу она не оказывалась перед плачущим малышом с пустыми руками. Правда, для этого приходилось шить, не переставая, не отвлекаясь ни на что, как Элиза из ее любимой сказки.
* * *
Она работала в газетном киоске, и свободного времени всегда хватало, поскольку газеты мало кто покупал. Несмотря на это, работу свою она не любила. Но слишком робела перед жизнью, чтобы решиться на перемены.
Они с Санькой устроились в киоск давным-давно, еще в одиннадцатом классе. И тогда это было настоящим спасением. Причем не только от голода. Киоск, где помещались лишь табуретка и обогреватель, стал их крошечным домом, маленьким личным пространством, куда можно было вернуться после школы, спокойно съесть свой сырок с изюмом, сделать уроки, положив на колени тетрадь, помечтать, почитать книжку…
Потом смелая Санька ушла в большое плавание, где был какой-никакой, а все-таки университет, общага, студенческие гулянки, непрерывные влюбленности, по нескольку одновременно, подвальные выставки, квартирники, курсовые…
Это был поворотный момент их жизни. Момент, когда Санька ослабила хватку, выпустила сестру из рук. И та сразу села на мель и осталась там, где была, на многие годы. Газетный киоск на конечной трамвая, прогулки в лесу и шитье медведей. И тихое ожидание того, кто снова возьмет за руку и сдвинет с мертвой точки.
Алеша думал сначала, что работа в киоске угнетает ее монотонностью. Оказалось, дело было совсем в другом.
– Довольно долго мне все нравилось. Но потом я стала задумываться: а что я делаю? Ну, в широком смысле: что я несу в мир? Как раз в это время исчезли все приличные газеты, остались только всякие сплетни. И мне стало стыдно стоять на раздаче грязи. Но уйти не могу. Боюсь. Да и куда меня возьмут без высшего образования?
– А если тебе устроиться в твой любимый магазинчик, где пуговицы и ленты?
– Да, это было бы счастье, но…
На следующее утро Алеша так глубоко задумался, прислонившись к гремящему трамвайному стеклу, что проехал свою остановку. И опять не пошел в офис. Уже почти без угрызений совести. Он гулял по городу, пил кофе на оттаявших скамейках, кормил воробьев, смотрел, как сереет и набухает лед на реке, улыбался серьезным детям с лопатками…
Что-то важное рождалось внутри от соприкосновения с ее неподвижным, тихим миром, и он вслушивался в себя с удивлением и надеждой, еще не имея слов, чтобы назвать и осознать то новое и несомненно живое, что неспешно прорастало сквозь онемение и пустоту.
Это хрупкое состояние, похожее на хокку, невесомое, как игра светотени, совершенно не подходило для сидения в душном пластиковом аду, где он привык проводить дневное время. Мягко, но непреклонно оно вело туда, не знаю куда, обещая взамен всей прежней жизни то, не знаю что.
«Неужели это я? Тот унылый неудачник, презиравший самого себя? Неужели я все-таки решился и сделал шаг в сторону, сошел с накатанной колеи? Или это ангелы толкают меня в спину, как увязший в грязи автомобиль? Как смешно и банально все начинается: уйти с работы, перестать делать то, что никому не нужно. Выбросить мертвое, освободить место для живого. Для того дела, которое должно меня найти…»
Он никуда не торопился, ничего не боялся, ни на кого не оглядывался, неожиданно обнаружив в себе огромные области солнечного света. Он отогревался, оживал и наполнялся силой, испытывая так долго не дававшееся ему счастье.
Просто жить, дышать, слышать и видеть. Сидеть на скамейке и смеяться, подставив лицо ветру. Быть заодно с ручьями, деревьями, воробьями, младенцами в колясках, котами на подоконниках, облаками в вышине…
Он закрывал глаза и прикасался к своему свету:
– Ты здесь? Ты все еще здесь? Ты больше меня не покинешь?
И свет тут же откликался, бросался навстречу, заливал с головой, поднимал и нес куда-то. Главное было – не мешать.
И он не мешал. Доверялся. Это было так просто. Но почему-то стало возможно только теперь.
– Я думал сначала, что это – о тебе. Но оказывается, это – обо мне. Как бы объяснить…
– Я понимаю.
– Да, обо мне. Но и о тебе тоже. И обо всех, кого я знаю и не знаю…
– И об ангелах.
– Наверное, дружочек, тебе видней…
Однажды во время своих блужданий по городу он встретил Саньку, бежавшую с одной работы на другую.
– Эх, завидую вам, влюбленным балбесам, – сказала она, глядя ему в глаза с какой-то даже злостью. – Как бы я хотела вот так же на все забить, шататься по улицам, считать ворон в скверах… И не вскакивать по ночам в ужасе, чем я буду завтра кормить детей…
– Понимаешь, – попытался объяснить он, – ты думаешь, это потому, что я влюбился в твою сестру. Но на самом деле…
– На самом деле ты влюбился в меня? – невесело засмеялась Санька. – Расслабься. Шутка. Я ни на что не претендую. Просто ужасно завидую, правда. Мне кажется, в моей жизни уже никогда ничего такого не случится…
– А ты попроси ангелов, – неожиданно предложил он.
– Ангелов? Они меня уже давно не слышат.
– Может быть, ты давно не просишь?
– Может быть… Может быть…
И Санька ушла, чуть медленнее, чем раньше, задумчиво попинывая блестевшую на солнце льдышку. А он, ведомый своим странным вдохновением, заглянул в швейный магазинчик, еще не зная, что будет здесь делать, на ходу придумывая купить для любимой горсть бубенцов или смешных пуговиц. И легко разговорился с пожилой женщиной, скучавшей за прилавком.
Он был так переполнен, что ему все время хотелось общаться, вступать в отношения с каждым случайно встреченным человеком, ведь ничего случайного не бывает, и люди, соприкасаясь даже на секунду, что-то друг другу дают, сами того не ведая.
Жизнь непрерывно говорит с нами о самом главном: устами знакомых и незнакомых, обрывками песен из проезжающих автомобилей, событиями – большими и микроскопическими, – книгами, фильмами, тряпочными медведями, взглядами идущих мимо людей…
Он открыл это совсем недавно и теперь с жадностью неофита бросался навстречу всему, спеша понять, что именно хочет сказать ему жизнь. Понять и ответить.
– Устала я, – жаловалась пожилая продавщица, – давно хочу уйти, а хозяйка не отпускает, просит подождать, пока кого-нибудь мне на смену найдет, да что-то пока никто не находится…
– Я вам завтра же приведу!
– Да что ты!
И на следующее утро он встретил ее у подъезда, взял за руку и повел:
– Хочу проводить тебя до работы.
– Так это в двух шагах, не стоило в такую рань… Куда ты? Мне же сюда!
– Нет, милая, сюда тебе больше не надо.
– Вот везет же людям! – сказала вечером Санька, узнав о том, что газетный киоск остался в прошлом. – Я тоже хочу, чтобы меня кто-нибудь взял за руку и увел подальше от моей жизни! Мне все здесь не нравится, абсолютно все!
– А куда бы ты хотела?
– Ах, отстань от меня с этими вопросами из тренингов! Чего ты хочешь, о чем мечтаешь, составь список ста желаний, положи под кровать и жди, что сбудется… Это все для тех, у кого есть мужья, родители, какая-то опора в жизни. А не для того, кто в одиночку с двумя детьми, без дома, без денег… Если я позволю себе сесть и помечтать, я буду реветь неделю, а в это время все умрут с голоду.
– Отчего же реветь?
– Он еще спрашивает! Да оттого, что ни одна моя мечта никогда не сбудется, никогда! И оттого, насколько моя жизнь непохожа на то, как бы я хотела жить! И оттого, что это ужасно, ужасно несправедливо! Почему другим все, а мне ничего?
– Санька, хочешь, я снова вернусь в киоск?!
– Что ты, дурочка, что ты! Я очень рада за тебя, прости. Хоть у кого-то из нас все должно сложиться! Обязательно! А то, если мы обе пропадем, то-то им будет радость! Нет-нет, живи и расти, радуйся и радуй, шей своих медведей, утешай детей, гуляй по лесу… Ты все делаешь правильно, ты обязательно должна быть! – Санька рывком обняла сестру, будто швырнула себя в это объятие, и, резко отвернувшись, побежала прочь.
– Мы же собирались в кафе, отметить, – растерянно окликнул Алеша.
Но она, не оборачиваясь, замахала руками и припустила еще быстрей. До детей оставалось сорок минут, а ей надо было снова собрать себя по кусочкам.
– Нет, стоп! – выдохнула Санька, добежав до ограды садика и вцепившись в ржавые прутья, как узник в тюремную решетку. – Неужели я разбилась оттого, что самому близкому человеку впервые в жизни полегчало?! Да, именно! То есть от зависти! Это совсем никуда, это конец… Нет, нет, нет! Я не сдамся!.. Так, добрые ангелы, давайте, у нас полчаса: что мне делать?
И ответ пришел раньше, чем она успела договорить:
– То, от чего бежишь.
Санька зло засмеялась, расцепила пальцы, на которых остались кусочки старой краски, рванула калитку и, усевшись на бортик песочницы, яростно застрочила на обороте рекламной листовки: «Я мечтаю: объехать весь мир. Рисовать каждый день! Чтоб у мальчиков был отец, а у меня муж… Полюбить и, как Амели, нестись на мотоцикле, держа мужа плечи…»
– А Петька меня укусил!
– А Пашка – предатель и ябеда! – закричали ей в оба уха внезапно набежавшие мальчишки.
– Ладно, можно и без мотоцикла, – рассмеялась Санька, комкая бумажку и сгребая в охапку детей.
– Нет, с мотоциклом! – заныл Петька, высвобождаясь.
– И я хочу! – радостно присоединился Пашка, душа ее в объятьях. – Ты купила мотоцикл?
– Все бы вам покупать, купцы несчастные!
– Не купила-а-а… – пустил слезу Петька.
– Нет, не купила… Но – заказала!
– Когда? Завтра?
– Не знаю. Надо подождать, – хитро улыбнулась Санька, с удивлением чувствуя, что тоска не только не набрасывается на нее, но, наоборот, отступает.
– А что мы будем делать сегодня?
– Разумеется, пойдем в кафе! Даже побежим! Догоняйте!
– А помнишь того клоуна? Я грустила, что Санька с нами не пошла, и стеснялась, и от всего отказывалась, потому что дорого… И вдруг он подошел к нам с каким-то простым фокусом. Толстый, усталый, в мешковатых штанах, в ботинках на босу ногу. И мне стало его очень-очень жалко. И Саньку мою несчастную. И мальчишек. И Алексея Степановича… От клоуна тоже пахло вином, и фокус все не получался. И у меня слезы сами потекли, а я боялась их вытирать, чтобы ты не заметил и не расстроился, что я плачу в такой счастливый день… Но ты конечно же заметил.
И дальше – все опять случилось само собой, как бы совсем без его участия, хотя он и был главным действующим лицом. Жестами Алеша попросил у клоуна красный нос, нацепил, раскланялся – и понеслось…
Он вдруг вспомнил, что в школе провел десять лет в амплуа классного шута. И неожиданно вновь поймал это пьянящее состояние легкой придури, наигрыша и полной раскованности, которую дает любой преображающий атрибут, будь то поролоновый шарик на резинке или тетрадный листок с двумя дырками…
Краем глаза он видел, как меняется ее лицо – от изумления к восторгу, – и это поднимало над землей. Тогда он впервые услышал, как смеется его любимая. И это был самый печальный звук на свете. Она смеялась неловко, неумело, словно делала это украдкой или в первый раз.
Клоун – мастерство не пропьешь! – довольно легко ему подыграл, перестроился, а потом даже вошел во вкус, проснулся и сам развеселился.
Когда в кафе ворвались Санька с мальчишками, Алеша стоял на стуле, завернутый в белую скатерть, и ловил в стакан метаемые клоуном кусочки сахара.
– Я тоже хочу! – пронзительно закричал Петька.
– И мне! И мне! – бросился вдогонку Пашка.
Тут наконец официант захлопнул рот и ринулся наводить порядок.
Через полчаса пожилой дядька, почти неузнаваемый без грима, подошел к их столику и положил перед Алешей завернутый в салфетку красный нос:
– Примите скромный дар, коллега. Как говорится, победителю-ученику. Думаю, вам пригодится. У вас талант. Советую отнестись серьезно.
– Серьезно? Вы шутите?! – рассмеялся Алеша. – В цирковое училище поступить на старости лет?
Клоун изобразил лицом нечто непереводимое, что можно было расценивать как любой вариант ответа, и, громко шаркая ногами, побрел к выходу. Два грязно-белых крыла, криво прицепленные к его сутулой спине неудачника, волочились по полу, сметая ресторанный сор.
– Мам, смотри, это ангел был, – завороженно сказал Петька.
– А мы его даже не угостили, – вздохнула Санька, вытирая мороженое, капающее с Пашкиных локтей.
– Дядя Ангел, хочешь аскорбинку? – позвал Пашка. – Мам, почему он не говорит?
– Наверное, не хочет.
– А я хочу! Дай!
– И я! И мне!
– Нет, мне!
– Господи, какие тут ангелы, когда целыми днями только «дай» да «хочу»! Нате, лопайте, только не калечьте друг друга!
Глава седьмая Пропасть
На Благовещение в город вернулись чайки. Их резкие голоса, казалось, раздвинули незримые границы существования, разомкнули замкнутый круг будней. Они кричали тревожно и протяжно, будто кружили не над убогими улицами с оттаявшим зимним мусором, а над спокойной бесконечностью волн. И сердце наполнялось радостной тоской и предвкушением, словно за серыми городскими стенами, знакомыми до последней трещины, действительно лежало море. Моря, океаны, горы и водопады, весь огромный и недоступный, как другая планета, земной шар. А ведь так оно, по сути, и было.
Жизнь звала и обещала, как всегда по весне. Но в этот раз обещание казалось Саньке каким-то до невозможности внятным, будто все уже готово и ждет за поворотом, стоит только шагнуть.
Она просыпалась ночью и вместо привычного ужаса выживания испытывала легкий, похожий на щекотку страх, что приоткрывшаяся дверь захлопнется раньше, чем она догадается, как туда войти.
«Что-то изменилось. Хотя внешне все осталось прежним. Но откуда-то взялась надежда. Прилетела в город вместе с чайками. Я чувствую ее присутствие как новый, еле уловимый привкус во всем. И я боюсь не того, что она меня обманет, а что я ее обману. Проморгаю, не смогу решиться.
Ищу ответ, а он тут, всегда тут. И я его знаю. Но безумно боюсь. Ну, давай же, хотя бы скажи это себе… Да, пока я считаю, что заслуживаю самого худшего, ничего мало-мальски хорошего со мной случиться не может… Да, разгрести завалы, стать целой… Да, принять себя… Вместе с пропастью… Да, поговорить с теми, хотя бы с той… Нет-нет-нет, ни за что на свете, никогда, нет!»
Но чайки, кружа над городом, который давно стал для нее тюрьмою, так настойчиво звали туда, где все иначе, что она не могла просто отбросить от себя эту страшную мысль и жить как прежде. Всякий раз, выходя на улицу, она слышала этот крик – и тут же вспоминала. И ей казалось, что с каждым днем голоса их звучат все злее и все отчаянней, будто жизнь теряет терпение и уже почти готова махнуть на нее рукой.
И в один ужасный день она проснулась и поняла: дальше откладывать невозможно. Это была неумолимая и непоколебимая решимость, взявшаяся словно извне, и Саньке оставалось лишь подчиниться. И не рассыпаться на молекулы по пути туда.
Она машинально одела детей, недоумевающих, почему их миновал ежедневный поединок с колготками, машинально сдала их воспитательнице, что-то, как всегда, говорившей о драках, криках и неумении вырезать из бумаги, и на подгибающихся ногах двинулась к трамвайной остановке.
Она шла медленно, как на эшафот. Проживая бесконечность внутри каждого мгновения, думая одновременно тысячу очень важных мыслей, от которых в памяти не оставалось ни следа, отмечая и перламутровые переливы облаков, и цыганскую девочку, жующую конфету вместе с фольгой, и пыльные мужские боты церковной женщины, подавшей эту конфету, и пластиковый пакет в ветвях липы, рвущийся на ветру, как парус…
Она вдруг захотела, чтобы какая-нибудь мелочь осталась у нее в руках от этого дня, любая глупая безделушка, свидетельство, что все это ей не приснилось. Санька глянула на витрину газетного киоска, один в один похожего на тот, где они с сестрой начинали самостоятельную жизнь, и рассеянно купила птичку из папье-маше.
И тут подошел трамвай.
«А я-то молилась, чтобы он никогда не приехал, сломался по дороге, чтобы наводнение размыло рельсы, дерево упало на провода, лавина сошла на город. Все что угодно, лишь бы не то, что вот-вот произойдет и – я это точно знала – сделает меня свободной. Лишь бы не освободиться, лишь бы остаться в моем обжитом аду.
„Я не смогу“, – кричало все внутри меня.
А чей-то голос, спокойный и слегка насмешливый, голос, который я еще никогда не слышала и который потом будет сниться мне в мучительных снах, этот голос говорил: „Конечно, сможешь!“
И я послушно шла туда, куда не хотела, чтобы в итоге оказаться там, где хочу.
Это был твой голос, да. Но и мой тоже. Это говорила та я, которой еще не было, но которая уже подошла вплотную к границе воплощения. И она – взрослая и свободная – так сильно желала жить, что, пересиливая небытие, диктовала мне – слабой и маленькой, – что говорить и что делать».
* * *
Санька открыла дверь своим ключом и вдруг сообразила, что дома может никого не оказаться и все мучения будут зря, а второй раз она уже ни за что не решится. Но дома кто-то был. На кухне лилась вода и гремела посуда. Санька толкнула дверь ногой, женщина с блеклыми нечесаными волосами вздрогнула и уронила в раковину половник.
Потом она обернулась, и испуг тут же сменился выражением полной незаинтересованности, которое Санька привыкла видеть на этом помятом, как бы непроснувшемся лице. Не произнеся ни слова, женщина снова взялась за посуду, словно последний раз видела Саньку вчера, а не восемь лет назад.
Резко, намного резче, чем хотела, Санька выключила воду и в наступившей тишине громко, опять же чересчур громко, провезла по полу табуретку и уселась на пороге, подперев спиной кухонную дверь.
Женщина скользнула по ней тем же невидящим взглядом, в котором, однако, уже забрезжило некоторое раздражение и даже недоумение, открыла кран и продолжила свое занятие.
«Меня нет, – привычно исчезла Санька. – Нет и никогда не было. Чего это я высовываюсь?»
– Нет! – громко и четко повторила она за голосом, рвавшимся воплотиться. – Посуду вымоешь после. А сейчас ты. Будешь отвечать. На мои. Вопросы.
– Денег нет! – взвизгнула женщина и швырнула губку в раковину.
И в этом было столько страха, даже паники, что Санька рассмеялась. Ее собственный многолетний ужас, ужас длиною в жизнь, выходил из нее со свистом, как воздух из лопнувшего колеса. Она смеялась и смеялась, словно человек, вынырнувший из проруби.
«И кого я боялась? Ее? Я?»
Саньке вдруг стало так легко, что в общем-то можно было уходить. Но она осталась.
«Надо же, как просто. Почему я не сделала этого раньше? Вся жизнь могла бы сложиться иначе».
И она снова засмеялась.
– Поржать пришла? – Женщина судорожно переставляла что-то в кухонном шкафу.
«Господи, как же она меня боится!» – изумилась Санька.
Из шкафа посыпались коробки, одна из них опрокинула чашку, капли бодро застучали по половицам.
Женщина захлопнула дверцу и отошла к окну, на котором по-прежнему не было занавесок.
– Чё те надо? – выкрикнула она с такой силой, будто Санька находилась на другом берегу реки.
– Боишься, – с неожиданным сочувствием произнесла Санька. – Оно понятно. На, выпей. Смотреть тошно.
– А ты не смотри! – с облегчением откликнулась женщина. Жанр кухонных перепалок был ее стихией.
Санька грохнула на стол чекушку, кинула – опять слишком резко – пачку дешевых сигарет.
– Я такое дерьмо не курю! – Женщина разодрала пачку и, прикурив от плиты, жадно затянулась.
– Я в сортах вашего дерьма не разбираюсь! – огрызнулась Санька, злясь, что позволила втянуть себя в бесполезную ругань.
– Ты как с матерью разговариваешь?
– С кем?! С кем я разговариваю? – Санька вскочила. – Повтори!
– Ладно, хорош орать, – присмирела женщина.
Она достала чашку с отколотым краем, плеснула себе водки и одним махом опрокинула в рот. После чего глубокая морщина на переносице заметно разгладилась. Выпить она всегда любила, особенно на халяву. Но не настолько, чтобы этим все объяснялось.
Табуретка на кухне была только одна: та, на которой сидела у двери Санька. Женщина хотела что-то сказать, но передумала, снова выпила и устроилась на подоконнике.
Санька чувствовала, что каждая мелочь намертво впечатывается в память. Пройдут годы, а она будет помнить и грязный пол с облезшей краской, и пятна кофе под столом, и шершавую кожу на руках этой чужой женщины, которая с нескрываемым удовольствием пила и курила, сидя на подоконнике, как студентка.
Казалось, она опять, по привычке, забыла о Санькином присутствии и вела себя так, будто была одна: смотрела в окно, качала ногой, даже мычала нечто вроде песенки.
«Делает вид, что забыла, или правда забыла?»
Саньку стала охватывать паника. Она потеряла преимущество, которое дала ей внезапность появления, и теперь не знала, что делать, каким вопросом разбить это уничтожающее молчание, становившееся все непреодолимее, как заговорить, не сорвавшись ни в грубость, ни в заискивание.
Женщина, сама того не желая, пришла ей на помощь. Допив водку, она заскучала, грузно спрыгнула с подоконника и попыталась открыть дверь, у которой сидела Санька. Табуретка истошно заскрипела по полу. Санька вцепилась в сиденье. С минуту они молча боролись.
И это молчание, это упрямое нежелание тратить на нее слова, даже такие, как «отвали» или «подвинься», эта попытка просто сдвинуть ее с пути, как мебель, вернули Саньке должный градус ярости. Она отшвырнула женщину от двери, молниеносно выхватила из раковины жирный нож и замахнулась.
Женщина расхохоталась:
– Возьми хоть чистый!
– Для тебя в самый раз! – прорычала Санька, чувствуя, что, если та не перестанет ржать, она действительно ударит.
– Ножи-то… неточеные… хлеб не режут… – выдавила женщина между приступами смеха.
Она заходилась, повторяя, как сломанная пластинка: «Неточеные, неточеные…», – и Санька поняла, что это истерика.
Она швырнула нож обратно и рухнула на табурет. Глубоко вздохнула – и тоже рассмеялась, отгоняя наваждение:
– Да… Ну и ну… Кошмар какой-то…
– Ножи-то… неточеные…
Санька вдруг представила, как эта фраза, тысячекратно повторенная, разносится по коридорам психбольницы.
– Ладно, хватит, – холодно произнесла она, вновь обретая свободу. – Сядь, где сидела, и начнем.
Женщина скривилась, но вернулась на подоконник, а главное – перестала смеяться.
Медленно, взвешивая каждое слово, Санька задала вопрос, который вынашивала всю жизнь:
– Как получилось, что мы появились на свет?
– Хочешь узнать, как делаются дети? – ухмыльнулась та.
– Оставь при себе свое плоское чувство юмора. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Мне нужна информация.
– Ну что, что?
– Всё. Кто вы такие? Откуда взялись? Как вас угораздило завести двух детей и не заметить этого? Кто ваши родители? Знают ли они о нас?.. Черт, как такое вообще возможно?! Ладно, он – что взять с мужчины! Но женщина…
– И зачем это?
– Ты должна только отвечать на вопросы!
– Слишком много у тебя вопросов.
– Да!
– А если я не хочу…
– Ты отсюда не выйдешь. Точка. Кончай торговаться. Ты знаешь, я в своем праве. Рано или поздно это должно было случиться.
– Вот пристала! Ну чего тебе надо? Чего?
– Ты слышала. Приступай. Ножи, конечно, неточеные. Но раз в году и палка стреляет.
– Угрожаешь?
– Хорош кобениться! Рассказать все равно придется.
– Да чего рассказывать-то? Я не понимаю! «Кто вы такие? Откуда взялись?» Марсиане, блин! Из космоса прилетели!
– Да, если бы вы были инопланетяне, или наркоманы, или алкаши, или психи, или сектанты – это бы все объясняло. Но вы обыкновенные люди. Из тех, что по улице ходят. Поэтому объяснения нет.
– Чего ты ко мне пристала? Многие вон в роддоме оставляют…
– О'кей, с этого и начнем. Почему не оставила в роддоме?
– Так это… Я в роддом не ходила. Так бы, конечно, оставила, чего уж.
– Дома, что ли, рожала?
– Ну да.
– Ты мало похожа на поклонницу домашних родов. Случайно, что ли?
– Ну. Этот нажрался и захрапел. А он спьяну так спит, иголки втыкать можно. Стало, значит, болеть все – и там, и спина. Я думала, выкидыш, обрадовалась. Я ж до последнего надеялась, что оно как-нибудь само рассосется. Пила, курила, тяжести поднимала. А начало болеть – я легла и терплю, делать-то что? Думала, сейчас перетерплю и забуду.
– Но срок-то уже был не для выкидыша. – Да кто их считал, сроки эти? Жила себе, и все.
– К гинекологу не ходила?
– Сходила один раз с задержкой. Взяла направление на аборт.
– Чего же не сделала?
– Триста рублей стоило, а стипендия семьдесят. Где взять? Этому сказала, он мимо ушей пропустил. Я еще раз. Он развернулся и в другую сторону пошел. Потом через неделю встретились на улице как ни в чем не бывало. И я поняла, что, если еще раз про это заговорю, он опять свалит. А мне не хотелось…
– Такая любовь?
– Что? Не помню. Он раньше другой был.
Веселый. С ним рядом можно было обо всем забыть, обо всех проблемах. И я так привыкла забывать, что боялась остаться одна. Одной сразу делалось страшно – куда идти, что делать? И посоветоваться не с кем. Никого у меня не было. Только он.
– А родители? Мать?
– Ха! Твое счастье, что ты с ней не знакома! Я ушла из дому в семнадцать лет, еще до того как залетела. Он меня сманил, конечно. А я и рада была сбежать. Это был настоящий концлагерь на одного: шаг влево, шаг вправо, ничего нельзя, задернуть шторы, не подходить к окну, мыть руки триста раз в день, потому что кругом микробы… Она возвращалась с работы, сдергивала с плеч белоснежный пуховый платок. И проводила под всеми шкафами и кроватями. Платок должен был остаться идеально чистым. Мыть полы входило в мои обязанности. Но как я ни старалась, закончив инспекцию, она подносила мне к носу запачканный платок… Она не разговаривала со мной. Только отдавала приказания. Когда я собирала вещи, чтобы уйти, с каким же наслаждением я ходила по квартире в грязных ботинках. Руки чесались разнести все в пух и прах. Но я не решилась. До сих пор холодею, увидев кого-нибудь в таком же старорежимном малиновом пальто. Больницу, где она работает, обхожу за квартал. Хотя за эти годы она не сделала ни одной попытки найти меня или хотя бы узнать, что со мной стало. Единственная ее реакция была – сменить замок. Через месяц он уговорил меня наведаться туда за деньгами, но ключ уже не подошел…
– А отец?
– Что ты! Кто бы уцелел с ней рядом?! Я ничего о нем не знаю. Фамилия у меня ее, отчество, боюсь, тоже.
– Как?
– Александровна. И она – Александра.
– Значит, Полторы Ноги назвал меня родовым именем, сам того не зная.
– Ну почему же. Ее весь город знает. Она уже полвека главврач в областной больнице.
– Жива?
– В газетах бы написали…
Они помолчали.
– У тебя еще выпить есть?
– Нет.
– Тогда рассказ окончен.
Санька вдруг почувствовала такую нечеловеческую усталость, что ее неудержимо потянуло лечь прямо тут, на грязном полу, вжаться щекой в черствые хлебные крошки и уснуть. И никогда не просыпаться.
«Если ад есть, то он таков», – подумала она, вставая.
Медленно, медленно, на чужих ногах, по темному коридору, нащупать замок, вывалиться на волю, никогда не вспоминать. Наверное, я смогу этому радоваться. Когда-нибудь. Не сейчас. Дойти бы до остановки. В трамвае поспать.
– Купи водки и возвращайся! – крикнули из окна. – Куда? Магазин – в другую сторону!
Медленно, медленно, переставляя чугунные колонны, завернуть за угол, там лечь, прямо на асфальт, у стены, что это такое, что со мной происходит, что…
– Девушка, вам плохо?
Чья-то крепкая рука у локтя. О, это счастье человеческих рук, хватающих тебя над пропастью. Просто потому, что ты – человек. И он, твой незнакомый спаситель, тоже. О, эта связь, которая сильнее любви и родства. Связь человека с человеком, когда на все остальное уже не хватает сил…
Белый поток, белое скольжение, вниз, вниз, медленно, бесконечно долго, как души спускаются с небес, нет, мне совсем не плохо, мне – хорошо, будто я еще не родилась, будто жизнь меня еще не обманула, и сердце мое, как этот белый свет, в котором я плыву, вниз, вниз, все глубже, все дальше, все темнее…
Санька начала различать очертания, пока не похожие на реальность, но явно ей принадлежащие, размытые млечным свечением, постепенно загустевающие, обретающие плоть и название: угол дома, облако, балкон.
Кто-то тормошил ее, совал таблетки, произносил слова:
– «Скорая»… валидол… приступ… Моя дочь… Это моя дочь… «Скорая»…
Санька улыбнулась людям, еще не видя их, но зная, что они принимают участие в ее судьбе, и сказала не своим, каким-то бумажным голосом:
– Не надо «скорую». Просто обморок. Сейчас пройдет.
– Да в тебе ни кровинки! Краше в гроб кладут!
Санька смогла различить того, кто говорил. Обычный «человек из соседнего подъезда» – с блестящей плешью в сальных волосах, пивным пузом и генетической бдительностью в глазах. Такие ответственные дядечки всегда косо смотрели на Санькины слинги и длинные юбки, подозревая в ней то ли сектантку, то ли наркоманку, то ли просто кого-то классово чуждого и поэтому подозрительного.
Эти пивные наблюдатели отводили душу, ругая Петьку с Пашкой, когда те ковырялись в грязи или бегали по лужам. И Санька, старавшаяся как можно реже контактировать с подобным типом людей, тем не менее всегда вступала с ними в бесполезные споры о воспитании.
Но сейчас все это было неважно. Рядом на лавочке сидел человек, протянувший ей руку, когда она падала, и Санька смотрела на него с благодарностью, и даже сальные волосы, зачесанные поперек голого затылка, не вызывали отторжения.
«Но кто же говорил „моя дочь“? – удивилась Санька, не увидев рядом никого другого. – Неужели та?»
– Здесь кто-то был еще, когда я была в обмороке? Мне показалось, я слышала два голоса: мужской и женский, – а вижу только вас.
– Нет, тебе померещилось, никого, кроме меня, не было. Сама знаешь, какие у нас люди, помирать будешь – не подойдут.
– Но вы же подошли, – улыбнулась Санька. – Значит, не все так плохо.
«Нет, я точно слышала, кто-то произнес „моя дочь“…»
Она тепло попрощалась со своим спасителем, в глазах которого вновь замерцала подозрительность, и медленно пошла к трамвайной остановке, разглядывая весну, которая вдруг оказалась повсюду в мире. Сережки на ивах, одуванчики на каждом свободном клочке земли, ветка черемухи в руке молодой алкоголички…
Саньке вспомнился старенький художник, к которому она давным-давно ходила помогать по хозяйству и так и не решилась показать свои рисунки, но жадно впитывала все, что он, томимый одиночеством и долготой прожитой жизни, рассказывал ей, пока она мыла пол и оттирала пригоревшие кастрюли.
Тогда тоже была весна: семнадцатая для Саньки, восьмидесятая – для него. Опираясь на ее руку, он спускался на лавочку к подъезду – и дышал, дышал, не мог надышаться, улыбался солнцу, радовался воробьям и говорил своим размеренным старомодным голосом, похожим на голоса советских дикторов: «Каждую весну, милая барышня, когда я вижу эти новехонькие доверчивые листочки, я твержу одну молитву чудную: хоть бы мне еще разок их увидеть, всего лишь раз, дальше я не загадываю… только бы еще разок…»
Той, восьмидесятой, весной его молитве уже не суждено было сбыться, ему предстояло умереть осенью, которую, впрочем, он тоже очень любил. А Санька, в бисерных фенечках по локоть, в подобранных на помойке тяжелых ботинках, слушала его с радостным бесчувствием юности, предвкушая что-то свое, бесконечно далекое от старости и смерти.
Она той весной домучивала школу, работала на трех работах, сгорала от очередной любви, собиралась сбежать из дому, как и та женщина когда-то…
Нет, Санька еще не готова была думать о ней, и она продолжила вспоминать старого художника…
Как он, в отличие от нее, ответственно относился к своему дару, как подписывал и протоколировал каждый набросок, которые потом в идеальном порядке хранил в папках по годам на высоких, до самого потолка, этажерках. И Санька часто залезала на стремянку и доставала по его просьбе какую-нибудь из этих папок, чтобы он показал ей «этюд на реке Сылве семьдесят пятого года» или блокнот, куда в течение всего восемьдесят первого года зарисовывал носы людей, ехавших напротив него в электричке…
Он не мог запомнить, как ее зовут, и поэтому называл «милой барышней». Не мог сам повязать шарф – руки не поднимались, – и она укутывала его привычным жестом, как много лет подряд собирала в школу младшую сестру, застегивала пуговицы, оправляла воротник, завязывала шапку. А он стеснялся, шептал: «Не надо, я сам…» – и все норовил поцеловать на лету ее быструю руку в разноцветном бисере.
Он часто рассказывал ей истории из своего детства. Его собственные внуки жили кто в Москве, кто в Нью-Йорке, и Санька неожиданно оказалась единственным поверенным этой долгой и одинокой старости. Про себя она называла его «дедушкой», бессовестно присваивая все, что он говорил, заполняя воспоминаниями этого трогательного чужого старика пустовавшее пространство родовой памяти.
И вдруг выясняется, что у нее есть своя собственная «бабушка», с которой в любой момент можно поговорить. Вот она – остановка «Областная больница», они каждый день ездят мимо нее в садик. Ну нет, еще одна семейная сцена, еще одно молчание длиною в жизнь, нет, она не готова об этом думать…
Так вот, «дедушка» – художник. Он много раз рассказывал, как во время войны кто-то спас его, мальчишку, втянув в вагон, когда он висел на поручне снаружи и пальцы уже почти разжимались, а поезд шел по мосту.
«Как я могу плохо относиться к людям, – говорил он всегда, завершая этот сюжет, – если где-то среди них, возможно, ходит и тот, кто меня спас? Я не видел его лица, только жилистую руку, поэтому с тех пор я на каждого человека смотрю с благодарностью, ведь это может быть он, мой неизвестный спаситель, или его дочь, или правнучка, или племянник…»
Санька вспомнила дядечку, не давшего ей сегодня упасть посреди дороги, и улыбнулась:
«Ты был прав, дедушка, насчет людей. А весенние листочки там у тебя теперь круглый год, я надеюсь… И все-таки, кто говорил про дочь?»
– И куда мы направились? – раздался у нее за левым плечом тот же самый (или совсем другой?) голос.
Санька не обернулась, но невольно замедлила шаг, морщась от запаха перегара, долетавшего из-за спины.
– Тебя больше ничего не интересует?
Санька глубоко вздохнула и остановилась. Она уже почти дошла до трамвайного кольца, где паслась на свежей травке привязанная к колышку коза и толстая вагоновожатая красила губы алой помадой, глядя в зеркало заднего вида. Хозяйка козы, совершенно деревенская старуха, сидела на перевернутом ведре и, улыбаясь, одобрительно кивала всему белому свету, в особенности пустым вагонам.
За этим трамвайным пустырем начинались пригорки, поросшие молодым березняком, слева гнездились чудом уцелевшие деревянные развалюхи с палисадниками, где уже зацветала черемуха, а справа шумел лес, в глубине которого в старом дупле жил Хозяин Леса, сделанный руками ее сестры.
Привычное материнское страдание о младшей подступило к горлу.
«Таких, как ты, стерилизовать надо!» – хотела крикнуть Санька в невыразительное лицо, на которое смотреть было труднее, чем на полуденное солнце.
Но вместо этого еле слышно произнесла:
– А сестра? Тоже денег на аборт лень искать было?
– Да я даже нашла. Только он их у меня в тот же день стибрил. У него чутье на деньги было. Везде находил и прикарманивал. Да я не о нем хотела. Он тут вообще и ни при чем.
Санька мрачно усмехнулась.
– Короче. Это летом было. В Крыму. Не помню, город какой – Симферополь или Севастополь. Ты у соседки на даче жила. А мы с этим отдыхали.
И случился там у меня роман с ангелом. Паша звали. Правда ангел был. Смотрел на нас с ужасом, но жалел. Всех жалел, и нас тоже. И слушал. Часами мог слушать. Так, что все ему рассказать хотелось. А глаза – я таких никогда не видела. Ну, ангел, ангел, что ты будешь делать… Мне захотелось за него ухватиться, чтобы выбраться. Но я не поняла. Думала, влюбилась. А раз влюбилась – надо переспать. Ну, и споила я ангела, и когда этот мой захрапел… то я чуть ли не насильно его с собой уложила. Не в постель даже, на газетку, мебели там не было… И когда он поднялся, у него такое страдание на лице было, никогда не забуду. Я так хотела, чтобы он на меня хотя бы посмотрел, но он убежал, не глядя. Я высунулась в окно и видела, как он бежит, будто за ним гонятся дикие звери. Улица была длинная, и он все бежал, бежал, а я все смотрела, смотрела…
– Ты уверена, что это от него?
– Глаза те же. Взгляд.
– Фамилия?
– Не знаю.
– Общие знакомые?
– Что ты! Сто лет прошло.
– Как он выглядел? Что говорил? Где учился? Работал? Кто родители?
– Да что ты вцепилась-то в меня? Откуда я знаю!.. Ну, сразу и пошла, какая нервная! Стой, сейчас что-нибудь вспомню. Учился – что-то с природой связанное, в экспедиции ходил, костер с одной спички разжигал… Высокий такой, стройный, румянец во всю щеку. Глаза огромные. Пристальные. Никто так не смотрел.
– Как?
– Так, что ты сразу чувствовал: ты есть, тебя увидели, тебе рады. И рады не потому, что ты хороший, а просто потому, что ты есть. И на деревья, и на собак он точно так же смотрел. Любил музыку. Дудочки какие-то, флейты. Ездил в Москву, чтобы послушать у кого-то пластинку редкую. На гитаре играл, разумеется. Стихи писал, куда ж без этого… А, вот еще, – вдруг вспомнила, – когда ему говорили «спасибо», отвечал: «Все там будем!» Не знаю, что это значило…
– Это значит, он считал, что все спасутся. – От кого спасутся? Кто?
– Проехали. Дальше.
– Да все уже. Рассказала.
– А этот… э-э… твой мужчина, он как-нибудь реагировал? Что-то говорил?
– Нет. Делал вид, что все нормально. А под конец свалил просто. На несколько месяцев. – Как же ты выживала? Работала?
– А что я умела? В девятнадцать-то лет?
Работала, конечно. Объявления клеила, билеты в филармонию распространяла – только за это копейки платили, если дело до зарплаты доходило. Обычно прогоняли через месяц – и новых дурачков набирали… Как выживала? Соседки надоумили гречку купить. Вот и жрали мы с тобой эту проклятую гречку каждый день.
– Неужто ты меня кормила?
– Попробуй не дай – такой ор поднимала, тут же в стену начинали стучать. Когда я уходила работать, соседи тебя подкармливали. Да и мне иногда миску супа ставили, чего уж. Детскую одежду приносили. Кто-то отдал коляску.
– Ты меня в коляске катала?!
– Иногда. Кричала ты сильно, на улице успокаивалась. А ты думаешь, я вообще ничего для тебя не делала?
– Думаю.
– Ну-ну.
– Про сестру я ничего такого не помню. Чтобы хоть раз хоть что-то…
– Ну, та тихая была, голоса не подавала. Да и ты в нее сразу вцепилась. Даже бутылочку сама совала.
– Тихая, да. Померла бы – не заметили.
– Так. Тебе нужна была информация, ты ее получаешь. На наезды я не подписывалась. Что еще?
– Кто его родители? Знают ли они о нас?
– Я с ними не знакома. Он, вообще-то, деревенский. Но очень этого стыдился. Никому не рассказывал. Говорил, что родом из Таллина. А то. Он же не Федя, он – Тео. Теодор из Таллина, родители погибли. Тут варианты были разные. От двойного самоубийства, обязательно с прыжком со скалы в море, до укуса гремучей змеи… И ведь верили, жалели те, кто плохо его знал, девушки особенно. И я, дура, тоже… А когда он попал в эту мыльную секту и съехал на бабле, тут-то он всех своих родственников и припомнил, собрал мешок зубной пасты и к ним торговать отправился. Мне-то не говорил ничего, конечно. Я слышала, как он начальству докладывал по телефону. Так я и узнала, что мать с отцом у него живы, учителями работают в деревне.
– Как называется?
– Навестить хочешь?
– Деревня как называется?
– До чего ж въедливая! Сосновка, кажется. Но я не ручаюсь.
– Спроси.
– У кого?! У этого?! Мы уже лет десять не разговариваем. Только лаемся.
– И живете под одной крышей?
– А куда деваться?
– Да элементарно – квартиру снимать!
– Я этого боюсь. И не умею… Слушай, мне надоела эта семейная сцена. Давай, вон трамвай подъехал.
Санька на автопилоте двинулась к остановке.
– Смотри, опять не грохнись! – крикнули ей вслед. То ли с издевкой, то ли с запоздалой заботой о потомстве.
Трясясь сквозь залитую солнцем промзону, Санька сжимала в кармане какой-то странный неопознаваемый предмет. Все сжимала и сжимала, пока ладони не стали влажными. И все никак не догадывалась вынуть руку и посмотреть, что же это такое. И, только выйдя на своей остановке, она взглянула на газетный киоск и вспомнила, что у нее в кармане птичка из папье-маше.
– Простите, что там у вас за птица? – Скворец, – ответила киоскерша, не охотно отрываясь от кроссворда.
Глава восьмая Дело
А она все шила своих медведей. Пряталась в них, уходила от жизни, от отношений и перемен. Она боялась. И страх был слишком велик, чтобы жить. Только тут, на крохотном островке из пуговиц, лоскутков и маленьких терпеливых движений, она знала, что делать.
И когда он появился и остался рядом – большой, смешной и такой надежный, – ей стало еще страшнее. Он никуда не торопил, ни к чему не принуждал, почти не расспрашивал, но само его присутствие делало необходимым выход из укрытия. А это было выше ее сил.
Не имеющая, в отличие от Саньки, навыка самоанализа, она тосковала, стыдилась, страдая от невнятности своих состояний, пыталась в чем-то оправдаться – и в результате оставалась с одним лишь желанием: убежать, спрятаться и всегда быть одной.
– Ты тут ни при чем, – говорила она чуть слышно. – Все дело во мне. Ты не виноват, ты хороший…
* * *
«Как сделать, чтобы она перестала бояться? – думал он, кружа по городу. – Быть терпеливым? Бережным? Закрыть ее в белой комнате с мягкими коврами, куда не доносится ни один звук, как в одном странном романе? Мне кажется, ответ совсем в другом. Она перестанет бояться обычной жизни, только если столкнется с чем-то по-настоящему страшным. Столкнется и сумеет через это пройти. А если не сумеет? Нет! Все страшное с ней уже случилось, хватит на семерых, больше не надо… Но тогда чем помочь? Что, в конце концов, мне делать? Не могу же я сидеть сложа руки!»
И чтобы делать хоть что-нибудь, он старался всячески ее развлекать. Водил на концерты духового оркестра в парке, добывал приглашения в театр или кино. Но она оживала только в своем лесу.
– Вам нужно общее дело, – предлагала Санька, почуявшая, что сестра вот-вот упустит данный ей шанс на нормальные отношения, и изо всех сил включившаяся в их спасение.
– Но я не умею шить медведей! – восклицал Алеша. – Я и так знаю о них больше, чем мне хотелось бы! Ведь это единственное, о чем с ней можно говорить! О медведях, ангелах и лесе. В ангелах я несведущ…
– Значит, остается лес! – подхватывала Санька.
– Но я и так хожу туда как на работу! Не могу же я бесконечно разглядывать травинки! Точнее, уже и это могу. Но что толку?
– Общее дело в лесу…
– Хворост собирать? Грибы с ягодами?
– Ну, например, мусор. Она всегда переживает, когда мусорят в лесу. Вот и предложи прибраться!
– Ужасно романтично!
– Не до жиру! А вообще, главное – послать запрос в космос. Ну, не смотри на меня как на идиотку! Когда сам не можешь ничего придумать, надо спросить мироздание – и ждать ответа.
– Как спросить?
– Да как угодно! Написать на крыльях бумажного самолетика, положить в бутылку и кинуть в реку, оставить записку в дупле. Способ не имеет значения. Важно само желание или вопрос. И точность формулировок.
– Ты в этом, как я погляжу, большой специалист.
– Приходится.
– И что, срабатывает?
– Стала бы я советовать!
– Давай тогда я через тебя запрос отправлю.
– Попробуй.
– Ну, я хочу, чтобы у нас с ней, ну, в первую очередь у нее, все было хорошо.
– Слишком расплывчато. Что такое «все хорошо»? Что именно должно измениться? Говори конкретно!
– Ну… да, не так-то это просто… хочу, чтобы наши отношения сохранились.
– Сохранились? А они есть? И ты хочешь, чтобы они сохранились в том виде, в каком существуют сейчас?
– Блин, чувствую себя двоечником на экзамене!
– Хорошо, что не разведчиком на допросе! Давай, еще попытка!
– Да, попытка! Это скорее попытка отношений… Так… Я хочу, чтобы она перестала бояться.
– Чего именно?
– Да всего!
– Нет, со словами «все», «ничего» и прочими абстракциями – не работает.
– Какая ж ты въедливая!
– Да, мне это уже говорили… Ты хочешь отправить запрос? Тогда формулируй!
– Чтобы она перестала бояться: жизни, меня, других людей. Чтобы у нас были нормальные человеческие отношения, а не это бесплодное убегание и избегание…
– Что ты вкладываешь в слова «нормальные человеческие отношения»?
– Да ёшкин кот! Тебе бы следователем работать! Ну, доверие, взаимный интерес, общее дело, в конце концов… Теперь довольна?
– Сойдет для первого раза. Хотя можно и дальше уточнять.
– Что же? Передавать будешь?
– Думаю, нас уже услышали. Но если тебе нужно воплощение, чтобы поверить, то, пожалуйста, мне не сложно…
И Санька широким плавным движением, как в кино, выдернула из волос карандаш, вокруг которого держалась какая-то хитрая прическа, перегнулась через парапет набережной и закричала:
– Эй, мироздание! Этот человек хочет, чтобы моя сестра перестала бояться! Жизни! Людей! И его самого! Он хочет найти дело, которое их свяжет! И я хочу! Жить! И чтоб она жила!
Ветер трепал ее огненные волосы и уносил Санькин голос за реку, за синие леса, за желтые поля, за невидимые отсюда горы…
И в этот момент они оба вдруг так сильно проявились в мире, что стали заметны собственной судьбе.
Да, Алеша потом неоднократно сопоставлял дни и часы. И был уверен (хотя даты путались в голове у единственного свидетеля), что именно тогда, когда Санька «отправляла запрос в космос» – в пятницу после обеда, – у пригородной автобусной остановки затормозил белый «мерседес» с тонированными стеклами, из которого неизвестные высадили маленькую светловолосую девочку и, захлопнув дверь, уехали, оставив ее одну.
– Будь уверен, ваше дело уже на пути к вам! – заявила Санька, ловко закручивая волосы. – В награду требую кофе и шоколадку! Только, чур, не растворимый!
– Я знал, что ты придешь, – скажет пару дней спустя человек, который все изменит. – Я слышал, как ты кричала, что хочешь жить. Там, на набережной. И понял, что приехал в этот город ради тебя…
Лес только казался бесконечным. На самом деле это был совсем небольшой островок нетронутой природы, с одной стороны подпираемый новостройками, а с трех других ограниченный городской свалкой, кладбищем и межобластной трассой.
Довольно часто, гуляя, они упирались в эти границы и поспешно сворачивали обратно. Если только на нее не находило странное желание «погостить у мертвых». Алеша скрепя сердце плелся следом, и это было одно из самых трудных испытаний, которые предлагала ему его любовь. С суеверием атеиста, или агностика, как он, следуя моде, себя называл, Алеша тщательно избегал всего, связанного со смертью. Она же, напротив, любила читать имена на могилах, подсчитывать годы жизни, разглядывать старинные лица в овальных медальонах.
– Спиридон Евсеевич Быков и Серафима Кузьминична, его жена, смотри-ка, долгожители, чуть-чуть до ста не дотянули, и она его всего на неделю пережила… А вон, видишь, безымянная звезда покосилась, пошла на закат – лучший памятник человеческой жизни, по-моему…
– Неужели тебе не страшно?
– Мне всегда страшно. И здесь не больше, чем везде. Даже как-то спокойнее. Мертвые уже ничего плохого сделать не могут. Ни мне, ни друг другу…
Увидев людей, она всегда убегала обратно в лес. И Алеша с невыразимым облегчением покидал это место, где невозможно было забыть то, о чем он не хотел ни помнить, ни знать, ни думать.
В те выходные в городе было шумно и многолюдно, как никогда. По бульварам бродили клоуны на ходулях, белолицые мимы в тельняшках дарили прохожим букеты подорожников, бегали на четвереньках странные типы с поролоновыми хвостами… По реке приплыл Корабль Дураков, и все от мала до велика высыпали на улицы, чтобы поглазеть на эту невидаль.
Алешу, разумеется, тоже тянуло влиться в суматошную и слегка сумасшедшую толпу, натянуть красный нос, так и лежавший в кармане, вступить в шуточное взаимодействие с незнакомыми легкими людьми, которые осмеливаются быть смешными…
Но она, конечно, стремилась прочь, морщась от громкой музыки, пугаясь, когда кто-то пытался ее разыграть, и чуть не плача от своей неспособности разделить общее веселье.
Она никогда не звала его с собой в свои уединенные прогулки, он всегда шел сам, без колебаний предпочитая ее остальному человечеству. А тут впервые захотел остаться. И она, почувствовав это, стала горячо уговаривать отпустить ее одну. Устыдившись своего минутного предательства, он еще горячее бросился убеждать ее, что и в мыслях не имел ничего такого, что ему, как и ей, до ужаса хочется в лес…
В результате она расплакалась, замкнулась, чувствуя себя самым несчастным и гадким человеком на свете, почти побежала от него. Алеша неохотно двинулся следом, мрачно завидуя всем этим беззаботным людям, которые могут просто, без всяких трагедий, пойти и поглазеть на клоунов в погожий выходной день.
Однако он отлично знал, что если сейчас ее оставит, то это будет навсегда. Она его уже не подпустит. С облегчением спрячется в свою скорлупу, убеждая себя, что не способна быть с людьми, и бесконечно от этого страдая.
Он запрыгнул в трамвай, сел с ней рядом.
– Оставайся там, не надо быть со мной, я не стою, только все порчу…
Он тяжело вздохнул, взял ее за руку и стал смотреть в окно, как стая белых воздушных шариков, выпущенная из тряпичного балагана, стремительно и плавно поднимается к облакам.
Клоунесса в синем парике, сидевшая на остановке, помахала ему кружевным платочком, и на пыльный бок вагона брызнули из-под ее ажурной шляпки две струйки воды.
– Не надо, не надо, оставь меня, не надо, я не могу, живи без меня, я не хочу быть в тягость…
«Господи, неужели так будет всегда? Этот заколдованный круг – неужели ничто не разорвет? Должно же быть какое-то средство?» – тоскливо думал он, параллельно обмениваясь гримасами с клоунессой, бежавшей рядом с медленно идущим трамваем.
– Я не могу, оставь меня, я мертвая, будь с живыми, не трать на меня силы, это бесполезно, надежды нет, уходи…
Он вдруг ясно представил, как встает, нажимает на кнопку аварийного открывания дверей, выпрыгивает из вагона и убегает в разноцветную толпу, подхватив за руку синеволосую худенькую кривляку в пышном кринолине и красных кедах.
«Чем настойчивей она твердит свое „уходи“, тем сильнее мне хочется уйти. Хотя я люблю ее. Но иногда это невыносимо… Помогите же нам, добрые ангелы, силы небесные, кто-нибудь! Отвяжись ты, синяя бестия, хватит слать мне воздушные поцелуи, я уже сделал свой выбор, теперь выбора нет… Но как же это трудно…»
Наконец трамвай повернул за угол, и праздник остался позади.
* * *
Как назло, в тот день, гуляя, они опять забрели на кладбище.
«Отлично! – внутренне бесился он. – Там все смеются и ловят мыльные пузыри, а я тут медитирую среди могил, получая в награду только „уходи“! За что мне такое счастье?!»
На соседней аллее послышались голоса, и он обрадовался: сейчас она поспешит спрятаться в свой лес.
«Что же, в обществе живых деревьев все-таки лучше, чем в компании покойников, хотя я, конечно, предпочел бы живых людей, желательно веселых и разговорчивых».
Она заметалась в поисках поворота, но тут среди могил раздался детский плач, а в ответ увещевательно забубнил хриплый бас. Она остановилась. Очередной медведь, сшитый из полосатых носков, как всегда, ждал своего часа в кармане рюкзака.
Плач усиливался, переходя в визг, второго голоса уже не было слышно. Она вынула медведя и медленно, словно завороженная, двинулась вершить свое «дело».
Алеша всегда поражался, насколько смелой она становилась, когда речь шла о плачущем ребенке. Как бесстрашно и даже равнодушно вступала в круг любой ссоры, проходила сквозь орущих мамаш, словно их не существовало. Не научившаяся выдерживать даже его любящий взгляд, она приседала и без колебаний заглядывала в глаза незнакомому маленькому человеку, которому было плохо. Не боясь быть отвергнутой, не так понятой, осмеянной. Просто не думая о себе в этот момент.
Они вышли на соседнюю аллею и увидели пару до того странную, что Алеше захотелось повернуть обратно и не вникать в то, что здесь происходит. На корточках, прислонившись спиной к могильной ограде, сидел дочерна загорелый человек в ярко-зеленой вязаной шапке. Он держался за голову, раскачивался из стороны в сторону и выл. Вокруг него валялись растоптанные конфеты.
Крошечная светловолосая девочка, чье лицо было перемазано пылью и шоколадом, стояла чуть поодаль, на дорожке, и истошно вопила. Ее белое «принцессино» платье с блестками было несусветно грязным.
Увидев незнакомых людей, она закричала еще громче, а тип в зеленой шапке затрясся, судорожно зажав уши. Протянутого ей полосатого медведя девочка отшвырнула прочь так неистово, что потеряла равновесие и шлепнулась на колени. От этого она пришла в бешенство: стала колотить землю кулаками, кусать руки, яростно рвать подол платья…
– Это бес! Тот самый, которым попы пугают! – прохрипел загорелый, подняв на них голубые придурковатые глаза.
Половины зубов у него не хватало, кожа на лице была грубой и бугристой, словно кора старого дерева.
Внезапно он натянул шапку до самого подбородка и покатился по земле, обхватив колени и завывая, как раненый пес:
– У-у-у! Больше не могу-у-у! Мне надо в больницу-у-у!
Девочка перестала кричать и засмеялась. Человек в зеленой шапке тут же, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и довольно ухмыльнулся:
– Только так ее и заткнешь.
Краем глаза Алеша взглянул на свою любимую. И увидел на ее лице то самое – беспомощное и паническое – выражение, которое уже не раз заставляло его вмешиваться в то, мимо чего он предпочел бы пройти, не оборачиваясь.
– Это ваша… дочь? – неуверенно произнес он.
– Гы! – загоготал беззубый. – Гы. Гы. Если бы это была моя дочь, я бы не дожил до моих лет. Конфет она не хочет. Конфет!
– Ам хосю, – требовательно крикнула девочка и топнула ножкой. – Дай ам!
– Ой-ё! Щас закатится! Я, промежду прочим, инвалид, у меня контузия! А эта верещит – как сверлом в череп…
– Где ее родители? Почему она с вами? Что произошло?
– Дай ам! Дядя, дай! Тетя… Ам хосю!
– Да вот же конфеты! На! Смотри, сколько тебе набрал! Всех мертвецов ограбил!
– Не хосю! Ам хосю! А-а-а-а-а!
– Моя голова-а-а-а! Моя голова-а-а-а! – закричал контуженный и со всех ног бросился прочь.
Секунду поколебавшись, Алеша побежал следом. Догнать беглеца не составляло труда: тот сильно хромал.
– Ну-ка стой! Выкладывай, что случилось!
– Стою, стою. Только отойдем, за-ради бога. А то башка взорвется. Пусть твоя с ней разбирается. Бабы, они в этом лучше. «Бай, дай, полай» – рехнуться можно!.. Ну, чего тебе рассказывать? Как эта принцесса со мной оказалась? А я сам не знаю. Я спал. Тут недалеко, на остановке… Ты не подумай, я не бомж. У меня вон в Ахтырке домишко есть. Да только тошно там, скука давит. Старухи одни кругом, магазина нет. А я – русский человек, волю люблю, широту. Хоть и нельзя мне – контузия. Но в завязке разве жизнь? Так себе, одно барахтанье. Вот я летом и бродяжу, гуляю, живу вдоволь. А зимой в больницу сдаюсь, под капельницы. Я с малолетства такой – дома не удержишь. Вот, бывало, мы с корешами…
– Тебя как зовут? – поспешно перебил Алеша, зная, что история про корешей может тянуться до вечера.
– Зеленка я. Вишь, и папаха соответственная. – Контуженный сдвинул на затылок зеленую шапку.
– Давай, Зеленка, не отвлекайся. Ты спал на остановке…
– Ну, спал. И тут эта сирена ка-ак заорет! У меня котелок ка-ак лопнет!
– Так откуда она взялась-то?
– А я знаю? Навроде из «мерина» высадили.
– Какого мерина?
– Навроде белого.
– На белом коне прискакала?
– Ты чё, не русский? «Мерин» – «мерс» – «мерседесь бенсь» – дошло теперь? Конь, тоже… Гы…
– Ладно. Высадили из машины. Кто?
– А ты, случаем, не мент? Больно много знать хочешь.
– Вот, кстати, с ментами тебе вообще лучше не встречаться. С такой-то историей: спал, проснулся, ребенок. Пришьют похищение – и дело с концом.
– Да я не дурак, хоть и контуженный. Расклад тухлый, сам вижу. Но куда деть-то ее? Так же кинуть посреди дороги – рука не поднимается. Вот и таскаюсь с ней. Орет, жрать просит. А у меня бабла уже месяц нет. Конфеты вон собрал на могилках. Мертвым не жалко. Ела сначала, теперь не хочет, швыряется в меня конфетами этими…
– Так родители ее ищут, наверное. Ты зачем с остановки ушел?
– За конфетами. А она за мной увязалась. Мы и ночевали тут – у бандита одного в склепе. Ему братки целый дворец отгрохали, я там часто сплю… Ищут ее, думаешь?
– Конечно! Даже звери детенышей не бросают.
– Звери! Ты сравнил! Звери много лучше нас будут!
– Может, и так. Но ищут ее, это точно. Ты подождал хоть чуть-чуть на остановке-то? Вернулись они, наверное. Ну, стала капризничать, психанули, высадили. А потом одумались, обратно приехали. Думаю, так…
– Да мы до вечера там сидели! Никто за ней не возвращался. Потом уж она от голода выть стала, сюда пошли. И назавтра туда таскались. И сейчас. Что ли жить теперь на этой остановке? Она ж есть хочет…
– Да, пойдем. Первым делом накормим. А там посмотрим.
– Да я, брат, того. Я – пас. Берите, решайте. Вы люди образованные, законы знаете… – Говоря это, Зеленка стал воровато отходить в сторону. – А я-то чего – контуженный. Я спал, номеров не запомнил, лиц не видел. Мне с ментами нельзя, я простор люблю, волю…
Тут Зеленка сорвался и побежал, тяжело припадая на одну ногу и зачем-то выписывая зигзаги, будто боялся, что в него будут стрелять.
Гнаться за ним не имело смысла. Тяжело вздохнув, Алеша побрел обратно. Он боялся. Боялся ее лица. Ее взгляда. Боялся, что она не справится, разобьется о чужую боль. Она, такая хрупкая и беспомощная, с готовностью рассыпающаяся на части от малейшего дуновения…
Она сидела на корточках, гладила девочку по голове и что-то шептала на ухо. Лицо ее было спокойно, даже безмятежно. Она улыбалась. Причем не той робкой и просительной улыбкой, словно извиняющейся за свое появление, которую он привык видеть, а совершенно другой, незнакомой, сильной.
Да, сила исходила от нее. И вопреки всем правилам языка, хотелось называть сильными и ее глаза, и улыбку, и даже тоненькие, слабые руки.
«И вот я остановился посреди кладбищенской дорожки, как завороженный глядя на это преображение. Новый человек был передо мной. Чутьем любви я сразу угадал, что случилось. Хотя слова пришли гораздо позже. А в тот момент я просто смотрел, впитывал, упивался и не мог вздохнуть от какого-то острого чувства, похожего то ли на физическую боль, то ли на метафизический восторг. Хотелось плакать, смеяться, бежать к ней, бежать от нее, быть и не быть одновременно. И я продолжал стоять столбом. И созерцать чудо…»
Беспомощный брошенный ребенок, которого она всегда считала собой, внутри которого жила и задыхалась, как в слишком тесной оболочке, вдруг отделился от нее, воплотившись в другом брошенном ребенке. Прошлое, не дававшее места настоящему, отступило и – отпустило. Оказавшись на свободе, она выпрямилась в полный рост и вошла в свой подлинный возраст. Жизнь хлынула в нее, будто в открытый шлюз. Та прекрасная взрослая женщина, которую она, не подозревая об этом, носила в себе как обещание, вдруг проявилась и вошла в мир на правах хозяйки.
– Мисю дай! – Девочка протянула руку в сторону кустов, где лежал полосатый мишка.
– Возьми, – ответила она, по-прежнему улыбаясь, и у Алеши внутри все обварилось от этого незнакомого женского голоса.
Дальше все закрутилось так быстро, будто они попали в бешеный водоворот, где не удавалось ни думать, ни говорить, ни вглядываться друг в друга – только действовать, причем с решимостью, которой в них обоих отродясь не бывало.
Но все это безумное время, вырванный из сонного течения собственной жизни (да-да, именно об этом я просил!), разлученный с собой (наконец-то!), он чувствовал в себе сладкий ожог ее неожиданной женской природы, не успевая вникнуть в случившееся, только обмирая от мимолетных прикосновений к живущей внутри тайне.
«Конечно, я не понимала, что со мной, я о себе забыла – и была счастлива. Но я замечала, что ты стал смотреть на меня иначе: взрослыми, мужскими глазами. И я только по привычке пугалась этого взгляда, но в глубине души была совершенно спокойна. Я знала: так надо, так должно быть. Я вдруг вошла в зону покоя, правильности происходящего, и ничто не могло меня оттуда выбить, хотя вокруг творилось такое, что и сотой доли хватило бы мне раньше, чтобы сойти с ума и разорваться на части… Ты тоже стал другим и тоже не заметил этого. Перестал бояться, взял на себя ответственность за нас. Помнишь, ты все повторял: „Принимая решение, мы принимаем возможность ошибки“, и мне почему-то сразу становилось спокойно…»
Они даже не бросились сразу звонить Саньке, как поступали во всех трудных ситуациях. Ведь Санька, бесконечно воюющая с собственной инфантильностью, с самого детства умела быть взрослой, когда дело касалось сестры.
Они не позвонили ей ни назавтра, ни через неделю.
И некому было удивляться, некому умирать от волнения, что телефон ее день за днем недоступен. Выключен. А то и вовсе выброшен в реку. Чьей-то сильной рукой в белоснежной перчатке.
Глава девятая Ангел
Она увидела его издалека. Да и трудно было не заметить такое диво. Сидит в позе менестреля на белой каменной тумбе, поигрывает веточкой жасмина, крылья свешиваются до земли, а набеленное лицо отрешенно и неподвижно, как у сфинкса.
Веки лениво прикрыты, только ресницы подрагивают. Но взгляд – совсем не сонный: живой и повелительный. Этот взгляд выхватил огненную Саньку из пестрой фестивальной толпы, подцепил ее, словно рыбешку, и повел – осторожно и уверенно, не отпуская.
И она пошла к нему, послушная, сразу же сдавшаяся, холодея и обливаясь потом, на ватных ногах, все ближе и ближе, не в силах отвести глаза.
«Клоун, – бессмысленно сопротивлялась Санька, – con de mime, чего уставился? Мало мне в жизни веселья, еще шуты всякие будут пялиться…»
Она прошла мимо цветного шатра, куда сбагрила на представление Петьку с Пашкой, машинально посмотрела на часы в телефоне («Не пора ли забирать?»), тут же забыла, посмотрела опять, не понимая, что и зачем пытается сделать.
Прошла мимо ярмарочных рядов, где планировала побродить, вырвавшись от детей.
Миновала кафе, в котором еще в начале этой тяжелой (как любая другая) недели обещала себе стаканчик латте. Снова глянула на часы – и опять ничего не увидела, лишь на мгновение передохнула от взгляда, в котором, как соляная кукла в воде, растворялась ее воля.
«Куда меня несет? – успела подумать Санька в эту секунду. – Только клоунов-гипнотизеров мне не хватало!»
И обреченно двинулась сквозь толпу по невидимой проволоке, натянутой между ней и вычурным типом, который милостиво позировал фотографам, поигрывая веточкой жасмина, а сам не сводил с нее глаз, полуприкрытых обманчиво сонными, длинными-длинными ресницами.
Поравнявшись с белой тумбой, на которой тот сидел, Санька сделала движение, чтобы пройти мимо. Она до последнего надеялась, что наваждение рассеется и ей останется лишь смутная горечь. И привычное выживание. День за днем.
Стремительно и плавно, с ненатужной грацией хищника мим спрыгнул с тумбы и вырос прямо перед ней. Высокий, выше Саньки на полголовы, неподвижный и готовый к очередному прыжку. Он смотрел на нее в упор и улыбался этой своей непереводимой улыбочкой, которая потом… Но это потом.
А пока Санька нахмурилась и попыталась обойти неожиданное препятствие. Он засмеялся и поднял оба крыла, беря ее в кольцо, ограждая от всего мира, но не прикасаясь.
И город пропал, исчезли здания и люди, запахи и звуки, осталось только солнце прямо над головой. И этот взгляд – прямой и спокойный. Слишком спокойный и слишком прямой.
Неожиданно для себя Санька заговорила первой:
– Дай пройти.
Мим опять рассмеялся, медленно, по одному, оторвал от своей ветки три цветка и протянул Саньке:
– Раз, два, три. Три дня я буду ждать тебя. На этом месте. Потом уеду.
– Нет! – закричала Санька. – Не надо! Я не хочу! Я хочу одиночества и свободы.
– Раз, два, три, – повторил он, не меняясь в лице.
Потом легко запрыгнул обратно на свою тумбу и замер. Локоть на колене, чеканный профиль, крылья до земли. Изваяние.
Чувствуя себя полной дурой, безобразно счастливой дурой-восьмиклассницей, на которую обратил внимание красивый десятиклассник, Санька повернула обратно, поглазела (ничего не увидев) на ярмарку, даже выпила кофе в своем заветном кафе, забрала взбудораженных детей из шапито…
И все это время в голове у нее крутилась завороженная карусель, отделявшая от мира, как крылья белого мима:
«Не надо мне ничего… Еще одни разрушительные отношения… Теперь все будет по-другому… Наследственная любовь к ангелам… Ничего не надо… Еще один… Но ведь теперь – Ангел, черт побери!»
Одни и те же мысли проносились в обморочном тумане, исчезали, возвращались опять, словно разноцветные кони, на которых, взлетая и опускаясь, плыли перед ее невидящим взглядом надутый Петька и счастливый Пашка, плыли, поднимаясь в седле, скрываясь за поворотом, оборачиваясь через плечо, помахивая капающими стаканчиками мороженого, что-то покрикивая, окликая…
* * *
– У тебя такой вид, будто ты спишь и во сне видишь ангелов, – сердился Петька, повисая у нее на руке, отчего Санька сгибалась до самой земли, как яблоня в урожайный год.
– Нет, будто ты не спишь и видишь ангелов прямо открытыми глазами! – смеялся Пашка и виснул на второй руке, что помогало Саньке выпрямиться.
– Я правда видела сегодня ангела. И он позвал меня куда-то.
– На небо?
– В Золотой город?
– А меня?
– Я тоже хочу-у-у.
– Цыц! Идемте! Я вам его покажу. Точнее, ему – вас.
Мим по-прежнему сидел на тумбе и позировал. Санька прошлась туда-сюда, пытаясь попасть на линию его взгляда. Но взгляд, такой цепкий и неотвязный полчаса назад, теперь являл собой полное «присутствие отсутствия», как говорил кто-то из ее бывших возлюбленных.
Потеряв терпение, Санька яростным рывком подняла и водрузила перед самым ангельским носом сначала набыченного Петьку, потом хихикающего Пашку.
– Ненастоящий, накрашенный, – скучно протянул Петька и отвернулся.
– Он дышит! Он не скульптура! – завопил Пашка и в восторге двинул ангела кулаком по ребрам.
Незаметным движением мим перехватил Пашкину руку, а самого Пашку подкинул над головой, поймал, перевернул, отчего из карманов высыпались камушек, пружинка, а также украденный у Петьки рубль, и прямо так – кверху ногами – вручил ошарашенной Саньке с видом галантного кавалера, дарящего даме охапку роз.
Потом уселся в ту же картинную позу и замер, опустив напудренные ресницы. Только рука в белой перчатке, словно тайком от хозяина, приподнялась и показала один за другим три пальца: «Раз, два, три»…
Но ждать три дня ему не пришлось. После бессонной ночи Санька сомнамбулически отвела детей в садик («Ты опять идешь к бабушке?» – «Нет, к ангелу». – «Я тоже хочу!» – «И я!» – «Да на работу я, на работу, отстаньте!») и медленно пошла туда, где вчера бушевал парад уличных артистов.
Опустевшая набережная была безлюдна и грустна, как всегда после шумного праздника. Только городской сумасшедший с волосами, крашенными хной, отжимался на газоне. Санька рассеянно скользнула взглядом по его узловатым загорелым ногам, потертым джинсовым шортам, которые он носил даже зимой. И вспомнила, как давным-давно этот спортивный старичок показывал двойной тулуп на школьном катке, что-то азартно объясняя им, двум хихикающим девчонкам, и уже тогда, пятнадцать лет назад, казался безумно старым…
Белая тумба, на которой вчера красовался наглый ангел, разумеется, пустовала. Санька увидела это издалека и облегченно вздохнула. Но зачем-то подошла и даже остановилась, облокотившись о чугунную ограду набережной. Над рекой стояли громадные облака, у берега дремал корабль, две чайки кружили над облезлым шпилем речного вокзала.
Санька зевнула, потянулась, закинув руки за голову, и с ужасом отпрянула, задев кого-то локтем. Белый мим стоял почти вплотную к ней, потирал ушибленную скулу и улыбался своей ослепительной, слегка снисходительной улыбкой.
– Ты всегда к людям так подкрадываешься?! – возмутилась Санька.
Осторожно, двумя пальцами, мим приподнял дешевый медальон, висевший у нее на груди.
– Твое сердце так стучит, что украшение подпрыгивает…
– Обязательно используешь это в своей следующей пантомиме!
– Совершенно необязательно.
Он говорил спокойно, без всякого вызова, и Санька, уже набравшая воздуха для очередной язвительной фразочки, которые привыкла выставлять вокруг себя, как копья, вдруг онемела. И сделалась беззащитной.
К счастью, в этот момент у нее в кармане заворчал и заворочался поставленный на вибрацию телефон. Она потянулась, чтобы ответить, и буквально не успела моргнуть, как телефон оказался в руках мима, а в следующее мгновение полетел, продолжая вибрировать, по красивой, словно прочерченной циркулем дуге и булькнул в воду.
– Какого…
– Еще вчера заметил, как он тебе мешает.
– А если…
– Что-то важное ты узнаешь и так.
– Ты просто безответственный придурок! Одно слово – мужчина! А у меня – дети! Мне выживать надо, работать. Может, это был заказ. А вам все равно! Ради красивого жеста по трупам пойдете!
– Трупов за мной не числится, – засмеялся мим. – И ты без телефона не умрешь, поверь.
Он крепко взял ее за руку и зашагал куда-то как человек, имеющий цель. В первую секунду Санька обрадовалась. Потом, конечно, испугалась. Потом заметалась, пытаясь вырваться…
Но сначала – обрадовалась. Это она хорошо запомнила.
Хватка у него была железная. Санька никак не могла освободиться и начала злиться, чувствуя глупость своего положения.
Не останавливаясь, мим покосился на нее то ли сочувственно, то ли насмешливо. Санька и после, уже зная его лицо лучше, чем свое, так и не научилась отличать в нем серьезность от игры. И всегда подозревала издевку там, где, возможно, было простое человеческое участие, в котором она так нуждалась.
Санька наконец выдернула руку и бросилась прочь.
– Я не буду догонять, – сказал он, не повышая голоса. – Но я подожду.
– Зачем? – заорала Санька, круто разворачиваясь.
И в этом крике вдруг прорвалось столько застарелой боли, что Санька захлебнулась, споткнулась и – ей показалось – перестала существовать, мгновенно погребенная под тяжестью всей своей жизни.
Она не видела, как он оказался рядом. Просто в ту же секунду крепкие руки взяли ее за плечи, слегка встряхнули, словно котенка, и вернули обратно в мир.
«Неужели настоящий?» – испугалась Санька, которую, как порывом ветра, обдало его силой.
Она уже давно не позволяла себе таких мыслей. Точнее, она каждый раз так думала, а потом зарекалась и пыталась перестать надеяться.
«Нет-нет-нет, я все это уже наизусть знаю. Ха-ха. Настоящий? Клоун, актер – и настоящий? Смешно! Да он сам не знает, где он, а где его роль…»
– Выключи эту заезженную пластинку, – улыбнулся он. – Выключи и выброси.
– Что? Ты телепат? Ха-ха!
– Эти мысли… – он взмахнул руками, будто белый голубь пролетел над ее огненной макушкой, – одни и те же у всех несчастных женщин. «Верю – не верю». «А что потом?» «Да-да-нет-нет».
– Понятно. Специалист по несчастным женщинам, – потухшим голосом сказала Санька.
– Я ищу счастливых, – заговорил он без всякого выражения, словно с самим собой, и Санька привычно почувствовала, что ее нет. – Но жизнь приводит меня к несчастным. Всегда. Я изучил их вдоль и поперек. Я сам оттуда вырос. И потому мне так интересно счастье. Какое оно, как живет в людях, какова его повседневность… Я видел тебя пару дней назад. Здесь, на набережной. Ты «посылала запрос в космос», а толстый бородатый человек смотрел на тебя разинув рот. Так несчастные смотрят на счастливых. И я подумал – вот оно, наконец. Я приехал в этот город, чтобы встретить счастье. Но нет. Вчера я снова увидел тебя. Как ты мучаешься с этим телефоном и боишься посмотреть мне в глаза. И понял, что ошибся…
– Да, ошибся! – зло перебила Санька. – И сразу это понял, какой умный! Но тогда зачем? Зачем ты меня позвал?!
– Ничего страшного. – Он улыбнулся так светло и ясно, что у Саньки заныло сердце: улыбка была явно предназначена не ей, а чему-то внутри него, с чем он, видимо, вел бесконечную беседу, куда более увлекательную, чем перепалка с очередной страдающей дамочкой. – Я поспешил. Задание остается прежним. Попытаться поделиться. Я приехал сюда не за счастьем. Я приехал за тобой.
– Зачем? – тупо переспросила Санька.
– Ты меня позвала. Ты. Сама ведь знаешь. Перестань метаться. Не трать время. Идем.
– Куда?
– Да куда угодно! – засмеялся он и сделал широкий жест, словно выпуская ее из клетки; руки у него были чертовски выразительные. – Весь мир перед тобой. Выбирай.
Перед Санькой был пустой перекресток, мигающий неисправный светофор, собачья куча у его подножья. Бесплатная поликлиника, от одного вида которой поднималась температура. Желтый дом с белой статуей в нише, где снимал квартиру «толстый бородатый человек», печально и осторожно любящий ее сестру. Обрезанные до стволов измученные липы. Уходящая вдаль улица, унылая и всегда одинаковая, как мысли несчастных женщин. И перспектива выживания. День за днем. И никакого выбора. Только терпение и труд.
– Выбирай, – повторил он, распахивая невидимую дверь.
«Эти руки, – невпопад подумала Санька. – Я обязательно нарисую их полет. Хотя бы по памяти».
И с бесконечной усталостью произнесла:
– Все это, конечно, очень романтично. И лет пять назад я бы сказала, что хочу в Париж. И мы бы доехали стопом до ближайшего райцентра, где ты бы бросил меня – одну, без денег, опустошенную, голодную и, разумеется, уже готовую идти за тобой пешком хоть в Париж, хоть в Усть-Сысольск, хоть в тридевятое царство…
– А теперь? Ты больше не хочешь в Париж? – спросил он опять то ли с участием, то ли с издевкой.
– Я не хочу в ближайший райцентр! И не хочу потом объяснять очередной безотцовщине, что его папа был ангел и ушел искать счастье. Ясно?
Он засмеялся. И Санька снова не поняла, ласково или презрительно он смотрит на нее своими пристальными серыми глазами.
– Ясно. Чего же тут неясного? А в Париж-то хочешь?
– Да мало ли чего я хочу! – рявкнула Санька. – Ты же видел! У меня дети! Двое!
– Весомая причина для несчастья!
– Да! Черт бы вас побрал с вашими проповедями! «Мечтай – и все сбудется», «найди себя», «делай, что хочешь»…
– Конечно, гораздо проще страдать!
Мим скорчил скорбное лицо, скрючился в три погибели и поплелся прочь, надсадно шаркая ногами.
– Охо-хо, охо-хо, – приговаривал он старушечьим голосом, – жить на свете нелегко… Охо-хо-хохонюшки, трудно жить Афонюшке на чужой сторонушке…
Он уходил все дальше и дальше, кривляясь, кряхтя и уже не обращая на нее внимания. Чайка надсадно кричала, качаясь на проводах. Санька вдруг вспомнила эту весну: свою надежду и безнадежность, предчувствия и тоску. В голове неожиданно всплыла фраза из какой-то статейки: «Единственное, что на самом деле нужно вашему ребенку, это счастливая мать…»
– Подожди! – закричала она, и чайка сорвалась в небо. – Мне надо забрать из садика Петьку с Пашкой!
Мим выпрямился и одним махом взлетел на крыльцо поликлиники, будто пробка выстрелила из бутылки. Жестами он показал Саньке, что будет ждать тут.
Через час, обвешенная детьми, с пятью тысячами в кармане, взяв из дому только загранпаспорта, сделанные прошлым летом для поездки на море, которая так и осталась мечтой, Санька вновь была у поликлиники. На крыльце ее никто не ждал.
«Я так и зна…»
– Ну что? Уже придумала, куда хочешь? – Он опять бесшумно вырос у нее за спиной, как в кино.
– Я хочу в Париж, – выдохнула Санька, не оборачиваясь, – а потом куда-нибудь к морю, где сосны, поля мимозы и белый песок.
– Умница! Кого-нибудь одного можешь пересадить мне на плечи.
– Я хочу!
– Нет, я!
– Нет, я!
Глава десятая Счастье
Ангел, белый ангел, как тебя зовут? Откуда ты взялся и куда ведешь нас? Разве бывает на свете что-то, кроме серых пятиэтажек, дворов с одинаковыми качелями и сердитых теток, бредущих из магазина «Пятерочка» с пакетами, набитыми дешевой жратвой?
Он смеется, он так много, легко и щедро смеется. Он живой, невероятно, невозможно живой, каждую-каждую секунду, даже во сне.
Он спит, укрывшись своими крыльями. Рядом с ней. Часто обнимает – совершенно невинно, по-братски, чтобы согреть…
Каждое утро она просыпается с мыслью: «Это был сон!»
Но, открыв глаза, видит не унылую съемную квартиру с советским сервантом и пыльной люстрой, которую хозяева не разрешают снять, а незнакомую мастерскую, или кришнаитский храм, или сквот, увешанный черными флагами…
В европейских столицах и в лесной сторожке, в мажорных галереях и на чердаках кто-нибудь восклицает: «Привет, Скворец!» – и распахивает объятия.
– Скворец! Скворец! Мама, ты слышишь? У нашего ангела имя, как у птицы!
Я слышу. Слышу любовь в ваших голосах, мои бедные, изголодавшиеся мальчишки. Слышу любовь в этих выкриках, окликающих его на всех языках мира. Никогда в жизни вокруг меня не было столько любви. Растите в ее лучах, питайтесь ею, пока он длится, этот сияющий, смеющийся наш полет. Но я не могу не думать, как больно будет нам падать.
– Мама, ведь мы никогда не расстанемся? Никогда не вернемся в садик, где злая тетка Маринка заставляет есть свеклу? Мама, так будет теперь всегда?
– А вы у него, у своего Скворца, спросите, я тоже хотела бы знать. И я, к сожалению, знаю. Что это кончится, это не может быть жизнью, по крайней мере, моей…
– Выброси пластинку! – кричит он ей в ухо и смеется, всегда смеется. – Ближайший райцентр мы давно проехали, разве нет? Не трать свои силы – смотри, дыши, рисуй!
И она наконец рисует. Рисует целыми днями, как мечтала всегда. Рисует его летящие белые руки, его непонятное, ускользающее лицо, немного раскосые глаза, тонкие губы, чей вкус ей до сих пор неведом.
Рисует в поездах и на бульварах. Рисует кошек в подворотнях и голубей на площадях. Рисует счастливые и оттого незнакомые лица своих детей, глазеющих, разинув рот, на его очередной фокус.
Рисует прохожих в парках, продавцов на рынках, влюбленных в уличных кафе.
Рисует, когда негде ночевать и не на что ехать дальше. Рисует – и всегда получает ровно столько, сколько им не хватает, и уже почти не удивляется бухгалтерской точности судьбы.
– Только не думай о деньгах, – просит он, склоняясь над очередным заказным портретом. – Думай о человеке, который перед тобой, кто он, зачем и откуда, и о чуде вашей встречи здесь и сейчас. О том, что через полчаса вы разойдетесь в разные стороны, но в его доме останется эхо твоего дара, твой на него, по сути, случайный взгляд.
И она, послушная ученица, смотрит – и учится видеть. Учится не бояться – безденежья и бездомности, незнакомых людей, неведомого завтра, непонятного языка. Учится доверять жизни, просить и принимать подарки.
– Мама, так правда будет всегда?
– Мальчики, я не знаю.
Я боюсь об этом думать. Я думаю только об этом. И не могу дышать. Ведь он неизбежно наступит, наш самый последний день. День, когда он отпустит мою руку и уйдет своей легкой летящей походкой. К другим несчастным. К другой несчастной. Не оглядываясь. Потому что дал мне все, что мог. Потому что я ничего не сумела взять. Неважно.
Он уйдет.
А мне останутся только рисунки. Горы изрисованных альбомов, которые он покупал мне в каждом городе, на каждую заработанную мелочь, первым делом, раньше, чем хлеб и молоко. Вскоре их стало так много, что на блошином рынке нам подарили старый чемодан.
– Давай выбросим? – предлагала я, стыдясь своей изобильности.
– Дурачье! Выброси лучше свою пластинку! – смеялся он и легко вскидывал на плечо этот негабаритный багаж, становившийся все тяжелее.
Когда он случится, наш последний день, мне останется только лечь и умереть, ибо что может быть после? Ничего не может. Ничего не нужно.
Да знаешь ли ты, мой нестрогий учитель, играющий на флейте свой бесконечный «Город золотой», который теперь я точно буду слышать и в раю…
Знаешь ли ты, мой – не мой – общий – ничей ангел, делающий сальто вместо ответа, крепко держащий за руку, не дающийся в руки…
Знаешь ли ты, ловец счастья, такую простую и горькую вещь, с которой я, твоя безнадежная ученица, не в силах сладить, – я никогда не смогу быть счастливой без тебя.
Того ли ты хотел, выпуская меня на волю? Предлагая мне весь мир, упорно и бережно возвращая к моему вечно пренебрегаемому дару.
Наверное, я просто необучаема. И «всегда найду, о чем пострадать». И рано или поздно ты оставишь свои попытки. И уйдешь. Уйдешь. Уйдешь.
– Выброси свою пластинку!
– Привет, Скворец!
– Мы никогда не расстанемся, правда, мама?
С ангелами ни в чем нельзя быть уверенными, дети. Они как ветер: приходят и уходят, когда захотят, и никто не знает, откуда они и куда исчезли.
Неужели это со мной? Неужели это я? Иду босиком по теплой мостовой в кукольном городке у подножия гор? Неужели это мне, как старой знакомой, радостно машет продавец кренделей в белоснежном фартуке? Неужели это мои глаза видят трепет твоих пальцев, преподносящих красивый камушек старушке с двумя белыми косами, что ласково и рассеянно кивает тебе в ответ?
Неужели это я слышу твой голос? Ловлю каждое случайное слово, брошенное, как мячик, через плечо. Даже не мне, а кому-то другому. Ловлю в тщетной надежде узнать что-нибудь о твоем прошлом. И моем будущем.
– У тебя есть мечта, Скворец? – спрашивает печальный клоун, тянущий за собой белый гроб на колесах, в котором лежит его партнерша – роковая красавица-кукла в человеческий рост.
– Ай хэв э дрим, конечно. Я мечтаю к ста годам доделать все дела и спокойно сидеть на веранде в кресле-качалке. Потягивать ром и вязать свитера для пингвинов. Яркие, с красивым рисунком… Чтобы меня не волновало в мире больше ничего. Кроме того что пингвины замерзают, попав в разливы нефти. Понимаешь?..
– Ты весь белый, – говорит старый писатель-негр, любитель Достоевского и покровитель бездомных кошек. – Какой же ты скворец? Аист или чайка…
– Ты забыл о белых воронах, брат, – отвечаешь ты, и вы оба смеетесь.
– Твоя новая подружка, Скворец? – шипит девушка-экскурсовод в соборе Парижской Богоматери, метнув в мою сторону взгляд, слепой от юношеской ненависти.
– Как здорово они уже отросли, Сандра, – произносишь ты, пропуская сквозь пальцы ее золотую прядь.
И в твоем голосе столько рвущей сердце нежности, которая – и мы обе это отлично чувствуем – не имеет ничего общего с тем, что происходит между мужчиной и женщиной.
– Милая, ведь все сбылось. И Нотр-Дам, и длинные волосы… А как же ты брыкалась!
– Извините, – говорит эта крошечная Сандра, когда Скворец и мальчишки поднимаются к химерам, – мне так хочется о нем поговорить, можно? Вы ведь не будете ревновать к девчонке? Тем более он меня совершенно не любит. Точнее, любит, но не так, чтоб ревновать. Понимаете?
– Понимаю, Сандра! Мне ли не понимать!
– А ведь он меня спас тогда, пять лет назад. Мать и бабушка до сих пор на него молятся. Мне было всего тринадцать. И вдруг – онкология, безнадежный диагноз, даже оперировать не хотели – зачем? Как я всех ненавидела! Всех, кто остается. Целыми днями смотрела на серую стену соседнего корпуса и думала одну и ту же мысль: «Ничего не было. Ничего не будет». Да, у кого-то будет весь мир, а у меня только эта серая стена – до самого конца… Но он приходил, закрывал мне глаза руками и повторял одно лишь слово: «Мечтай!» Что за издевательство! Мечтать – мне? Да как он смеет?! Но вскоре я влюбилась. И стала слушаться. Он закрывал мне глаза – и стена исчезала, и я пыталась мечтать… Мне нравился мюзикл «Нотр-Дам», и вот я мечтала, что иду тут, среди этих арок и витражей, – он заставлял все в деталях представлять, даже приносил открытки, – и волосы у меня длинные, как у Эсмеральды… А меня уже практически похоронили, и сама я лысая, как черт… Но вдруг анализы улучшились, мне разрешили операцию, а когда разрезали – выяснилось, что это не рак! Обычная опухоль, ее удалили – и дело с концом!
– А что он делал в онкологии?
– Так вы тоже ничего о нем не знаете?! Ну-ну, это его стиль. Так вот, сначала он ходил туда как родственник. Я это точно знаю! Потом, видно, не к кому стало. Но он продолжал ходить, уже как больничный клоун, уже в гриме. Весь такой белый и сильный. Но я видела его раньше, серого и слабого, как все, кто ждет в коридорах, у них всегда такие лица, будто присыпанные золой… Я там целый год лежала, я его узнала, несмотря на грим. Но он, конечно, это отрицает. Не хочет, чтобы кто-то о нем знал…
– Малышка Сандра, – обронил ты, когда мы выбрались из готической прохлады в шум и солнце и вавилонский говор толпы, – сочинила обо мне целую мифологию.
– Но в онкологической больнице ты работал?
– В каждом мифе есть доля правды. Я там не работал. Я учился быть счастливым.
– Подходящее место!
– Такое предложила жизнь.
– Расскажи!
Но ты уже раскинул руки, словно взлетая, вытянулся и закружился под мелодию старого скрипача. И мне ничего не остается, как сесть на бордюр и рисовать… рисовать обветренное лицо уличного музыканта, улыбки прохожих, твои потрепанные крылья, обнимающие весь мир… мою тоску, твою неуловимость, кружение солнечных пятен на серой стене, готовую к броску химеру… тяжелый взгляд малышки Сандры, прижавшейся к собору, взгляд, что становится прозрачнее и легче, пока ты танцуешь, и музыка летит, и я ловлю мгновенье, не отрывая карандаш от белого листа…
Иногда ты сам что-то рассказывал, и я замирала, боясь спугнуть, глотая рвущиеся наружу вопросы, пряча глаза, чтоб не выдали мой неприлично жгучий интерес.
Помнишь деревеньку, где в восемь вечера не было ни одного человека на улице? Мы прошли ее насквозь, неся на руках притихших мальчишек. Это напоминало первые кадры фильма ужасов: запертые ставни, гулкий звук наших шагов по пустым переулкам. Не сговариваясь, мы решили искать другое место для ночлега. Быстро стемнело, дети стали ныть. Мы остановились в чистом поле, усадили их на чемодан.
«Я есть хочу! Придумай что-нибудь!» – захныкал Петька.
И тогда ты протянул руку в темноту и вынул оттуда большую тыкву. Мы смеялись и ели ее просто так, как дыню. Только Пашка не мог успокоиться: боялся «оборотней из мертвой деревни». Я болтала, чтоб его отвлечь:
«Никогда в жизни не пробовала сырую тыкву! Оказывается, вкусно! Даже хорошо, что под рукой нет плиты и кастрюль, я все равно не знаю, что с ней делать!»
«О, а я могу приготовить из тыквы как минимум десять блюд! – неожиданно подхватил ты. – А то и двадцать! Как-то мне целый месяц пришлось ее есть».
«Ты сторожил тыквенное поле?»
«Нет. Однажды мы с девушкой Диной в Казани по случаю купили грузовик тыквы. И у Дины сразу появилось много друзей. Каждый день мы стояли на центральной площади и, когда видели симпатичного человека, подзывали и дарили тыкву. Обычно ведь нет повода познакомиться с тем, кто нравится. А тут – целая тыква! Она была ужасно одинокой, маленькая Дина. И безумно одаренной. По вечерам мы пробирались по вентиляции в оперный театр – там такие огромные вентиляционные ходы – и слушали оперу, наперебой чихая. А потом на лодочной станции, где мы прятались, я варил тыквенный суп, а Дина вставала на табуретку и пропевала всю эту оперу от начала до конца. И все рассказывала мне о своих куклах, скучала по ним. Она была совсем недавно из детства, из дома. Пела на улице в коротком пальто, с голой шеей, как Эдит Пиаф. Я мечтал подарить ей шарф. Ее родные за ней охотились. Она хотела стать певицей, а они считали, что Аллах против. Теперь она выступает в том самом оперном театре. Когда-нибудь я приеду, залягу в вентиляцию и буду слушать, как она поет. Я ей обещал…»
«Да, и каждый раз, выходя на сцену, она поет для тебя, надеясь, что ты ее слышишь…» – прошептала я, потому что Петька с Пашкой уже спали.
Ты посмотрел на меня долгим-долгим взглядом, немного не так, как обычно, усмехнулся и погладил по голове. Легко, почти не касаясь. Будто ветер.
О Лизе я тоже узнала случайно. В одном из маленьких французских городков, чьи многословные названия я уже не пыталась запомнить. На детской площадке, откуда мы никак не могли выманить наших мальчишек, а ты самозабвенно играл в догонялки с целой оравой малышей в одинаковых желтых жилетках. Дети визжали от восторга, Петька ревниво дулся, забившись в деревянный домик, Пашка хохотал, ты летал с горки на горку, воспитательница – смешная девчонка с красными дрэдами – хлопала в ладоши и спрашивала, не хочет ли мой парень поработать у них в садике.
«Я действительно работал в детском саду, – крикнул ты, свешиваясь вниз головой с канатного мостика. – Долго, почти год».
«Зачем же бросил? – всплеснула она руками. – У тебя здорово получается!»
Ты вырос перед ней почти вплотную, так что она попятилась и невольно покосилась на меня, и серьезно ответил:
«Потому что Лиза ушла в декрет. А без нее там было нечего делать».
«Ты – Лиза. – Девчонка протянула мне ладонь. – Я – Мишель».
«Очень приятно», – я, конечно, хотела возразить, но в последний момент удержалась.
«Нет-нет! – засмеялся ты, не испытывая никакой неловкости. – Это вовсе не Лиза!»
«Пардон, – поспешно улыбнулась Мишель, – нам пора… Дети, мы уходим!»
Не успела я восславить небеса за французскую тактичность, подскочил вездесущий Пашка:
«А она была красивая, твоя Лиза?»
«Да, – произнес ты с той же убийственной простотой. – Очень. Похожа на великую княжну».
«То есть на принцессу», – перевела я с тихой яростью.
«Красивее мамы?» – грозно набычился мой верный рыцарь.
«Нет. Не лучше. И не хуже. Просто совсем-совсем иначе. Женщин нельзя сравнивать, мой друг. Каждая из них – самая красивая».
«Нет! Самая красивая – мама!»
«Ты прав, конечно».
Чтобы не заплакать, я ушла к Петьке. Но он прорычал, что к нему нельзя. Тогда я села на качели в самом дальнем углу этой чертовой площадки. Сидела и разглядывала песок под ногами, не в силах пошевельнуться. Вскоре качели стали плавно раскачиваться. Оборачиваться не имело смысла: кто еще умеет так бесшумно возникать за спиной?
«Каждое утро я ходил в тот садик через один ничем не примечательный двор. Специально делал крюк, чтобы туда заглянуть. Там жила девочка, лет тринадцати, наверное. Она любила качаться под музыку. Всегда в таких смешных огромных наушниках. Раскачивается до упора, того и гляди, не удержится и полетит. А сама подпевает, еще и танцевать пытается. Я все хотел угадать, под какую музыку ей так хорошо. Потом Лиза сказала, что тоже ходит любоваться на эту девочку.
А однажды я там видел старушку, которая качалась, отталкиваясь от земли клюкой.
А на заборе висело объявление, написанное цветными мелками: „Потерялся белый единорог. Верните, пожалуйста, Соне, в шкафчик с васильком“.
Это Лиза распространяла вокруг себя волны волшебства…»
Больше всего на свете мне хотелось спрыгнуть с этих дурацких качелей, которые ты качал уже машинально, забыв, что на них сижу я. Спрыгнуть и убежать без оглядки туда, где меня никто не найдет.
Но я осталась. Узнать о тебе хоть что-нибудь. Хоть такой ценой.
Я зажмурилась и почти перестала дышать, чтобы сдержать слезы.
А ты все рассказывал и рассказывал. Я еще никогда не слышала от тебя столь длинного монолога.
«Я увидел ее случайно, проходя мимо. Остановился и проторчал у ограды всю прогулку. Она правда была очень красивой, но дело совсем не в этом. Она могла быть какой угодно. В ней был свет. Ровный, спокойный, совершенно нездешний. Так светятся ангелы. Она смотрела на ребенка, и ее взгляд говорил: „Ты есть. Я тебя вижу“.
И мне стало абсолютно необходимо попасть в этот взгляд, чтобы почувствовать, что и я есть. Назавтра я отворил калитку и просто встал рядом.
„Смотрите, дети, – произнесла она, не изменившись в лице. – К нам пришел ангел“.
С такой же интонацией она говорила: „Смотрите, прилетел жук. Смотрите, цветы раскрылись“.
В ее мире все было одинаковым чудом: и ангел, и жук.
„Можно его потрогать?“ – спросил кто-то, кажется, Игнат, он самый смелый.
„Думаю, да“.
На следующий день я пришел снова. Постепенно она стала давать мне мелкие поручения. Что-то подержать, что-то принести. Потом попросила помочь их укладывать, так как напарница заболела.
И я провел там целый год, совершенно не заметив.
Она говорила, что ей тяжело со взрослыми. Но мною, кажется, не тяготилась. Я был рядом с ней как ребенок, всему учился. По утрам, когда еще никто не пришел, она играла на флейте, стоя у окна.
Свет, покой и сила неискаженной жизни. Я совсем не могу передать это в словах. Ну, будто двадцатого века, да что там – всей человеческой истории, а то и самого грехопадения просто не было. Будто наша жизнь пошла по другому, правильному пути. И в мире нет ни войн, ни болезни, ни смерти…»
Ты замолчал. Качели остановились.
– Это было жестоко, – сказала я, уверенная, что тебя уже нет рядом.
В ту же секунду ты очутился передо мной, схватил за руки, всматриваясь в мое лицо с неподдельной болью:
– Что ты? Ты что? Это лучшее, что было в моей жизни! И я хотел поделиться с тобой.
– Да?! – задохнулась я. – Ну, ты и впрямь… какой-то… ангел!
– На помощь! – заорал в этот момент Петька. – Пашка ест червяка!
В тот день я впервые видела тебя печальным. Ты шел рядом, по-прежнему крепко держал меня за руку, но был словно на другой планете.
– Он что, заболел? – громким шепотом спросил Пашка.
– Я превращаюсь в статую, – сказал ты, замедляя шаг.
Движения стали механическими, ты сложился пополам, как сломанная кукла, опустился на газон и замер, прислонившись к нашему чемодану.
Петька с Пашкой походили вокруг, потрогали, подергали, пощипали, покричали в уши.
– Мне надоела эта игра, давай лучше в прятки! – захныкал Петька.
– Попробуем камнем по голове, может, оживет? – предложил Пашка.
Я подхватила их и понесла прочь, ничего не видя от слез.
Значит, вот так все кончится. Что ж, очень оригинально…
– Куда ты нас тащишь? Пусти! Мне больно! Я тебя в тюрьму посажу! – Это под правой рукой бьется Петька.
– Мама! Булочки! Хочу пять! Нет, двадцать сто! Купи! Ты глухая? – вылезает из-под левой Пашка.
– Булочки! Мы! Будем! Есть! В Париже! – кричу я, снова сворачивая не туда в этих чертовых антикварных переулках.
– Если мадам хочет на вокзал, то мадам нужно в другую сторону, – галантно вмешивается в наш бег высокий полицейский, красивый, как киноактер.
– Как вы догадались? – лепечу я, мешая английский с французским.
– Просто услышал слово «Париж»…
Последний поезд через полчаса. Судорожно считаю деньги. Нет, не хватает.
– Неужели мы уедем без него? – всерьез пугаются мальчишки. – Его нельзя бросить! Его надо расколдовать!
– Пусть Лиза его спасает! – отмахиваюсь я, снова принимаясь считать деньги.
– Но сегодня ты его принцесса! Не уезжай! – чуть не плачет Пашка.
– Надо позвать полицейского, чтоб ее задержал, – решает Петька.
– Точно!
Я вскакиваю, рассыпая мелочь.
Поворот, еще один, нет, кажется, все-таки налево, черт, я никогда его не найду! О, счастье! В соседнем проулке мелькает спина в темно-синей форме!
– Месье так красив! А мне не хватает на билеты! – выкрикиваю я, на ходу соображая, насколько двусмысленно это звучит. – Я художник, можно я вас нарисую?!
Полицейский оборачивается. О нет! Это другой! Сейчас меня точно арестуют! Кто знает их чертовы законы!
– Наверное, вы перепутали меня с Марселем, – добродушно улыбается этот милый пожилой человек. – Но если мадам спешит, то я готов прийти ей на помощь!
– Это будет очень быстрый портрет, – виновато бормочу я, пристраиваясь на ступеньках магазина.
– Мне все равно приятно, – заверяет полицейский. – Уже лет двадцать никто не говорил, что я красив!
Мы бежим по платформе. Осталась одна минута. У самого поезда Петька спотыкается, но в тот же миг и его, и Пашку подхватывают сильные руки и закидывают в вагон. Я успеваю увидеть, как вслед за ними залетает наш старый желтый чемодан. Тут и меня отрывает от земли. Двери захлопываются у нас за спиной.
– Ожил! Он ожил! – вопят мальчишки.
А ты все держишь меня на руках и смеешься, смеешься…
– Надо же! Совсем легкая! Легче чемодана!
– Мы не успели купить билеты! – спохватываюсь я, хотя на самом деле меня это совершенно не волнует.
– Ничего! – говоришь ты, не сводя с меня смеющихся глаз. – Статуям в этом городе хорошо подают! Хватит и на штраф, и на двадцать сто булочек в Париже.
И снова начинаешь смеяться.
– Может, ты меня уже отпустишь?
– Ни за что на свете! – произносишь ты одними губами.
Но я, разумеется, думаю, что мне показалось.
И тоже смеюсь…
Это было мгновение ослепительного счастья. Абсолютного, без примеси моей всегдашней тоски. Но только мгновение. Ужасная мысль, почему-то до сих пор не приходившая в голову, вдруг обрушилась на меня, как ледяная глыба.
– Так значит, ты бросил ребенка?! – закричала я.
– Какого? – Ты все еще продолжал смеяться.
– Ну, она же ушла в декрет, а ты уехал…
Несколько секунд ты молчал, явно не понимая. Наконец до тебя дошло.
– Ты о Лизе? Ты подумала… С ума сойти…
Ты опустился на пол и зажмурился, вжавшись затылком в стену тамбура.
– Опять превращаешься в статую?! Отличный способ!
– Нет, – проговорил ты, не открывая глаз. – Нет, что ты. У Лизы муж. Между прочим, очень ревнивый. Из Саудовской Аравии.
– Шейх?
– Нет, математик.
Не успела я и глазом моргнуть, ты снова вырос передо мной. Взял мое лицо в ладони и произнес медленно и торжественно, как слова клятвы:
– У меня нет детей. И нет жены. Я здесь. С тобой.
– Как нет детей? А мы? – втерся между нами Петька.
– А разве вы с мамой не жених с женой? – возмутился Пашка.
– Билеты, пожалуйста! – сказала, входя, строгая дама в форменной одежде.
Глава одиннадцатая Катя
Девочку звали Катя, ей было три. На другие вопросы она не отвечала.
«Где ты живешь?» – «Тут!» – «Кто твоя мама?» – «Мама дала Кате мисю». – И намертво вцепляется в ладонь, второй рукой прижимая к себе полосатого медведя.
«Нет, я не мама. Я тетя… э… Даша». – «Мама Маса». – «Твою маму зовут Маша?» – «Да! Мама Маса дала Кате мисю»…
На второй день он все-таки сделал то, о чем они потом всю жизнь жалели: обратился в милицию.
– Так нельзя. Она наверняка в розыске. Мы не можем просто взять и присвоить чужого ребенка. Даже если сам ребенок нас уже присвоил.
– Не можем? – переспрашивала она, и вопрос звучал как «а вдруг все-таки можем?».
– Сама подумай! Даже свидетельства о рождении нет. А без него – ни в садик, ни в школу. Наверное, можно купить поддельное. У нас в стране все можно купить, даже космическую ракету. Но я этих ходов не знаю, да и тип мышления у меня другой: обязательно попадусь и в тюрьму сяду. За похищение ребенка и подделку документов. Лет эдак на двадцать… И потом, ее же ищут родители!
Но Катю никто не искал. В базе данных по пропавшим детям ее фотографии не обнаружилось. Их долго и недоверчиво допрашивали, вносили в протокол, что-то бесконечно перепроверяли… Все это время Катя сидела на коленях у «мамы Масы» и бдительно держала ее за шарф.
– Можно она пока поживет у нас? Ну, пока не объявятся родители?
– Конечно нет! Ребенок будет помещен в детский дом!
– Но ведь она к нам привыкла! Ей будет лучше у нас!
– Таков закон.
– Да поймите же! Ее один раз уже предали – те, кто высадил из машины. И она нашла в себе мужество снова поверить людям – нам. И теперь опять ее предать? Она же не понимает ничего про ваши законы! Для нее это будет, что ее снова бросили! И она… Она уже, может быть, никогда никому не поверит. Просто преступление – обрекать человека на такое!
– Девушка, это закон. Эмоции излишни. А кто тут преступник, решаем мы. И мы еще будем проверять вашу невероятную историю о белом «мерседесе». Вы же первые под подозрением, неужели непонятно? Хорошо, если удастся найти вашего Зеленку и он все подтвердит… Хотя он может просто оказаться вашим сообщником…
– Вы спятили? Зачем же мы тогда к вам пришли?
– Испугались. Решили выйти сухими из воды. Всякое бывает. Между прочим, девочка похожа на дочь состоятельных родителей. Простые люди так детей не одевают. Значит, похитили вы ее ради выкупа. Но что-то пошло не так. Первый раз, видимо. Облажались, очканули, теперь пытаетесь красиво выкрутиться…
– Но тогда бы ее искали!
– Да, не сходится. Это всего лишь версия. Чего перепугались? Будем выяснять. По порядку. Что, например, вы делали на кладбище?.. Гуляли, ага. Обычно там все и гуляют…
– Ну, вы даете! Мы вам пропавшего ребенка привели, вашу, можно сказать, работу сделали. А вы на нас же это повесить собираетесь? Может, тогда уж сразу – всю вашу базу данных? А? «Обезврежена банда, много лет воровавшая детей!» Продвижение по службе обеспечено!
– Зря иронизируете, молодой человек. Мы тут шуток не понимаем. Можем ваши слова расценить как явку с повинной.
– Черт меня дернул с вами связаться!
– Мама! Домой хосю! – Катя решительно спрыгнула с колен и потянула их к выходу.
– Да, девочка, подожди. Сейчас тебя отведут домой… Алло, инспектор Павлова, сержант Кривнюк у телефона… Зайдите на минутку… Да мелочи… Нет, не чаю попить… Несовершеннолетнюю в спецприемник отконвоировать… Кажется, не буйная… Справитесь… Ей три года всего…
Но инспектор Павлова не справилась. Дважды ей приходилось трясущимися руками вызывать подкрепление. Катя вцепилась в свою «маму» мертвой хваткой, а когда ее все-таки оторвали, перекусала, наверное, весь отдел «по борьбе с детьми», набившийся в кабинет.
– Да окажите же нам содействие! – взвыла одна из этих теток в форме, пытаясь перекричать дикий Катин визг. – ОМОН, что ли, вызывать?
– Давайте уж сразу регулярную армию! Авиацию и артиллерию!
– Он еще смеется! Чем вы ее приворожили? Медведем этим? Вот подождите, проверим, что у вас там за притон с черной магией!
– «Обезврежена банда колдунов-похитителей»! Это взорвет газеты! В ток-шоу попадете!
– Не беси их! Они ведь на ней потом отыграются!
– Девушка, ну хоть вы нам помогите! Скажите ей что-нибудь, уговорите. Вас-то она послушается!
– А что я скажу? Сейчас тебя уведут и мы больше никогда не увидимся?
– Скажите, что придете завтра!
– Я не буду врать.
– А вы не врите! Вы правда приходите. Я вам пропуск выпишу!
– Выписывайте! – хором воскликнули они.
– И не забудьте сделать всем покусанным прививки от бешенства, – не удержался Алеша.
На следующий день они проникли в филиал ада – с решетками на окнах, вспученным линолеумом и орущим телевизором в холле. Перед огромным плазменным экраном сидели зомбированные дети разного возраста. Кати среди них не было.
После небольшого скандала ее все-таки привели – сонную, вялую, с пустыми глазами. Она села, где посадили, как кукла, и уставилась в пол.
– Чем вы ее так удолбали?!
– Дали успокоительное. И выбирайте выражения! Тут все-таки дети.
– А этот крендель в телевизоре выражений не выбирает! Он уже пятнадцать раз сказал «сволочь»! Вас не заботит, что дети ему внимают разинув рты?
– Вы сюда вломились свои порядки устанавливать?!
– Не вломились, а вошли по официальному пропуску, подписанному доблестным инспектором Павловой! С манерой выражаться, моя фея, у вас тоже – полный вперед!
Алеша никогда не разговаривал таким тоном. Тем более с незнакомыми людьми. Тем более с членами могущественной секты теток, а особенно с представителями ее тайного ордена Чиновниц и Вахтерш. Обычно он моментально терялся от их нахрапистого хамства, чувствуя себя кругом виноватым двоечником, опять забывшим сменную обувь…
Но что-то случилось с ним. Присутствие белоголовой девочки, безучастно сидящей на коленях его любимой, словно меняло химический состав воздуха, превращая кислород в неведомый веселящий газ, от которого хотелось куражиться, выкаблучиваться и переть напролом, горланя боевые песни, как объевшийся мухоморов берсерк. Алеша вытащил из кармана красный клоунский нос – и отпустил себя…
Дурацкой расхлябанной походочкой, подволакивая ноги и размахивая руками, как метроном, он подошел к розетке и выдернул телевизионный провод. В холле наступила оглушительная тишина.
– Хо-хо-хо, – совершенно по-идиотски захохотал он, жеманно прикрывая рот ладонью. – Сволочь! Сволочь! Пятая колонна! Кретины! Кругом враги!
Алеша так похоже изобразил крикуна из телевизора, что лица зомбированных детей синхронно, как подсолнухи, повернулись в его сторону. Только Катя продолжала смотреть в пол.
«Я расколдую тебя, моя бедная принцесса, ты будешь смеяться, хотя бы разок улыбнешься, иначе я разгромлю весь этот казенный ад, куда загнал тебя собственными руками…»
Алеша всучил кому-то из зрителей пульт и знаками показал, что сегодня будет работать телевизором. Для начала он изобразил выпуск новостей, потом – кулинарное шоу. Некоторые дети стали хихикать, другие по-прежнему таращили на него стеклянные глаза.
– А футбол можешь? – хмуро спросил паренек в застиранном спортивном костюме.
Это была богатая тема для пантомимы. Алеша показал и прыгающих на трибуне болельщиков, и дующего в свисток судью, и ругающихся спортсменов…
– Гол! – неожиданно заорал кто-то, и все засмеялись.
– Ну, это уж слишком! – очнулась надзирательница и, стуча тяжелыми каблуками, двинулась к розетке.
Алеша вцепился в другой конец провода, словно собирался перетягивать канат, и жестами позвал на помощь. Несколько разыгравшихся пацанов подскочили и встали у него за спиной.
– Будете платить! – завопила тетка. – За порчу государственной собственности!
– Слышишь, дорогая, – выкрикнул Алеша поверх голов, – нас опять обвиняют в порче и привороте! Определенно, это знаки судьбы!
Он растопырил руки, округлил глаза и медленно пошел на свою противницу, пришептывая и подвывая:
– Встану, помолясь, выйду, перекрестясь, слово мое крепкое, как булат, тридцать три лихорадки… – Алеша немного замялся, подыскивая рифму.
– Тебе в зад! – быстро нашелся паренек, просивший футбол, и дети дружно загоготали.
Волна общего веселья плеснула о каменную стену раз, другой – и вдруг случилось чудо: на отсутствующем лице маленькой Кати промелькнула слабая тень улыбки. Еле заметное движение губ ослепило Алешу, словно вспышка, он подлетел, схватил ее в свои медвежьи объятья и закружился, натыкаясь на стулья.
Паренек в спортивном костюме повис на нем сзади, едва не повалив на пол. И спустя секунду все, кто был в холле, облепили его, как муравьи огрызок, устроив настоящую кучу малу. Тяжелые каблуки возмущенно застучали прочь по коридору.
– За подкреплением ускакала, – отдуваясь, произнес Алеша.
– А завтра ты придешь? – спросил кто-то.
– Если не пустят, будем вести подкоп: мы с улицы, вы отсюда. По рукам?
– Заметано!
– Ты прикольнее телика!
– А это твоя жена? Как ее зовут?
– А фокусы ты умеешь?
– А у тебя есть дети?
– Почему нос красный? От спирта?
– От холода!
– От холода – синий!
– Посторонние! Немедленно покинуть территорию учреждения! Что за балаган?
– У нас пропуск!
– Охрана! Вывести этих – и больше не пускать!
– Требую очной ставки с директором! – кричал Алеша, цепляясь за косяк, отчего государственная собственность трещала по швам. – Эй, полегче, не то завтра натравлю на вас оборотней из Галиции!.. Катя! Катечка! Мы вернемся!..
И начались Алешины хождения по инстанциям. Столько чиновниц и вахтерш он перевидал – можно было бы каталог составить. Он совсем перестал их бояться и даже ловил кайф от мощной человеческой фактуры, доступ к которой открыла ему судьба, явно обладавшая не только мудростью, но и чувством юмора.
Еще во время представления у телевизора он понял, где находится ахиллесова пята теток, – и разил наповал. Любое нарушение привычного сценария, выход за пределы знакомого языка моментально выводили из строя этих допотопных бронированных монстров, и им ничего не оставалось, как тихо поскрипывать челюстью и хлопать липкими от дешевой туши ресницами.
В этот-то момент Алеша и подсовывал им на подпись пропуск в очередной круг ада, по которым моталась Катя и где они следовали за ней по пятам, как два ангела-нелегала, никогда не зная, что будет завтра, но всегда твердо обещая ей, что завтра – будет.
В особо тяжелых случаях, исчерпав «стереотиподробительный» ресурс и чувствуя, что выдыхается (он ведь был еще неопытный, начинающий дурак), Алеша прибегал к безотказному способу. Нацеплял красный нос, устраивался поудобнее и начинал молча разглядывать свою визави, никак не реагируя на то, что она говорила, а потом и верещала нечеловеческим голосом…
Этот гибрид «гляделок» и «молчанки» пробивал самых непробиваемых. Уходя, Алеша щедрой рукой сыпал им на столы барбариски, которыми теперь всегда были набиты его карманы, чтобы подсластить бедным административным матронам горечь столь необъяснимого поражения.
С директором детдома, куда в итоге распределили Катю, у Алеши состоялась настоящая битва магов. В ответ на его колдовской бубнеж о порче и привороте (тяжелое оружие, которым он пользовался только с особо несговорчивыми особами) тетка молниеносно выхватила из-под стола канистру с крещенской водой и вылила на Алешу все пять литров.
Но красноносый клоун, с утра до вечера молча сидящий в углу кабинета и не сводящий с нее задумчивых глаз, взял в итоге и эту неприступную крепость. Они получили разрешение ежедневно навещать Катю под предлогом кружка рукоделия и театральной студии.
С удочерением, о котором они заговорили еще в отделении милиции, дело обстояло неважно. Чтобы вытащить Катю из пасти Молоха, недостаточно было Алешиных побед над его, Молоха, тяжеловесными жрицами. Необходимо было найти и лишить прав ее биологических родителей. Ежедневно навещаемый немым клоуном сержант Кривнюк пока не преуспел на этом поприще, несмотря на все свое нервное усердие.
Правда, ему удалось изловить вольного человека Зеленку, но это лишь окончательно завело следствие в тупик: Зеленка все отрицал, каждые пять минут излагал новую версию событий, включая высадку Кати из летающей тарелки, выл, бился больной головой о ножку стула и постоянно пытался стрельнуть у некурящего сержанта сигаретку либо, на худой конец, десять рублей.
– Ну почему? – стенал доведенный до белого каления Кривнюк. – Почему вы приперлись именно в мою смену? Нет бы заявиться на день раньше – тогда бы Куропаткин вами занимался!..
– Не созрела карма Куропаткина, – разводил руками Алеша, а Кривнюк хватался за голову, неосознанно повторяя жест контуженного Зеленки.
Катя, наделенная, как все дети, чудесным даром приспособления, казалось, уже не находила ничего странного в том, что сама она живет в детдоме, а «мама Маса» и «клоун Леса» приходят к ней на полтора часа в день. Единственное, с чем Катя никак не желала смириться, – это неизбежное присутствие на их свиданиях посторонних, которые постоянно отвлекали «родителей» дурацкими вопросами и даже смели хохотать над фокусами, предназначенными ей одной.
В первый день Катя в знак протеста устроила свою фирменную истерику, слышную на соседней улице, чем поставила под угрозу весь их шаткий проект.
К счастью, Алеша успел сориентироваться раньше, чем до актового зала, где они занимались, добежала возмущенная надзирательница. Когда же сия достопочтенная дама вломилась в открытую дверь и, тяжело поводя боками, остановилась на пороге, чтобы выбрать, на кого обрушить карающую длань, глаза у нее разбежались. Все пятнадцать детей с упоением катались по сцене и верещали так, что закладывало уши.
– Тоже на занятие, моя радость? – тут же подскочил к ней этот проходимец, неведомо как проникший в их солидное учреждение. – У нас разминка: пробуждаем мышцы и развиваем легкие. Этюд «Истерика». Правда, они гениальны? Присоединяйтесь! Кстати, отличная профилактика варикоза и Альцгеймера! Сомневаетесь? А я вот не удержусь!
Он разбежался – и впрыгнул в общее барахтанье, помахав ей на прощание ногой в стоптанном ботинке.
– Беспредел, – растерянно пробормотала тетка. – Куда смотрит начальство?
* * *
Катя, с ее сверхмощным чутьем на людей и обстоятельства, без всяких объяснений поняла, что эта тактика не годится. Истерик она больше не закатывала и все полтора часа мирно сидела на коленях «мамы Маси», перебирая бусины или обрывки тесьмы.
Но ее цепкий взгляд неотрывно, с маниакальной бдительностью следил за всеми соперницами, ковыряющими иголками своих убогих медведей. И стоило какой-нибудь несчастной перейти невидимую черту: подсесть слишком близко, посмотреть слишком долго, засмеяться или опустить глупую шуточку, – Катины глаза вспыхивали – и тут же прятались за густыми кукольными ресницами.
А ночью, когда они оставались одни, маленькая бестия подкрадывалась к постели обидчицы и прокусывала ей руку своими острыми куньими зубами. Именно руку – и желательно правую, хотя тут Катя часто ошибалась, – чтобы та больше не смогла шить.
Катю наказывали, кололи транквилизаторами, после которых от нее оставалась одна оболочка, лишали еды и прогулки. Но она не сдавалась, продолжая упорно бороться за свое счастье, каким она его понимала. В конце концов кто-то из чадолюбивых педагогов придумал запретить Кате ходить на занятия к «родителям». И ночные вылазки тут же прекратились.
Алеше опять пришлось полдня созерцать поры на носу начальницы, чтобы вернуть обратно их бедную безбашенную кусаку, от которой теперь они бы уже ни за что не отступились.
– Зачем вам это нужно? – недоумевала директриса, отхлебывая остывший чай.
Она уже привыкла к присутствию красноносого молчальника в своем кабинете и вела с ним задушевные беседы обо всем на свете, начиная со своих семейных проблем и заканчивая всемирным жидомасонским заговором.
– И чего вы вцепились в эту Катю? Ребенок с ярко выраженной девиацией, агрессивный, неуправляемый. Да вы с ней просто не справитесь без спецсредств! Вам вообще нельзя думать об усыновлении! Вы слишком интеллигентные. Любой детдомовец вас скрутит и ноги о вас вытрет! С ними только жесткость работает. Железная дисциплина и ежовые рукавицы. Знаете, из кого получаются хорошие приемные родители? Из военных. Особенно командиров. А таким, как вы, в эту клоаку лучше вообще не лезть… Но лезут! Забьют себе голову всякой сопливой философией, прочитают, что ребенка надо обнимать восемь раз в день, – и вперед: дайте нам скорей кого-нибудь осчастливить! А потом – возвращают! «Мы думали, что главное – любить…» Ага, конечно! Главное – кулак крепкий и нервы железные… Одумайтесь, пока не поздно!.. Хотя вам все равно никто не разрешит усыновлять: работы нет, жилье съемное, даже не расписаны… Чем хоть вы живете? Медведями на ярмарках торгуете? Эх, босота! Давай, что ли, оформлю тебя на четверть ставки педагогом допобразования… Обувь новую купишь, а то у нас даже дети лучше одеты…
Глава двенадцатая В Париже
Ты приблизился на полшага. И снова улетел. Внутри тебя дует невидимый ветер, который то и дело относит тебя за горизонт. Осторожно, незаметными движениями я тяну к себе тонкую нить, связующую нас, боясь, что она сейчас порвется… Но вот я снова вижу твое белое лицо, далекое, как луна. И могу сделать вдох. И выдох. Не сейчас. Еще не сейчас.
Нигде мне не было так одиноко, как в Париже, среди всех этих влюбленных. Мы бродили, держась за руки, в одинаковых черных беретах, которые подарил нам на Монмартре очарованный тобой старичок продавец.
Но ты молчал, всматривался в лица, кружа по одним и тем же улочкам, словно разыскивая кого-то, и я не знала, в какие края унесло тебя течение твоей жизни, по-прежнему скрытой от меня, как подземная река.
«Посмотри же на меня, чтобы я почувствовала, что я есть», – молила я, но молча, всегда молча, боясь быть в тягость, боясь надоесть своим бесконечным нытьем.
«Вот я попала сюда, в город моей мечты. И это сделал ты. А я несчастна. Какая неблагодарность! Мои ноги идут по этим набережным и мостам, мои глаза пьют красоту этих мужчин и женщин. А где я? Тянусь за тобой, за черту горизонта, и мои мысли заняты только одним: вернешься ты или нет?»
Что-то происходило. Что-то сильно заботило тебя, всегда такого беззаботного. Ты о чем-то тихо переговаривался с продавцами картин, записывал какие-то цифры, даже звонил, закрывшись в телефонной будке, чего с тобой не случалось никогда. Ты предпочитал случайные встречи: «Если это на самом деле нужно, жизнь подсовывает людей друг другу в многотысячной толпе, а если нет, то можно годами жить в соседних домах и не пересекаться»…
В соседней будке, прямо на полу, сидел очередной невообразимый красавец в кожаной куртке. Дверь была распахнута настежь, и я слышала, как он мрачно и монотонно твердит в трубку: «Нет! Да нет же! Нет-нет-нет! Нет…»
Сигарета тлела в его руке, бессильно лежавшей на колене. Он поймал мой взгляд и неожиданно подмигнул, повторяя: «Нет, говорю тебе, нет!»
Я отвела глаза – и похолодела: твоя кабина была пуста.
Маленькая круглая площадь с фонтаном посередине полна народу. Петька с Пашкой играют в ножички на клумбе, они ничего не видели. Громыхнул, поворачивая, красный трамвай. Может, ты в нем? Показываешь кондуктору свои крылья вместо билета, а он, усмехаясь, отвечает: «Ангелам бесплатно только в День Всех Святых».
Пять переулков, словно пять лучей. В каком из них ты скрылся? Нет, бесполезно. Встаю на бортик фонтана, поднимаюсь на цыпочки, закрываюсь от бьющего в глаза солнца…
Вот над прилавком дугой взлетели и опустились в бумажный пакет апельсины. Ты? Нет, просто белозубый продавец умеет жонглировать.
Какое-то движение в толпе. Ты? Нет, девушка споткнулась – и все бросились ее поднимать, наперебой предлагают помощь: кто влажные салфетки, кто стакан воды.
Так, дети на месте. Кожаный красавец все еще в будке. Опять подмигивает и целует свои пальцы. Что за черт!.. Неужели я больше никогда тебя не увижу?
Группа китайских туристов синхронно наводит на меня сорок фотоаппаратов. Наверное, этот фонтан отмечен в их путеводителях. Что там такого примечательного у меня за спиной? Оборачиваюсь – и чуть не лечу в воду, запутавшись в твоих распростертых крыльях…
– Проклятие! Я сойду с ума с этими твоими бесшумными исчезновениями и появлениями!
– Повесь мне на шею колокольчик, как козленку, – смеешься ты, и я вижу, что ты вернулся из-за своих горизонтов, ты снова рядом.
Можно вдохнуть. Выдохнуть. Еще не сейчас.
– Мне надо уйти. Не знаю насколько. Держи! – Ты вкатываешь мне в руки экзотический фрукт. – Внутри он такого же цвета, как твои волосы. Вы будете хорошо смотреться вместе.
– Постой! – вырывается у меня против воли запретная фраза. – Ты вернешься?
– Не бойся! В залог беру с собой вот это. Не могу же я уйти навсегда с твоим чемоданом!
* * *
Мы ждем тебя на ближайшей детской площадке. Мальчишки разулись и месят грязь в компании с негритенком. Машинально зарисовываю три головы, склонившиеся над песчаной запрудой: две золотые и одну черную. На церкви по соседству бьют часы.
– Пойдем. – Ты снова меня напугал, незаметно присев на мою скамейку. – Кое с кем тебя познакомлю. Это в двух шагах.
На ходу ты объясняешь что-то про выставку, галерею… Десять моих рисунков… Завтра открытие… Гонорар… А я так счастлива снова оказаться с тобой рядом, что почти не слушаю. Киваю рассеянно, не очень понимая, о чем ты. Толпа теснит нас, трамваи гремят, солнце слепит глаза, Петька с Пашкой вопят, что не доиграли, негритенок кричит им вдогонку на непонятном языке.
Какой-то фрик за столиком кафе – загорелая лысина, очки в виде велосипеда, пионерский галстук на шее. Почему у него в руках мои рисунки?.. Его зовут Люк, ну и что? Он начинает быстро и взбудораженно лопотать, петь, вскрикивать, мурлыкать, то и дело ловя мои руки и прикладывая к своим мягким губам. Подсовывает мне какие-то бумажки… Расписаться?.. Напротив цифры с тремя нулями?.. Это шутка? Смотрю на тебя вопросительно… Ты киваешь и говоришь:
– Море. Теперь у тебя будет море, как ты хотела. Даже океан.
– А ты?..
– Он говорит, что хочет их купить. Но сейчас у него недостаточно денег. Спрашивает, ты не против?
И снова Люк извергает потоки слов. Приносят вино. Петька с Пашкой затихают над гигантскими порциями мороженого. До меня постепенно доходит, что произошло.
И мне становится по-настоящему страшно: выставка в Париже, то, о чем мечтает любой художник, – самое время поставить точку в моей затянувшейся истории и перевернуть страницу. «Теперь она поет в том самом театре». Всё, хеппи-энд.
Господи, как бы отвязаться от этого Люка и остаться с тобою наедине! Только бы ты не растворился прямо сейчас, когда меня то и дело отвлекают. Но ты сидишь, доедаешь мороженое – надо же, не осилили, – весело смотришь по сторонам. Выбираешь, куда двинуться дальше. Это невыносимо…
– Помоги мне откланяться, – говорю я, вставая. – Скажи, что у меня заболела голова, живот, сердце, что детям пора спать… Выведи меня отсюда!
– Люк спрашивает, будешь ли ты завтра на открытии?
– Ответь что-нибудь сам, я не знаю!
Мы вселяемся в первый попавшийся отель. Узкие винтовые лестницы в толстых стенах. Крошечный лифт, в котором поднимается наш чемодан. Комнатка, где помещается только кровать, огромная, как сцена. Ложусь лицом к стене. Меня нет.
– Сегодня мама превратилась в статую? – шепчет Пашка. – Это у вас такая игра? А, что ли, купать нас ты будешь?
Вы долго хохочете и плещетесь в ванной. Потом роете норы под одеялом. Наконец все стихает. Встаю и тихонько выскальзываю на балкон.
Голоса вечерних прохожих. Шелест велосипедных шин по тротуару. За углом кто-то наигрывает на гитаре. Звук, от которого всегда хочется плакать, а уж сейчас…
Легкий сквозняк. Наверное, ты открыл входную дверь и уходишь…
Нет, решил попрощаться. Вздрагиваю от твоего невесомого прикосновения. Твой голос. Так близко, словно звучит у меня внутри. Ты медленно ведешь ладонями по моей спине, словно пытаешься что-то нащупать. И говоришь. Совершенно не то, что я ожидала.
– У нее нет краев, у этой раны, которая все превращает в боль… Она больше тебя.
Руки в белых перчатках разлетаются над моими плечами, я вижу, как они вытягиваются, описывая круг, и бессильно опадают.
– Это детство? Родители? Ни один мужчина не способен так разрушить…
Я настолько не готова услышать это, что моментально начинаю плакать. Прячу лицо. Слезы текут сквозь пальцы, капают с локтей вниз, на парижскую мостовую.
– Они меня не заметили… Даже имени не дали…
Ты долго молчишь. Так долго, что мне опять кажется, будто ты исчез. Я боюсь обернуться. Потом ты произносишь, медленно и тихо, будто вытягивая слова с большой глубины:
– Твоей вины здесь нет. – И дальше, задумчиво, словно с самим собой: – Нужно много, очень много любви. Но она у тебя будет. Твой дар ее притянет, как магнит. Вот завтра придут люди, и каждый почувствует что-то хорошее, глядя на твои рисунки. И пропасть хоть чуть-чуть, но наполнится…
– Нет! – кричу я, поворачиваясь. – Нет! Ты ничего, совсем ничего не понял! Мне не нужны все эти люди с их дурацкой любовью! Я хочу, чтоб меня любил всего один человек! Один-единственный!
– А, – грустно улыбаешься ты, – тот самый «он», которого вы ждете всю жизнь…
– Да не он! Не он! А ты!
– Я? Ну, так я-то тебя люблю, – говоришь ты совсем обыденно и пожимаешь плечами. – Чем же еще я, по-твоему, тут занимаюсь?
– Ну да? – Я даже перестаю плакать от изумления. – Ты любишь весь мир. И меня как часть мира. Как камушек или птичку.
– Ты лучше многих малых птиц, – усмехаешься, а глаза печальны. – Не веришь?
– Ты так далеко! Я ничего о тебе не знаю! Я все время боюсь, что ты исчезнешь… А я… Я хочу вместе с тобой вязать свитера для пингвинов!..
– Ты умеешь?
– Нет!
– Ну, будем учиться, – вздыхаешь ты. Тяжело-тяжело.
И замолкаешь. Твое лицо белеет совсем близко, но я кожей ощущаю тот ненавистный невидимый ветер, что снова уносит тебя за тридевять земель. Ты по-прежнему смотришь на меня, но уже не видишь.
– Где ты сейчас? – в отчаянии шепчу я. – Куда ты деваешься каждый раз, едва мы приближаемся друг к другу? Не улетай, Скворец!
Ты едва заметно улыбаешься и легонько гладишь меня по щеке. То ли прося прощения, то ли прощаясь.
Внизу опять проходят двое, он что-то говорит, она смеется, он на ходу целует ее, она замедляет шаг… Нет, только не под нашими окнами, умоляю!.. Пронесло, повернули за угол, не отрываясь от своего занятия…
Но их волна зацепила меня и понесла. И я все-таки задаю его – этот унизительный, бестактный, бесконечно мучительный вопрос:
– И почему, скажи, почему ты совсем-совсем не воспринимаешь меня как женщину?!
– Я могу, – отвечаешь ты со своей невыносимой простотой. – Я не ангел. Но ведь чем ближе, тем больнее терять. Разве нет?
– Так ты все-таки исчезнешь?
– Ну, рано или поздно это со всеми случится…
– Да я не о том!
– А кроме этого, ничто не страшно! Пока человек жив, и ходит по одной с тобой планете, и дышит тем же воздухом – разве это разлука? Даже если вы на разных континентах. Живого всегда можно найти, протянуть руку, увидеть силуэт в окне…
– Так что же теперь? Не любить друг друга оттого, что мы смертны?! Какая глупость! Или любить, не привязываясь, как буддистский монах? Да ты… Неужели ты боишься?!
– Да.
– Но…
– Ты права. Все, что ты говоришь, правильно. Просто у каждого своя боль. И осознание совсем не означает исцеление. Но я иду. Иду к тебе. Ты веришь? Ты… сможешь дождаться?
– Ты… Я… – Я пробую что-то ответить, но потом просто делаю шаг навстречу.
И ты тут же вцепляешься в меня, как человек, летящий в пропасть.
Мы стоим над столицей любви, намертво обнявшись, и я не знаю, чье сердце набатом стучит у меня в висках: твое или мое?
Глава тринадцатая Без грима
– Ты забыл нарисовать лицо! – кричит Пашка.
– У тебя кончились краски? – предполагает Петька.
Ты приседаешь и смотришь на них своим пристальным, «здесь и сейчас», взглядом, под которым они, как всегда, смолкают.
– Нет. Я не забыл. И краски не кончились. Просто сегодня будет так.
Я первый раз вижу тебя без грима при свете дня. Ты кажешься бесконечно усталым и беззащитным. Мы выходим из отеля в утренний Париж, где пахнет свежими булочками и красавицы в кружевных колготках катят на работу, крутя педали своих вело.
Ты крепко держишь меня за плечи, будто боишься упасть.
– Куда пойдем? Что ты хочешь увидеть? – В твоем голосе та же бездонная усталость с легким призвуком нежности и печали.
– Я хочу увидеть тебя.
Сжимаешь мое плечо еще сильней, бредем куда-то, как два лунатика, врастая друг в друга с каждым шагом…
– Вы прилипли? – насмешливый Петька.
– Вы влюбились? – романтичный Пашка.
– Я знаю тут недалеко одну площадку, – произносишь ты, словно вдруг проснувшись, своим обычным мальчишеским голосом, – с тарзанкой, батутом и канатной дорогой!
– Ура! – вопят мальчишки.
…И вот на этой чудо-площадке в Булонском лесу меня и прорвало. Я стала рассказывать обо всем, начиная с пухового платка Железной Леди, проверяющей пыль под шкафами. И заканчивая… Да ничем не заканчивая, потому что я никак не могла остановиться.
– Говори, – просил ты, когда я замолкала, чтобы перевести дух.
– Ты не устал? Тебе не надоело? Ты можешь еще послушать?
– Я буду слушать столько, сколько ты будешь рассказывать. И даже когда ты замолчишь. Я буду продолжать слушать. Не сомневайся.
Когда мальчишки выдохлись и приползли к нам на скамейку, требуя еды и воды, был уже вечер.
– На выставку?.. – предложил ты, приподнимая одну бровь.
– Смеешься?!
– Ну, тогда к морю!
Мы уснули, едва оказавшись в вагоне. А наутро это была уже Бретань. Маленький прибрежный городок, чье название я, как всегда, забыла, едва услышав. Узкие улочки спускались к морю. И мы бежали по ним, взявшись за руки, все вчетвером…
Мальчишки прыгнули в воду, не раздеваясь. Я тоже – купальника-то у меня не было. Ты стоял босиком у кромки прибоя в закатанных джинсах и терзаемой ветром тельняшке, и твои серые глаза казались голубыми, потому что в них отражалось огромное небо.
– Ты такой красивый! – крикнула я, надеясь, что волны меня заглушат.
– «Месье так красив», – насмешливо откликнулся ты.
Осмелев, я выбралась из воды, встала на гладкий камень рядом с тобою и спросила:
– Я по-прежнему могу говорить, что хочу?
– Говори, конечно.
– Я так мечтала все это увидеть! И Париж, и море. И вот мечта сбылась… А я ничего, кроме тебя, не вижу и не хочу видеть! Я думала, может, это из-за грима, из-за роли, такая специальная актерская харизма, понимаешь? Но вот сейчас ты стоишь – без крыльев, без краски, – просто стоишь и смотришь на волны, а я не могу оторвать от тебя глаз. И готова всю жизнь вот так простоять по колено в воде, глядя, как ты…
– Мы хотим завтракать! – завопили мальчишки, наскакивая на нас с двух сторон, как охотники на дичь.
Ты улыбнулся поверх их мокрых макушек. Такой улыбкой, что мне захотелось взлететь.
Раннее утро, городок спит. В крошечной булочной свет уже включен, хозяин расставляет стулья. Увидев нас, он машет рукой:
– Заходите!
– А мы думали, вы еще закрыты.
– Вы правы. Но накормить голодных – святое дело. Кофе только что сварился. Я как раз собирался завтракать.
Помогаю ему накрывать на стол. Мальчишки уже впились в круассаны. Ты берешь у меня из рук чашки.
Хозяин качает головой:
– Это прекрасно. Как вы смотрите друг на друга. Как будто вы совсем одни, кто бы ни был рядом. Люблю влюбленных. Хорошо, что вы зашли. Теперь весь день буду чувствовать себя молодым.
– Месье совсем не стар.
– Не отвлекайся, деточка. Тебе сейчас ни к чему какой-то месье… Вы уже нашли, где остановиться?
– Мы хотели взять напрокат палатку.
– Отличная мысль, мой мальчик. Пойду посмотрю, не сгнила ли на чердаке старая палатка Франсуазы. Моя дочь. Ей теперь не до романтики. Вышла замуж за раввина и рожает как проклятая. Я даже не могу запомнить имена всех этих детей…
Завтрак закончен, палатка и даже два спальника найдены. А он все не отпускает нас.
– Может, еще что-нибудь? Принять душ? Переодеться?.. Не во что? Как это прекрасно! Подожди, я принесу тебе свитер Франсуазы, ей все равно уже никогда в жизни его не натянуть, а ночью на берегу прохладно… Хотя о чем я болтаю, старый балбес! Вы точно не замерзнете… Ну, может быть, проверить почту, сообщить родителям, что вы живы…
– Нам некому писать, – отвечаешь ты, беря меня за руку.
– Постой. Если можно, месье, я бы хотела отправить письмо сестре.
Не могу зайти в свою почту, нет русских букв, чтобы набрать пароль.
– Пиши с моего ящика, адрес помнишь? – предлагает хозяин. – Не смущайся, тут ничего личного, сплошные фотографии младенцев…
Пишу на адрес Алеши, он проверяет почту чаще, чем раз в году.
«Дорогие мои! Надеюсь, у вас все хорошо. Я счастлива. Мы были в Париже, а сегодня приехали к морю. Мои рисунки взяли на выставку и даже заплатили гонорар. Но это все мелочи. Главное, я совершенно безумно влюблена! И кажется, это немного взаимно… Петька с Пашкой шлют вам привет, они уже выучили пару французских ругательств и легко находят общий язык с местными детьми. Вся прежняя жизнь кажется сном. Кроме вас, конечно… Сорок тысяч поцелуев. Ваша сумасшедшая сестра».
Весь день был наполнен шумом волн, ветром, детским визгом и нашим молчанием. Свитер Франсуазы пришелся как нельзя кстати. Потому что ты снова был далеко. Все смотрел и смотрел на море. Но когда я подходила, делал усилие и возвращался.
– О чем ты думаешь?
– Вот прямо сейчас? Вспоминаю историю, которую слышал от уличного музыканта из Аргентины. Об одной женщине-поэте, очень популярной там у них. Она была молода и красива. И талантлива. А потом узнала, что безнадежно больна. И она вошла в море и не вернулась… Он пел танго, посвященное ей. Там бесконечно повторялось ее имя. Будто кто-то стоит на берегу и окликает, окликает, уже не надеясь на ответ…
– Как ее звали?
– Не помню. Какое-то красивое имя, где много гласных. Как твое. Которое так удобно кричать на ветру или петь.
– Как ее звали, твою любимую, которая умерла? О которой ты все время думаешь…
Спросила и тут же пожалела об этом: так помертвело твое лицо. Ты перестал дышать.
– Вдох, – сказала я тихо, кладя ладонь тебе на грудь.
Ты послушно вдохнул. Выдохнул. Снова набрал воздух – и вдруг произнес пересохшими губами, будто долго шел через пустыню и все-таки дошел:
– Мария.
После этого ты до вечера не произнес ни слова. Я тоже молчала, слишком напуганная той пропастью, куда неосторожно заглянула. Мы уходили в город за едой, возвращались, снова уходили, чтобы купить краски, которые так и остались нераспакованными, а ты все стоял на берегу, где начинались волны и кончалась земля, словно никак не мог решиться, куда тебе ступить: вперед или назад.
– Он статуя, – понимающе говорил Пашка.
– Какая-то дурацкая игра, – ворчал Петька.
Они уснули рано, надышавшись соленым воздухом, накупавшись до синевы, наевшись своих любимых булочек… Я сидела у входа в палатку и пыталась рисовать. Кажется, впервые я услышала, как ты подошел, и не вздрогнула. Ты сел у меня за спиной и сразу начал говорить, будто боялся передумать. И каждый раз, когда я хотела обернуться, мягко разворачивал мою голову обратно, лицом к морю.
– Ее звали Мария. И она тоже была молодой и очень красивой. Она была живой. Самой живой из всех, кого я знал. Быстро ходила – мне приходилось бежать, чтоб успеть за нею. Громко говорила. У нее всегда были горячие руки, и даже в мороз она не надевала шапку и не застегивалась. И зимой, и летом с ее лица не сходили веснушки. Мягкие темно-пепельные волосы, которые я так любил перебирать, засыпая, начинали виться, когда она влюблялась.
А это случалось часто. Особенно почему-то в ноябре, когда всем на свете хочется забиться в нору и спать. Она, смеясь, говорила, что так борется с темнотой.
Она была легкой. Легко знакомилась, легко загоралась, а потом так же легко уходила, без слез, без мучительных метаний.
Просто в один прекрасный день брала меня за руку и говорила: «Пойдем, малыш. Это опять не он».
И мы шли в кафе, даже если было совсем туго с деньгами. Она заказывала себе водку, а мне – горячий шоколад. Мы чокались, и она торжественно произносила: «Ну, за вашу и нашу свободу!» И больше мы о «нем» не вспоминали…
Я почти не помню своего отца, только его вещи, летящие в распахнутое в ночь окно. Одна рубашка зацепилась за ветку и долго потом висела, так беспомощно и бесстыдно, что было больно смотреть.
К счастью, мы скоро уехали оттуда. Мы вообще часто переезжали: Одесса, Питер, Париж… Она любила повторять: «Запомни: мы – кочевники. У нас два дома: весь мир и ты сам».
Точкой оседлости была крошечная, заваленная книгами от пола до потолка квартирка моей бабушки Софии. Бабушка, напротив, никуда уже не выходила – болели ноги – и целыми днями дымила папиросой над очередной рукописью – она работала редактором.
Когда мы возвращались из наших странствий, она ни о чем не расспрашивала, зато сразу обрушивала на нас потоки стихов…
Мужчин в этом роду амазонок испокон века не было, и в них, кажется, не особо нуждались. Поэтому все очень удивились, когда родился я. И если что-то во мне им не нравилось или казалось непонятным, они обе совершенно одинаково разводили руками и произносили со смесью удивления и сострадания: «Что поделаешь – мальчик!»
…Мне было семнадцать, ей тридцать семь, когда это случилось. Она не вошла в море. Она поехала в Париж. «Может, хоть напоследок встречу его». Влюбилась в очередного гения, кажется, режиссера, чья гениальность, как водится, заключалась в том, что он целыми днями бродил по бульварам, ругал Тарковского и пил дешевое вино…
В больницу она не сдавалась до последнего. Только когда стало невозможно терпеть.
Но и там она все ждала «его». Влюбилась сначала в лечащего врача, потом в священника, который туда ходил. Хотя он был до ужаса некрасивый. «Зато очень умный». И вот он-то ей все объяснил. Исторически.
«Посмотрите, сколько людей погибло в катастрофах двадцатого века. И сколько у них не родилось детей, а потом внуков. Почти каждый сейчас живет с этой пустотой. Либо в одиночестве, либо в очевидном мезальянсе… Кто знает, может, дедушка вашего суженого получил пулю на Бутовском полигоне или ушел под лед на Дороге жизни…»
«Но там-то, в Городе золотом, я его наконец встречу? – допытывалась она. – Эти неродившиеся, они где-нибудь все-таки существуют?»
И он сказал, что да. Она уходила успокоенной, почти счастливой, ей даже не терпелось…
Потом я спросил его:
«Зачем вы солгали? Ведь никто доподлинно не знает, что там и как…»
Он засмеялся, обнял меня и ответил:
«А я уверен, что она Его встретит. Эта неутолимая тоска „о нем“, которая не отпускает даже на пороге смерти, это ведь не о человеке тоска, не о земной любви…»
Да, она тоже называла рай Золотым городом. И все детство я засыпал под эту песню. И когда я услышал, как ты своим мальчишкам ее поешь… Мне сделалось жутко и счастливо, будто она меня оттуда окликает…
В один из последних дней… она уже почти не приходила в сознание… а тут ее на минуту отпустило, она подозвала меня и весело сказала на ухо: «У меня для тебя задание. Трудное. Самое трудное из всех. Но я в тебя верю. Ты должен стать счастливым. Обещаешь?»
И я обещал. Я всегда выполнял ее задания.
Это был наш секретный код, наш язык, с детства. «У меня для тебя задание: порви на мелкие кусочки эти журналы, хорошо? Это очень важно» – а сама запирается в комнате с очередным возлюбленным…
…Да, стать счастливым. Я сидел в больничном коридоре, сжимал голову руками, чтоб не думать о ней. И думал о счастье. Я понял, что ничего о нем не знаю. Тогда я решил идти от противного. Что делает человека несчастным: разлука, одиночество. Надо преодолеть это равнодушие всех ко всем, этот страх другого. Просто сделать шаг, переступить полосу отчуждения, обнять незнакомого человека. А кто может позволить себе так поступить? Сумасшедший, клоун или святой. Первое – страшно, последнее – еще страшнее. Я выбрал путь клоуна.
На следующий день я пришел в больницу в гриме. И первое время просто ходил по коридорам и обнимал каждого, кто мне встречался. И это было счастье. Хоть я и плакал не переставая. Так что в конце каждого этажа в туалете приходилось заново «рисовать лицо»…
– Но знаешь… – Ты вдруг вскочил, словно распрямилась пружина. – По-настоящему счастлив я стал только сейчас, когда впервые в жизни все это рассказал…
Я тоже встала, ты схватил меня за руки и закружился.
И мы кружились, кружились, пока не упали на мокрый песок.
И огромное темное небо, полное звезд, продолжало кружиться над нами, и земля ходила ходуном, будто это море, а не земля.
«Твои губы соленые». – «Твои тоже». – «Это от моря». – «Да-да, от моря…»
На рассвете, уже засыпая, он шепнул Саньке:
– Не обижайся, если завтра мне понадобится побыть одному. Я столько лет не пускал в себя все это. Надо будет привыкнуть… Замерзла? Полезай в тельняшку… Да не знаю я, где твоя одежда, где-то там, на берегу…
Наутро Санька едва разлепила глаза. Петьке с Пашкой пришлось изрядно потрудиться.
Его не было ни в палатке, ни на берегу. На мокром песке в полосе прибоя, примерно там, где они вчера упали друг в друга, она нашла полуразмытые буквы: «Не бойся! Я вернусь!»
Но время шло. А он не возвращался. Накупавшиеся в холодной утренней воде, мальчишки требовали завтрака…
– Одна? Неужели поругались? – всплеснул руками хозяин булочной.
– Нет-нет, мы не ругались, – улыбнулась Санька, облизывая саднящие губы. – Видимо, ему захотелось побыть одному.
– Редкая женщина способна смириться с этим. Что ж, выпьешь кофе в компании старого зануды. Добавить корицы?.. Кстати, чуть не забыл! Тебе письмо. Еще вчера прилетело. Посмотришь сейчас или после завтрака?
Что-то екнуло у Саньки в груди. Она отодвинула крошечную кофейную чашку и направилась в соседнюю комнату, где на столе, заваленном счетами и газетами, стоял компьютер.
«SOS! HELP! VERY IMPORTANT!» – значилось в теме, и, пока письмо, пришедшее с Алешиного адреса, открывалось, Санька заметила, что пальцы ее дрожат.
«Милая Санька! Бью себя по рукам, чтобы ничего тебе не написать. И все-таки напишу и отправлю. Я – последний подонок! Тысячу раз прости, что врываюсь в твое счастье. Надеюсь, ты уже укатила подальше от того доброго месье Дюпона, который пустил тебя в свою почту, и он никогда не догонит тебя, чтобы передать…»
Санька проскользнула два абзаца Алешиных извинений и уперлась глазами в фразу, от которой весь мир перевернулся.
«Санька, лес рубят! Тот самый, где Хозяин Леса… Уже неделю она не ест, не спит, не говорит… Я боюсь за ее рассудок. Да и за жизнь… Меня она уже не слышит… Ты – единственная надежда, поэтому я и отправляю это безобразное письмо, которое…»
Дальше Санька уже не читала. Не думая, нажала «Удалить».
– Что с тобой? На тебе лица нет! Кто-то умер?
– Несчастье, – выдавила она. – С моей сестрой. Где ближайший аэропорт? В Париже?
– Тебе надо торопиться. Единственный парижский поезд из нашей дыры уходит в десять сорок.
Санька затравленно глянула в угол монитора: 10.25!
– Они немного спешат, минут на восемь…
– Господи, если он не вернулся, я не успею его предупредить!
– У вас нет телефонов? Чертовы счастливцы! Я передам. Он ведь зайдет вернуть палатку. Куда ты улетаешь? В Россию? Боже! Возьми с собой свитер Франсуазы, там наверняка снег!
– В июле? Вряд ли… Постерегите мальчишек. Я на берег.
– Беги потом прямо на вокзал, я приведу их и куплю билеты!
В палатке его не было. Не было в море. Не было на берегу. Буквы, обещавшие, что он вернется, уже стерлись. Часы на городской ратуше пробили половину.
Задыхаясь, Санька бежала вверх по узкой улочке, залитой беззаботным светом, по которой еще вчера они так легко и счастливо мчались вниз, навстречу морю…
Лихорадочно она всматривалась в соседние переулки, оглядывалась назад и все ждала, что он, верный своей привычке, сейчас возникнет ниоткуда и спросит насмешливо и нежно: «Мы опять опаздываем в Париж?»
Возникнет в последний момент, запрыгнет в закрывающиеся двери, не оставит ее одну…
Но поезд тронулся, а он так и не появился. Уплыл, махнув рукой, добрый булочник месье Дюпон, мелькнула привокзальная площадь, и вскоре он остался позади, безымянный городок на краю суши, родина ее счастья. Короткого, как вдох и выдох.
Начались аккуратные открыточные поля, а Санька все стояла, вжимаясь лбом в оконное стекло, и повторяла солеными губами:
– Не бойся! Я вернусь!
«Он вернется. Он придет в булочную отдавать палатку. Он все узнает и поедет за нами. Он прилетит следующим рейсом. Завтра же. Это не конец. Не разлука. Просто недоразумение».
И только в аэропорту она вдруг сообразила, что не оставила никаких координат. Ни малейшей зацепки. Что удалила даже Алешино письмо. И он знает только город, откуда вывел ее, взяв за руку, как ангел Лотову жену…
– Мадам плохо? Вам нужна помощь? Я позову доктора.
– Доктор не поможет, – сказала она мертвым голосом. – Это разлука. Это конец.
– Мне очень жаль! – воскликнул незнакомый француз и неожиданно от души ее обнял. – Не убивайтесь! Жизнь длинная, в ней еще будет много-много счастья!
– Спасибо, – прошептала Санька, и спасительные слезы затопили ее глаза, как морская волна.
* * *
На следующее утро она вынесла спящих мальчишек из душного вагона, прошла сквозь неработающие металлоискатели и оказалась на привокзальной площади своего родного города. Смотреть по сторонам не хотелось, она знала тут все наизусть, с закрытыми глазами. Но взгляд сам уперся в бодрую вывеску: «Закусочная „Парижанка“. Детские праздники, поминальные обеды. Круглосуточно».
«Добро пожаловать в реальность, – сказала она себе. – Сказка закончилась».
Глава четырнадцатая Родина
Всклокоченный, постаревший Алеша открыл дверь, отступил в глубину коридора и пробормотал:
– Господи, что я наделал…
Санька молча сгрузила ему на руки спящих Петьку с Пашкой и прошла в комнату.
Разлука пронзила ее насквозь, как острый меч, который проворачивался, стоило ей что-нибудь вспомнить. То есть постоянно. Санька думала, что хуже уже не будет. Она ошибалась.
Когда она увидела свою младшую – своего первого, самого выстраданного ребенка, – забившуюся в угол тахты, исхудавшую, каменную, почти потустороннюю, второй меч поднялся и медленно, с хрустом, вошел в ее сердце. Будто там было место для еще одной раны.
Пошатываясь, Санька приблизилась. Села рядом, прижала к себе безвольную темноволосую голову. Вся ее взрослая жизнь: дети, работы, романы, даже вчерашняя ночь на берегу моря – все на секунду исчезло, и она опрокинулась в собственное ненавистное, нескончаемое детство, где не было ничего, кроме этой слабой родной девочки, притиснутой к груди, и жажды во что бы то ни стало отвоевать ее у небытия.
– Санька… Ты тут…
– Да. И мы будем жить. Слышишь?
– Санька… Ты все можешь… Останови их, сделай что-нибудь…
– Конечно, конечно. Вот сейчас ты уснешь – и пойду разбираться.
– Я не могу…
– Давай-давай. А проснешься, будешь пить бульон. Твоему Алеше можно это доверить?
Санька уложила ее, подоткнула плед и прилегла рядом, гладя по спине, согревая.
– Расскажи что-нибудь… – прошептала младшая, совсем как в детстве.
Санька вздохнула, закрыла глаза. И, вздрогнув, тут же открыла: внутри был только он.
– Я лучше колыбельную… – И по привычке начала: – Под небом голубым…
Меч провернулся, горло перехватило. Белый мим, играющий на флейте, вырос перед ней как живой.
«Я все детство засыпал под эту песню».
И шум темнеющего моря, и его руки, не дающие ей обернуться…
Слезы текли на подушку с давно не стиранной наволочкой. Меч крутился, как веретено. А Санька все-таки пела.
Она была старшей. Была матерью. Она не могла отступить.
Допев до конца, она осторожно поднялась и выскользнула на кухню. Младшая спала.
– Впервые за неделю! – выдохнул Алеша. – Санька, ты бог. Я на тебя молиться буду.
– А пожрать у вас есть? Сейчас мальчишки проснутся…
– …и знаешь, что больнее всего, – говорил Алеша, рассеянно глядя, как Санька хозяйничает на кухне, – вопиющая несправедливость бытия. У нас только-только стало что-то получаться, тонюсенький слой жизни нарос над пропастью, какое-то крошечное, слабенькое «могу»… Я имею в виду эту историю с Катей и детским домом. Ты не в курсе, потом расскажу, сейчас сил нет… И вот, не дав не то что окрепнуть, хотя бы проклюнуться, жизнь опять размахивается – и нате! – раскатывает все железным катком, чтобы ничего, совсем ничего не осталось. Не раньше, не позже, именно в тот момент, когда…
Санька уронила пустую кастрюлю и проговорила сквозь зубы:
– Да уж, не раньше и не позже! Будто кто-то караулил, чтоб на взлете поймать… Слушай! – Она молниеносно подсела к нему, схватила за руку и прошептала, округляя глаза: – Может, это какое-нибудь родовое проклятие?
– Ох, Санька, ну ты даешь! – Он даже улыбнулся, тоже впервые за неделю.
– Погоди-ка, что у тебя там? Кольцо? Вы что ли… Да?!! Без меня?! И он еще жалуется на несправедливость бытия?! А это – справедливо? Когда все плохо – Санька, спаси! А когда…
– Тс-с! Разбудишь! А как было тебя позвать? Твои открытки приходили без обратного адреса, и на штемпелях всегда разные города…
– А почему она без кольца?
– Оно теперь с пальца спадает…
Санька яростно принялась резать картошку.
– Ну, платье-то хоть красивое было? – спустя минуту процедила она, свирепо смахивая с глаз отросшую огненную челку.
– Санька, не злись. Нашла время. Мы просто расписались, и все. Надо было срочно. Для усыновления… Знаешь, – он подошел и неуклюже, как медведь, обнял ее за плечи, – я тебе обещаю, когда все будет позади, мы устроим сразу две свадьбы. Вы обе – в белых платьях. А мы оба – в клоунских колпаках.
Санька закрыла лицо руками и разрыдалась:
– У него нет колпака. Он – ангел. У него – крылья.
– Это будет мой свадебный подарок, – шепнул Алеша.
Она подняла глаза – и рассмеялась сквозь слезы, увидев круглый красный нос на его серьезной бородатой физиономии.
– Снова будем жить в палатке? – без энтузиазма поинтересовался Пашка, попинывая оранжевый тент, увешанный самодельными воззваниями.
– Та мне, вообще-то, больше нравилась, – скривился Петька. – Здесь холодно и моря нет!
– И где Скворец? Почему мы его не дождались? Какого черта!
– Я уже не могу отвечать на этот вопрос! – взвыла Санька. – Говорю же вам, он приедет!
– Когда?
– Скоро!
– Завтра?
– Здравствуйте! Вы в ополчение? – Из палатки высунулась худющая старушенция в круглых очках. – Детей брать не советую. В этой стране по детям и женщинам принято стрелять из боевого оружия.
– Господи, – попятилась Санька, инстинктивно прижимая к себе мальчишек. – Какое еще ополчение?
– Защитников леса! Я – координатор, Ида Бронштейн. Ида Моисеевна, если угодно. Полвека в диссидентском движении. – Старушенция сунула Саньке костлявую ладонь. – Вы анархисты? Троцкисты? Надеюсь, не правые? Хотя временная коалиция тоже возможна.
– Уходи, злая бабка! – прошипел Петька.
– Я художница, – растерянно оглядываясь, ответила Санька. И даже не заметила, что впервые называет себя так.
– Отлично! Нам как раз не хватает плакатов. А хороший плакат – половина успеха. Краски с собой? Бумага у нас найдется.
– Отстань, злая бабка! – уже в полный голос выкрикнул Петька.
– Наш человек, боец. – Ида Моисеевна потрепала его по голове, Петька шарахнулся и спрятался за выцветшую Санькину юбку. – А каковы ваши политические взгляды? Я что-то не расслышала.
– В этой графе прочерк.
– Будем работать.
– Нет. Я пришла защищать лес, потому что… Ну, для меня это важно. А от политики увольте. Лучше расскажите, что здесь происходит.
А происходила обычная, в общем-то, история. На месте леса планировалось построить гипермаркет, большую транспортную развязку, пару заправок и паркинг. Когда около половины деревьев уже было вырублено, жители окрестных домов спохватились и вышли на стихийный митинг. Покричали, обматерили прораба и, успокоенные, разошлись. Через полчаса бензопилы снова взялись за дело.
Тем бы все и кончилось. Но кто-то догадался пригласить телевидение. Сюжет о митинге вышел в вечерних новостях, а утром на месте вырубки появилась Ида Моисеевна Бронштейн со своей видавшей виды оранжевой палаткой. Борец с полувековым стажем, она знала, что делать.
Дождавшись телекамер, старушка деловито улеглась под бульдозер (водителя, правда, там не было, но в кадр это не попало), потом дала гневное интервью о нарушении прав человека и потребовала очной ставки с заказчиком. А напоследок пригласила журналистов приехать и на следующий день, заверив, что информационный повод будет.
Отыграв первый акт, Ида Моисеевна водворилась в оранжевую палатку и там, непрерывно дымя «Беломором» и посыпая пеплом свой старенький ноутбук, бодро тиснула с десяток постов в соцсетях, разослала прессрелизы во все местные и федеральные СМИ, оповестила знакомых правозащитников, экологов, депутатов, оппозиционеров, иностранных спецкоров, профсоюзных лидеров, городских активистов…
Назавтра Ида Моисеевна приковала себя наручниками к дереву – и вновь попала в новостные ленты. Вырубка приостановилась.
К лесу начала стягиваться разношерстная публика. Окрестные старушки понесли в оранжевую палатку домашние пирожки и баночки с супом. Из местных жителей был организован круглосуточный патруль. Студенты бродили по микрорайону, обклеивая листовками столбы и заборы.
Над лесоповалом реяли бок о бок красный, черный, зеленый, желто-черно-красный и радужный флаги, а чуть поодаль – золотое знамя с белым единорогом, под которым сидели на земле мрачные длинноволосые люди в средневековых костюмах. У каждого за спиной висел лук.
– Кто это? – восхищенно выдохнул Пашка.
– Эльфы, – с гордостью ответила Ида Моисеевна. – Ну, ролевики, толкиенисты. Они в этом лесу свои игры устраивали.
Под сосной делал махи ногами городской сумасшедий – спортсмен.
Как ни было ей тоскливо, Санька прыснула:
– А он-то здесь зачем?
– Здоровый образ жизни напрямую связан с экологией, – без тени иронии пояснила старая диссидентка.
«Господи, что я тут делаю?» – ужаснулась Санька.
На бревне, тесно прижавшись друг к другу, подростки в черных куртках пели звонкими голосами:
– Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем…«Почему я здесь, без тебя? Когда мне нужно быть там, с тобой?»
Она вспомнила безвольно склоненную голову сестры – и оба меча проворно заворочались.
«Лес защитят без меня. Ида Моисеевна одна стоит целой армии. Денег на билеты мне хватит… А она? Так я ее возьму с собой! И Алешу! Им будет полезно подышать другим воздухом. Это лучшее, что я могу для нее сделать, там она точно оживет! Да! Завтра же полетим все вместе! Париж, оттуда на поезде – маленький городок на море. Не помню названия. Ничего страшного, найду по расписанию: единственный парижский поезд в десять сорок. В булочную, к доброму месье Дюпону. Выяснить, где ты. Наверняка ты поступил умнее, оставил какой-нибудь адрес для связи… А вдруг ты еще там? Ждешь на берегу в старой палатке Франсуазы, чей свитер действительно очень пригодился, хотя снега тут нет… Решено! Завтра едем!»
Тем временем на вырубке появились плечистые молодцы с завязанными лицами. Под руководством Иды Моисеевны они принялись таскать бревна и сооружать нечто вроде баррикад.
– Пойдемте отсюда, – позвала она Петьку с Пашкой, прилипших к эльфам.
Вдруг словно ветер прошел по толпе. Многие начали оборачиваться и, посмеиваясь, показывать куда-то пальцами.
«Приехал!» – задохнулась Санька, ни секунды не сомневаясь, на кого все так смотрят.
В глазах у нее потемнело.
«Вдох, – велела она себе. – Вдох».
– Санька! Спишь на посту? – окликнул, подходя, Алеша со своим дурацким красным носом.
В руках он держал плакат, который поворачивал то так, то эдак. На одной стороне было написано: «Клоуны ЗА», на другой: «Клоуны ПРОТИВ».
– Отлично! Никуда не уходи! Сейчас приведу фотографа! – приказала вездесущая Ида Моисеевна.
– Санька, ты где? Ау!
– Далеко, Алеша, очень далеко… – Санька силой воли стряхнула оцепенение и заставила себя включиться: – Так, ты тут. А она?
– Проснулась. Послала меня сюда. Велела найти Хозяина Леса и попросить о помощи. За это обещала поесть твоего супа.
– Его дерево еще не срубили?
– Нет, оно где-то в другой стороне.
– Ты знаешь где?
– Нет. Я подумал, может, мальчишки вспомнят?
– Да, Хозяина надо отсюда забрать, – рассеянно кивнула Санька, вновь уплывая в свое прекрасное далеко.
– Она сказала: ни в коем случае! – Алешино лицо вдруг исказилось таким страданием, что Санька моментально вернулась назад. – Без Хозяина лес погибнет. Просто найти дупло, разбудить его и все рассказать. Потому что беда стряслась из-за того, что он слишком крепко заснул…
– Это… всерьез?
– Серьезнее не бывает!.. Санька! Ты думаешь, я просто так тебя позвал?!
– А такое… Оно не впервые?
– Санька… Пока она говорила… Поначалу она ведь все говорила и говорила, не умолкая… Так вот, да. Она довольно часто… того… заговаривалась.
– Поверните, пожалуйста, плакат другой стороною! – попросил донельзя довольный дядька с тяжелой камерой в руках и в расшитой тюбетейке на загорелой лысине.
– Санька, я пойду искать дупло, – вполголоса проговорил Алеша, машинально выполняя указания фотографа.
– Думаешь помочь, подключившись к бреду?
– Санька, милая, если б я знал, как помочь, я бы тебя не беспокоил! Просто она догадается, если я совру…
– Петька, Пашка, прощайтесь с эльфами! Идем искать Хозяина Леса!
– Хозяин леса – Горзеленхозстрой! Запрос туда я уже отправила. – Ида Моисеевна крепко схватила Саньку за локоть. – Ваша помощь нужна в другом. Вы обещали нарисовать плакаты.
Вот так и получилось, что Алеша с мальчишками отправились в глубину леса на поиски Хозяина, а Санька с двумя мечами в сердце осталась в оранжевой палатке рядом с громокипящей Идой Бронштейн. Пользуясь случаем, Ида Моисеевна пустилась в пламенный монолог о преступном режиме. Санька с головой нырнула в свою тоску.
Почему-то она предельно отчетливо запомнила тот момент. Последний в нормальном течении жизни.
Вот Ида Моисеевна произносит: «Эта власть абсолютно нелегитимна».
Вот она думает: «Вернемся домой – забронирую билеты на завтра».
Вот в палатку врываются люди в черных шлемах.
И в последнюю оставшуюся секунду она автоматически макает кисточку в пластиковый стаканчик. И чистая, только что поменянная вода окрашивается в красный цвет…
Дальше все было, как в кино про захват террористов. Только в роли обезвреженных злодеев: лицом в пол и с заломленными руками – оказались Санька с Идой Моисеевной.
Видимо, ситуация показалась странной даже исполнителям. Один из них выругался и проорал в рацию:
– Тут две бабы!
Рация зашипела и изрыгнула что-то похожее на «вали всех».
В полусогнутом положении, не давая поднять головы, их выволокли из палатки и погнали через разгромленный лагерь защитников леса. Боковым зрением Санька увидела, что поляна кишит вооруженными людьми.
«Как вовремя Алеша увел детей!»
Их швырнули в автозак, уже набитый растерянными пленниками. Ида Моисеевна тут же припала к зарешеченному окошку и принялась азартно комментировать происходящее:
– Отлично, бревном его, бревном… Да не по шлему, растыка! Под ноги кидай!.. Молодцы, эльфы! Отстреливаются!
Вскоре перемазанных землей, окровавленных эльфов запихнули туда же.
– Эй, начальник! – выкрикнул кто-то из глубины. – Некуда уже! Задохнемся!
– А что вы хотите, – живо отозвалась Ида Моисеевна, – фашисты точно так же поступали! Ну, пока газовые камеры не изобрели…
«Господи, только бы они подольше искали Хозяина!» – взмолилась Санька, а вслух спросила:
– Будут ли прочесывать лес, Ида Моисеевна?
– Вот наконец вопрос по существу! – обрадовалась старушка. – А то сидят и блеют, как стадо баранов: «Что происходит?» да «Что происходит?» Думаю, не будут. Для отчетности нас хватит.
На секунду Санька успокоилась. Потом забеспокоилась снова:
«Успею ли вернуться к девяти, чтобы их уложить? Сможет ли Алеша, если вдруг…»
– А как по-вашему, скоро нас отпустят?
– Скоро! Суток через пятнадцать…
С этой минуты Саньку не покидало ощущение тотальной нереальности происходящего. Как в детстве, в скарлатинном бреду, когда, уже не помня собственного имени, она смотрела на свою боль со стороны, словно на гигантскую, уродливую диораму, простиравшуюся до горизонта.
Поначалу Санька делала попытки вернуться в реальность. Достала из рюкзака влажные салфетки, раздала эльфам, попросила у кого-то телефон, но не смогла вспомнить Алешин номер…
– То, что у вас с собой, в карманах, сумках, надо съесть, выпить, выкурить немедленно, – распоряжалась Ида Моисеевна. – Когда доедем – все отберут. Успевайте предупредить родных – сотовые тоже изымут. Стирайте все контакты, эсэмэски, фотографии – чтобы никого не подставить. А лучше – просто выкинуть симку… И помните, есть три запретных вопроса, которые нельзя задавать ни вслух, ни про себя, если не хотите спятить: «За что?», «Почему со мной?» и «Когда это кончится?» Самое здравое: уйти в себя, туда, где никто над вами не властен. Когда будет особенно тяжело, вспоминайте любимые фильмы, книги, моменты счастья – что-то такое, где вы присутствуете в наибольшей степени. Вспоминайте медленно, подробно, во всех деталях. Вам понадобится очень сильный противовес…
«Нет-нет! Только не моменты счастья!» – у Саньки внутри все обварилось, и перед глазами тут же засияло звездное небо вокруг единственного на свете лица, впервые склоненного к ней с мукой нежности.
– Второй надежный способ, – продолжала свою лекцию старая диссидентка, – занять позицию наблюдателя. Смотрите на них как антрополог, собирающий материал о жизни примитивного племени. Будто вы хотите написать книгу. Пишите ее в уме, облекайте ужас и унижение в слова, как можно более нейтральные. У нас же с вами научный труд, а не аргентинское танго…
«„Я вспоминаю уличного музыканта из Аргентины… Как ее звали?.. Красивое имя, похожее на твое… Которое так хорошо кричать на ветру…“ Звал ли ты меня потом, стоя у края моря, где волны уже смыли и отпечатки наших тел, и буквы, обещавшие, что ты вернешься?..»
– Не ждите от них человечности и милосердия. Не ждите логики и здравого смысла. Не пытайтесь их разжалобить или убедить. Не ведите с ними никакой игры, они все равно вас переиграют. И главное, не надейтесь на справедливость. Ее здесь нет. И не было, и не будет.
– Мать, хорош гнать чернуху, и так тошно! Давайте лучше споем!
– Наверх вы, товарищи, все по местам… – тут же зазвенел в дальнем конце автозака чей-то пионерский голос.
– Владимирский централ, ветер северный… – заревели из другого угла.
– Под небом голубым есть Город золотой… – гнусаво затянул притиснутый к Саньке длинноволосый эльф, прижимая к носу салфетку, уже всю набрякшую кровью. – Знаете эту песню, барышня? Тогда подпевайте, а то блатняк победит…
– Нет единства в наших рядах, – вздохнула Ида Моисеевна.
– Послушайте! – воскликнул кто-то, перекрикивая нестройное пение. – А спортивного старичка тоже повинтили?
– Его не догнали!
Автозак сотрясся от хохота. Через некоторое время все опять замолчали. Только одна девушка смеялась и смеялась, никак не могла остановиться.
– Кто там поблизости? Дайте ей воды! – распорядилась Ида Бронштейн. – Это истерика.
– Им, бл…ь, тут весело! – заорал краснорожий сержант, распахивая дверцы автозака. – Анекдоты травите?
– Ага, про ментов! – откликнулись из толпы.
– Руки за голову, по одному на выход! Скоро зубы свои сожрете, нечего будет скалить! Либерасты гребаные!
Их продержали в крошечной камере до утра. Давка была, как в трамвае времен транспортного коллапса. Периодически кого-то выдергивали и уводили. Но просторнее от этого не становилось.
Санька, панически ненавидевшая духоту, почти сразу провалилась в спасительное бесчувствие, куда не просачивалось ничто живое, даже неотвязная звездная ночь, всегда сиявшая на внутренней стороне век.
Она запомнила только два эпизода этого изнурительного стояния. Как в ответ на истошный женский вопль: «Воды!» – им сквозь дверь с гоготом посоветовали «поссать друг другу в рот». И как на рассвете, когда все мыслимые и немыслимые пределы были пройдены, кто-то стал декламировать пушкинский «Памятник».
Он забывал слова, ему подсказывали, тоже ошибаясь, спорили, соглашались, радостно повторяли правильную строку, будто не вспоминали, а все вместе рождали и выпускали в мир это хрестоматийное стихотворение. Прямо тут, в душной камере, набитой ни в чем не повинными людьми, по чьей-то злой воле вырванными из нормального течения их жизней…
В этот момент Санька вдруг почувствовала себя живой. И ей стало страшно.
После утомительной процедуры оформления и первичного допроса, во время которой Санька несколько раз засыпала, пока человек в погонах бубнил по бумажке казенные формулировки, ее наконец отвели в нормальную камеру, где можно было присесть и даже прилечь.
«Как мало нужно для счастья, – подумала Санька, вытягиваясь на голой лежанке, крашенной в унылый голубой цвет. – Я-то думала: Париж, любимый, море. А на самом деле… Глядишь, так и я научусь быть счастливой. Место, конечно, не самое подходящее. Вроде онкологической больницы. Но, видимо, по-другому я не понимала…»
Ей вдруг сделалось ужасно смешно. Она лежала на животе, затыкая рот скомканным свитером Франсуазы, и тряслась от неудержимого хохота, еле сдерживаясь, чтобы не загоготать в голос и не разбудить неведомых сокамерниц.
– Еще одна истерика! Ну и слабая же пошла молодежь! – раздался из темноты знакомый старческий голос. – Вас еще даже не пытали, а вы уже расклеились!
– Ида Моисеевна! – всхлипнула Санька и поскорей уткнулась обратно в свитер. – Это не истерика, это просветление! Ё-мое! Мне хорошо, как никогда в жизни!
И Санька согнулась от нового приступа смеха.
– Ну-ну, – пробормотала Ида Моисеевна, – нормальная реакция на шок. Когда выскакиваешь из проруби, тоже хохочешь как безумный.
– А вы что, еще и моржуете? – зашлась Санька.
– Зато до старости не выхожу из строя!
– На оправку! – заорали в этот момент в коридоре, и в камере, словно по команде, включился мерзкий мертвенно-белый свет.
– Шесть утра, – потянулась Ида Моисеевна. – Сейчас будем синхронно уринировать под гимн Михалкова.
– Дайте я вас обниму, борец-морж! – воскликнула Санька, вскакивая с лежанки. – Какое счастье, что это вы, а не какая-нибудь малярша, зарезавшая сожителя!
Просветление не просветление, но там, на жестком ложе казенного дома, Санька неожиданно пережила мгновение абсолютной ясности, когда вся жизнь раскрывается как единый замысел, полный, как ни странно, добра и невидимой заботы.
Она словно поднялась над разрозненными кусками своего существования и вдруг увидела в этом хаосе гармонию и определенную логику. Ей стало очевидно, для чего все было нужно и к чему подводило ее, не настаивая, но и не отступая.
Санька лежала, задыхаясь от смеха, а ум, как стадионный прожектор, скользил от одного эпизода к другому, высвечивая темные окраины и буераки, до того освещенные лишь огоньком сигареты и светом из чужого окна.
Даже то, что она всю жизнь не могла принять и простить – черная дыра на месте родителей, – каким-то невероятным образом было подцеплено и увязано в общий сюжет.
Прогнившие, безжизненные нити семейных уз тянулись от Железной Леди с ее неведомым детством, которое у нее все-таки тоже было, от ее родителей…
Что-то случилось там, разрушившее естественную линию передачи любви на несколько поколений вперед. Что-то настолько огромное и страшное, что не могло быть чьей-то личной виной, тьма, нагрянувшая со стороны, железное колесо большой истории…
– Девочка моя! – Ида Моисеевна, на которую Санька, нимало не смущаясь, весь день изливала свои прозрения, вскочила и забегала из угла в угол. – Воистину стоило попасть за решетку, чтобы это понять! И ты всю жизнь мучалась? Да ведь тут простая арифметика!
Она проворно забралась на нары, ткнула пальцем в побелку и начала писать на стене ряды цифр.
– Сколько тебе?.. Так, дети девяностых… Мать тебя родила?.. Ага, в двадцать! Стало быть – семидесятый… Сама она, ты говоришь, поздний ребенок… Около сорока… Получаем год рождения твоей Железной Бабки – тысяча девятьсот тридцатый! Да-да, помню, недавно ее восьмидесятипятилетие отмечали, статья вышла. Я же все газеты прочесываю… Итак, все сходится! Детство, причем уже осознанное, все понимающее детство – пик массовых репрессий. Отрочество – война. Кто-то из родителей или оба погибли, репрессированы, пропали без следа. Вероятнее всего, тридцать седьмой и пятьдесят восьмая.
– Почему?
– Устойчивый сценарий обрыва родственных связей. Железная Леди привычно, будто уже не первый раз это делает, вычеркивает из жизни дочь, та потом – по инерции – своих детей… Да, а перед этим был вычеркнут еще и отец девочки, она ведь тоже не из воздуха соткалась… Итак, устойчивый сценарий. Откуда он взялся? От погибших на войне родственников не отказывались, ими, наоборот, гордились. А вот от врагов народа – да, отрекались, чтобы выжить, забывали, как их зовут, меняли фамилии… Мы все – потомки предателей, палачей и жертв, о какой нормальной жизни может идти речь! О какой нормальной стране!..
– Скажите, – бесцеремонно перебила Санька, желая избежать очередного монолога о судьбах родины, – а вы – чей потомок?
– Я – дочь врага народа. И мне тоже меняли фамилию. Но только – в обратную сторону.
– То есть как?
– О, это уникальный случай! Большая любовь. И еще большая глупость, которая не обернулась трагедией лишь по чистой случайности… Начать надо с того, что я – незаконнорожденная. Мать – медсестра, вчерашняя студентка, отец – главврач, профессор, давно женат, взрослые дети… сорок пятый, всеобщая эйфория. Бурный роман, внезапная беременность, его жена пытается отравиться, он возвращается в семью, мама на сносях уезжает к родителям в шахтерский поселок… Я, разумеется, живу под ее фамилией, думаю, что папа погиб на войне, как у всех нормальных людей. И вдруг в один прекрасный день узнаю, что я больше не Сидорова, а Бронштейн. Что? Почему? Подружки, конечно, издевались: «Ты вышла замуж?» Мать ничего не объясняла: «Это фамилия твоего отца». И точка. Только став взрослой, я узнала, что его забрали по «делу врачей». И, сопоставив даты, поняла, что мое переименование было ее реакцией на его арест. Ты понимаешь, это же тройное безумие: дать внебрачному ребенку фамилию отца, обозначить родство с врагом народа, да еще и обнародовать еврейское происхождение – в самый-то разгар антисемитизма… К слову, он об этом так никогда и не узнал.
– Не выжил?
– Нет, оттуда-то он вернулся. Только они все равно больше не виделись. Она всю жизнь писала ему письма. Напишет, прочитает – и сжигает на свечке. Мы долго без электричества жили…
– А вы не делали попыток его найти?
– Конечно! Только уже поздно было. Ну, воспоминания коллег мне достались. Тоже немало по нынешним временам. С братом познакомилась, в той же больнице работал. От него, правда, ничего не добилась. Только начну расспрашивать – «Ты поправляешь очки точь-в-точь его жестом!» или «Ты точно так же потираешь руки!» – и взирает на меня с мистическим ужасом, как на призрак. Много лет спустя я наткнулась в архиве на его статейку, написанную сразу после ареста, где он поливает отца грязью и всячески от него отмежевывается. И поняла, почему наше сходство так его фраппировало.
– Значит, – задумчиво глядя в пол, проговорила Санька, – я могу надеяться, что когда-нибудь у меня получится простить. Раз никто не виноват, раз это – большая история. Хотя, конечно, выбор есть всегда, как показывает пример вашей мамы. Но никто не знает, как повели бы себя мы, оказавшись на их месте. Отреклись или устояли? Остались бы людьми или превратились в Железную Леди. Стало быть, мы не вправе осуждать… Вот вчера всего лишь простояли всю ночь в битком набитой клетке. «Вас даже еще не начали пытать», как вы обнадеживающе заметили. А я уже забыла всех, кого люблю. Только от Пушкина очнулась. Значит, и во мне она совсем близко, эта вымороженность, это железо. А слой любви – еле-еле, ногтем поскрести – и все… Есть один человек… Я думала, что и после смерти буду видеть перед собой его лицо… и руки… Думала, я умру, а моя любовь останется, настолько она сильнее и больше меня… Но и его я потеряла этой ночью, причем самого первого. Предала.
– Да, слой человеческого в нас очень тонок. Этому учит опыт лагерей. И войн. И голода. Весь двадцатый век – сплошное доказательство. И в то же время – человеческий дух неуничтожим. Потому что даже в самом аду они случались, эти редкие проблески человечности, когда люди, уже опустившиеся ниже животных, куда-то на уровень дождевых червей, вдруг на мгновение вспыхивали – и совершали то, на что только человек способен… Ты говоришь, мало любви, а откуда ей вообще взяться? Ну, по всем законам не должно ее тут быть! А она есть! Вопреки всему! Разве это не чудо?
– Чудо, – завороженно произнесла Санька. – Вот не ожидала от вас это услышать! Думала, меня ждут круглосуточные лекции о международном положении!
– И еще, я думаю, где-то у тебя в роду была большая любовь. Возможно, как раз между репрессированными родителями Железной Леди.
– Почему?
– А что же, по-твоему, помогло тебе выжить?!
– Ну, это уже чистая мистика.
– Упаси бог! Из меня мистик, как из тебя политик! Нет, всего лишь опыт. Многолетние наблюдения и размышления над механизмами передачи жизненной энергии от одного поколения к другому. Род – равновесная система. Если где-то пропасть, значит, рядом вершина…
– Жаль, что эту красивую гипотезу никак не проверить.
– Есть архивы. Даты жизни, происхождение, профессия – и общую картину можно восстановить.
– Ну, про любовь-то в архивах нет! И я все равно не знаю, как ими пользоваться.
– Тоже мне проблема! Иван Иваныча попросим. Он в этом деле большой спец.
– Кто это?
– Наш адвокат. Или у тебя есть другие кандидатуры?
Других кандидатур у Саньки, впервые столкнувшейся с отечественным правосудием, разумеется, не было. А после знакомства с их защитником никого другого ей и не хотелось.
Иван Иванович – сухопарый старик в инвалидном кресле – отстаивал интересы всех «политических», всех несправедливо обиженных и обобранных, особенно если в роли обидчика выступало государство. Главной его заботой была, конечно, Ида Бронштейн, которую он защищал с 1985 года. И по тому, как торжественно он произносил эту дату, Санька сразу догадалась, что речь идет о большой любви. Но Ида Моисеевна только рассмеялась в ответ:
– Какая любовь в падающем самолете?
– О, самая настоящая!
Денег за свои услуги Иван Иваныч принципиально не брал («Это не работа, а служение»). Его пенсии вполне хватало на чай и папиросы, а еду он презирал. Правда, у него, как у любого героя, за кулисами был кто-то, варивший ему куриный бульон и с боем повязывавший теплый шарф в морозы. Жена, или сестра, или другая терпеливая родственница. Об этом Санька тоже догадалась.
Иван Иванович совершенно не удивился, что его подзащитная больше, чем собственным делом, озабочена поиском оборванных родственных связей. И на следующее свидание принес две справки из архива. И даже был настолько корректен, что дал Саньке пережить эту встречу с прошлым и лишь потом, уже в дверях, сообщил страшную новость, касавшуюся ее самой.
И Санька была уверена, что именно фотография прабабки, Марии Александровны Полежаевой, которую она в тот момент держала в руках, помогла ей не сойти с ума.
Фотография, как водится, была сделана на следующий день после ареста. Молодая женщина смотрела в объектив спокойно, без страха, с еще не истребленным доверием к миру. Она не улыбалась, но тень улыбки витала у губ, явно привыкших часто улыбаться, целоваться, произносить ласковые слова…
Так легко было представить ее за столиком кафе или над клавишами рояля. Над утопающим в кружевах младенцем или над отрезом ткани в модном магазине… И совершенно невозможно – в камере, на допросе и тем более 25 августа 1937 года, когда приговор был приведен в исполнение…
«Двадцать семь лет, – быстро подсчитала Санька. – Почти ровесницы».
Но дело было не в этом. Совсем не в этом. Санька тщетно пыталась найти слова, чтобы объяснить ощущение чуда и счастья, рождавшееся от взгляда на фотографию.
– У нее такое лицо… – нерешительно проговорила она, как бы призывая старого адвоката на помощь.
– Да-да, – охотно отозвался тот, – сейчас таких лиц не встретишь. Лицо нормального человека. При том, что позади революция, голод, Гражданская, в самом разгаре террор… А в этой женщине все равно что-то такое…
– «Сила неискаженной жизни», – вдруг вспомнилось Саньке.
– Совершенно верно! Вы можете представить себе реальность, где у большинства такие лица? Я – нет.
– А я не могу поверить, что имею к ней какое-то отношение… Будто мне сказали, что моя прабабка – английская королева.
– То-то и оно, что не королева, а самый обыкновенный человек. Такими они были когда-то.
Санька замолчала и стала изучать второй листок. Фотографии там не было. Только анкетные данные. «Полежаев Павел Александрович» («О, как я с Пашкой угадала!»). «Год рождения: 1907». «Место рождения: Москва». «Беспартийный». «Дата ареста: 18 февраля 1937 г.».
«Через две недели после нее. Что он пережил за эти две недели? А ребенок?! Девочка Александра, семи лет… Сначала ты просыпаешься среди ночи и видишь, как чужие люди уводят твою мать. И мир рушится. Но остается еще отец… Она, наверное, не раз спрашивала: „Папа, а ты не исчезнешь?“ И он, разумеется, отвечал: „Нет. Не бойся“. А потом уводят и его. И мир рушится снова. А дальше, видимо, детский дом. В лучшем случае…»
– Обратили внимание? – спросил Иван Иваныч. – Даты смерти совпадают.
– «И умерли в один день…» – проговорила Санька. – Интересно, знали они об этом?
– Вполне может быть. Они же по одному делу проходили… Кстати, формулировка почти как у вас: «Заговор против советской власти».
– Как у нас?
– Да, Александра. Должен вам сообщить… Но мы будем бороться… Не отчаивайтесь…
«Это сон, – думала Санька, глядя в спокойные глаза прабабки Марии. – Я сплю».
Глава пятнадцатая Алеша
«Какая странная судьба, – думал Алеша, отрешенно держа на руках Пашку, который то выгибался, то извивался и никак не хотел засыпать. – Нет, не странная – чудовищная, несправедливая, издевательская. Именно мне, с моим гипертрофированным комплексом вины, три раза подряд выпадает этот фант: своими руками, из лучших побуждений отправить близкого человека в ад… Эй, вы, там, наверху, хватит скидывать на меня ядерные бомбы, одной было бы вполне достаточно, зачем же целых три? Но не буду роптать, еще ведь Петька с Пашкой остались… Тьфу-тьфу-тьфу!»
– Сдашь их в детдом – прокляну! – прошипела вчера ему на ухо исхудавшая Санька.
И так на него глянула, что Алеше, который столько раз запугивал бедных чиновниц «порчей и приворотом», стало не по себе.
– У меня и в мыслях не было!
– Знаю, – отрезала Санька и, немного поколебавшись, все-таки всадила нож: – Но ведь и нам ты не желал оказаться там, где мы сейчас…
– Санька! Это жестоко! Ты же знаешь, я не виноват! И при этом все время себя обвиняю! Зачем добавлять? Мы сейчас в одной упряжке: если выберемся, то только вместе! Не надо меня лягать!
– Прости, – тихо произнесла Санька и обняла его, легко протянув тонкие руки сквозь решетку. – Крыша едет от всего этого. Прости. Ты не виноват, конечно. Это судьба… «Судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке»… Но все-таки, умоляю, будь осторожен! Не вызывай «скорую», если они заболеют, не открывай дверь незнакомым, не оставляй их одних, никого не провоцируй и выброси, ради всего святого, этот распроклятый красный нос!
– Думаешь, он привлекает несчастья?
– Он привлекает внимание! А ты сейчас должен превратиться в самого незаметного человека на свете, чтобы ни одна бдительная бабка у подъезда не пожелала узнать, что это за одинокий фрик с двумя орущими мальчишками на руках. И чтобы тебя самого никуда не загребли! Ты у них один, понимаешь?! Если с тобой что-нибудь…
– Послушай, Санька, я тебя немного успокою. У меня есть мама. Она диабетик, у нее хватает проблем, поэтому я в свою жизнь ее не особо посвящаю. Но раз такая история… Короче, мы съездили в гости, я объяснил все вкратце, и она, если что, их примет, без вопросов. И дорогу к ней они запомнили. Номер трамвая, остановка, дом, квартира – отскакивает от зубов, я проверял… И не бойся, они не постоянно орут. Они же все понимают.
– Мама-диабетик в качестве запасного аэродрома – не слишком-то обнадеживает.
– Но Санька! С каждым из нас в любую минуту может что-нибудь случиться! Ты выходишь из дому, оставив на плите только что сваренный суп, и попадаешь за решетку, откуда неизвестно когда выберешься…
– Я раньше об этом не думала. Ну, теоретически, конечно, знала про кирпич, который может упасть на голову, но… Ведь невозможно всегда жить с ощущением хрупкости жизни. С ума сойдешь. Особенно когда речь не о тебе…
– Невозможность защитить любимых!
– Вот именно! Ты понимаешь, о чем я?
– Спрашиваешь!
– Это ужасно… Знаешь, я часто теперь пытаюсь представить, как они жили тогда, в страшное время… Ну вот, к примеру, моя прабабка и ее муж. Он, кстати, был художником, я тебе говорила? Как любили друг друга. Как прощались, уходя на работу, и никогда не знали, увидятся ли вновь. Какие слова говорили, как смотрели, как молчали… Я однажды ночью так ярко себе представила это, будто очутилась там. Вот ты идешь по улице и вглядываешься в каждого встречного: не он ли ангел смерти, посланный за тобой?.. Не он! И у тебя есть еще пять секунд до следующего прохожего, ты успеваешь выдохнуть и вдохнуть… Нет, я бы не выдержала!
– Но ведь, по сути, это всегда так. Ты делаешь свое дело, барахтаешься, ползешь, кропотливо возделываешь себя, как грядку… А потом – хлоп! – кирпич, цунами, пьяный водитель… и все твое бесконечно важное стирается в одну секунду, как ненужный файл… В страшные времена это просто становится… ну, очевидным, что ли.
– Но как же жить?! Чтобы жить, надо верить в будущее. Не обязательно в светлое. В какое угодно. В то, что оно вообще будет…
– Ну, оно по-любому будет. Только, может быть, без нас.
– Нет, я говорю про мое личное будущее, понимаешь? Я без него не могу… Вот как же говорят: мечтайте – и сбудется… Они что – врут?
– Не знаю. Мне это ты говорила.
– Но ведь у меня все сбылось! Невероятное, невозможное. До мельчайших деталей. До «взял меня за руку и увел из этой опостылевшей жизни»… Так почему я в итоге тут оказалась? Разве я об этом мечтала?
– Просто невозможно смириться с тем, что в мире есть многое, над чем мы не властны… И кто же мы в итоге: расходный материал истории или бессмертная душа, предстоящая Богу? Старый, как мир, вопрос.
– Знаешь, – проговорила Санька дрогнувшим голосом. – Мы заезжали в Дрезден. Это было совсем не по пути. Но он хотел, чтобы я на нее посмотрела…
– На кого?
– На любимую картину твоего любимого писателя… Я тоже долго перед ней стояла. И увидела ответ. На все эти страшные, безответные вопросы. Про страдание и Бога, про судьбу и свободу. Я этот ответ не знаю умом, в уме это точно не соединяется, хоть сто томов напиши. Но он есть, и мы все его когда-нибудь узнаем… Просто смотришь в ее лицо и ясно, без всяких доказательств, видишь: ответ есть… Недаром Федор Михалыч ходил туда, как на работу. Видимо, перед ней даже его немножко попускало.
– Санька ты Санька… Самое оно – говорить о Достоевском сквозь решетку, – невесело усмехнулся Алеша и тоже попытался ее обнять, но прутья не позволили. – Вот досада! Работает в одну сторону! Только для тех, кто на тюремной диете!.. Санька, а ты там что-нибудь ешь?
– Не могу! Меня начинает тошнить еще на другом конце коридора! Этот запах тухлой капусты, которым тут пахнет все, даже какао!.. Нет, лучше не будем о еде! Ида Моисеевна говорит: зачем даром мучаться, объяви голодовку – и с неизменным аппетитом съедает обе порции.
– Санька! Дождешься, тоже попадешь в реанимацию с диагнозом анорексия!.. Может, тебе чего-нибудь хочется? Я принесу! Если только не жареного поросенка, он сюда не пролезет!
– Не знаю… – Санька ненадолго задумалась, и вдруг лицо ее просияло. – Ну разве что кофе с шоколадкой!
«Эх, Санька, – вздыхал Алеша, осторожно прижимая к себе отпихивающегося Петьку, следующего на очереди в засыпание. – Санька, пронесшая сквозь все превратности судьбы любовь к кофе и шоколадкам. Через две недели, когда нас снова пустят к тебе, я принесу тебе самое лучшее, что найду в этом городе… И все-таки было жестоко обвинить меня. Ты думаешь, я сам не твержу себе это ежесекундно? Да, я пошел в милицию, надеясь отыскать Катиных родителей, – и она оказалась в детдоме. Да, я написал тебе, пытаясь спасти мою любовь… Кто же знал, что ты примчишься и в тот же день угодишь за решетку?.. И да, я вызвал „скорую“ к своей единственной, потому что после твоего ареста она перестала принимать даже воду, да, да, да… И разве я виноват, что из реанимации ее перевели не в палату для выздоравливающих, а в психиатрическую лечебницу? Да, я все это сделал своими руками… А что? Надо было сидеть и смотреть, как она умирает?»
Наступало самое мучительное время. Мальчишки в конце концов засыпали, и Алеша представал перед судом, бесконечным, как дурной сон Кафки. Прения давно зашли в тупик, прокурор и защитник твердили одно и то же, пререкаясь без всякого азарта, словно старые кумушки у подъезда: «Виноват» – «Не виноват» – «Виноват» – «Не виноват», – и так до рассвета, пока Алеша с лопнувшей головой не падал на тахту.
А впереди был новый день, требующий напряжения всех сил, стопроцентного присутствия.
Ежедневные свидания с Катей: «Когда мама Маша придет? Она плохая! Ты плохой! Ты украл мою маму! Я убью тебя!»
Кружок актерского мастерства в детдоме, постепенно превращавшийся в клуб разговоров за жизнь: «Моя цель не в том, чтобы кто-то из вас стал актером. Хотя все может быть. Но я здесь для другого. Я хочу попытаться передать вам способ наименее травматичного общения с реальностью. Жизнь жестока, вы это уже поняли. Единственный шанс уцелеть – это вовсе не ответная агрессия, как вы считаете. Агрессия выжигает все внутри. Вы выживете, но жить не сможете. Зачем это нужно?.. Я хочу научить вас смеяться. Смеяться, когда хочется плакать. Смеяться, когда хочется лечь и умереть. Смеяться, когда хочется схватить автомат и поливать направо и налево. Потому что смех – это единственная возможность не только выжить, но и победить тех, кто вас сильнее».
Ежедневное кормление осиротевших кошек Иды Моисеевны: «Инессе ни в коем случае нельзя кошачий корм, у нее больной желудок. Свобода пьет только обезжиренный кефир, не перепутайте». – «Зачем вы дали бедной киске такую дикую кличку?» – «Затем, что она часто убегает, а мне приятно стоять посреди двора и орать: „Свобода, Свобода, Свобода!“ Могу я иметь причуды в моем возрасте?»
Ежедневные встречи с адвокатом (Алеша проходил как свидетель защиты), героическим Иван Иванычем в инвалидном кресле: «Прокурор недавно попался на взятке в несколько миллионов. Чтобы это замять, нужно громкое дело федерального значения. Вот он и сфабриковал из защитников леса заговор с целью государственного переворота. А Идочка и Александра – главари». – «Она же там случайно оказалась!» – «Ничего не поделаешь, оранжевая палатка – штаб». – «Но им ведь не дадут двадцать лет, это просто невозможно!» – «Прокурор будет выслуживаться. Может попросить по максимуму». – «Курам на смех!» – «И мы посмеемся. Когда они выйдут на свободу».
Ежедневное (впервые безрезультатное) сидение с красным носом в кабинете молодого главврача: «Не боитесь, что я вас тоже заберу за такое… хм-хм… неадекватное поведение?» – «Буду счастлив!» – «Мужское и женское отделение все равно на разных этажах, а двери на лестницу заперты». – «Какая жестокость! Буду лазить через окно!» – «Уходите!» – «Выписывайте под мою ответственность!» – «Это ис-клю-че-но!» – «Она же не буйная!» – «Повторяю: психические расстройства в домашних условиях не лечатся!» – «Ну, разрешите хотя бы принести ей рукоделие! Она с ума сойдет без своих медведей!» – «Иголки, ножницы? Шутите! Здесь даже пластилин нельзя – они его глотают и давятся!» – «А что можно?» – «Краски и бумагу». – «Так дайте!» – «Давали. Не проявила интереса».
И ежедневная расклейка объявлений: на вокзале, набережной, у поликлиники: «Привет, Скворец!» – и его, Алешин, телефонный номер.
Это Петька с Пашкой придумали. И после садика шли проверять свой маршрут. За день почти все объявления срывали, приходилось клеить заново. Потом Алеша сообразил сделать трафарет, и они забомбили городские тротуары этим безнадежным приветствием.
«А что мы будем делать, когда выпадет снег?» – «Перейдем на стены». – «А если он так и не вернется?» – «Поедем его искать». – «А если не…» – «Хочешь барбариску, Петр?» – «Хочу суп! Меня уже тошнит от твоих конфет!» – «Отличная новость!»
* * *
Нет, выкидывать красный нос Алеша не торопился. Был еще один человек, еще одна неприступная крепость, которую он собирался осадить в таком виде, отлично понимая, что его фокусы и пантомимы, выбивавшие из седла обычных начальственных теток, тут не сработают. Красный нос нужен был ему как смехотворное укрытие, как крошечный щит в руках безоружного человека, идущего против танковой дивизии.
Нельзя сказать, что другой надежды у него не было. Потому что это была не надежда, а абсолютная, заведомая безнадежность, полный провал, предрешенный еще до начала всяких действий. Он так и сказал ей, входя и отвешивая шутовской поклон в дверях огромного кабинета:
– Я ни в коем случае не надеюсь на вашу человечность, мадам. У меня нет иллюзий, что я вдруг обнаружу внутри вас живую душу. Проще было бы выжать воду из кирпича, налить в решето и напоить всех жаждущих…
– У вас десять минут. Мне сказали, что вы журналист, а не проповедник.
– Мы можем уложиться и в минуту. Все зависит от вашей доброй воли, в существование которой я, правда, не верю…
Произнося это нарочито спокойным, бесцветным голосом, Алеша сделал два быстрых движения, которые до автоматизма отрепетировал во время бессонных ночей: заблокировал дверь ножкой стула и полоснул острым ножом по телефонному проводу.
– Не переживайте, мадам. Обещаю оружием больше не пользоваться. Не Раскольников.
Алеша аккуратно положил нож на подоконник, нацепил красный нос и уселся нога на ногу в кресле для посетителей.
Железная Леди смотрела на него без всяких эмоций. Правда, выражение брезгливой скуки исчезло с ее пергаментного лица, что можно было считать успехом.
– Я не журналист. И не проповедник. Я муж вашей младшей внучки.
– У меня нет детей.
– У вас есть дочь. И у нее – две дочери. Ваши внучки. У вас даже правнуки есть: Петр и Павел.
– Очень остроумно. Но у меня нет и никогда не было детей.
– Как хотите. Я никуда не тороплюсь. Могу сидеть здесь до второго пришествия и ждать, пока в вас проснется память. Скажите, доктор, амнезия излечима?
– Нет.
– Я так и думал. Ждать придется долго.
– Осталось пять минут. И я возвращаюсь к своим делам. В отличие от вас мне есть чем заняться.
– А как же заслуженный отдых? Понимаю, страшно остаться одной. И взглянуть в лицо неизбежному. Никто не знает, что там, за чертой, к которой вы подошли почти вплотную.
– Ничего.
– Это ваша вера. Такая же безосновательная и недоказуемая, как вера ваших внучек в добрых ангелов и Золотой город. Вы понимаете? Шансы равны: пятьдесят на пятьдесят. Либо да, либо нет.
– Две минуты.
– Предлагаю подстраховаться. На случай, если вера в ничто вас обманет.
– Не думала, что в наши дни кто-то торгует индульгенциями.
– О нет. Отпущение грехов не по моей части. Я вам принес луковое перышко. Знаете такую притчу?
– Знаю. Минута.
– У вас отлично варит голова… для вашего возраста… Главврач психдиспансера, думаю, вам знаком.
– Да.
– Одного звонка будет достаточно, чтобы вашу внучку отпустили. Фамилия у нее – как у вас.
– Такими вещами не занимаюсь. Полминуты.
– Это – о младшей. Теперь старшая. Ваша полная тезка, между прочим. Один звонок областному прокурору. Наверняка он тоже лечился или консультировался. И чем-нибудь вам обязан.
– Время закончилось. – Железная Леди достала из ящика папку и надела очки.
– О луковом перышке у меня все.
Алеша по привычке высыпал на стол горсть барбарисок и, немного поколебавшись, посадил рядом последнего из ее медведей, темно-синего, в оранжевом колпачке.
– Сувенир. От младшей.
Обернувшись в дверях, он увидел, как Железная Леди четким жестом сметает в корзину для бумаг конфеты и игрушку. Может быть, немного слишком поспешно.
– «Не терплю, когда на столе беспорядок», – дамским голосом прокомментировал Алеша.
«Что ж, по крайней мере быстро, – вздохнул он, снимая в коридоре нос. – Теперь можно вздохнуть свободно: надежды больше нет… Как смешно, провод перерезал, думал, она занервничает, будет звонить, чтобы меня выдворили…»
В кармане задребезжал телефон.
– Привет, – произнес кто-то сдавленным от смеха голосом и засвистел: – Фюить-фюить… Вы что, продаете скворечники?
– Нет, – устало ответил Алеша. – Это квартира Зайцевых. Видите, из трубки уши торчат!
«Надежды нет. Зато еще полгода мне будут звонить хихикающие школьники и свистеть в трубку, изображая скворцов. Какое счастье…»
Глава шестнадцатая Неволя
Ночью, когда тоска заполняла камеру, как вода на картине «Княжна Тараканова», Санька прямо под свитером стягивала с себя тельняшку и утыкалась в нее, пытаясь различить едва уловимый запах своего счастья. Все остальное уже намертво пропахло тухлой капустой: и свитер многочадной Франсуазы (как он пригодился в этом неотапливаемом аду!), и волосы, и мысли…
Звездная ночь больше не вспыхивала в ней каждую секунду, она опустилась глубоко, на самое дно души. Санька закрывала глаза и видела перед собой лишь бесконечные коридоры с одинаковыми дверями, за каждой из которых томилась чья-то обезображенная жизнь.
Она плыла сквозь эти коридоры, становившиеся все длиннее, сквозь тошнотворный стук ложек в столовой, сквозь огромный портрет президента в кабинете следователя («Кто это там на стене? Ваш родственник?» – «Я бы на твоем месте уже разучился шутить». – «Так точно!»), сквозь похоронное лязганье закрываемых за спиной дверей…
Плыла сквозь всю эту заунывную, бредовую нереальность, прижимая к лицу его тельняшку, словно акваланг. Пока наконец не оказывалась на берегу моря, на краю земли, в начале и в конце, в своей сияющей точке.
«Живого всегда можно найти… Ее звали Мария… Ну, я-то тебя люблю, чем же еще я, по-твоему, тут занимаюсь?..»
С каждым днем возвращение давалось ей все труднее, голос его звучал все глуше, то и дело перекрываемый репликами Иды Бронштейн или занудным хамством следователя Смирнова.
«Нет-нет-нет, не хочу вас слушать, довольно! Я не ваша, я не здесь, я там… Он закрывал мне глаза руками и повторял одно лишь слово: „Мечтай!“… „Не могу же я уйти навсегда с твоим чемоданом… Дурачье, выброси лучше свою пластинку“… „Ида Моисеевна, как вас угораздило купить именно оранжевую палатку, мне теперь шьют связи с Майданом!“ – „На распродаже не было других цветов!..“ – „Нет-нет… Я не об этом…“ – „А о чем же?.. Ах, да. Море, Париж, любовь“… „Отдашь их в детдом – прокляну!“ – „Санька, это жестоко“… „Мама, ты кого-то убила? Но ведь в тюрьму сажают только плохих?..“ Может, я оказалась тут, потому что все время ждала несчастья? Я же непрерывно боялась, что вот сейчас все оборвется… А этот страх – насколько он мой? Вдруг он тоже – из прошлого? И моя задача – от него освободиться? Но как тут освободишься, если до сих пор ты можешь выйти из дому – и загреметь на двадцать лет… Замкнутый круг».
Однажды ей вообще не удалось пробиться внутрь сквозь шум и маету дня. Под утро она поймала себя на том, что всю ночь прокручивала в голове наставления адвоката, пререкалась с конвоирами, писала, не вникая в смысл, очередное заявление.
«Где ты, мой ангел?» – попыталась ужаснуться Санька.
Но в голове вместо этого всплыл обрывок недавнего разговора с Идой Моисеевной, рифмовавшийся с каким-то далеким воспоминанием, которое Санька никак не могла выудить из памяти, и это почему-то беспокоило ее гораздо больше, чем невозможность вспомнить лицо любимого: «Мы начинали из глубокого минуса. Вы – добрались до нуля. Ваши дети уже берут старт из плюса: есть шанс, что они будут нормальными людьми. На самом деле вся надежда лишь на это. Я, конечно, борюсь, я по-другому не умею, нас же воспитывали героями. Но я сознаю, что исцелит нас только время. Разумеется, при условии, что оно будет более-менее мирным, без страшных исторических потрясений. Но это вряд ли».
«Где ты? Ну где же ты? – снова позвала Санька. – Если я не вспомню тебя, хотя бы на минуту, как я переживу весь этот бесконечный день? Вот сейчас уже заорут „на оправку“ – и я останусь ни с чем. Неужели они сумели отнять даже тебя? Где ты?! Нет, ты есть. Там, в огромном прекрасном мире. Это меня нет. Но я должна быть. На случай, если ты меня все-таки ищешь… А вдруг действительно двадцать лет? Тогда ничего не нужно… „Борьба не имеет смысла, но я буду бороться до последнего, потому что я – человек“ – это вы, Ида Моисеевна, закаленный борец, а я – нет. Я уже сейчас готова сдаться. У меня больше нет ни сил, ни слез, ни любви…»
Санька отняла от лица тельняшку. Медленно, как побежденный опускает флаг. И тут же вездесущая вонь хлынула в нее («Кто придумал, что ад пахнет серой? Он воняет тухлой капустой». – «Этот запах чувствуешь только ты»).
– Ида Моисеевна, умоляю, проснитесь! Я не могу дышать! Во мне не осталось ничего живого!
– Для мертвеца ты слишком сильно меня трясешь.
– Я не чувствую себя! Что делать?
– Стихи.
– Я ничего не помню! Помогите!
– Ну, слушай.
Ида Моисеевна тяжело вздохнула и, не открывая глаз, начала:
Мир останется прежним, Ослепительно снежным И сомнительно нежным. Мир останется лживым, Мир останется вечным, Может быть, постижимым, Но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка От веры в себя и в Бога, И значит, остались только Иллюзия и дорога. И быть над землей закатам, И быть над землей рассветам. Удобрить ее солдатам, Одобрить ее поэтам…В тот момент, когда скрипучий, как старое дерево, голос Иды Моисеевны произнес слово «дорога», Санька вдруг без всяких усилий увидела перед собой его лицо. Спокойное и изменчивое, как вода в ветреный день. Насмешливое и нежное. Выученное наизусть и всегда незнакомое. Лицо, которое так трудно вспомнить здесь, за решеткой…
Он стоял на обочине, подняв большой палец. У ног его громоздился желтый чемодан, набитый ее рисунками. Машины неслись мимо, не останавливаясь. Белые крылья были в пыли.
Он словно почувствовал ее взгляд, обернулся и посмотрел прямо в глаза. Вопросительно, тревожно, совсем беззащитно. Будто говоря: «Я иду. Но путь мой далек. Сумеешь ли ты дождаться?»
– Плачешь, Александра? Значит, все нормально…
– А «Жди меня, и я вернусь» знаете?
– Конечно.
– Имейте совесть! Вам дня мало? Бубнят и бубнят свою заумь!
– Послушайте, Любовь. Это стихотворение вам тоже будет понятно. Вас на воле кто-нибудь ждет?
– Муж у меня, – вздохнула недавно подселенная к ним продавщица Любка. – На десять лет моложе. И дочь, сука, взрослая совсем. Как бы не снюхались там без присмотра…
– «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» – начала Ида Моисеевна.
– На оправку! – донеслось из коридора.
И новый день наотмашь ударил по глазам противоестественным светом голой лампочки. Санька привычно зажмурилась, но вместо всегдашнего отвращения вдруг испытала давно забытое чувство. Впервые за все это время ей остро, до зуда в ладонях, захотелось рисовать.
Побелкой на стене она изобразила Иду Бронштейн, и Любку, и печальную женщину Мирру, их вторую сокамерницу, которая, о чем бы ни бралась говорить, вскоре всегда произносила фразу «этот безумный мир».
На допросе следователь Смирнов в очередной раз запутался в собственных построениях и, как обычно, безнадежно спросил, не хочет ли Санька сама во всем признаться.
– Дайте бумагу и карандаш, – велела она.
– Сейчас-сейчас, – засуетился Смирнов, не веря собственному счастью. – Зачем же карандаш, у нас и ручка найдется.
– Карандаш удобнее исправлять. А ручкой все сто раз переписывать придется.
– Да-да, разумеется. Вот, возьмите, – от радости он даже перешел на «вы».
Санька устроилась поудобнее и быстрыми штрихами стала зарисовывать его невыразительную физиономию.
– Чем это ты занимаешься?
– Спокойно. В Париже за портрет мне платили пятьдесят евро. С вас, по знакомству, денег не возьму. Сидите, пожалуйста, смирно, не дергайтесь. Думайте о чем-нибудь. Работа мысли облагораживает даже самые примитивные лица. Например, о том, как свести концы с концами в этом вашем госперевороте. Я тут вам не помощник, ничего не смыслю в политике. Так что оставьте надежду, что я возьму и сама сочиню себе роль в истории. Придется потрудиться.
Когда через несколько дней Саньку опять привели на допрос, следователь Смирнов, разглядывая полировку на столе, неожиданно промямлил:
– Тут вам один человек. Просил передать. Вот это.
И положил перед ней альбом.
– Кто?! – взвилась Санька. – Кто, я вас умоляю!
– Откуда я знаю, – отшатнулся следователь. – Чего орешь, припадошная! Сядь!
– Как он выглядел? Опишите!
– Да никак! Вот взбеленилась! Бери, пока дают!
– Ну, пожалуйста, – прошептала Санька, прижимая руки к колотящемуся сердцу. – Не мучайте меня. Скажите, кто этот человек? Я должна знать…
– Ну, я… Какого черта…
– Вы? – Она рухнула на стул. – Вы?.. Вы!.. Большое спасибо… А я-то… Вот спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо, ах, спасибо, спасибо-спасибоспасибоСПАСИБООООО
– Эй, кто там? Врача! Тут припадок!
Вечером Санька лежала как бревно, наслаждаясь полным бесчувствием, и разглядывала пятна на потолке. Любка с Миррой под руководством Иды Моисеевны писали заявление о выдаче прокладок.
– Беспредел! – кипятилась старушка. – Раз в месяц по уставу они должны! А мы с Александрой тут уже полтора…
– И как же вы справлялись? – хихикнула Любка.
– Ну, я-то уже никак. А Александра… Александра! Расскажи товарищу, как ты вышла из критического положения? И вообще, надо было отстаивать свое право на личную гигиену, а не таиться!
– Сань, ну правда, как? – пихнула ее в бок Любка. – Вдруг не выдадут? А у меня вот-вот…
– Да никак, – ответила Санька с интонацией следователя Смирнова и пожала плечами. – Откуда я знаю.
– Не было еще, что ли?
– Не-а…
– Так ты чё?! Александра?! – воскликнули одновременно Любка и Ида Моисеевна.
А Мирра вздохнула, и на лице ее ясно читалось: «Этот безумный мир»…
– И от еды тошнит! И с тухлой капустой всех заколебала! – возбужденно переговаривались над ней женщины. – И истерику на допросе устроила…
Санька вдруг рывком села и обвела всех ошарашенным взглядом.
– Дошло? – хмыкнула Любка.
– Срочно пиши заявление на осмотр гинеколога! – скомандовала Ида Моисеевна. – Трое – это уже многодетность. Могут смягчить приговор. Хотя им что трое, что семеро. Только раззадоривает…
Но Санька и без всяких докторов уже знала, что это – правда. И даже знала, что там – девочка. И что звать ее будут тем самым именем, которое он с таким трудом выговорил тогда, на краю земли: Мария.
Даже если он об этом никогда не узнает.
Необъяснимое и совершенно неуместное чувство покоя объяло ее, как море. И ей оставалось только лежать, раскинув руки, улыбаться огромному небу и ждать, пока волны сами вынесут ее к счастливым берегам.
Глава семнадцатая Мария
Странное дело, он вдруг заметил, что мысленно тоже называет ее Марией. Долгое время любимая жила внутри него безымянной. Случайное имя, попавшее в документы, не имело к ней никакого отношения и конечно же не могло служить сосудом его нежности и боли.
Маленькая Катя без тени сомнения отмела этот бумажный призрак и, поменяв всего лишь одну букву, неожиданно попала в цель.
Она не стала спорить. Не только потому, что спорить с Катей было бесполезно. Новое имя не вызывало протеста, откликаясь чему-то внутри. Оно витало рядом, осторожно прикасаясь к ней, каждый раз, когда Катя уверенно произносила: «Мама Маса».
В детском доме Катя сразу поставила всех в известность, что попала сюда случайно, что у нее есть «мама Маса», которая завтра же к ней придет.
Поэтому, когда она, прижимая к колотящемуся сердцу мешок разноцветных лоскутков, впервые переступила порог актового зала, ее приветствовал нестройный хор: «Здравствуйте, тетя Маша».
Катя строго-настрого предупредила, что тому, кто скажет «мама Маша», она «откусит голову и выплюнет ее в лужу». А об остроте Катиных зубов и быстроте реакции все уже знали: обряд избиения новичка совершался в спальне в первую же ночь.
«Тетя Маша, а как дальше?» – «Теть Машь, вдень нитку!» – «А можно мне синюю бусинку, тетечка Машечка?» Вразнобой повторяемое детскими голосами, имя обретало плоть, утрачивало случайность и незаметно оказалось крепко-накрепко пришито к ней неумелыми, кривыми стежками.
Алеша сначала называл ее так при детях. Потом – говоря о детях. А поскольку они теперь только об этом и говорили, то «тетя Маша» стало чем-то вроде ее домашнего прозвища.
Но внутри него она по-прежнему оставалась безымянной.
И вот теперь она была там, откуда он не мог ее вызволить. По ночам он стоял у окна – того самого, под которым она когда-то плакала от музыки, – и звал ее, звал, безнадежно выкликая любимую тень из ада. И не было у него другого инструмента, кроме звенящей тоски, и другой песни, кроме ее имени, которое вдруг укоренилось и проросло в нем.
«Вы хотите, чтобы я ее выписал, а она не может даже ответить, как ее зовут!»
«Я буду звать тебя – и ты вспомнишь. Буду звать – и вернешься. Буду звать, раз за разом закидывая невод во тьму. Буду звать, вытягивая его пустым. Буду звать, закидывая снова… Потому что, пока я зову, ты есть. Потому что, пока я зову, я есть. Потому что лишь те, кого зовут, имеют надежду вернуться. И лишь тот, кто зовет, имеет надежду дождаться…»
Иногда ему разрешали свидания. В присутствии санитара, свирепо сопящего носом, как бульдог. Или другого, который, пряча руки за спиной, отковыривал отросшие ногти. Или третьего, что тут же садился на корточки и доставал из кармана потрепанного Ницше в бумажной обложке…
Она молчала. Она теперь всегда молчала. И он молчал. Просто обнимал и ждал. И иногда успевал дождаться: ее деревянные плечи делались чуточку мягче под его рукой. И этой малости хватало неприхотливой надежде, чтобы жить.
Почему он молчал? Непрерывно говорящий с ней, даже во сне, даже говоря с другими, он знал, что его слова не смогут пробиться в эту башню без дверей и лестниц. Туда можно было только взлететь. Но он еще не отрастил крылья.
Лес становился все меньше. Вырубке больше никто не мешал. По выходным с Петькой и Пашкой они ездили туда, пытаясь отыскать дерево, где жил Хозяин. Это было последнее, о чем она просила перед Катастрофой, и Алеша упорно пытался выполнить ее просьбу, совершенно не надеясь что-то этим изменить. Просто потому, что не мог ничего не делать.
«Надо вспомнить, как он выглядел, – предложила Санька, от безнадежности тоже „подключившаяся к бреду“. – Я нарисую. А потом – найти, кто сошьет. У меня с этим еще хуже, чем с политикой: даже дырку не могу заштопать!»
Недолго думая, он отнес портрет Хозяина в детский дом:
«Это вам задание от тети Маши». – «А где она?» – «Болеет». – «Она вернется?» – «Будем ждать».
Они шили долго. Они старались. Но без нее многие выдыхались и сходили с дистанции. Алеша, не умевший вдевать нитку в иголку, не мог ничем помочь.
И все-таки одного медведя, совершенно не похожего на прообраз, им удалось общими усилиями довести до конца.
Это было накануне, как выражалась Санька, «Судного дня» – первого заседания суда по делу защитников леса.
Алеша поцеловал детского медведя в пуговичный нос и помчался на трамвай. Часы посещения больных он уже пропустил. Но все равно поехал, сам не зная, к чему так спешить, в необъяснимой уверенности, что надо успеть сделать это сегодня.
У него было странное чувство, что тьма и ужас дошли до предела, за которым могут переломиться – и рассыпаться в ничто, уступая место нормальной жизни. Но произойдет это лишь в том случае, если он воспользуется моментом и вовремя вгонит клин в приоткрывшуюся трещину, чтобы не дать ей снова захлопнуться.
Алеша трясся в трамвае, сжимал в кармане медведя, который постепенно становился теплым от его ладони, и пел себе под нос:
– Завтра ветер переменится, завтра прошлому конец…
Все было как прежде: каждая в своем аду – и никаких объективных поводов для надежды. Но его бородатое лицо озарялось абсолютно неадекватной, счастливой улыбкой.
«Тоже начинаю сходить с ума. Что неудивительно. И даже по-своему облегчает жизнь…»
На крыльце больницы курил санитар-ницшеанец. Алеша подскочил к нему:
– Я все понимаю: «по уставу не положено» и «падающего толкни», но мне очень надо ее видеть. Прямо сейчас. Прошу вас! Это важно!
Санитар криво ухмыльнулся, метнул окурок мимо урны и молча пошел внутрь. Алеша двинулся следом.
– Куда? – окликнул его охранник.
– Практикант, – бросил через плечо ницшеанец.
– Пусть халат наденет.
– Ясное дело.
– Тебе повезло. Начальства нет. А я все равно увольняюсь, – произнес санитар, когда Алеша, споткнувшись на темной лестнице (свет горел только где-то наверху), непроизвольно ухватился за его рукав.
– И кем планируете потом работать? – Столь неожиданно начавшуюся беседу надо было поддержать, пусть и самым идиотским образом.
– Наемным пушечным мясом.
– Разве где-то война?
– Она всегда где-то. Жди в подсобке. Приведу, если не спит.
– Ну, можно и разбудить!
– Наивный. Здесь так спят, что даже трубы архангелов не поднимут…
Через пять минут санитар спустился, ведя за руку маленький белый призрак в ночной рубашке огромного размера.
– Услышишь, что сюда идут, прячь ее в шкаф, где халаты. Я буду поблизости. Но если кто-то заблажит, могу и отлучиться, – предупредил он, поднялся на несколько ступенек и уткнулся в свою книгу.
В подсобке горела тусклая лампочка. Алеша сдвинул в сторону груду невероятного хлама, громоздившегося на столе, и усадил на освободившемся пятачке нового медведя. Она по-прежнему стояла в дверях, безучастно глядя себе под ноги. Он мягко взял ее за подбородок и попытался направить неподвижный взгляд в нужную сторону…
Все произошло быстро. Он даже не успел ничего почувствовать. Она вдруг сделала шаг, взяла мишку в руки и улыбнулась ему, как живому.
– А я сначала подумала, что ты – Хозяин Леса, – сказала она так обыденно, будто их не было: этих бесконечных месяцев молчания.
– Дети сшили, – ответил он тоже совершенно спокойно, будто Ниагарский водопад только что не обрушился ему на затылок.
И тут его осенило.
– Да, – продолжал он уже другим, не своим, голосом. – Меня сшили твои дети, Мария. Они кололи себе пальцы иголками, проклинали запутывающиеся нитки, но шили. Они очень хотят, чтобы ты вернулась… Белоголовая девочка, что зовет тебя мамой, она больше не может ждать, и все-таки ждет, проклиная и плача… А дети, которые плачут на улицах, – ты забыла о них? Чьи руки сошьют и приведут к ним медведей-утешителей? Где твои руки, Мария? Почему они опустились?.. Тот человек, что принес меня сюда в кармане, он тоже тебя зовет. Мария! Он так тебя зовет, что корабли сбиваются с курса и перелетные птицы летят не туда. Неужели ты не слышишь?..
– Я слышу, – тихо произнесла она, глядя на медведя как завороженная. – Я вернусь. Просто мне слишком страшно.
– Не бойся, Мария. Страх ничего не изменит. Что-то сделать может только любовь. А она у тебя есть.
– Извиняюсь. – В подсобку заглянул санитар-ницшеанец. – Пора. Мое дежурство заканчивается.
«Ты ушел, – говорила она потом, когда все действительно было позади. – А твой медведь продолжал со мной разговаривать. Повторял и повторял эти упреки. И это имя… Ты ушел, а он продолжал меня звать… И когда мне опять становилось страшно и хотелось закрыться в той башне без окон и дверей, я хватала его за лапу, и он сурово тащил меня сквозь паутину и бурелом. Обратно к людям. Он ведь тоже оказался Хозяином Леса, того черного, мертвого леса, через который мне надо было пройти, чтобы вернуться…»
Когда Алеша, разбрызгивая лужи и распугивая ворон, подбегал к остановке, у него зазвонил телефон. Номер был незнакомый.
«Очередной скворец решил мне посвистеть», – блаженно улыбаясь, подумал он и крикнул в трубку:
– Кто говорит? Это слон?
Ему что-то ответили. И лицо у него вытянулось.
Глава восемнадцатая Судный день
– «Но есть и Божий суд, наперсники разврата…» – грозно декламировала Ида Бронштейн, конвоируемая в зал суда.
Санька осторожно шла за ней, стараясь не выронить спрятанный под тельняшкой альбом следователя Смирнова. Она собиралась развлекать себя жанровыми зарисовками во время многочасового безделья на скамье подсудимых.
– Александра! Ты подготовила свою Нобелевскую речь? Как какую? Тебе же дадут слово!
– Мне с ними не о чем говорить, Ида Моисеевна. Могу уступить свою порцию гласности вам.
Зал был набит битком. В последнем ряду, скрючившись, чтобы спрятать за спинами свой клоунский нос, сидел Алеша. Когда ввели Саньку, он вскочил и разыграл жгучую пантомиму, смысла которой она не уловила, но все равно развеселилась. Алеша то прижимал обе руки к сердцу, то махал ими, будто собирался взлететь, и все время показывал ей большой палец, улыбаясь от уха до уха. Таким счастливым она его никогда не видела.
Рядом с ним сияли и тоже что-то изображали Петька с Пашкой. Все трое пребывали в отличнейшем расположении духа, будто пришли в цирк, а не в суд, который мог приговорить Саньку к двадцати годам.
«Вот чудные! – удивилась она. – Может, им обещали, что нас оправдают?»
– Журналистов полно, – довольно бормотала Ида Моисеевна, кивая знакомым. – «Радио Свобода», Би-би-си, «Голос Америки», телеканал «Аль-Джазира»…
– Это где Бен Ладен выступает?
– Александра, ты безнадежна! Я же объясняла…
– Встать, суд идет!
На трибуну, величественно колыхаясь, вплыла судья, в своей необъятной мантии похожая на оперную диву. Она уже начала произносить ритуальные фразы, как вдруг возникла некоторая сумятица: охранники пытались открыть вторую половину двери, чтобы в зал смогла протиснуться коляска Ивана Иваныча.
– Пятнадцать лет сюда езжу, – ругался адвокат. – И до сих пор ни пандуса, ни дверей нормальных! А деньги выделяли, я точно знаю! Куда они, спрашивается, ушли? А, Сергей Семеныч?
Прокурор, вяло перебиравший бумажки, брезгливо поморщился.
– Ну, подавайте иск, – устало произнесла судья.
– И подам!
– Давайте, давайте… Время идет…
– Я, между прочим, пунктуален. Просто всегда приходится ждать внизу, пока кто-нибудь вспомнит, что я не летаю и без посторонней помощи не могу преодолеть двадцать ступенек!
– Это тот самый – взяточник? – громким шепотом спросила Санька, кивая на поджавшего губы прокурора.
Несколько зрителей, сидевших рядом, обернулись и захихикали.
– Не дразни бизона, Александра. В его руках наша судьба.
– Ида Моисеевна, я сто лет не была в церкви, но все же смею надеяться, что наша судьба совсем в других руках.
– Подсудимые! Вы мешаете!
– Нам желтая карточка? Ладно, буду молчать. Борец-морж, вы меня толкнете, когда начнется важное?
– Зачем? Ты все равно ничего не поймешь!
– А вы переведете!
– Ладно уж, сиди рисуй, пока альбом не отобрали.
«Слово предоставляется… прошу приобщить к материалам дела… протестую… протест отклонен…» – долетали до Саньки обрывки камлания.
«Какие скучные у всех голоса. А уж лица… Наверное, они проходят специальный кастинг, чтобы здесь работать… Петька с Пашкой долго не продержатся. Зачем он только их сюда притащил?»
– Ну как? Мы тонем, Ида Моисеевна?
– Нас топят. Не отвлекай.
Вдруг дверь распахнулась, и в зал стремительно вошел белый мим на ходулях. Санька помертвела и вцепилась в скамью подсудимых, чтобы не упасть. Он нашел ее глазами, подмигнул и соскочил на пол. Крылья взметнулись. Блеснул черный ствол автомата.
– Он вооружен! – завопил Алеша голосом пожилой истерички. – Спасайся кто может!
– Вооружен! Вооружен! – пронеслось по залу.
– Алле-оп! – тихо произнес Скворец.
И в ту же секунду Петька с Пашкой, будто ждали, пулей бросились к нему и прыгнули один на шею, другой на спину. Они столько раз проделывали этот фокус во время их путешествия, что все получилось ловко и молниеносно, как в настоящем цирке. Один из охранников, при виде автомата потянувшийся было к кобуре, растерянно опустил руку.
Дальше все стало происходить одновременно, будто дикая карусель закрутилась по залу, расшвыривая картонные декорации. Кто-то вскочил, кто-то побежал, кто-то, наоборот, упал на пол. В кого-то Скворец метнул ходулю, при этом Пашка восторженно завопил: «Вау! Как Брюс Ли!»
Алеша плясал на стуле, размахивал оранжевым пистолетом и выпускал очереди мыльных пузырей в судью и прокурора.
– Сдавайтесь, тролли! Вы окружены! – с упоением горланил он.
– Вив л'анарши! – откликались в другом конце зала, разворачивая черный флаг.
Дрожащими руками охранник отпирал клетку, ключ застревал в замке, белый ангел, увешанный детьми, улыбаясь, неотрывно глядел на полуобморочную Саньку, а ствол его черного автомата упирался охраннику в бок. Наконец дверь открылась, мим схватил Саньку за руку, поймал упавший с ее колен альбом и рванул к выходу.
– Да сделайте же что-нибудь! Охрана! – жалобно кукарекал прокурор, как петух, которого несут на кухню.
Обернувшись в дверях, Санька увидела, как улюлюкающие анархисты заворачивают судью в черное знамя, а Ида Моисеевна лупит кого-то по голове корзиной для бумаг.
Они скатились по лестнице и вылетели на крыльцо, возле которого стоял мотоцикл с привязанным к багажнику желтым чемоданом.
– Это сон? Я сплю? – выдохнула Санька, глядя, как ее ангел усаживает мальчишек в седло.
– Ты проснулась! – усмехнулся Скворец, отшвыривая автомат. – Скорей, прыгай!
– Откуда у тебя оружие?
– Из магазина игрушек! – Он включил зажигание, и они помчались.
– Так он ненастоящий! А все поверили!
– Да, Станиславский был бы мной доволен!
– Куда мы едем?
– Куда ты хочешь? У тебя есть мечта?
– Моя мечта сбылась! Ты вернулся! Я дождалась!
– Не исчезай больше так внезапно!
– Послушай! Я забыла самое главное! У меня внутри ребенок, наш с тобой!
– Ну, ты нашла время! – крикнул он, и Санька похолодела: действительно, нашла время… – Сообщаешь мне это, когда я даже не могу тебя обнять!
– Зато я могу!
– Эй, полегче! А то улетим в кювет!
– Александра! Александра! – догнал ее вдруг славный скрипучий голос, который она меньше всего хотела бы сейчас услышать. – Вот человек с крепкими нервами – так спать, когда решается судьба!
Не открывая глаз, Санька спрятала лицо в ладонях и разревелась. Вокруг гудели разговоры. Видимо, в заседании объявили перерыв. Ида Моисеевна четко и складно, как всегда, что-то излагала – подоспели журналисты. Закончив длинное предложение, достойное Льва Толстого, старушка снова пихнула Саньку:
– Да очнись же! К тебе пришли!
– Оставьте меня в покое! – рявкнула Санька сквозь мокрые пальцы и отодвинулась на самый край скамьи, по-прежнему крепко зажмурившись.
– Позовите ее сами, – велела кому-то Ида Моисеевна и снова принялась растолковывать корреспондентам про похороны демократии.
Саньку никто не позвал. Но это молчание было настойчивей любого зова – почти сразу оно сделалось нестерпимым. И Санька открыла глаза.
Он смотрел на нее, стоя почти вплотную к решетке. Его взгляд сильно изменился с тех пор, как они не виделись. В нем больше не было смеха. Но и ускользания, неуловимости, так мучивших ее, тоже не было.
– Ты правда приехал, – сказала она тускло, словно израсходовав все силы там, в своем летящем сне.
Потом медленно встала, уронив с колен альбом следователя Смирнова, и обняла его. Висок и щека уперлись в холодное железо.
– Будь проклята эта страна, где любимых приходится обнимать сквозь прутья клетки, – в сердцах проговорила Санька, и горло ее снова сжалось от слез.
Краем глаза она увидела, что их снимают.
– Будь проклята эта страна, где после бесконечной разлуки я должна встречаться с любимым под прицелом телекамер!
– Скажи спасибо, что не под прицелом автоматов! – задорно выкрикнула из-за плеча Ида Моисеевна.
У Саньки внутри все закипело.
– Будь проклята…
Властным жестом он приложил палец к ее губам – и она тут же смолкла.
– Послушай, – сказал он тихо и просто, будто они были совсем одни. – Я хотел сказать тебе это там, на берегу океана. И приехал сюда, чтобы все-таки сказать…
Он глубоко вдохнул, выдохнул и твердо, хоть и еле слышно, как испокон века все мужчины произносят эти слова, произнес:
– Я буду счастлив, если ты согласишься стать моей женой…
– Что? – выдохнула Санька, не веря своим ушам. – Ты же видишь! – И она подергала решетку, как бы проверяя, не рассыплется ли та у нее в руках.
– Но ты? Ты согласна?
– Да! Да! Да! – выкрикнула Санька, до боли сжимая железные прутья.
Он мягко расцепил ее сведенные руки, потянул к себе и надел на палец простенькое латунное колечко с перламутровым глазком посередине.
– Я ходил за ним в то утро, – грустно улыбнулся он, целуя ледяную ладонь, пахнущую металлом.
– Но я… Но мне… – Санька смеялась и плакала одновременно. – Меня же могут посадить на двадцать лет!
– Я знаю. – Он привлек ее к себе, и проклятая решетка впилась им в ребра. – Никто не обещал нам легкого счастья. Но и отменить его не может никто. Совсем никто.


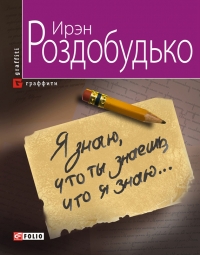
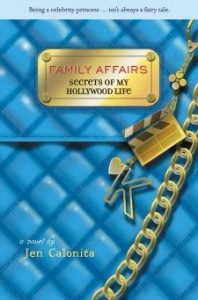





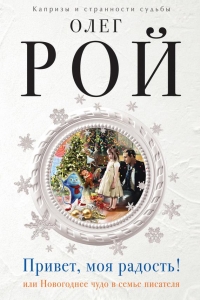

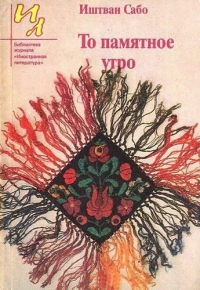
Комментарии к книге «Счастье», Наталья Львовна Ключарёва
Всего 0 комментариев