Елена Долгопят Родина (сборник)
© Долгопят Е. О., текст, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Потерпевший
«Дебют был удачным. Но все же победителю (не говоря уже о побежденном) надо еще много и настойчиво работать, чтобы достичь высокого класса и овладеть всеми тонкостями этой интереснейшей игры…»
Дежурный читал отчет о матче. Он услышал, что открывается дверь, и поднял глаза от газетной страницы. В отделение вошел щуплый, ниже среднего роста мужчина. Без пальто. Он приблизился к барьеру и посмотрел на дежурного. Губы у вошедшего дрожали. Дежурный догадался, что он расплачется, если попытается говорить.
– Что? – спросил дежурный. – Пальто сняли?
Мужчина кивнул.
– Хорошее пальто?
Мужчина кивнул.
– Воротник меховой?
Мужчина отрицательно помотал головой. В обширной его лысине качнулся отсвет от лампы.
– Обнаглели. – Дежурный выложил на барьер лист бумаги и перо. – На днях женщину ограбили, шапку сдернули, сумочку вырвали, а там от дома ключи; жена одного начальника, очень большого начальника, вы такого небось и не видели, а я сподобился – тот приезжал самолично; покричал, конечно, пока нашего начальника не увидел, а как увидел, так и обнял, они на фронте вместе служили, в начале войны из окружения выходили. Вы воевали?
Мужчина кивнул. Он смотрел напряженно на разговорчивого дежурного и, кажется, не особенно разбирал смысл сказанного, но мягкий округлый говор его успокаивал.
– Ну вот, может, и вы знакомы нашему начальнику. А мне не довелось повоевать, я здесь бандитов ловил. – С этими словами дежурный поставил на барьер чернильницу. И приказал: – Пишите.
Мужчина поднял на дежурного недоуменные глаза. Были они светло-голубые, с покрасневшими тонкими веками. И дежурному пришло на ум, что глаза у потерпевшего птичьи. Но бывают ли голубые глаза у птиц?
– Заявление вам надо написать о грабеже. Я его приму, и вы пойдете домой. Вы далеко живете? Мороз-то будь здоров. Начало марта, а морозы прямо будь здоров. Я что-то не подумал, вы же окоченели. Я вам сейчас чаю. У меня чай особый. Секрет не скажу, даже не спрашивайте. А вы пишите.
Дежурный отправился к табурету, на котором стояла у него против всяких правил спиртовка, он ее зажег и поместил над огнем небольшой медный чайник.
Потерпевший наклонился низко к лежащему перед ним листу, долго в него вглядывался и наконец, осторожно касаясь пером бумаги (будто ступая ногой на лед, прочен ли, не ухнешь ли сразу вместе с ним в речную темную воду), начал писать. Он писал и подшмыгивал маленьким острым носом. Как мышь, пришло на ум дежурному.
В чайнике забурлила вода, дежурный бросил в кружку сухой серой травы и залил ее кипятком. Сладкий аромат разлился в воздухе и достиг маленького острого носа потерпевшего. Он поднял невидящие глаза и тут же вновь опустил. Писал он осторожно, строку за строкой, ровным почерком.
Очень уж много пишет, подумал дежурный. Но решил не сбивать.
Был потерпевший ретушером в фотоателье, сидел в закутке и раскрашивал небо в голубой цвет, а щеки – в розовый. Самое любимое занятие его было раскраска готовых уже отпечатков. Негативы он тоже исправлял, для этого у него имелся ящик со стеклянным оконцем, на оконце он клал негатив, в ящике включал электричество, накрывался черной тряпкой и тушью зачернял тени на светящемся негативе – для контраста – или ластиком убирал с лиц черные точки. Зрение он потерял на этой работе, но в ополчение его взяли. Да он и не сказал ничего про зрение, немцы подходили к Москве. С войны вернулся в августе сорок пятого, орденов и медалей не заслужил. Жил в Марьиной Роще, в собственной комнате (деревянный двухэтажный дом, двор, палисадник), на втором этаже. Поднимался вечером по лестнице, и она отзывалась вздохами.
Ретушер жил один. Отпирал свою комнату и входил в темноту. Зажигал свет, ставил чайник на общей кухне. Смотрел из окна, как пилят мужики дрова. Белье сушилось на веревках, на морозе оно становилось как тонкий картон. Дети бегали, бросали снежки. Ужинал он хлебом и холодной картошкой. Протирал чистой тряпицей стол, расстилал на нем газету, краски доставал, кисти, в особый стакан наливал воду и садился за работу. Он всякий раз брал с собой какую-нибудь фотографию на дом, чтобы в уединении собственной комнаты расцветить черно-белый снимок. В основном это были портреты, люди хотели оживить цветом лица, свои и близких.
Он с нежностью касался тонкой кистью детских щек. Любил раскрашивать глаза, всегда интересовался, какого должны быть цвета. Галстуки пионерские любил раскрашивать в алый цвет, и флаги. После работы он промывал кисти под краном в кухне, уже, как правило, дом спал, и только безногий Николай курил в кухне под окном, спиной к батарее. Ретушер говорил: «Здравствуйте, Николай», когда входил, а на прощание всегда желал доброй ночи; Николай всегда отвечал: «И вам того же».
Ретушер возвращался к себе и ставил кисти в стакан на полку, она прибита у него была над столом. Ставил в стакан кисти, перья, к стакану придвигал коробку с красками, банку с тушью и задергивал занавесочку, такая у него была полка, с занавесочкой, сосед Василий Иванович выкроил ему еще до войны из обрезка ситца, богато расцвеченного. Нежные чайные розы были в рисунке, и ретушер ими любовался, когда завтракал чаем и хлебом, припорошенным сахарным песком, и когда ужинал чаем и картошкой. Василий Иванович работал в пошивочной мастерской и на дому, и стрекот его машинки за стеной был привычен слуху и даже необходим.
Когда-то между полкой и окном висел за стеклом в тонкой коричневой рамке фотопортрет женщины. История его проста.
До войны еще было далеко. Июльским светлым вечером тысяча девятьсот тридцать пятого года в ателье пришла женщина. Села на стул с высокой спинкой на фоне белой, туго натянутой простыни. Фотограф встал за треногу, велел женщине выпрямить спину и не моргать. Ретушер в это время горбился в своем углу. Женщина была перед ним, как будто на сцене, ярко освещена. И он разглядывал ее круглое лицо, маленький, пуговкой, нос, плотно сжатые губы, темно-серые глаза под низким нахмуренным лбом. Непривлекательная женщина. Усталая. Снялась, оставила деньги, за фотографией не вернулась.
Уже голой осенью решили невостребованные фотографии выкинуть, чтоб не занимали место, его немного было в ателье. Один снимок ретушер забрал себе – женщина на снимке ему приглянулась. Она мало походила на свой живой прообраз; глаза на снимке казались больше, а лоб выше. Дома ретушер оживил губы мягким розовым цветом (уместно было бы говорить не о цвете, а о свете), теплый золотистый оттенок придал лицу; глаза заблестели на осветившемся фоне и как будто ожили. Он полюбил изображение, заправил в рамку под стекло. Ретушер ничего не знал об этой женщине. Об этих женщинах. Ни о той, которая снялась на фото, ни о той, которая смотрела теперь из-за стекла. Ничего он о них не знал и ничего о них не придумывал. Второй любовался, о первой не помнил.
В сороковом году, уже совсем близко к войне, в ателье пришел мужчина лет сорока с дочкой лет шести, он сказал, что в бумагах покойной жены нашел квитанцию на фото. Объяснил:
– Незадолго до смерти ходила сниматься. Умерла скоропостижно. В минуту. Легкая смерть.
Так говорил мужчина и держал девочку за руку. Ретушера отпустили с работы, и он привел их домой, снял фотографию со стены.
– Вот какая она была, – сказал мужчина, – твоя мама.
И дал девочке подержать тяжелую застекленную рамку.
– Красивая, – прошептала девочка.
– Да, – сказал мужчина. И добавил: – Ты на нее очень похожа.
Рамку с фотографией ретушер завернул им в газету.
После войны он ходил в пехотной своей шинели без погон с ранней осени до поздней весны; на лето, проветрив в сухой тени, прятал шинель в старинный комод – тяжеленный этот комод привезли его родители из деревни.
Они перебрались в Москву в двадцатом году, от завода получили комнату на втором этаже с окном во двор, и первое, что он запомнил, – утреннюю осеннюю тишину и тихое, рассеянное солнце. Внизу стояли мальчишки, он слышал их разговор и видел, как солнце освещало их лица, а они отворачивались от солнца. Ему было восемь лет, он был робок и боялся выходить во двор, но мать сказала: «Давай-давай, ты мне мешаешь». Она мыла полы и стены, и окошко хотела помыть. И он прошел длинным коридором, и спустился по скрипучим ступеням, и вышел из черного проема на свет.
У дверей на лавке сидел старик, и мальчик сел на ту же лавку, с краю. Старик не пошевелился, он весь залит был солнцем, глаза полузакрыты. Кошка подошла и вспрыгнула старику на колено, он поднял костистую руку и стал гладить кошку. И так они сидели, старик, кошка и мальчик. Солнце ушло за дом, ветер подул, принес желтые березовые листья.
Мать говорила людям:
– Я испугалась, когда была им тяжела, вот он и родился бессловесным, иные думают, он и говорить не умеет; как он только жить будет, такой тихий, ума не приложу.
Ее спрашивали:
– А чего же ты испугалась, Нина?
И она охотно рассказывала, как шла в зимний день по тропке от сарая, несла дрова.
– …и вдруг черная собака передо мной, стоит и смотрит. Не разойтись, тропка узкая, сойдешь – и в снег ухнешь с головой, столько в том году навалило нам снега. Собака громадная, спокойная. И вдруг пошла на меня, я так и села на тропку, и дрова повалились из корзинки, сижу, а она мне в лицо дышит. Подышала и ушла, вот с чего он и вышел на свет таким робким. Ну, что ж, люди всякие бывают, верно? Значит, так надо.
Потерпевший отложил исписанный бисерно лист. Кружка дымилась нетронутая. Дежурный спросил:
– Дату и подпись поставили?
Мужчина кивнул, и дежурный забрал лист:
– Я читать буду, а вы пейте, хорошо от простуды.
Заявление было пространным, но дежурный замечания не сделал, не стал говорить, что надо переписать, сжать, оставить только суть дела. Ничего, можно и такое принять, так он решил. Хотя и предполагал от начальства нагоняй.
А прочел он буквально следующее.
«Заявление
В феврале первого числа сего тысяча девятьсот пятьдесят пятого года я обнаружил, что моя армейская шинель прохудилась на спине при бережном моем отношении. Я доставил ее к соседу Василию Ивановичу в надежде, что он ее подлатает. Василий Иванович – мастер по шитью и за мелкий ремонт не берет с меня ничего, как и я не беру с него ничего за мою работу ретушера, если таковая ему бывает надобна. Василий Иванович рассмотрел мою шинель на просвет и сказал, что латать ее не возьмется, показал мне дыры под мышками, показал, что подкладка уже истлела и держится только по недоразумению. Он сказал, что готов мне сшить хорошее теплое пальто за полцены. Я растерялся, так как в шинели проходил всю войну, обжил, она стала мне как подруга, хранила и берегла, и был даже случай, когда пуля застряла в верхней пуговице, калеку-пуговицу я храню. В этой шинели я ранен был один раз, в руку, и даже не лежал в госпитале. Шинель мне тогда аккуратно заштопали, потом и Василий Иванович не сумел найти место ранения. Да и на мне все зажило совершенно. Как бы то ни было, спустя десять лет после войны верная подруга состарилась и не умела уже меня согреть. Я бы перешел в пальто отца, его я носил до войны, но оно меня с войны не дождалось; думаю, что его украли, как и материнскую пуховую шаль, в которую меня заворачивали младенцем, а также заворачивали в нее кастрюлю с гречневой кашей, предварительно обернув ее газетами, чтобы шаль не прожечь; мать объясняла мне, что так каша доходит; шаль мать носила зимой; я же обвязывал шалью поясницу уже после ухода моих родителей в лучший мир; и потери шали мне было жальче всего; хотя кисточки мои с красками было жальче. Пальто я пошил в долг и до сих пор еще не расплатился, Василий Иванович меня не торопит. Пальто он мне сшил доброе, длиной до щиколоток, чтобы спину мою больную не продувало ни при каком ветре, и я надеялся, что прохожу в этом пальто до конца дней. Черное пальто с хлястиком назади; воротник английский, но можно застегнуть наглухо, все предусмотрено для тепла.
(Для наглядности потерпевший нарисовал свое пальто с растопыренными рукавами в двух видах: спереди и сзади; рисунок был небольшой, много места не занимал; но, несмотря на малость, уместил все детали – и пуговки, и петли, и карманы, и отвороты, и строчки.)
Сегодня, первого марта пятьдесят пятого года, я впервые надел пальто, – продолжал далее свою исповедь потерпевший. – Никогда не обращал я на себя столько внимания, как сегодня. Но если выразиться более точно, обращало на меня внимание пальто. Василий Иванович постарался, и сидело оно на мне так хорошо, что я и сам останавливался, если видел вдруг зеркало, и смотрел. В нашем фотоателье меня просили мерять пальто перед каждым вновь пришедшим сотрудником, и все удивлялись, как я преобразился. После работы меня не отпустили и сказали, что пальто надо обмыть. Я был не против. Собрали деньги, каждый внес, сколько мог, я отдал тридцать рублей с полтиною, все, что было. Гриша Алтуфьев сбегал в ларек, принес вина две бутылки, хлеба, конфет развесных и банку тушенки. И еще бутылку водки и подмерзших соленых огурцов. Он сказал, что я ему теперь должен триста рублей. В шутку или всерьез, не знаю, я не всегда различаю.
Первое время на меня все обращали внимание, расспрашивали, сколько на пальто пошло драпа, много ли содрал с меня портной и как это я мог проходить в одной шинели всю войну и еще десять лет после. От расспросов и внимания я обессилел, и, когда завели разговор о научных экспериментах с летательными аппаратами, я тихо оделся за шкафом и вышел. Метро уже было закрыто, и я отправился пешком короткой дорогой. В переулке услышал за спиной быстрые шаги, кто-то меня нагонял, я не успел оглянуться, и меня ударили по голове сзади, шишка на затылке болит чувствительно. Очнулся я в сугробе без пальто, шапка моя валялась рядом. Осознав, что произошло, я заплакал, мороза я не чувствовал, поднял шапку и пошел в ближайшее отделение милиции.
1 марта 1955 годаА. С. Андреев».Дежурный прочел заявление и посмотрел на часы. Они показали второй час ночи.
– Что же делать? – сказал дежурный. Потерпевший взглянул на него потерянно. – Заявление я приму, – продолжил дежурный, – но как же вы до дому доберетесь в одном свитерке? Далеко вам до дому?
Мужчина подумал и ответил:
– За двадцать минут добегу.
– Вот что мы сделаем, товарищ Андреев. Я сей час в особом журнале запишу ваш адрес, а вы распишетесь в особой графе. Я выдам вам ватничек. Он, конечно, старый, и кое-где торчит из дыр внутренность, и вам он, конечно, будет велик, но от мороза чуток укроет. Походите в нем до тепла и вернете.
И откуда-то из-под барьера дежурный вынул серый драный ватник, который обогревал ему по ночам застуженные ноги.
Потерпевший, не особенно, кажется, понимая, что происходит, покорно обрядился в ватник.
– Застегнитесь, – приказал дежурный.
Потерпевший застегнулся на сохранившиеся две пуговицы.
– Ничего, – сказал дежурный. – Нормально. Сойдет. Если найдете что другое для тепла, вернете сразу. Шапочку наденьте. До свиданья.
Потерпевший надел шапку, но не уходил.
Дежурный повторил:
– До свидания.
Потерпевший стоял и смотрел на него птичьими глазами.
– Ступайте домой, вам же на работу завтра.
– Я. Да. Спросить хотел. Насчет пальто. Найдут ли?
– Не ведаю, обнадежить не берусь. О грабежах ночных знаем. Меры предпринимаем. Но пока результатов нет. Вещи они перепродают, и концы найти сложно. Говоря откровенно, гиблое дело.
– Но вы…
– Постараемся. Идите, товарищ Андреев, домой, час поздний.
Потерпевший надел наконец шапку и тихо, не попрощавшись, направился к двери. Когда она за ним затворилась, дежурный опустился на стул за своим барьером. Взял кружку уже простывшего настоя своего и выпил.
Уже на другой день после работы потерпевший Андреев пришел в отделение.
Василий Иванович еще не залатал его ватник, залатает в ближайшее воскресенье, поставит аккуратные заплатки, пришьет недостающие пуговицы, а пока что потерпевший выглядел диковато, люди на него косились, женщина в автобусе прижимала к себе сумочку растопыренной ладонью и не выпускала его из виду. К тому же потерпевший кашлял, шмыгал носом и прятал покрасневшие больные глаза.
На работе его пожалели и позволили вернуться домой, отлежаться. Но он позволением не воспользовался, забился в свой угол, спрятался под черную ткань и включил свет в ящике. На негативах отражено было множество людей, стоявших и сидевших, и целый рабочий день ретушер вглядывался в их лица, подчеркивал тени, забеливал крапины. И вот после работы, с трудом разогнувшись, он надел подаренное дежурным рванье и отправился к отделению. Снег громко скрипел, фонари сияли и слепили натруженные глаза.
Давешнего дежурного не было, сидел другой человек за барьером. Он смотрел строго, проверил записи в журнале и сказал, что следователь по делу назначен и следственные действия ведутся. Потерпевший пожелал встретиться со следователем. Новый дежурный поинтересовался для какой надобности.
– Я новые обстоятельства вспомнил, – смиренно пояснил потерпевший.
Он просидел перед дверью следователя около часа, и его пригласили войти.
Следователь прочитал его заявление и достал папиросы. Потерпевший сказал, что не курит, и покашлял в кулак. Следователь закурил.
– Трудно что-либо предпринять в вашем случае.
Потерпевший молчал и смотрел на следователя. Он сидел на краю стула, сжав колени, и мял ушанку. От галош, надетых на его валенки, растекалась лужа.
– Вы сказали дежурному, что вспомнили обстоятельства.
– Да. Вернее так. У меня в пальто, в правом кармане, лежал платок. Свежий. Хороший платок, тонкий. Китайский. Мне его на прошлый день рожденья подарили. В ателье у нас. Белый платок. И темно-синяя каемка.
(Так сказал, будто каемка отдельно от платка, в придачу.)
Потерпевший шмыгнул носом, следователь что-то записал на бумажке и сказал вежливо:
– Хорошо. Спасибо. До свиданья.
Потерпевший сидел по-прежнему и смотрел птичьими глазами.
– Я все записал.
– Это пригодится?
– Возможно.
– Если я еще что-то вспомню, я приду.
– Конечно.
Потерпевший поднялся и, сгорбившись, побрел к двери. Взялся за ручку и оглянулся. Следователь что-то писал. Когда дверь за потерпевшим затворилась, следователь отложил карандаш. Он докурил папиросу, поднялся, растер поясницу, отворил сейф и вынул все дела о грабежах за зиму 1954/55 года.
На другой день после работы потерпевший вновь явился в отделение, но следователя не застал.
– Выехал на следственный эксперимент, – так ему объяснили.
– По моему делу? – обрадовался потерпевший.
– Нет.
На всякий случай он подождал под дверью. Пришла уборщица и согнала его с лавки. Потерпевший понаблюдал, как она моет пол громадной шваброй, как гасит свет в коридоре, и побрел к выходу.
Следователя он застал на следующей неделе, в понедельник. Вошел в кабинет в уже подновленном ватнике, почти приличном, и сообщил с порога, что вспомнил новые обстоятельства. Следователь пригласил войти, потерпевший прошаркал к стулу и, опустившись на край, сжал колени. Мороз спал, и в приоткрытую форточку пахло подтаявшим снегом.
– На моем пальто, – сообщил потерпевший высоким голосом, – третья пуговица сверху потуже была пришита, чем все прочие. Вот эта ножка, на которой пуговица стоит, – если пуговицу по всем правилам пришивают, то образуется ножка, – у третьей пуговицы она вышла коротковата, и пуговица почти вплотную к драпу оказалась, застегивать тяжело, я думал сказать Василию Ивановичу.
И он замолчал.
Следователь спокойно смотрел на него. Желтый круг света лежал на его столе.
– Хорошо, – сказал следователь, – я понял.
Потерпевший помолчал и спросил:
– Вы не запишете?
– Что? Да. Конечно.
Взял карандаш и лист бумаги из тоненькой стопки. И аккуратно что-то карандашом записал. И успокоил потерпевшего:
– Я вложу в дело.
Потерпевший не уходил, и следователь решился на объяснения:
– Откровенно вам сказать, дело ваше сложное. Как мы найдем вашего – или ваших? – грабителя или грабителей? У нас ничего нет в руках – воздух. – Он показал потерпевшему пустые ладони и пошевелил пальцами. Показал и продолжил: – Мы не намерены закрывать глаза на дело. В эту зиму в вашем районе грабежей было тридцать четыре. Одни и те же – или разные? – люди – или человек? – совершали нападения. И нельзя сказать, что они – он? – покушались только на хорошие вещи. Были случаи, когда буквально ветошь с людей сдирали, вот наподобие вашей нынешней.
– Уже не ветошь, – вымолвил потерпевший. – Василий Иванович обновил.
– Я вижу. Очень хорошо. Ваша хламида была ветошью до обновления, согласен. Как бы то ни было, и не на такие обноски покушались. И нельзя сказать, что бедные люди меньше сожалели о своих потерях, чем богатые. Кто еще горше плакал, неизвестно.
Следователь замолчал. Потерпевший смотрел внимательно. Губы его были сомкнуты плотно, горестные складки пролегли от углов рта.
– Я вот что вам рекомендую, – ровным голосом продолжал следователь, – вы ступайте домой и постарайтесь пока забыть о случившемся. Не мучьте себя. Мы со своей стороны будем делать все возможное. В случае необходимости вас вызовут. – Он вгляделся в неподвижную фигуру: – Вы меня слышите? Вы понимаете, что я говорю?
Потерпевший неслышно встал и, сгорбившись, побрел к двери. Когда она затворилась за ним, следователь переломил надвое карандаш, швырнул на пол обломки и произнес энергичное матерное ругательство.
Светила настольная лампа, Василий Иванович латал вновь расползшийся ватник ретушера и сожалел о шинели. Все-таки она была ничего в сравнении с ватником, Василий Иванович несколько целых кусков из нее вырезал и спрятал в комод. Он думал сшить из обрезков пальтишко внуку. Портной работал, иголка поблескивала в желтом свете. Жена его Тамара устроилась с другого конца стола; насыпала на плоскую тарелку пшено и принялась перебирать, выуживала из тарелки почернелое зерно или камешек и бросала в чашку.
– Грабителям сейчас воля, – сказала она, – что хотят, то и воротят, милиция сама их боится, простому человеку защиты нет.
– А ты слыхала про жену профессора? – спросил Василий Иванович.
– Я-то слыхала.
– А вы?
– Я? – Потерпевший не сразу понял, что Василий Иванович обращается к нему. – Нет.
– Я вам расскажу. С нее тоже ведь пальто сняли. Австрийское. С чернобуркой. Она из театра шла. С мужем поссорилась в антракте, взяла пальто и пошла, денег при себе не было, так что пешим ходом. Ну и в переулке, считай возле дома, наскочил на нее грабитель, высоченный мужик, громада, лицо она не разглядела, лицо в бороде было.
– Накладная, – заметила Тамара.
– Мы не знаем. Нож на нее наставил и велел снять пальто. Она покорилась. Добежала до дому, позвонила в милицию, у них, конечно, телефон в доме.
– У нее лауреат муж.
– Не знаю. Факт тот, что телефон есть и по театрам ходят.
– И чернобурки носят.
– Это да.
– Квартира – пять комнат.
– Люди много болтают, – заметил строго портной.
– Анюта была там.
– Анюте не верь. Факт тот, что богатые люди.
– Факт.
– И не нуждаются. Страху она, конечно, натерпелась, но голой не осталась, шуба висела в шифоньере, да не одна, и пальто было еще, строгое, с каракулевым воротником.
– А ты видел, – усмехнулась Тамара.
– Слушай лучше. В милицию она позвонила, ей сказали прийти утром в отделение и заявление написать. Она утра ждать не стала, шубу надела, взяла с собой домработницу и пошла тут же в отделение. Там на ее шубу посмотрели, ничего не сказали, заявление приняли и успокоили, что грабителя уже ищут и скоро найдут.
– Насмешили.
– Она тоже не очень поверила, через пару дней позвонила, спросила, что предпринято, но вразумительного ничего ей не сказали. Муж ей объяснил, что дело гиблое, не найдут, да и стараться не будут.
– Они уже помирились, – кивнула Тамара и бросила в чашку крохотный черный камешек: пшено было грязное.
– Муж у нее человек умный, а она тоже не дура, поняла, что вряд ли найдут. Но пальто ей было жалко.
– Да что пальто. Ей обидно было.
– Она пошла на Тишинский рынок.
– На Минаевский.
– Не спорь. Мне Гаврилов рассказывал, он на Тишинке холодным сапожником, он все видел.
– А мне Марья говорила, она молоком торгует на Минаевском.
– У Марьи язык без костей. И молоко она недоливает. И так смотрит, что кровь киснет, не говоря уж о молоке. Берешь вроде свежее, а как посмотрит, так и кислое, только на простоквашу у нее молоко и брать.
– Я и не беру.
– Молодец. И слушай ее меньше. На Тишинку профессорша явилась, поглядела, чем народ торгует, насчет пальто спросила и в этот раз или в другой увидела свое пальто, тетка им торговала. Тетка почуяла интерес и давай нахваливать, какой чудесный драп, да какая чернобурка – королеве впору. Профессорша пальто рассмотрела, нашла пятнышко на подкладке, вроде как особая примета, – значит, точно, ее пальто. Примерила, тетка закудахтала: «Как сидит хорошо, прямо на вас пошито». – «Ладно, – сказала профессорша, – пальто я возьму, только цену сбавьте». Поторговались, сбавила тетка, завернула пальто в бумагу, перевязала бечевкой, профессорша сверток взяла и ушла. А на другой день опять явилась.
– И чего ее понесло?
– От скуки.
– В кино бы сходила.
– В кино всё понарошку.
– А дети были у нее?
– Про детей люди ничего не говорили. Ты меня сбиваешь, Тамара.
– Молчу.
– Подошла она к этой торговке, вот, мол, решила показаться. Торговка опять говорит: «Да, замечательно сидит пальто, прямо на вас сшито». Профессорша отвечает: «Я вам очень благодарна, может, у вас мужское пальто найдется, мужу моему трудно подобрать, он маленький у меня и круглый, ему бы горчичного цвета, драповое». – «А воротник?» – тетка интересуется. «Воротник нужен черный. Каракулевый. И шапка такая же. Круглая». Пока они пальто обговаривали, мальчонка к прилавку подбежал, крикнул: «Мам, дай ключи». Торговка спрашивает: «Какие ключи, ты почему не в школе?» – «Физрук заболел. Отменили». – «А математика как?» – «Не вызывали». – «Врешь». – «Не вру». Ключи она отдала, сказала: «Смотри там». – «Смотрю». Он убежал, торговка вздохнула. И поделилась с профессоршей заботой: «Были у малого ключи, да потерял, в школу не ходит, по математике двойки». Профессорша вдруг говорит: «Я могу с ним математикой заниматься. Хотите? Я очень хорошо объясняю». Торговка удивилась. «Так вы учительница? – спрашивает. – Не может быть». Профессорша отвечает, что нет, не учительница и не работает нигде, муж работает, он ученый. «Но объяснять я умею, – говорит профессорша. – Можете не сомневаться». – «Да зачем вам?» – «Из благодарности. И на будущее. Не хочу связь с вами терять. Мало ли что понадобится». Торговка сказала: «Нет, спасибо». Отказалась наотрез. Профессорша ушла. И тут к прилавку подошел мужчина. Долговязый, жилистый, глаза черные. Спросил тихо торговку, чего тут женщина крутилась. Торговка объяснила, а мужчина сказал: «Ну ты пригласи ее домой в другой раз». И посмотрел на торговку. Вот так. – И Василий Иванович посмотрел на жену мрачно.
Она усмехнулась:
– Прямо страшно.
– Ты слушай.
– Слушаю.
Ретушер молчал все время рассказа. Да и после тоже молчал.
А Василий Иванович рассказал, как явилась профессорша к торговке, в Сокольники, и там встретил ее черноглазый, впустил в дом и дверь запер, и никого более в доме не было, кроме него. Профессорша не испугалась. Смотрела весело. Сказала черноглазому, что узнала его и без бороды, еще на рынке узнала. То есть не только он там ее приметил, но и она его. И сказала, что хочет работать с ним, быть в доле. Черноглазый поверить не мог, но смолчал. Она сказала, что будет наводчицей. Рассказывать про квартиры богатых московских людей, что там есть и в какое время и как лучше проникнуть. «Я не по квартирам», – сказал черноглазый. Она не поверила и улыбнулась. Сказала: «Если надумаешь, звони». Телефон оставила. Еще сказала: «Я понимаю, что ты мне не веришь. Но если бы я была агент, я бы на рожон не лезла, я бы поостереглась. В общем, как знаешь, одно только не могу тебе не сказать: моего знакомого летчика-героя квартира сейчас без призора, а ключи я знаю у кого, и могу слепки снять. Думай». И с тем ушла.
– Бедовая, – только и заметила Тамара. Она уже забыла пшено перебирать, смотрела на Василия Ивановича, открыв рот, будто бы и не знала вперед все, что он скажет.
– Черноглазый – он тоже бедовый был, рискнул, ключи получил, квартиру взял, и так хорошо у них пошли дела, любо-дорого. Жила профессорша по-прежнему с мужем в театры ходила, в концерты, домработнице выговаривала, если кофе вдруг холодный. Все по-прежнему, только иногда вдруг смеяться начинала без причины. Сидят, к примеру, с мужем за завтраком, а она вдруг хах-аха. Профессор смотрит, не понимает, а профессорша рукой машет, ничего, мол, так. Здоровьем она укрепилась. Профессора своего любить стала слаще. Не жизнь, а радость.
– А другим горе.
– Она только на богатых наводила, от них не убудет.
– А черноглазого как, тоже сладко любила? – спросила Тамара, будто не знала ответ.
– Люди говорят, что нет. Не допускала к себе. Он ее полюбил, а она – нет; я замужем – так говорила. Держала оборону.
– Молодец.
– Черноглазый тоже молодец был. Не отступал.
– Насильно мил не будешь.
– Он силу не применял. Обращался вежливо. Будто она царица.
– Делился с ней?
– Пытался. Она ничего не принимала, ни деньги, ни подарки.
– Видишь.
– Но он такой подарок ей приготовил, что не могла не принять. Пальто мужское горчичного цвета на коротконогого мужа. И воротник из каракуля. И шапка круглая. Все сбылось, что просила. Такой подарок не могла не принять. Он ей завернул в бумагу и сказал: «Твое». Она домой понесла сверток, ноги еле шли. Это самое пальто с шапкой ее муж носил, бог его знает, для чего она тогда именно это пальто и эту шапку торговке обрисовала.
– Первое на ум пришло, – прошептала Тамара.
Василий Иванович на жену не взглянул, продолжал свой рассказ строгим голосом:
– Она поняла, конечно, что это с ее профессора сняли пальто и шапку, не захотела и в дом нести, бросила в переулке, а дома ее домработница встретила и заголосила: убили вашего мужа-профессора, ограбили и убили. И в тот же день приняла профессорша яду.
После этого рассказа, на другой буквально день, ретушер сходил на Тишинский рынок и на Минаевский, долго там толкался среди людей, надеялся увидать свое пальто где-нибудь на прилавке, но не увидал. И Василий Иванович сказал потом, что это ему повезло.
Разбиравший дело ретушера следователь был в отделении человек новый. Относились к нему настороженно, девять с половиной лет он работал в прокуратуре, вел особо важные дела, и знающие люди говорили, что он ас. Отчего перевели его в их захолустье на мелочевку, непонятно. Чем-то проштрафился, но чем? Вел он себя спокойно, вежливо, и с товарищами, и с потерпевшими, и с подследственными. Бумаги по делам содержал в величайшем порядке. Протоколы составлял грамотно, подробно, четким почерком, подшивал в папку, нумеровал, ставил не только дату, но и время. Дела все попадались ему ничтожные, бытовые. Расследовал он их легко, так как был человеком дотошным и мелочей не упускал. Думали, что пробудет он у них недолго, срок наказания истечет, его простят и возьмут опять в прокуратуру, грех такого человека держать в загоне, все равно что кита в корыте. Неразумно. Но следователь знал, что никто его никуда отсюда уже не переведет.
В седьмом часу вечера он приехал в отделение с вызова, рабочий избил жену до полусмерти, соседи по коммуналке вызвали милицию, но пока они приехали, жена оклемалась и заявление писать отказалась, так что напрасно промотались. В коридоре у его кабинета ожидали приема несколько человек. Следователь увидел среди ожидающих ретушера, остановился перед ним и спросил раздраженно:
– Вы что? Зачем вы здесь?
Ретушер поднялся и пролепетал невнятное.
– Что?! – крикнул следователь. – Я сказал вам! Зачем вы? Вам нечем заняться? Что? Следствие ведется! Покиньте помещение! А?!
– Я насчет билета, – вымолвил ретушер.
– Что?
– Обстоятельство. Новое. Билет. Автобусный билет в правом кармане, я как раз ехал в тот день на автобусе на работу, еще утром.
Досказать ему следователь не дал. Рявкнул:
– Вон!!!
Люди стали выглядывать из кабинетов. Дежурный, обогревший когда-то ретушера, прибежал, расстегивая на ходу кобуру. Ретушер отступил в сторонку и рухнул. Голова его ударилась об пол. Бросились к нему, закричали: «Скорую!» Но он уже не дышал.
Врач написал заключение, дежурный составил протокол, тело ретушера увезли наконец в морг.
Следователь ушел в туалет и долго там мыл руки и плескал водой в лицо.
Ожидавшие разошлись, следователь предупредил, что приема не будет.
Он сидел у себя в кабинете, курил. Заглянул дежурный и спросил, не хочет ли Игорь Петрович чаю на травах – так звали следователя, Игорь Петрович. От чая следователь вежливо отказался, скоро собрался и вышел. Дежурный отметил, что выглядит он, как обычно, спокойно. Дежурный предположил, что следователя понизили из прокуратуры по причине гневного срыва; такое бывает со сдержанными людьми – срыв на ровном месте. Может быть, на начальство даже наорал – так решил для себя дежурный.
Следователь пошел своим ходом до Ленинградского вокзала.
Ходьба его успокоила. В темном переулке он вдруг услышал детский плач, детский стон: мма! Замер, повернул на голос. Из палисадника, совсем близко: мма! Перегнулся через штакетник, кошка прыгнула на него из кустов. Он отшатнулся. Постоял в тишине и отправился дальше.
Через час подходил к даче.
Его неприятно удивила музыка, она коконом опутала их обычно тихий дом. Окна сияли, в саду шуршали голоса, огонек сигареты прожег темную ночную завесу.
Гостей Игорь Петрович не ожидал, надумал вернуться на станцию, укатить в Москву последней электричкой, переночевать одному в квартире. Но решение не исполнил, его окликнули. Игорь Петрович обернулся. Брат его нагонял.
Брат был в приподнятом настроении, говорил радостно о заседании в институте, извинялся за опоздание, едва войдя в дом, объявил, что привез балык. Накурено было в комнате, гудели голоса.
– Это чего, Наташа? – спросил Игорь Петрович жену. – Отчего народ?
– Ты забыл, Игорь? Сегодня Лялино рождение. – Ляля была их дочь.
Игорь Петрович отвечал невозмутимо, что замотался сегодня, такой денек выдался, не дай боже.
– Ничего, – сказала жена, – бывает. Иди к столу, я котлет нажарила.
Игорь Петрович выпил за здоровье дочери, рассказал смешную историю из жизни уголовного розыска, поел и вышел в сад покурить.
Ушел в глубь сада, подальше от шепчущейся у крыльца парочки, чиркнул спичкой и увидел на тропе за калиткой нелепую фигуру в латаном ватнике. Он попытался разглядеть лицо, но видел в сумраке лишь бледное пятно. Вскрикнул, отбросил обжегшую пальцы спичку. Папиросу изо рта вынул, приблизился к калитке.
За калиткой стоял потерпевший и смотрел.
– Вы извините, – произнес слабым, прозрачным голосом, – я вам не досказал сегодня.
Следователь молчал и глаз не сводил с ретушера.
– Насчет билета. Он у меня в правом кармане. И там еще копеечка лежит сдачи. Тоже обстоятельство. Вдруг поможет.
Посмотрел на следователя близоруко, рассеянно, точно между ними не воздух был, а толща темной воды.
– Вы извините.
– Ничего, – прошептал следователь.
– Я пойду.
Повернулся и зашагал прочь от дома. Следователь смотрел ему вслед. Отступил от калитки. Вздрогнул от треска попавшей под ногу ветки, как от выстрела. Вспомнил о папиросе. Достал спички, добыл огонь трепетавшей от дрожи рукой. Покурил и вернулся домой. Смотрел на гостей и домашних тихо, растерянно, точно издали.
На другой день следователь отправился в морг и велел предъявить ему тело. Тело вынули из холодильника и показали. Показали одежду: ватник залатанный, валенки в старых галошах, штаны засаленные, ветхое белье, военная заношенная гимнастерка, черный пиджак с протертыми до прозрачности локтями, шапка армейская с вмятиной от звездочки.
Патологоанатом сообщил, что умер потерпевший мгновенно.
– Как в прежние времена говорили, от удара.
Следователь сходил на квартиру к покойному, поговорил с соседями. Они не слыхали, чтобы у потерпевшего были братья.
– Один он был, – показала жена портного Тамара, – только мы по нему и поплакали.
Портной Василий Иванович рассказал, как он шил злополучное пальто, какого отличного качества добыл драп.
– А подкладка – как шелк.
Следователь слушал терпеливо и как будто даже со вниманием. Выслушал и вернулся на службу.
Через несколько дней он на службе припозднился – приводил в порядок бумаги по делу об убийствах в пригородных поездах. В дверь постучали, он сказал негромко, не подымая голову от бумаг:
– Да.
Дверь скрипнула, он посмотрел и увидел робко переступающего порог потерпевшего. Латаный его ватник застегнут был на все пуговицы, из широкого ворота торчала худая птичья шея. Шапку он мял в руках.
– Я вас слушаю, – нашел силы сказать следователь.
– Вы меня извините, – сказала потерпевший. – Я вам надоедаю. Но я вспомнил, что, когда я шел в переулке, из окна на меня старушка смотрела. Там домик деревянный в переулке. И старушка сидела у окна. Она же, наверно, и грабителя видела, когда он за мной шел, как вы думаете?
– Я узнаю.
– Спасибо.
– Всего доброго.
– И вам.
Потерпевший вышел. Следователь вытер потные ладони о брюки. За окном лил весенний ночной дождь.
В этот же вечер Игорь Петрович отправился в указанный переулок, нашел низенький дом под черной крышей. За неосвещенным окном он разглядел бледное пятно лица. Оно было за стеклом, как светящаяся рыба в аквариуме; приблизилось к стеклянной границе между двумя мирами и застыло, не в силах оторвать круглых плоских глаз. Игорь Петрович постучал в раму, и старушка исчезла. Он стоял долго, но так и не дождался ее появления. Постучал в дверь, но никто с той стороны не подошел. Следователь отправился домой.
У подъезда дожидался его потерпевший. Следователь поздоровался вежливо. Предложил папиросу. Потерпевший поблагодарил и отказался.
– Вы еще обстоятельства вспомнили? – спросил Игорь Петрович.
– Это совсем далекое обстоятельство, – отвечал грустно потерпевший. – Самолет летел в это время куда-то на запад, я видел огни. Вдруг пригодится.
– Да, – сказал следователь, – очень хорошо, и очень кстати, что вы пришли, у меня есть новости по вашему делу. Пойдемте, я вам покажу кое-что.
И он повел потерпевшего дворами и закоулками все дальше и дальше от своего дома, на задворки, к заброшенному котловану, собирались там что-то строить еще до войны, да так и забыли. Следователь подвел ретушера к обрыву и выстрелил в затылок из табельного оружия.
На другой день пришло сообщение о найденном в котловане трупе. Вызвали Игоря Петровича, чтобы он своими глазами убедился в несомненном сходстве застреленного и потерпевшего. Особенно поражало всех сходство до мельчайших подробностей одежды.
– Это кто-то над тобой шутит, – сказал патологоанатом следователю, – это же надо, в валенки и ватник нарядиться посреди лета, ради чего?
Следователь распорядился сверить отпечатки пальцев обоих покойников. Через час ему сообщили, что отпечатки идентичны.
В почтовом ящике белел конверт. Жена прислала письмо.
«Купались…
Плавали на лодке…
Кормят обильно…
Фрукты покупаем…
Ляля шоколадная».
Он прочел письмо, взял ручку, заправил чернилами и написал ответ на писчей бумаге:
«У меня все хорошо, слушаю по радио концерты, ем нормально, скучаю».
Подумал и дополнил:
«У нас дожди».
Надписал конверт, вложил письмо, заклеил. Поставил на огонь чайник. В дверь позвонили. Он нисколько не удивился, увидав на пороге потерпевшего:
– Здравствуйте. Проходите. Я как раз поставил чайник. Ватник снимайте. Не беспокойтесь, никуда он не денется, на крючок повешу. Валенки снимайте, пусть ноги отдохнут. Вот вам тапочки. Женские, но какая разница, вам впору будут.
От чая потерпевший не отказался, выпил два стакана с сахаром. И бутерброд съел с сыром и сливочным маслом. Промокнул пот застиранным носовым платком.
За чаем следователь рассказал ему самым тихим своим голосом, усталым, не имеющим сил возвыситься, что был когда-то лучшим следователем в прокуратуре, дела вел самые запутанные и все раскрывал. Ни одного не было исключения.
– До поры до времени, до прошлой весны. По весне я всегда чувствовал себя хуже, головные боли мучили, как в блокадном кольце голова, и мысли все рождаются слабые, хилые, неподвижные, и каждая отравляет мозг, и нет никакой возможности по-настоящему думать. Я весной всегда ложился в клинику. Там процедуры, отрешался от забот и приходил в норму. Это у меня после войны началось, после контузии. А той весной ничего голова не болела, я обрадовался поначалу, но ненадолго. Болеть она не болела, но и думать не думала. Я как будто не мог увидеть картину целиком, ухватывал крохи, но в целое они не складывались. Я стал забывчив. Я сам попросил, чтобы меня перевели на более простую работу. Но и здесь мне уже трудно. Жена меня жалеет. Дочка пока не знает. Не замечает. Она собой поглощена, и слава богу. Чем дальше, тем хуже. Я в конце концов уйду из дома, стану бродить по русской земле, себя позабуду.
Так он говорил, а потерпевший слушал.
– Знаете, что я понял на новой работе? Что простое дело – самое сложное. Простое дело разрешить нельзя. Вот как ваше. Нельзя придумать, как отыскать ваше пальто. То есть придумать можно, но исполнить нельзя. Нету возможностей. Людей, времени. Это целая армия нужна. И целая вечность.
Расстались дружески.
В это лето они беседовали много. Чаще всего ретушер поджидал следователя после работы, в переулке. И они шли не торопясь. Следователь говорил свободно. То о делах, то о самочувствии, то о войне, то о дочери. Ретушер все больше молчал, но и говорил порой. Все больше о детстве, о том времени, когда мать и отец были живы, и в рассказах его выходило, что то было райское время; светило солнце, уходило за тучу, огонь гудел в очаге, сгребали старые листья, кошка шла, и тень ее удлинялась. Не так оно было прекрасно, как он рассказывал. А может, и так. Кто я, чтобы судить.
В начале осени взяли в Хамовниках банду. Главаря следователь застрелил при попытке к бегству, как зверя. Подошел к убитому и разглядел, что тот одет в пальто, очень похожее по описанию на пальто ретушера. В кармане убитого, в брюках, нашел платок белый с синей каймой. И автобусный билет завалялся в кармане, следователь проверил по номерам, – с того самого рейса, о котором говорил ретушер. И третья пуговица держалась плотнее других. Следователь изъял пальто и отнес Василию Ивановичу. Тамара вывела пятна, а портной залатал дырку от пули. Следователь аккуратно завернул пальто в бумагу и отнес к себе домой (в комнате ретушера жили к тому времени другие люди). Игорь Петрович надеялся при встрече вручить потерпевшему пальто. Но ретушер не вернулся.
Долго еще пугали малых детей профессоршей и ретушером, до семидесятых годов, пока не снесли старую Марьину Рощу: дома, палисадники, заросли, лавки. И все прошлые люди покинули эти места. И люди, и тени.
Смерть президента
Президент заболел и умер. Врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания и накрыли белой простыней. Но министры решили, что президенту умирать рано – положение в стране шаткое, перспективы смутные, и только президент на нынешнем этапе способен удержать равновесие и внушить народу веру в будущее. Так примерно и сообщил министр внутренних дел на совещании, а министр внешних дел его поддержал. Смерть президента была решительно не ко времени.
Посовещавшись, министры разработали план действий. И в обстановке совершенной секретности переговорили с несколькими учеными. В течение буквально одной ночи ученые создали голографическую копию президента. Копия могла существовать не только на экране, но и в живой реальности, так что, находясь с ней рядом в одной комнате, вы бы ни за что не заподозрили, что это всего лишь призрак, цветная тень и вы способны пройти сквозь нее. К слову сказать, это была не первая копия такого рода, вспомните хотя бы концерт голографического Майкла Джексона.
Пока ученые создавали копию, сценаристы, операторы и режиссеры трудились над будущими речами и событиями. Обдумывали нюансы: любимые слова и словесные обороты, интонации скорби и радости, раздражения и сосредоточенности. Взгляды, жесты, походка – все изучалось до тонкости по архивным съемкам. Уже на следующее утро президент дал короткую пресс-конференцию в прямом эфире, и никто не заподозрил обмана.
Между тем в эту ночь президент очнулся под белой простыней. Врачи ошиблись, это была не смерть, а летаргический сон. Президент очнулся, скинул простыню, встал с кровати. Он вышел в темный коридор, спустился вниз по черной лестнице, увидел работающий в фойе телевизор. Как раз давали пресс-конференцию в прямом эфире. Он увидел своего прекрасного двойника и понял, что умер и что воскреснуть нельзя. Он понимал, что голографический президент гораздо удобнее живого. Несомненно, об этом подумают министры, как только узнают, что он восстал из мертвых. Подошлют убийцу, исправят.
«Я уже никто» – так подумал президент.
Он услышал тихие шаги, отступил за огромный фикус. В фойе вошла медсестра.
– Ну вот, – сказала она, – опять не выключили.
И выключила телевизор.
Президент вспомнил, что, пока он болел, она приходила к нему делать уколы. У нее была легкая рука, мягкий голос и добрые глаза.
Медсестра направилась к лестнице, президент чуть выждал и последовал за ней. За ней вышел из больницы, сел в автобус, вышел из него на окраине, направился к дому с темными ночными окнами. Медсестра была погружена в свои мысли и не замечала преследователя.
У подъезда поболтала с соседкой, выгуливавшей лохматого пса. Лифт не работал, и пришлось тащиться на седьмой этаж пешком. У дверей она долго искала ключи. Нашла, вставила в замочную скважину, и тут кто-то шепнул:
– Простите.
Она обернулась.
Президент сказал медсестре, что его жизнь в ее руках. Он едва стоял на ногах. Она открыла дверь:
– Проходите.
Постепенно он окреп, стал помогать по дому, выносить мусор, ходить в магазин, он оказался хорошим сантехником, люди охотно обращались к нему. Никому и в голову не приходило, что он – президент. Президент был там, на экране, подтянутый, в прекрасном костюме, гладко выбритый, свежий, внимательный, чуткий, мудрый. А жилец медсестры был человек усталый, брюзгливый, с поредевшими на макушке волосами, с тихим дребезжащим голосом. С ним можно было поговорить о футболе, о рыбалке, о ценах, да и о политике можно было поговорить.
– Много они там понимают, – так он обычно заканчивал разговор о политике.
На экранного президента он смотрел равнодушно. Он уже позабыл, что был им.
Кровь
Я тот человек, у которого железные зубы, железный посох и железные башмаки. Им нет сносу. Когда меня не станет, они будут сами по себе клацать, стучать, топать.
Часть I. Братья
Проснулся по звонку в семь пятнадцать. Пять минут лежал. Встал, принял душ, побрился, включил чайник, поджарил яйцо, бросил в кружку пакетик, съел яйцо, выпил сладкий, коричневый чай, посмотрел на термометр за окном, надел на рубашку свитер. Синяя рубашка, серый свитер, синие джинсы, черные ботинки, черная куртка, капюшон на голову. Темное и холодное ноябрьское утро две тысячи четырнадцатого года.
Толпы на остановке не было. Первый сбой до минуты рассчитанного дня.
Николай Иванович растерянно посмотрел на часы. Восемь двадцать пять. Автобус покажется через пару минут. Толпа должна быть. На деревянной лавке одиноко сидела бабка и прижимала к уху телефон. Подбежала собачонка, обнюхала бабкины колени. Бабка заголосила в трубку:
– Ты где? Я два автобуса пропустила!
Собачонка легла на заледеневший асфальт у бабкиных ног.
Наверное, автобус пришел раньше и всех увез.
Николай Иванович затолкал руки в карманы куртки и приготовился к долгому ожиданию. И тут же увидел автобус.
– Ну вот, – сказал бабка расстроенно.
Николай Иванович прижал проездной к валидатору. Загорелся зеленый огонек, и валидатор пропустил его в свободный прохладный салон. Николай Иванович подумал, что сегодня ему везет, и устроился у окна. Ребром ладони провел по запотевшему стеклу. Через полчаса встал и направился к выходу. Нажал кнопку на поручне у дверей, и летевший пустынной дорогой автобус начал торможение. На десять минут быстрее обычного Николай Иванович прибыл на место.
В темном переулке слышались его шаги, хрустел под ногами ледок. У дверей института он остановился. Дверь была приоткрыта. Николай Иванович стоял и смотрел растерянно в черную щель.
Он сообразил вдруг, что сегодня не понедельник, а воскресенье, и город спит в этот час, а он, Николай Иванович, старший научный сотрудник, тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года рождения, разведенный, отец девочки Насти, которой исполнится в этом декабре четырнадцать лет, про воскресенье позабыл. И потому-то стоит в растерянности у приоткрытой двери. К которой и в понедельник приезжать не следовало: институт покинул здание месяц назад. Николай Иванович стоял у черной щели в склеп. Память его привела. Память его подвела.
Он взялся за ручку двери и потянул на себя.
Николай Иванович вошел в темноту, нашарил на стене выключатель и хлопнул по клавише. Лампа под потолком мигнула, погасла, зашипела, снова мигнула и разгорелась ясным белым светом. Здание института было построено в восьмидесятые годы XIX века. Основательное, с широкими лестничными маршами, с лепниной на высоченных потолках, с громадными каменными подоконниками. Люминесцентные лампы поставили в семидесятые годы XX века, и всегда они смотрелись уродливо, чужеродно, но в это воскресное утро и здание, и лампы сроднились – перед лицом смерти. Всё здесь, в этом здании, было обречено, оно само было обречено. Стало уже прошедшим.
Стол, за которым сидел вахтер, так и стоял справа от входа. Обычно на столе лежала амбарная книга, в которой расписывались входящие. Николай Иванович замер, как будто давая возможность зданию привыкнуть к своему присутствию, дыханию, и направился к лестнице. За лестницей, прямо под маршем, был его кабинет. Он толкнул дверь и вошел.
Николай Иванович проработал в отделе дольше всех, потому и занял со временем лучшее место – в закутке между старым несгораемым шкафом и окном. Валялись на полу бумажки, огрызок карандаша. Банка из-под индийского кофе стояла у батареи, в банку бросали они окурки, когда тайком, закрыв на замок дверь, курили у приоткрытой форточки.
Он завернул к себе в закуток. Увидел на торце шкафа картинку, прилепленную еще до него. Картинка выгорела, едва различалась на ней дорога, поле, облака в небе. Громадный тяжеленный железный шкаф оказался сдвинут, и Николай Иванович увидел за шкафом скопившуюся вековую пыль, а в стене – деревянную, выкрашенную коричневой масляной краской дверь. Он и вообразить не мог, что за этим железным монстром есть дверь, он как будто заглянул за нарисованный на холсте очаг в каморке папы Карло. За картинку, прилепленную к железному боку.
Протиснулся за шкаф и подергал дверь за ручку. Толкнул плечом, приналег – дверь держалась. Николай Иванович наклонился и заглянул в замочную скважину. Ничего не разглядел и выбрался из-за шкафа.
Встал у подоконника, достал сигарету, закурил. Окно смотрело во двор, засыпанный битыми кирпичами, арматурой, стеклом. Прежде, еще месяц назад, в этом огороженном бетонной стеной дворе было чисто, в черном мокром асфальте отражались огни. Николай Иванович докурил, погасил в банке окурок и отворил окно. Взобрался на подоконник и спрыгнул во двор, нашел кусок арматуры – железный изогнутый прут – и забросил его в комнату. Железо грохнуло. Николай Иванович постоял в тишине и холоде под сумрачным небом и полез в кабинет. Порвал о карниз штанину, поцарапал ногу, выругался. Спрыгнул с подоконника на пол, створку аккуратно прикрыл. Подхватил с пола прут и втиснулся в щель за шкаф. Вставил железный изогнутый конец в замочную скважину, повернул насколько мог, надавил, и что-то там в замке треснуло. Он пнул в дверь ногой, дверь ахнула и распахнулась. Николай Иванович потерял опору и упал.
Он оказался на полу в совершенно темном помещении. Приподнял голову, пытаясь хоть что-то разглядеть или расслышать. Поднялся. Шагнул осторожно вправо, к притолоке, и стал шарить по стене рукой. Рука нащупала гладкую выпуклость и в ней рычажок, Николай Иванович надавил – рычажок подался и щелкнул, свет вспыхнул.
Простая электрическая лампа на витом шнуре. Вся проводка была наружная, крепилась белыми фарфоровыми шишечками. Старина, одним словом. Потолок побелен известкой, стены от пола до потолка выкрашены зеленой масляной краской. Полы в комнате были паркетные, как и во всех институтских кабинетах, но только не такие истертые. Пыль лежала толстым слоем и на полу, и на громадным двухтумбовом столе, и Николай Иванович, пролетев по полу, весь в этой пыли вымазался.
Очевидно, сюда не заходили давно, бог его знает сколько лет. Лампа свисала прямо над столом, слепила глаза. У стены напротив стола – узкий белый шкаф, белая ширма выгораживала угол. Вообще, комната походила на медицинский кабинет. С другой стороны белого шкафа был даже умывальник с медным старинным краном. И пожелтелое полотенце висело на крючке. Николай Иванович заглянул за ширму и увидел что-то вроде кушетки. В изголовье стоял на тумбе приемник со стеклянной шкалой и круглыми ручками настройки по обе стороны шкалы.
Он помедлил и повернул ручку настройки. Ничего не произошло. Провел ребром ладони по стеклянной шкале, как по запотевшему стеклу в сегодняшнем автобусе. И точно так же, как в автобусном стекле, очистилось окошечко. Но ничего за ним Николай Иванович не разглядел, кроме светящейся за шкалой лампы, да чисел, в ровную строчку нарисованных на стекле, от 1 до 100.
Вышел из-за ширмы, приблизился к умывальнику, повернул медный кран. Вода полилась. Николай Иванович ополоснул от пыли руки, влажными ладонями стряхнул пыль с себя, рассмотрел дыру в штанине и подсохшую уже царапину. Машинально взялся за полотенце и сообразил, что оно тоже пыльное. Снял полотенце с крючка, промыл под ледяной струей и протер им столешницу – столешница влажно залоснилась. Еще раз промыл полотенце, отжал, протер стул с высокой прямой спинкой и черную кожу обивки. Протер белую дверцу шкафа. Снова промыл полотенце, снова отжал, встряхнул и повесил на крючок. Подошел к шкафу, постоял перед белой дверцей, решился и потянул на себя металлическую ручку-рычаг.
Ждал чего угодно, хоть бы даже и взрыва, мало ли.
Дверца отворилась с усилием, как открывается дверца холодильника. В шкафу лежала коробка, из которой торчали стеклянные запаянные капсулы с темно-красной жидкостью. Пять пронумерованных капсул.
Николай Иванович долгим застывшим взглядом смотрел на капсулы, потом протянул руку и потрогал прохладный стеклянный бок одной их них. Захлопнул дверцу и подошел к столу. Сел и положил руки на столешницу.
– Ну-с, – произнес он.
Впервые прозвучал здесь его голос. На который никто, разумеется, не отозвался.
Николай Иванович выдвинул ящик и увидел в нем надорванную пачку папирос «Герцеговина Флор». Две папиросы-самокрутки лежали в пачке; из газеты или из книги вырезали для них бумагу. Шрифт мелкий, с ятями. Еще были в ящике простой карандаш и дебетно-кредитный журнал. Так и значилось на обложке: ДЕБЕТ-КРЕДИТ. Николай Иванович открыл журнал и прочел первую запись. Серые карандашные слова угасали на бледно-зеленом фоне разлинованной бумаги. Как будто смотрели на него из-под застоявшейся воды. Со дна времен.
Запись из журнала ДЕБЕТ-КРЕДИТ: 1918, октябрь 12
Первое переливаніе консервированной крови произведено военнымъ хирургомъ Робертсономъ. Консервація проводилась растворомъ лимоннокис-лаго натрія, глюкозы и дистиллированной воды. Кровь сохранялась въ теченіе двухъ недѣль. См. «Журналъ экспериментальной медицины» за 1916 годъ.
Въ іюнѣ текущаго года Робертсонъ опубликовалъ въ «Британскомъ медицинскомъ журналѣ» работу «Трансфузія консервированной крови».
Въ августѣ 1918 я нашелъ способъ консерваціи крови, позволяющій хранить ее, по крайней мѣрѣ, три съ половиной мѣсяца согласно проведенному эксперименту. Я надѣюсь, что сохраненная моимъ способомъ кровь будетъ жизнеспособной и черезъ сто лѣтъ. Одно изъ главныхъ условій храненія – отсутствіе солнечнаго свѣта. Желательна полная темнота. Возможно кратковременное воздѣйствіе электрическаго свѣта. Необходимо избѣгать перепадовъ температуры. Я сконструировалъ что-то вродѣ ящика Дьюара изъ металлическихъ полированныхъ изнутри листовъ. Воздухъ между листами выкачанъ. Дверца на резиновыхъ присоскахъ, закрывается плотно. Образцы хранятся въ запаянныхъ пробиркахъ, каждая изъ которыхъ тоже своего рода сосудъ Дьюара.
Николай Иванович знал, что в современной медицине кровь охлаждают жидким азотом до –196 °С и хранят в течение десяти лет и более. Возможно, вечно. Как бы то ни было, длительная консервация без заморозки могла представлять интерес и для современной науки. Если только неизвестному ученому действительно удалось найти способ.
Он с любопытством разбирал карандашные записи. В комнате было совершенно глухо, как в каком-нибудь подземном бункере, ограждающем живых существ от воздействия радиации, а Николай Иванович в таких бункерах бывал. Три года после института трудился на военном объекте в Московской области. Случилась с ним там сердечная болезнь, которую назвал он любовью. И если бы завел Николай Иванович журнал для записей, то изложил бы непременно в нем эту историю.
А начал бы с того, что осень была сумрачной и дождливой, что объект их находился в глухомани: от станции Балабаново час с лишком проселочной дорогой, и непременно засыпаешь на полпути. Минут за двадцать до конечной, до разворота перед КПП, просыпаешься и видишь за окном сосновый лес и огненный закатный луч.
Николай Иванович вновь выдвинул ящик. Достал папиросу из пачки. Понюхал. Вынул из кармана зажигалку. Щелкнул рычажком, посмотрел на вспыхнувшее пламя. И закурил, вдохнув столетней давности дым.
А ничего, кстати, ничего себе оказался вкус, неплохо сохранился табак в деревянном ящике, в каменном склепе, в темноте. Только очень уж быстро сгорал, спешил обратиться в тлен, наверстывал время, которое проспал в деревянном своем гробу.
Ежедневные записи лабораторных исследований по консервации крови велись до конца ноября 1918-го, до 22-го числа. Из них Николай Иванович понял, что для переливания сохраненная кровь не годилась. Следующая после 22 ноября запись была датирована 13 января 1919 года. По содержанию она отличалась коренным образом. Говоря архивным языком, январская запись 1919 года носила личный характер. Автор по-прежнему пользовался дореволюционной орфографией. Для удобства чтения я исправляю ее на современную.
Запись из журнала ДЕБЕТ-КРЕДИТ: 1919, январь 13
Год я прожил интенсивно, мой ум был занят, и внешняя катастрофа задевала меня нечувствительно. Исследования мои нашли поддержку. Пока я нужен, я могу не волноваться. К тому же я не требователен. Я счастлив, пока занят делом.
В доме у меня по-прежнему тихо и тепло. Кухарка Анна Васильевна жалуется на скудость продуктов, как жалуется актриса на скудость репертуара. Я бесстрастно пью чуть забеленную молоком воду и продумываю эксперимент. Курю беспрерывно, но если табака не станет, я приспособлюсь. Меня убьет лишь невозможность работать. Убьет мой дух, разумеется, – для тела нужна болезнь, голод, шальная пуля или кирпич в глухой подворотне, а сейчас все они глухие. Город стал опасен. Снег не чистят, стоят ослепшие фонари, редкий, редкий горит в тупике, и непонятно, кому и зачем он там светит. Хорошо идти в лунную ночь. Снег громко скрипит, я думаю о том, что нужно изменить условия, добавить катализатор. Бог меня милует, как пьяного.
Возвращаюсь я всегда поздно, слишком занятый своими мыслями. Иногда останавливаюсь спиной к ветру и закуриваю. Парадный вход заколочен, и я иду аркой во двор. И каждый раз, когда я здесь прохожу, мне приходит фраза на ум: как сквозь игольное ушко. Как бы то ни было, я сквозь него прохожу. Снег сверкает во дворе, облитый ледяным лунным светом. В такую ночь Земля кажется лунным спутником.
Вчера я вошел в подъезд, потопал в пол, сбивая снег с подшитых кожей валенок, поднялся на два марша.
У стены на корточках сидел человек. Мерцал огонек его папиросы. Я прошел мимо, занятый какой-то своей мыслью, ныне уже прочно забытой. Подошел к двери и собирался уже позвонить, когда услышал голос:
– Митя!
Я обернулся.
Человек с папиросой смотрел на меня снизу вверх.
Я приблизился.
– Привет, Митя. Помоги мне встать.
Я протянул руки, он ухватился за них и поднялся. Я едва удержал его.
– Ноги затекли, пока сидел.
Я стоял и смотрел молча на его заросшее лицо.
– Что, брат, не признал сразу?
Он смотрел на меня исподлобья, по-волчьи.
– Пойдем в дом, Петя, – сказал я тихо.
И он отпустил мои руки.
Анна Васильевна, как обычно, прежде чем отворить дверь, спросила:
– Кто?
И я, как обычно, ответил:
– Я.
Но тут же добавил:
– Мы.
Замок повернулся, и дверь приотворилась. В образовавшуюся щель Анна Васильевна взглянула на меня и на моего спутника.
– Не узнаешь? – спросил он ее насмешливо.
– Почему же, Петр Андреевич, узнаю. Проходите.
Так или примерно так все это было. Не могу же я ручаться за каждое слово, хотя мне и кажется, что все слова отпечатались в моей памяти.
Брат переступил порог отчего дома и расстегнул светлую офицерскую шинель, новую, с блестящими даже в тусклом свете пуговицами. На правой его руке не хватало среднего пальца. Пола шинели была прожжена, зияла в ней дыра с почернелыми краями.
– Уснул у костра, – объяснил он и передал тяжелую шинель Анне Васильевне.
И в сапогах, совершенно тоже новых, зеркально начищенных, как будто влажных, он прошел в квартиру.
Анна Васильевна повесила шинель на крючок. Я снял пальто, она приняла его и повесила рядом шинелью. Придвинула мне домашние туфли. Я снял валенки. Всё молча. Прислушиваясь к звукам в квартире. К шагам Петра. К скрипу, щелчку, к шуму полившейся воды в ванной.
Прежней его одежды здесь не было, и Анна Васильевна собрала ему отцовскую. Постучала в дверь ванной, вошла, оставила одежду и вышла. Принялась растапливать большую кафельную печь в гостиной. В эту зиму мы редко здесь топили, ели обычно в кухне. Через сорок минут брат вышел – в белой отцовской сорочке, черных брюках и мягких туфлях. Дров Анна Васильевна не пожалела, воздух прогревался.
Анна Васильевна накрыла круглый стол под большой сияющей люстрой, как заведено было в прежние мирные времена; брат мой Петр сел за стол на место, которое занимал раньше отец. Лицо его было чисто выбрито, руки лежали на белой скатерти. Дымилась пшенная каша в тарелках. Брат взял прозрачный ломтик хлеба, серебряную ложку, сгорбился и принялся за еду. Проглотил кашу, вытер рот крахмальной салфеткой. Посмотрел на меня исподлобья и сказал усмешливо:
– Что ж нам и выпить нечего со свиданьицем?
Блеснул на меня глазами исподлобья. Придвинул стакан в серебряном отцовском подстаканнике. Отпил забеленный молоком кипяток. Еще взял хлеба – последний ломоть с тарелки. Прожевал.
– Небогатый стол.
– Что есть.
– Спасибо.
– Откуда ты?
– Долго рассказывать.
Часы пробили половину первого. Свет мигнул и погас.
– А ты как поживаешь, брат? – спросил он из темноты.
– Нормально.
– Всё кровь кипятишь?
– Иногда морожу.
– Я крови много видел. И на вкус узнал. Товарища подстрелили, он упал на меня, и я напился его крови.
Анна Васильевна вошла с подсвечником. Ходила она мягко, в вязаных, подшитых кожей носках. Она внесла огонь и оставила на столе. Мы видели опять друг друга.
– Брат мой, – сказал я.
Но он как будто не слышал меня.
– Вот так, – провел ладонью по лицу своему, – вот так текла его кровь. Я двинуться не мог, был ранен.
– Почему ты не писал?
– Не хотел. Не мог. Не представлял. Какими словами? О чем?
– О том, что жив.
– Жив?
Он смотрел на меня новым своим взглядом исподлобья. И произнес:
– А ты не рад мне.
– Я? Рад.
– Ты боишься меня.
– Я? Нет.
– Не бойся, не трону.
И я впервые с нашей встречи увидел его улыбку. Улыбался он, не размыкая губ.
– Не бойся, – повторил он, уже без улыбки. – Переночую и уйду утром к Маше. Как она?
Я понял, что и он боится. Мой ответ страшит его.
– Ты ей не писал, – сказал я.
– Не мог.
Мы помолчали.
– Есть у нее кто?
– Да.
Пламя дрожало от нашего дыхания, от каждого нашего движения, едва ли не от взгляда. Я поднялся из-за стола. Подошел к бюро, отомкнул, вынул бумагу. С ней вернулся к столу. Положил бумагу перед ним и сел на свое место. Он смотрел на меня.
– Это копия. Я снял ее собственноручно.
Он придвинул свечу к себе и наклонил голову. Он читал письмо от командира части о том, что погиб в бою 5 ноября 1916 года и похоронен в общей могиле. Я помнил письмо дословно.
– Оригинал у нее?
Я не нашел нужным отвечать.
– Я все-таки встречусь с ней.
– Петр…
Но он прервал меня:
– Где ты спишь?
– В отцовском кабинете. И там же занимаюсь.
– Скажи кухарке, чтобы постелила мне здесь, на диване, здесь тепло от печки. И чтобы не будила меня. Ты встаешь рано?
– В шесть.
– Не буди меня.
– Петр.
– Что еще?
– Не ходи к ней.
– С чего бы?
– Зачем тебе?
– Хочу забрать свои вещи.
– Ты не писал ей.
– Вот заладил.
– Там нет твоих вещей.
– Всё продала? А что, ее новый муж повыше меня будет?
– Нет.
– Хочу посмотреть на него.
И он, сдвинув стул, поднялся из-за стола.
– Скажи кухарке насчет дивана.
– Петр.
– А кстати, где наш француз?
– Умер. Тиф.
– Жаль старика. С другой стороны, все к лучшему. Что бы ему сейчас делать с нами, овечке среди волков? Я пойду за папиросой, я ее не докурил, она лежит и ждет своего часа в кармане шинели, я ее докурю и лягу спать, а ты, Митя, иди к себе, скажи кухарке и оставь меня, я хочу побыть один.
– Мы не договорили.
– О чем?
– О крови.
– Что?
– Ты мне рассказал историю о крови, а теперь послушай мою. Сядь. Анна Васильевна, принесите нам папиросы из кабинета.
Он помедлил и сел. Протянул руку и пальцами снял со свечи нагар. Вытер пальцы о салфетку, оставил на ней черный жирный след.
Мы молчали, пока Анна Васильевна не принесла отцовский портсигар с самодельными папиросами. Она их крутила сама – из нарезанных ножницами листов справочника «Вся Москва. 1915». Табак она привозила от своего отчима, он жил в селе под Ярославлем. Оттуда же она привозила нам муку, картошку и пшено.
Петр разглядел папиросу, приподнялся и прикурил от свечи. Запахло сладко. Отчим Анны Васильевны добавлял в табак донник.
Мягкие шаги Анны Васильевны погасли. Она ушла к себе в кухню. Петр молчал, попыхивая папиросой. Я тоже закурил.
– Твоя кровь хранится у меня, ты помнишь?
– Не испортилась?
– Нет.
– Поздравляю. Буду знать, к кому обратиться, если что.
– Я сохраняю кровь не для переливания. С лета пятнадцатого года я проводил эксперименты с мышиной кровью, в ноябре шестнадцатого, когда мы узнали о твоей гибели, я решился на эксперимент с твоей. Я воскресил тебя.
Он молчал. Пыхнул папиросой. Выпустил сладкий дым.
– Тот новый муж, с которым живет Маша, – ты. Не воевавший. Я выбрал для воскресения осень четырнадцатого. За два дня до того, как тебя призвали. Это важно – выбрать время. Кого мы, собственно, воскрешаем? Того Петра, который в десять лет бежал из дому, чтобы плыть на пароходе по Волге до самой Астрахани? Того, кто познакомился с Машей на пожаре, а после не мог уснуть и не давал спать старшему брату. Маша, Маша, Маша – не сходило с его языка. Или того, кого провожали мы на войну в четырнадцатом году, молодого сильного мужчину, не умевшего даже повышать голос…
– Или того, кто сидит перед тобой сейчас, того, кто убил ребенка за буханку кислого хлеба? И это не фигура речи, брат мой. Я это сделал. Я его задушил. Догнал, повалил и задушил. Потому что хлеб он не выпускал. Я был слаб, но на его маленькую жизнь меня достало. Жаль, что его кровь не хранится у тебя в пробирке, а впрочем, нет, не жаль. Хлеб он не выпускал даже из мертвых рук, из его рук я и ел. Я бы и самого его съел и выпил бы его кровь, да не успел – взрывом нас разметало. Я был не в себе. Или в себе. Кто знает…
Он замолчал, глядя на колеблющееся пламя.
– Я бы хотел посмотреть на того себя, на прежнего. Заглянуть в его кроткие глаза. Маша мне говорила: кроткие у тебя глаза, Петя. Они и сейчас у него такие? Она и сейчас ему так говорит? Я, пожалуй, и утра ждать не стану, надену свою шинельку и пойду. Посидим втроем: я, он и Маша. Пусть поглядит на меня, пусть узнает, на что способен, во что может превратить его жизнь. Он курит? Нет? Не пристрастился. Как трогательно. А Маша? Да? Я поделюсь с ней своими папиросами, тебе кухарка еще накрутит, она тебя любит. А меня, брат, давно уже не любит никто, а только боятся все, даже злые собаки.
Он поднялся, резко сдвинув стул. Пламя свечи качнулось и едва не отлетело.
Он покинул комнату. Я вышел из оцепенения и бросился за ним.
В тесноте прихожей встали мы с ним лицом к лицу, едва различая друг друга во мраке, но слыша ясно дыхание, запах.
– Ты отойди, брат, с дороги, у меня рука тяжелой стала, недоброй.
– Выслушай, сделай одолжение. Я не хочу стать автором сюжета в духе Стивенсона.
– Да ты уже им стал. Уйди с дороги, мистер Хайд соскучился по доктору Джекилу.
– У меня есть золотые червонцы.
– Сколько?
– Пятьдесят.
– Разговор становится осмысленным.
– Ты исчезнешь?
– Послушай, брат, а если я его убью, ты ведь снова можешь его воскресить. Того молодого человека, которого провожают на вокзал, и он идет в полной растерянности, он не боится быть убитым, он боится убивать.
– Он – это ты.
– Конечно нет. Тот я – мертв. Ты воскресил мертвеца, брат мой. Впрочем, кого же еще воскрешать. Неси червонцы.
Я медлил. Произнес:
– Для него тоже даром не прошли эти три года.
– Он тоже хлебнул крови?
– Он пережил смерть ребенка.
Петр молчал.
– У них родилась девочка прошлой зимой. Ее назвали Вероникой. В честь нашей мамы.
– Было у нашей мамы два сына, а стало три.
– Вероника умерла от голода, у Маши пропало молоко, ничего не могли достать, мы…
– Я бы достал.
Мне захотелось взять его за руку. Я протянул свою, но он отступил.
Запись из журнала ДЕБЕТ-КРЕДИТ: 1919, январь 25
Трамвай уже трогался, я втиснулся на подножку, чей-то суконный локоть ткнул меня в лоб, но я удержался. Не доехав квартал до рынка, трамвай встал, и вагоновожатая крикнула, что хода нет, снег не расчищен на путях. Толпа повалила из трамвая, меня снесло не землю. Не затоптали. Я поднялся, принялся отряхиваться и увидел женщину в светлой офицерской шинели со срезанными полами, женщина была очень маленького роста. И почему-то я подумал, что на женщине шинель Петра. Может быть, потому, что срезана она была все-таки высоковато, даже для ее небольшого роста, и я подумал, что срезали так высоко из-за дыры. Женщина мелко перебирала черными валенками, катилась колобком, снег слепил, я жмурил глаза и шел за ней. Женщина свернула за ограду больницы.
Я догнал ее в темном больничном холле. Она сказала, что работает здесь, что шинель ее мужа. Смотрела на меня желтыми рыбьими глазами. Покатилась из холла к лестнице. Я последовал за ней. Она спустилась по каменному маршу в подвальный этаж, покатилась громадным коридором, перебирала бесшумно валенками, не оглядывалась. Через низенькую, даже ей нагибаться, дверь – в ослепительный, заснеженный двор, к черному сараю по узкой расчищенной дорожке. Она вошла в сарай, и я услышал ее скороговорку:
– Павел, ты скажи барину. Что он идет за мной, что обижает?
Из сарая вышел мужик с топором, шагнул ко мне. Я спросил миролюбиво:
– Куришь?
Мужик смерил меня спокойным взглядом и сказал:
– Нет.
– Ты ее муж?
Он усмехнулся:
– А что тебе?
– Мне шинель нужна. То есть не сама по себе, бог с ней. Откуда шинель, вот что важно.
– Повезло тебе, барин, я знаю, откуда шинель. Куплена позавчера на Казанском вокзале у татарина.
– Она сказала, что мужа шинель.
– Муж и купил, померил дома, маловата, отдал жене.
– Там дырка была вот здесь? – Я указал на полу своего пальто. – Мне важно знать.
– Они без дырки покупали, барин, как есть, так и покупали.
– Я бы хотел поговорить с ней. Пожалуйста.
– Некогда нам.
Он усмехнулся мне, поклонился и вернулся в сарай. И оттуда ахнул топор. И голос мужика раздался:
– Подбирай, дура!
Я развернулся и направился к низенькой двери.
Шел громадным коридором, когда стали нагонять меня торопливые шаги. И голос раздался:
– Дмитрий Андреевич.
Я обернулся. Женщина. Худенькая, бледная, глаза кажутся черными в скупом свете.
– Здравствуйте, вы меня не помните, верно, я училась с вами на курсе, в двенадцатом году.
– Да, здравствуйте, очень рад, хотя и не помню.
– Конечно.
– Вы простите.
– Да нет, это не важно. Я не затем, чтобы обо мне. Нет у нее мужа, вот что.
– А-а.
Я сказал это «А» и замолчал.
– Я ваш разговор слышала.
И я увидел снег на ее черных ботах.
– Это мертвого шинель, его три дня назад к нам привезли, пулевое ранение, умер, не приходя в сознание, документов не было при себе.
– А дыра, дыра была в шинели? Вот здесь вот.
– Была. И от пули дырка была – в спине. Она залатала. Почти и не видно, а вы…
– Мне бы взглянуть на него.
– На кладбище свезли.
– Простите, как вас зовут?
– Лиза.
– Лиза. Вы здесь работаете?
– В амбулатории.
– Лиза, мне нужна бумага, такая бумага, на бланке, есть у вас бланки? Я вам продиктую, а вы печать поставите и подпись. Сделаете для меня?
– Конечно, – отвечала она едва ли не радостно, не спрашивая, зачем, да к чему мне это, да как достать печать.
До кладбища я добрался к сумеркам, всё пешком. Нашел смотрителя, он спал у себя в избе, на лавке у печи, баба его разбудила, я предъявил бумагу, баба отыскала ему очки, и он надел их на нос. И сел читать у оконца. Он читал, а баба смотрела на него. Читал он по складам вслух, что предъявителю сей бумаги, старшему ординатору Дмитрию Андреевичу Киселеву, необходимо осмотреть труп для опознания.
Смотритель читал, а я поставил на выскобленную столешницу заткнутую газетой бутыль.
Копали вдвоем. Баба светила нам. Положили в яму без гроба, так, голого. Я лег на землю, на край ямы, баба опустила фонарь. Пламя дрожало за стеклом, освещало черное лицо, беспалую руку.
Я поднялся.
– Ну что? – сказал смотритель.
– Закапывай.
Они предложили ночевать, я сказал, что пойду, только покурю на крыльце, пусть не беспокоятся. Сидел, курил, вдыхал сладкий дым. Ветер качал черные кроны, но внизу было тихо. Я плакал на обратном пути, слезы замерзали. Я знал точно, что его нет, какое облегчение.
Николай Иванович перевернул страницу, начал читать следующую запись, от 30 января, уже сугубо исследовательскую. Захотел немедленно курить, достал свои сигареты и услышал шум. Кто-то ворвался в кабинет там, за несгораемым шкафом, с топотом, гиканьем, как будто целая толпа. Звонкий мальчишеский голос проорал:
– Да здесь жить можно!
У Николая Ивановича взмокли ладони. Он сидел тихо, не шевелясь.
Они там что-то сдвигали. Наверное, столы. Что-то грохнули, разбили.
– Ты что!
– А что?!
– Да ладно, пацаны, погодите, да успокойтесь вы, придурки, тут три этажа еще.
– А буфет? Буфет же был здесь?
– Да всё вывезли, ты чего.
– А полезли на крышу!
Все стихло, ушли. Осторожно Николай Иванович поднялся из-за стола, выбрался за дверь, выбрался из-за шкафа, на свет, в кабинет. Окно разбили.
В дыру уже нанесло снег, за окном мело. Кто-то завопил в коридоре у самой двери:
– Пацаны!
Николай Иванович испугался и поспешил выбраться во двор через окно.
Часть II. Мальчишка
Николай Иванович торопливо пробежал с десяток шагов притихшим под снегом переулком и оглянулся. Снег шуршал по скользкой куртке. Из института никто не показывался. Николай Иванович хотел было закурить, но не нашел в карманах зажигалку. Снег заметало за шиворот. Николай Иванович поднял воротник и отправился по переулку дальше. Здесь он прежде не ходил, и все ему теперь стало любопытно. Жилой дом, небольшой, в четыре этажа; разноцветный свет теплится кое-где в окнах, а за темными окнами, может, стоят люди и глядят на Николая Ивановича, на черную его фигуру в белоснежном тихом переулке. Вот он, черный квадрат, – взгляд невидимки из темноты.
Николай Иванович отправился дальше.
Разбитые окна какого-то предприятия, производственный, наверное, цех, стена из бетонных плит с остатками колючей проволоки по верху, закрытые железные ворота с облупившейся краской, рельсы из-под ворот, идут и тут же обрываются. Поворот. Деревья за кирпичной полуобвалившейся стеной, за деревьями желтое низкое здание, что-то написано на фронтоне – белый барельеф букв, – но что за надпись, не разобрать.
Очень понравились Николаю Ивановичу эти деревья, черные голые липы, совсем старые, запущенные. Снег налипал на ветки. И вдруг обрушился от порыва ветра. Ворона каркнула и слетела с макушки, Николай Иванович и не заметил, что она там была, на верхотуре. Он побрел дальше, оставил в тишине и покое эти деревья, пожелав им долгой еще жизни, тишины и запустения.
Поворот. Гул.
Переулок вывел то ли на проспект, то ли на большую улицу с широкими черными тротуарами, здесь снег не держался, здесь его посыпали реагентом, и он таял; летели машины, поднимали тучи черных брызг, Николай Иванович увидел на другой стороне стеклянные двери кафе, огляделся, переждал машину и рванул через дорогу.
В полупустом кафе бубнила музыка. Николай Иванович уселся за столик в самой глубине, расстегнул куртку, стянул, повесил на спинку стула, пригладил короткие волосы. Официантка в коричневом переднике принесла меню. Он спросил у нее зажигалку или спички.
– Курить нельзя, – равнодушно предупредила официантка.
– Да-да, я знаю, я на улице.
Заказал большой чайник черного чая, тост с ветчиной, и официантка вручила ему свою зажигалку.
Николай Иванович вышел из кафе, отступил от стеклянного входа, достал белую сигарету из пачки. Холодный снег падал на лицо, на руки, и он отвернулся, чиркнул зажигалкой, укрыл ладонью огонек. Курил, смотрел бездумно на летящие машины, на залепленных снегом прохожих, моргал от попадавших в глаза снежинок. Вернулся в кафе. После уличного гула и холода провалился в застоявшееся тепло.
Сидел, вытянув ноги под столом, слушал урчащую музыку.
Официантка принесла заказ, налила ему чаю. На вкус чай отдавал пылью. Как будто тоже сто лет пролежал в чьем-то столе. В деревянном ящике, в закрытой комнате, за железным шкафом, в обреченном здании, в кривом переулке. Как смерть Кощеева.
Мужской уверенный голос поучал кого-то:
«Обратись к риелтору. Мало ли что знакомые».
Официантка убирала со столов грязную посуду. Серые тени лежали у нее под глазами. Взглянула вдруг на него. Или мимо. Не поймешь в этом свете. Николай Иванович подумал, что зима предстоит долгая, как ночная дорога.
Он рассчитался, натянул куртку и вышел из кафе.
Снег кончился. Николай Иванович посмотрел в пасмурное небо и перебежал на ту сторону.
Он вернулся в переулок, прошел мимо заснеженных громадных лип, мимо железных дверей, мимо бетонного забора, мимо теплящихся огоньков в окнах. Остановился у приоткрытых дверей института, прислушался. Осторожно взялся за ручку и потянул на себя.
Вошел в фойе. Постоял тихо, ничего не расслышал, ни звука. Вахтерский стол, старинный знакомец, был на месте, это успокаивало. И Николай Иванович легким шагом направился к лестнице. Увидел распахнутые в свой кабинет двери, осторожно прислушался и вошел.
Железный шкаф прочно стоял на прежнем своем месте, вплотную к стене. В разбитое окно намело снег. Николай Иванович неслышным шагом подошел к шкафу с торца, увидел прежнюю картинку: мирный журнальный пейзаж в туманной дымке, почти исчезающий. Гаснущий, говоря, опять же, архивным языком.
Растерянно постучал в шкаф костяшками пальцев, и шкаф отозвался железным вздохом. Николай Иванович уперся в железный бок плечом, поднатужился. Шкаф стоял незыблемо. Николай Иванович вспомнил про воду и отправился из кабинета. Туалет был с другой стороны лестницы. Электрический свет падал из распахнутой двери, тонким голосом журчала вода. Ровно, успокоительно. Как ручеек где-нибудь в лесной глухомани. Из кладовки возле умывальника Николай Иванович достал ведро, набрал воды. Худое днище протекало. Николай Иванович приволок ведро к шкафу и окатил пол. Отец когда-то научил его так передвигать мебель, по мокрому, по скользкому.
Он вновь приладился к шкафу, вновь напрягся. Охнул, крякнул и сдвинул на чуток. Поглядел в образовавшуюся щелку, ничего не разглядел, не расслышал, вновь поднажал, приналег, сдвинул. Из образовавшегося проема вырвался кто-то, как снаряд, налетел на Николая Ивановича, вскрикнул, унесся. Николай Иванович не удержался на мокром, шлепнулся. Вскочил, схватил подвернувшийся под руку железный прут и бросился из кабинета.
Шаги стучали вверх по лестнице. Простучали и смолкли. Николай Иванович подождал, прислушался и не решился идти следом: мало ли кто там вырвался из-за шкафа – он и не разглядел. Постоял немного и, легко ступая, вернулся в кабинет. Затворил за собой дверь, повернул ручку замка. Взял половчее прут, приблизился к шкафу, помедлил и тихо вошел в проем. Переступил порог потайной комнаты, нашарил на стене выключатель, надавил на тугой рычажок. Электричество вспыхнуло.
Разбитый приемник, крошево стекла на полу, запах крови, заляпанные, затоптанные игральные карты, смятые пивные банки, опрокинутое деревянное ложе.
По хрустящим осколкам Николай Иванович приблизился к нему и увидел свою зажигалку. Подобрал. Качнул дверцей опустошенного шкафчика. Выдвинул ящики письменного стола. Журнала ДЕБЕТ-КРЕДИТ не нашел. Вернулся в кабинет, отворил створку разбитого окна, взобрался на подоконник и спрыгнул в белый двор. Обошел здание и через ворота вернулся в переулок. Прохожий испуганно на него взглянул и ускорил шаг.
Смеркалось. На остановке стояла женщина. Николай Иванович приблизился к ней и спросил:
– Давно автобуса не было?
– Не знаю, я пятнадцать минут стою.
Помолчали.
– Мороз вроде обещают, – сказала женщина.
– Да, – согласился Николай Иванович, хотя знать не знал насчет мороза.
Белая заснеженная дорога. Как будто и не Москва, а глухая провинция.
Автобус показался.
– Ну вот, – произнесла женщина.
Автобус подошел, отворил передние двери.
Женщина отступила, пропустила вдруг Николая Ивановича:
– После вас.
Николай Иванович послушно забрался по ступенькам, на ходу доставая проездной, прошел через валидатор в полупустой салон, устроился у замызганного окна.
Женщина поставила на площадку сумку и стала взбираться сама, тяжко охая, цепляясь за поручень. Николай Иванович видел в окно, как приоткрылась дверь института, как выскользнула из нее черная фигурка. Выскользнула и застыла. Мальчишка в черной куртке и заляпанных грязных джинсах, в тяжелых шнурованных ботинках, светловолосый, бледнолицый.
Включились над переулком фонари. Мальчишка помедлил и направился к остановке.
Женщина наконец взобралась:
– Ну, слава богу.
Она перевела дух. Подала водителю деньги через оконце. Мальчишка смотрел на нее снизу, с улицы. Водитель отсчитал сдачу и сунул женщине вместе с карточкой. Женщина приложила карточку к валидатору, ухватила сумку и с трудом начала протискиваться. Железные рога механизма повернулись и пропустили ее в салон. Мальчишка решился и поставил ногу на ступеньку.
Он вошел, и водитель закрыл двери. Автобус тронулся. Мальчишка стоял на площадке. Лицо у него было широкое, конопатое, губы сжаты, маленькие глаза смотрели хмуро. Куртка очень уж велика, рукава подвернуты. И штанины подвернуты. Низенький, коренастый. Явно с чужого плеча одежда. Бог его знает, он ли выскочил из черной щели на Николая Ивановича.
А ведь скорей всего, подумал Николай Иванович. Выскочил, но разглядел вряд ли. Слишком стремительно.
– Проходи в салон, не стой, – спокойно, без нетерпения произнес водитель.
Мальчишка взялся за железный рог механизма и попытался сдвинуть.
– Сломаешь, – миролюбиво предупредил водитель.
Мальчишка посмотрел растерянно на рогатую преграду и вдруг поднырнул под нее и пробрался, протиснулся в салон.
– Эй ты, безбилетник, – мирным своим голосом проговорил водитель в микрофон.
И мальчишка потерянно оглянулся, не понимая, очевидно, откуда раздается такой вдруг близкий голос. С железных автобусных небес.
– Выйдешь на следующей, а то за шкирку выкину, не поленюсь.
Автобус тихо катил по переулку. В этом направлении Николай Иванович все знал наизусть, из автобусного окна наблюдал много лет. Много лет и много зим. И в зелени помнил, и в грязи, и в снегу, и в цвету, и всегда – в запустении. Стояли дряхлые пятиэтажки из светло-серого кирпича, тополя возвышались над ними.
Автобус качнулся на колдобине, мальчишка едва удержал равновесие и схватился за спинку сиденья. Присел. Зазвонил телефон, тетка вытащила его из кармана и заговорила сердито:
– Да, Витя. Я еду. Что? А ты сам не мог зайти? Нет?
Голос у нее был сухой, колючий.
– Что? Давай, конечно.
И тут же голос ее переменился, стал умильным, пряничным:
– Что, моя ласточка? Как ты спал? А что ты на завтрак кушал? Никто там тебя не обижает?
Мальчишка таращился на нее темными на совершенно бледном лице глазами. И пока она доставала трубку, и пока говорила в нее разными голосами, уживавшимися в ней, как и во всех нас уживаются разные голоса. Еще некоторое время после разговора она улыбалась растроганно, глядя в окно, и все ей там, за окном, наверное, казалось милым.
«По тундре, по железной дороге», – запел вдруг громко под гитарный перебор мужской хрипатый голос. Тоже чей-то, видимо, телефон. Пел и пел голос, всё одну только строчку: «По тундре…» Пассажиры оглядывались растерянно. Тетка даже приподнялась, завертела головой. Раздраженно, без улыбки обратилась прямо к мальчишке:
– У тебя в кармане надрывается. Оглох?
Мальчишка смешался от направленных на него взглядов. Нашарил в кармане телефон, но, пока доставал, телефон смолк.
Дорога расширилась, автобус пересек трамвайные пути, переехал по мосту пасмурную речку. Обычно после моста он прибавлял скорость, но тут пошел даже тише, еле-еле, – мимо десятка разбитых машин. Их оттащили уже на обочину, снег их засыпал. Николай Иванович смотрел на железные скелеты в белом саване. Да и все смотрели. Провожали глазами.
– Вот так, вот так, ехали себе, ни сном ни духом, – проговорил кто-то.
Печальное зрелище захватило Николая Ивановича, очнулся он от хрипатого голоса, вновь пропевшего: «По тундре…» Посмотрел тут же на мальчишку, но не увидел – его уже не было, видно, выскочил на остановке, которую Николай Иванович прозевал.
Николай Иванович приподнялся. Синим окошком светился на сиденье смартфон. Светился и пел: «По тундре…» Николай Иванович мгновенно вскочил и взял смартфон, тут же смолкший. Женщина смотрела неодобрительно. Николай Иванович затолкал мальчишкин смартфон в карман. Вышел на следующей.
Добрался пешком до пропущенной остановки. Как будто надеялся, что мальчишка стоит там и ждет. Выкурил сигарету, замерз, дождался автобуса и поехал домой. Смартфон в кармане молчал.
Между тем, мальчишка брел широкой улицей. Держался подальше от дороги. Иногда останавливался и смотрел зачарованно на машины, на прохожих, на дома, на светящуюся рекламу. Шел дальше. Задержался у киоска. Рассматривал через стекло книги. «Сентиментальное убийство», «Преступление и наказание», «Астрологический календарь», «Как быть счастливым». Рассматривал игрушечные машинки. Пожарная, полицейская, скорая, гоночная, «BMW». Рассматривал тетку-киоскершу, она пересчитывала мелочь.
Киоскерша подняла глаза, уставилась на мальчишку. И он отступил.
Шел по улице, оглядываясь на прохожих. Остановился у витрины «Макдоналдса». За стеклом сидели девчонки, глотали из больших стаканов. Болтали. Что-то смотрели в светящемся стеклянном прямоугольнике. Движущиеся картинки. Одна из девчонок заметила мальчишку, помахала розовой ладошкой. Но он отступил.
Вошел в «Макдоналдс» вслед за ребятами, которые одеты были примерно так же, как он: в куртках и джинсах, и ботинках на шнуровке.
Ребята заняли очередь к раздаче, к прилавку, за которым суетились люди, выкрикивали вдруг:
– Касса свободна!
Очередь продвигалась.
– Гамбургер и колу! – рявкнули сбоку.
Мальчишка вздрогнул и очутился прямо перед прилавком, лицом к лицу с подавальщицей.
– Что будете?
– Гамбургер, – произнес он решительно, но невнятно, споткнувшись на «р».
– Что? – переспросила женщина.
– Гамбургер, – вновь споткнулся на «р». – И колу.
Она отбежала, схватила из лотка что-то, бросила на поднос. Он следил завороженно. В кулаке стискивал две сотенные бумажки.
Ухватил поднос, отступил от прилавка. Над головой рокотала музыка. Он прошел через толпу к окну. Девчонок уже не было, женщина сидела за их столом. Он устроился за соседний, только что освободившийся. Расстегнул куртку, снял и повесил на спинку стула. Вытянул из-за спины, из-под туго стянутого на джинсах ремня, журнал с надписью на обложке ДЕБЕТ-КРЕДИТ, положил на сиденье, подоткнул под бедро. Подражая другим едокам, развернул бумажку, взял булку бледными, в свежих царапинах руками. Сожрал мгновенно, запил коричневой шипучкой, отодвинул поднос, стол тщательно протер салфеткой, аккуратно положил журнал, развернул, перелистнул несколько страниц, очевидно уже изученных, и погрузился в чтение.
Запись из журнала ДЕБЕТ-КРЕДИТ: 1926, июнь 13
В прошлую среду с утра Анна Васильевна ушла на рынок, я прождал ее до поздних сумерек и не дождался. Я побежал к рынку, он был, конечно, закрыт, но я нашел лаз и пробрался. Пустынно, тихо, спросить некого, крысы шныряют. Храм рядом с рынком заперт. Отчего-то я надеялся, что открыт и что там мне скажут. Кто? Почему? Обошел рынок, в одном из подвальных окон увидел свет, кошку и старуху, постучал в стекло. Старуха меня не пустила, но вышла. Мы разговаривали во дворе, я представился доктором, она сказала, что доктора уморили ее дочь, но смотрела на меня без злобы. Без кротости и без злобы.
– Доктора уморили, это на роду ей было написано.
Русский фатализм.
На рынок она сегодня ходила, но никаких происшествий не помнит. Поймали воришку, это тоже происшествие. Но не то, что может пролить свет на мой вопрос.
Я зашел в отделение милиции, заявление у меня, разумеется, не взяли, но все же позвонили в ближайшую больницу и дозвонились.
– Да, – ответили там, – привозили женщину без документов.
До больницы добрался в темноте, стучал в запертые двери, сторожиха открыла не скоро. На верхнем этаже распахнули окно и молча смотрели на меня, пока стучал. Я сказал, что от Павла Андреевича, должен передать указания дежурной сестре. Павел Андреевич – главврач, мы были едва знакомы, но ничего лучшего на ум не пришло.
Сторожиха впустила. Я спросил, где лежит привезенная с улицы, сторожиха молчала. Заложила засовом дверь, я ждал, вдруг скажет. Молчала. Поплелась за мной по коридору. Стояла за спиной, пока я разговаривал с сестрой.
– Женщину привезли около полудня, состояние тяжелое.
Сестра не пускала меня среди ночи, я заявил, что Павел Андреевич разрешил. Она спросила, когда я с ним разговаривал.
– Час назад.
Она сказала мне едва слышно, что Павел Андреевич подъезжает сейчас к Ялте. На это мне возразить было нечего.
Она сказала:
– Хорошо, только тихо.
Провела меня в палату. Анна Васильевна лежала у окна, она была в забытьи. Я остался возле нее. Ее пырнули ножом на рынке, тот самый воришка, которого она буквально схватила за руку и с ножом в животе не отпустила. Жизненно важных органов нож не задел, но начался сепсис, на другой день стало очевидно, что помочь нельзя, она умирала. Была в сознании, попросила меня съездить в деревню, отдать ее отчиму пожитки, им пригодится. Я сказал, что не поеду, что сохранил ее кровь, что воскрешу ее, что мы увидимся скоро, обнимемся и поплачем. Она отказалась от воскресения. Передаю ее слова, как запомнил:
– Я умру. От смерти ты меня не спасешь. Так что ж. И какое дело мне до той, которая не умирала. Она – не я. Нет. И ты прекрати это. Помнишь, как с Петром вышло? Прекрати.
Я дал слово.
Ее не стало. Я один теперь.
Мальчишка закрыл журнал. Он сидел за столом, опустив голову, все читал и перечитывал слова на картонной обложке: ДЕБЕТ-КРЕДИТ.
– Здесь свободно? – спросили.
Он посмотрел недоуменно на мужика с подносом. Мужик ответа не ждал, садился напротив.
Мальчишка следил за тем, как он ест, как вынимает смартфон и отправляет сообщение. Как вытирает салфеткой рот.
Мужик доел и ушел. Женщина появилась. Забрала подносы с бумажками. Протерла стол. Мальчишка поторопился выхватить журнал из-под тряпки. Затолкал сзади за ремень, надел куртку и вышел из ресторана.
Огляделся.
Люди спускались под землю и выходили из-под земли. Он приблизился к лазу и заглянул. Бабка переступала по каменным ступеням, жалась к стене, хваталась за поручень, все ее обгоняли. Мальчишку толкнули, он посторонился и, взявшись за круглый поручень, начал спускаться. Ступени привели в промозглый тоннель. Горел белый свет в стеклянных плошках, люди с отрешенными лицами бежали в одну сторону и в другую. За витринами в боковой стене торговали всякой всячиной: чашками, плюшками, шапками, часами, игрушками, женским бельем, чем-то совершенно невообразимым; мальчишка останавливался, замирал, подступал ближе. Видел вдруг себя в стекле.
Тоннель оказался долгим. Мальчишка шел в толпе и растерянно озирался. Люди разговаривали на ходу сами с собой, в полный голос, никто на них не обращал внимания. Сидела нищенка прямо на каменном полу, редко кто бросал ей мелочь. Тоннель расширился, показалось в стене шесть стеклянных дверей, за ними сиял свет, двери открывались и закрывались, пропускали и выпускали людей. Мальчишка толкнул тяжеленную дверь с надписью ВХОД, прошел и очутился в подземном фойе.
Люди прикладывали картонки к тумбам, вспыхивали в тумбах зеленые кружки, и люди спешили в проходы. Парень думал прорваться так, но из тумбы выскочили дверцы и не пустили. Мальчишка потолкался по фойе, поглазел и против движения выбрался назад в подземелье. Вместе с толпой добрался до лаза и поднялся наверх, на узкую черную улицу.
Чавкала под ногами грязная жижа, мальчишка брел устало, летел в лицо мокрый снег, безжизненный, неподвижный свет фонарей едва теплился, вдруг яркие освещенные стекла показались, и мальчишка увидал за ними книжные стеллажи; люди в верхней уличной одежде толкались между стеллажами, брали книги без спросу. Мальчишка отыскал дверь. Вошел.
Он топтался между рядами, вглядываясь в названия на корешках. Некоторые книги лежали стопками на столах, и он взял одну, полистал. Цветные яркие фотографии. Солнечные, морские виды, довольные лица. Указатели под потолком: психология, путешествия, кулинария, философия. История России. Здесь он остановился. Вынул из тесного ряда тяжелый том по истории XX века, забился в глухой закуток за стеллажами, опустился на пол и принялся за чтение. Том был иллюстрированный, мальчишка вглядывался в представленные на страницах лица. Через пару часов он устало отложил книгу, поднялся, принялся ходить вдоль стеллажей, заложив за спину руки, нагнув голову, ни на что и ни на кого уже не обращая внимания. Голос сверху объявил, что магазин закрывается, и мальчишка нехотя поплелся к выходу.
После долгих блужданий по черным слякотным улицам, перебежек через громадные, как река Волга, дороги – благо машины пролетали в этот час редко, хотя и на неописуемой скорости – он набрел на здание большого вокзала и беспрепятственно вошел в открытые настежь ворота.
В зале ожидания было тепло, птицы летали под потолком. Мальчишка увидел свободное место, пробрался по ряду, стараясь не тревожить спящих, опустился устало на жесткое сиденье, вытянул измученные ноги. Тетка рядом с ним ела булку. Встретила его голодный взгляд.
– Хватай, – отломила половину.
Он принял подаяние.
– Из дому сбежал?
Он помедлил и согласился:
– Да.
– Пропадешь.
Он молчал устало.
– У соседки моей сын ушел, искали – не нашли, она уже не чаяла, а он вернулся через пять лет, сидит теперь дома, никуда не выходит, мать его кормит, а когда помрет, что будет? Твой дом где?
Мальчишка не отвечал.
– Не хочешь говорить, не говори. Бывал ты в Казани?
– Нет.
– У нас хорошо. Центр красивый. Я-то никак не в центре живу. Зато тихо у нас. На работу вот долго ехать.
Он смотрел на нее ожившими глазами:
– На работу?
– Что ж мне на пенсии сидеть? Я пока в силах.
– А я вот не в силах! – сердито крикнула старуха, она сидела напротив, прислушивалась к разговору, наклонилась даже, чтобы внятно слышать, и вот вступила. – Была сила, да вся вышла, пенсию получаю семь тыщ с половиною, не живу, а существую!
И они заговорили наперебой о пенсиях, тетка и старуха, и рядом со старухой дремавший мужичок тоже пристал к разговору. Рассуждали о дороговизне, о счетчиках на воду, о ценах, о сыре и колбасе, всё о житейском, обыкновенном. Мальчишка слушал жадно, боялся упустить хоть слово. Когда же разговор угас, вдруг спросил тетку:
– А что вы думаете о революции?
Тетка растерялась, а вот мужичок загорелся, заговорил, замахал руками.
Он сказал, что революция была правильно, что извратили ее потом. Но более сказать ничего не успел, так как объявил посадку верхний громовой голос, и все они – и мужичок, и тетка, и старуха – заторопились, похватали свои сумки, побежали на платформу. Мужичок на прощание пожал мальчишке руку, а тетка сунула ему банан.
Они ушли, мальчишка сидел и не знал, что с бананом делать. Сдавил крепкими, редко поставленными зубами, кожура треснула, и мальчишка сообразил, что надо ее снять. Полицейский наблюдал за ним. Мальчишка съел банан, огляделся в поисках мусорки и заметил наблюдателя. Поднялся, пробрался к мусорке, выкинул кожуру и, не торопясь, направился к выходу. Полицейский все так же наблюдал за ним, но с места не сдвинулся.
Мальчишка оказался на улице. По мосту над вокзальной площадью шел поезд. Мальчишка проводил его глазами, поглазел на освещенную прожекторами остроконечную башню. Тетка стояла рядом с ним и щелкала зажигалкой. Он спросил, указав на башню:
– Извините. Вы не знаете, что там?
– Гостиница, – охотно ответила тетка, добыв наконец огонь. – Можешь взять номер. – Она закурила. – А ты откуда такой вежливый?
– Издалека. Мне нужен двадцать пятый автобус.
– Ничем не могу помочь. – Тетка посмотрела на серое, уставшее лицо мальчишки и вдруг сообразила: – Хотя погоди. Щас.
Она достала смартфон, переспросила номер автобуса. Мальчишка зачарованно наблюдал, как она тыкает в стекло пальцем, поглаживает, и стекло отзывается на ласку, освещается, проявляется за стеклом картинка.
– Ну вот, вот он твой двадцать пятый, весь его маршрут на карте, гляди.
Мальчишка глядел, сощурившись. Спросил:
– А мы где?
Тетка погладила стекло, картинка ужалась, уменьшилась; синей жилкой осветился на ней маршрут двадцать пятого.
– А мы вот здесь с тобой стоим, – ткнула тетка в стекло. – Так что вполне можешь пешком дойти вот до этой остановки, не так уж и далеко, на Садовом, как раз до гостиницы и прямо к Садовому выйдешь – и направо в переулок.
– Мне нужна остановка, которая называется ИНСТИТУТ. На ней так написано было, на табличке.
– Ну вот он, твой институт. Видишь?
Тонкая шея мальчишки торчала из широкого ворота куртки. И тетка пожалела его:
– Давай я тебе на бумажку перерисую.
– Спасибо, я запомнил.
– Точно?
– Да.
– Феноменальная у тебя память, прям как у разведчика.
– Спасибо. Всего доброго.
Он решительно направился к мосту.
– Эй! – окликнула она. – Автобус не ходит сейчас. До утра ждать придется.
– Ничего, я ногами дойду. Спасибо.
Она смотрела ему вслед. Чем-то он ее зацепил. Но тут зазвонил смартфон, и она завопила в трубку:
– Ты что, урод, со мной делаешь, ты где шлялся?.. – Отвлеклась и позабыла о мальчишке.
Часть III. Почерк
Николай Иванович сидел в это время у себя на кухне и разглядывал подобранный в двадцать пятом автобусе смартфон. Аппарат был старенький, видавший виды, исцарапанный. Николай Иванович снял блокировку, экран осветился. Он подумал и нажал на значок F – Фейсбук. Просмотрел открывшуюся ленту. Фотография полуголой девчонки; кадр из какого-то фильма с кучей комментариев. И – сообщение некоего Димы Димона: «Ни хуя себе, парни, там институт криминалистики был, ловите». Дальше шла ссылка на сайт. Николай Иванович немедленно открыл ссылку, попал на сайт родного института и вернулся к сообщению. Перечитал его и все к нему комментарии.
Дима-Димон. Ни хуя себе, парни, там институт криминалистики был, ловите.
Крот Иваныч. Опыты проводили, стопудово.
Лёха Николаев. Пацаны, вы под кайфом, это всё.
Крот Иваныч. Ты там не был.
Лёха Николаев. Я тебя видел под кайфом.
Крот Иваныч. Ты там не был, усохни.
Лёха Николаев. Да я туда нарочно сходил, ну, комната, ну, стол, ну, загадили вы там всё, я посидел, покурил, никого не увидел.
Крот Иваныч. Ты козел, Лёха, кто там был, тот ушел. Всё, его там нет. Можешь еще пойти – посидеть.
Лизавета. Мальчики, вы можете нормально объяснить, что вы там видели?
Лёха Николаев. Нет, Катя, они не могут.
Крот Иваныч. Заткнись, Лёха, серьезно.
Лёха Николаев. Я тебе объясню, Катя. Они вломились с институт – в бывший институт, – нашли там уютную комнату, нажрались, им стало хорошо и приятно, и они сели играть в покер на раздевание. Витюхе не везло, он остался голым, увидел себя в зеркале и забился в падучей, потому что решил, что видит пришельца, пацаны заистерили и свалили. Витюха тоже свалил. Голым. Котя дал ему свою куртку.
Крот Иваныч. Там не было зеркала.
Лёха Николаев. Ну что с тебя взять, Крот? Оно там висит, над умывальником.
Дима-Димон. Слушай, умник, а как ты туда вошел?
Лёха Николаев. Через дверь.
Дима-Димон. Да неужели?
Лёха Николаев. А в чем подвох?
Дима-Димон. В шкафе.
Лёха Николаев. Не томи душу.
Дима-Дмимон. Мы шкаф задвинули. Дошло, кудесник? Мы железным шкафом эту чертову дверь замуровали. Вместе с этим.
Лёха Николаев. Докладываю: шкаф сдвинут, проход свободен, чудища в комнате нет.
Крот Иваныч. Оно там было, Лёха. Я видел. Не в зеркале.
Лёха Николаев. Крот, давай спокойно рассуждать. Ты был под кайфом?
Крот Иваныч. Нет, Лёха, клянусь. Пива глотнул, и всё. Нормальный я был.
Лизавета. Мальчики, куда же он делся?
Лёха Николаев. Гулять пошел.
Крот Иваныч. Да иди ты сам гулять, на хуй. Лизавета. Мальчики, не ругайтесь.
Лёха Николаев. Хорошо. Давайте разберемся.
Как взрослые люди, без воплей и соплей. Вот вы вошли и что увидели?
Крот Иванович. Стол.
Дима-Димон. Стол, умывальник, зеркало, шкаф, загородка на ножках, дальше лежак и приемник.
Лёха Николаев. И что вы стали делать?
Крот Иваныч. В карты сели играть. На раздевание.
Лёха Николаев. А шкаф открывали? Дима-Димон. Шкаф открывали. Там кровь в пробирках. Приемник включили, ничего. Я лично открыл крышку, там такие пазы, я сунул одну пробирку в паз, вошла как родная. Остальные все этот урод Гриша раздолбал. На этом всё – забыли и сели играть.
Лёха Николаев. Я думаю, ты запустил какой-то процесс.
Дима-Димон. Какой?
Лёха Николаев. Без понятия.
Лизавета. Лёха, какой ты умный.
Николай Иванович отключил смартфон. Налил себе чаю.
Он подумал, что, очевидно, пацаны запустили процесс воскресения того, чью кровь в стеклянной пробирке засунули в паз «приемника». И ручку повернули на деление, указывавшее возраст, в котором и предстояло человеку явиться вновь на этот свет. И, пока они играли, тот явился, возник вдруг на деревянном ложе. Они со страху и не разглядели, что это всего лишь мальчишка, голый и беззащитный. Ошалели, выбежали, на шкаф навалились, задвинули поскорее дверь. Чтоб чудище не вырвалось вслед за ними. И одежку там позабыли, ему хоть нашлось во что одеться. А потом пришел я, отодвинул шкаф и выпустил его. Как он смартфона-то напугался, когда тот запел в кармане…
И смартфон, словно услышал мысли Николая Ивановича, вдруг действительно запел свою песню: «По тундре…»
Николай Иванович помедлил, взял аппарат и ответил на звонок.
– Я вас слушаю… В автобусе нашел… Не могу знать, сударыня, почему он там оказался. Спросите своего сына… Разумеется, верну… Да, завтра мне удобно… Вечером… Вполне… Договорились… О нет, не нужно… Не за что.
Он отключил смарфон. Допил чай, отправился в ванную. Умывался, думал о том, что следует сменить кран, что почерк в журнале ДЕБЕТ-КРЕДИТ уверенный, а изложение ясное. Николай Иванович умывался, а почерк всё всплывал в его сознании. Жесткие, удлиненные линии букв. Готический – так про себя прозвал Митин почерк Николай Иванович. Он вспоминал эту карандашную, точно из тумана растущую, готику и вдруг замер с зажмуренными глазами, с намыленным лицом. Замер от понимания того, что видел и прежде этот почерк. Но где, когда? Глаза защипало, и Николай Иванович поспешил ополоснуть лицо.
В институте криминалистики Николай Иванович занимался почерковедческой экспертизой. Вообще экспертизой письменных документов. Написанных от руки или набранных на компьютере. То есть анализировал он не только почерк, но и особенности стилистики. Особенности письменного высказывания. К изучению и разбору почерка пристрастился он в шестом классе. Отец тогда обиделся за что-то на мать и уехал на Север. Мальчиком Николай Иванович отца обожал, скучал по нему страшно; отец писал ему регулярно, раз в неделю, как правило, приходило от него длинное письмо в пять-шесть листов, убористо исписанных, почерк у отца был чудовищный, но Коля научился разбирать – так ему хотелось прочесть. Мать жила своей жизнью, на Колю внимание обращала мало, тетка за ним смотрела, возила на выходные к себе на дачу, там с ней ему было хорошо.
Николай Иванович вернулся на кухню, опустился растерянно на табурет, допил остывший чай. Поставил кружку на стол и вспомнил, где прежде видел готический Митин почерк. На телевизионном экране. Совершенно точно. И телевизор смотрела жена; они тогда жили вместе. Она сидела в комнате перед телевизором, он заходил несколько раз, видел краем глаза экран, но внимание обратил лишь на старую почтовую карточку во весь экран, что-то на ней было написано, буквально несколько строк, этим именно почерком из ДЕБИТА-КРЕДИТА. И голос за кадром произнес:
«И он мне ответил».
Это все, что Николай Иванович тогда уловил. И все, что всплыло сейчас в его памяти.
«И он мне ответил».
Кто ответил, кому, что именно?
Что это был за фильм?
Николай Иванович взял уже телефон, чтобы позвонить бывшей жене, взял, но не позвонил, не мог решиться. Уж очень у них все разговоры выходили натянутые, холодные, на грани истерики, только душу мотали. Ради дочки только и созванивались и встречались. Любая его интонация ее раздражала, любое слово было не к месту, некстати. Да и сам он раздражался, и даже не верилось, что когда-то они были друг другу любезны и жили в ладу, а отчего случился разлад, непонятно. Он поднялся, походил по кухне, потрогал еще теплый бок чайника и набрал номер. Так ему хотелось узнать, что же там было в фильме. И мгновенно он сообразил, что сглупил, слишком поздно, она спит, но почти тут же она откликнулась бодрым, ясным голосом:
– Коля?
И голос ее, обращенный к нему, звучал тепло, счастливо.
Николай Иванович оторопел и поспешил сказать, что это он звонит, а не какой-то другой Коля, что дело важное, хотя и может показаться пустяком.
– Да, Коля, да я узнала тебя, конечно, что за дело, ты здоров?
– Я? Да. Да.
– Слава богу. А то, знаешь, мне вдруг приснилось, что ты болен; лежишь в комнате с красными шторами.
Не от его звонка она была счастлива, конечно, а по какой-то неведомой ему причине. Точно светился голос. Влюбилась, что ли, в кого?
Участливо переспрашивала про фильм. Так ей хотелось помочь, так хотелось, чтобы у него все наладилось, что разлажено.
– Коленька, я не помню, милый, ты расскажи мне еще раз.
– Все, что могу сказать, – открытка на экране, прямо во весь экран, прямо в лицо зрителю открыткой тычут, старая такая, знаешь, а почерк вытянутый, каждая буковка – как башня готическая. И голос за кадром, очень немолодой, говорит: «И он мне ответил». Понимаешь, я буквально сегодня опять увидел этот почерк.
– Не помню, – с таким сожалением сказала.
Николай Иванович отключил трубку и подумал, что с ним она так счастлива никогда не была, и ему стало грустно. Он подогрел еще чайник. Бросил в кружку пакетик. Выпил. Встал у окна, лбом коснулся холодного стекла. Телефон вдруг затрезвонил, и он схватил трубку.
Она рассмеялась счастливо:
– Представляешь, уже засыпала и вспомнила. Он так и назывался, этот твой фильм: «И он мне ответил».
– Про что фильм?
– Какое-то уголовное дело. Ты знаешь, я так сейчас отошла от всего этого. Извини, что так мало могу помочь.
– Нет, что ты, это уже кое-что, хоть что-то, а то я… ты вообще прости, что так поздно, я не подумал.
– Ничего страшного, не переживай.
– Всего тебе хорошего.
– И тебе. Коля?
– Да?
– Как ты?
– Ничего. Нормально.
– Есть у тебя кто? Ты извини, что я так.
– Да нет, все нормально. Нет.
– А вот Галя у тебя на работе. Ты ей всегда нравился.
– Да я как-то… Меня все устраивает, как сейчас.
– Не болей.
– Я не болею. Все нормально.
– Ты в Интернете посмотри, на ютубе. Прямо по названию смотри – «И он мне ответил».
– Да. Так и сделаю.
Они распрощались, она еще раз пожелала ему здоровья, сказала, что уезжает из Москвы на несколько дней, про Настю поговорили, что и у нее все хорошо, можно не волноваться.
Николай Иванович положил трубку, посидел в тишине и вспомнил отчего-то теткину дачу, тень яблони на стене сарая. Картошку они сажали, ходили в поле, и тетка говорила:
«Посмотри, Коля, на небо, какое большое».
И он смотрел.
Николай Иванович ушел из кухни, включил компьютер, открыл Интернет.
Фильм, который Николай Иванович нашел и посмотрел на ютубе:
Документальный фильм
Ивана Кормухина
И ОН МНЕ ОТВЕТИЛ, история братьев
1974 год
Фильм снят на базе Учебной студии
Старик сел за руль, завел мотор, дал гудок, дворовая собачонка лениво поднялась, потянулась и уступила дорогу. Машина проехала по двору мимо сараев, мимо катящего на велосипеде мальчишки, мимо тетки, накидывающей на веревку простыню, оператор устроился, видимо, на заднем сиденье, пассажирское место рядом с водителем было свободно, так что оператор снимал через спинку сиденья дорогу (чисто промытое стекло), поворачивал камеру на водителя (сутулая худая спина, коротко стриженный седой затылок), снимал через опущенное боковое стекло (прохожие идут узким тротуаром, дорога взбирается вверх, опускается, открывается река, железнодорожный мост вдалеке, в солнечном тумане, и по мосту идет поезд).
Машина выбралась из города, ехала полями и перелесками, иногда останавливалась, старик выходил, оператор тоже выходил и снимал, как старик открывает капот машины и возится с мотором, как идет к пруду (черная вода, яркая зеленая ряска, утка плывет, старик раздевается и вступает в воду, тело белое, тощее, кисти рук и шея темные от солнца).
Ночью старик сидел у костра, курил. Развернул бумагу, съел бутерброд с колбасой. Из котелка над костром зачерпнул кружкой дымящуюся воду.
Зрительный ряд в этом фильме не совпадал со звуковым. Старик вел машину, спал на переднем сиденье с запрокинутой на спинку головой (комар опустился ему на шею, посидел, насытился кровью и взлетел, старик не шевельнулся). Ложился в траву и обирал красную ягоду с куста. Брал у старухи в деревне молоко в полулитровой банке и тут же выпивал. Ехал через большой шумный город. Долго стоял перед шлагбаумом (грузовой состав проходил, бесконечная череда вагонов; иссохшие старческие руки лежали на руле). Выезжал за железнодорожный переезд в поле (белая пыльная дорога, поворот, роща, могильные кресты и звездочки, остановка). Выходил, шел узкой тропкой из новой части кладбища в старую, в глушь, в тень, под разросшиеся громадные деревья (каменные почернелые надгробья, осевшие в землю, серая плита, у которой старик останавливается). Выпалывал сорняки, нес воду от колонки в жестяном ведре, мыл плиту, оттирал щеткой, открывались буквы на плите: Дмитрий…
В этот момент Николай Иванович остановил фильм, наклонился к экрану поближе, всмотрелся в кадр.
Дмитрий Андреевич Пантелеев (1890–1970)
Дмитрий, Дима, Митя. Так ведь это Митя лежит под этим камнем, взволнованно догадался вдруг Николай Иванович. А старик этот, который приехал к нему на могилу, – его брат. Петр приехал к нему на могилу. Тот Петр, которого Митя воскресил в шестнадцатом году. Петр был на экране.
Петр на экране поливал куст шиповника возле могилы, сидел на низенькой лавке, курил, сумерки сгущались, мерцал красный огонек. И все время путешествия (полчаса экранного времени) его же голос за кадром рассказывал историю давно минувших дней.
Старческий несильный голос Петра, шуршание бумажных листов:
– Все быльем поросло, как люди говорят. Вы вчера уехали, а я растерялся, думаю – ну что я могу рассказать? Машину мою и думаю: я все забыл. Лег спать, засыпаю, и сама собой тогдашняя наша с Машей комната в Большом Армянском является – вроде как в полусне. Во всех подробностях увидел: и люстру от прежней жизни, и кроватку детскую, которую сам, своими руками сделал; я тогда много учился руками работать, простые вещи, но нужные, вроде табуреток. А мог и шкаф соорудить. Мне нравилось.
И я вчера решил записать, что вспомнилось, хоть будет зацепка, когда вы приедете со своим магнитофоном. Встал, бумагу достал. Поначалу не знал, как писать, какими словами. Начал потихоньку и расписался, память моя на острие шариковой ручки оказалась. Лишнее нашему с вами разговору я читать не буду. Еще должен заметить: привожу я по памяти разговоры, хотя поручиться за их дословную точность не могу. Но – как вспомнилось.
Начинать? Можно? Ну, с Богом. Сначала расскажу про задержание.
Они пришли ночью 5 июня 1939-го, Маша открыла, очень были вежливые, на «вы» – «разрешите», «позвольте», «простите». Очень церемонно проводили обыск. И аккуратно, на пол не швыряли, всё тихо, спокойно. Мы Котю даже не будили, так он и спал, а Маша рядом с его кроваткой сидела на табурете. Но в кроватке они тоже пошарили, попросили поднять ребенка, и Маша его взяла на руки, он все спал, даже не ворохнулся, он у нас очень спокойный был, не капризный.
«Сладкий, наверное, сон снится», – кто-то из них сказал.
Вроде как умилился.
Часа через четыре они попросили меня собраться. Везли в темной кабине, ехали быстро, остановились только уже в самом конце пути, наверное, перед воротами. Постояли, поехали, вновь остановились. Дверцы открыли, сказали: «На выход». Я думаю, это какой-то монастырь был, то есть двор определенно был монастырский, и строения… Меня провели через низкую дверь в беленой стене. Долго вели коридором, каменные стены, каменный пол, окошек нет, лампы в потолке, сводчатый потолок. Дверь отворили, велели пройти.
Человек моих, наверное, лет сидел за столом, что-то писал под лампой. Четыре утра примерно, а он на службе, не позавидуешь; за крохотным окном темные какие-то деревья. Он за столом пишет, а я у стенки сижу, в отдалении. Чемоданчик мой собранный еще в машине отобрали. Тихо в кабинете, глухо, только перо по бумаге шуршит.
Было такое ощущение, которое бывает в поезде, который что-то уже очень долго стоит на перегоне. Это раздражает, пока не поймешь, что не важно, стоит он или едет, что на конечную твою станцию все равно придет вовремя. Считай, уже пришел.
Человек за столом отложил перо, погасил лампу, встал, прошелся по кабинету, размялся, с пятки на носок качнулся. Затем взял стул, поставил напротив меня и сел. На нем были круглые очки, он их снял, сложил и спрятал во внутренний карман френча, красный след от оправы остался на переносице. Он достал портсигар, открыл и протянул мне. Я сказал, что не курю.
– А я все надеюсь бросить.
Он решительно защелкнул портсигар, спрятал. Мирно попросил:
– Расскажите о себе.
Я не отвечал. Он подбодрил:
– Просто биографию расскажите, где родились, когда, кто ваши родители, где учились.
Ну, я сказал, что родился в 1896-м в Москве, что брат есть старший, ученый-медик, но мы уже давно с ним не виделись. Мать умерла моими родами, мы жили с отцом, он был адвокат, довольно известный в то время, я бы даже сказал, что у него громкое имя было. Либерал. Чуть ли не революционер. С нами был добр, интересовался нашими мальчишескими делами. Библиотека была в доме громадная, я много счастливых часов провел в кресле с книгой.
Ну и так далее я рассказывал. Подробно, потому что он просил подробностей, детали его интересовали, маршруты наших прогулок детских, мой поход в цирк, как я тонул в пруду. Вытягивал из меня подробности. Хотя «вытягивал» не самое подходящее слово, я сам рассказывал, без понуждения. Он слушал жадно. Не служебный интерес, настоящий. Я догадывался, в чем тут дело, нельзя же было, в самом деле, не догадаться. И я не спешил. Знал, к чему он ведет, и не спешил. Ловушка была в войне четырнадцатого года, и я медлил, не подступал туда, тянул, рассказывал о школьной жизни, о том, почему все-таки бросил институт, о пожаре, на котором мы познакомились с будущей моей женой. Я не спешил, а он не торопил. Я добрался в своем повествовании до Рождества четырнадцатого года, до последнего нашего семейного праздника, до вечернего катка. Далее мне уже ничего говорить не хотелось, и я замолчал.
Он подождал немного и поднялся, прошелся до стола и обратно, и вновь до стола, и вновь обратно, ходил так неспешным шагом. И так, на ходу, стал мне зачем-то рассказывать о себе. Что зовут его Михаил, что он тоже москвич, отец его служил на железной дороге, инженером, жили в достатке, мать любила музыку и сыну привила любовь. Сказал, что баловала его без меры. Отец занимался с ним математикой, как будто в игру играл, с тех пор математика – увлекательная игра. После школы университет, естественные науки. Рождество четырнадцатого он тоже запомнил, встречал его в Париже, у дяди. Сказал, что пошел на войну добровольцем. Был большим патриотом.
Он, то есть Михаил – теперь я знал его имя, – прекратил свое хождение, обогнул стол, вынул из ящика карточку и принес мне. Отдал в руки. Фотографическая карточка. Молодые мужчины в военной форме.
– Второй ряд, третий справа. Это я. Можно узнать?
– Да. В общем, да.
– Тот же второй ряд, четвертый справа, руку положил мне на плечо. Это вы.
Я молчал. Я ведь знал, что это не я, что меня в это время на свете не было.
Михаила продолжал:
– И тоже узнать можно. Во всяком случае, я узнал мгновенно. Как только вас увидел. Не здесь, раньше. В театре. В антракте. Две недели назад ровно. Я думал, что вас убили в ноябре шестнадцатого; меня тогда подобрали и отвезли в лазарет, а вас – в общую могилу. Хотел я к вам подойти в театре, но вот что меня остановило. – Он указал на фото. – Ваша рука на моем плече. Обратите внимание. Нет среднего пальца. Осколком срезало в пятнадцатом. Вас хотели отправить в тыл, но вы отказались. Отчаянный вы были человек. Я вам жизнью обязан. И даже больше чем жизнью. Побратались мы с вами на той войне…
Михаил забрал у меня фотографию и унес в ящик.
– Сейчас ваши пальцы все целы, вот я и не подошел в театре. Вдруг, думаю, был у моего военного друга брат-близнец или двойник, бывают же люди так похожи, всякое бывает на свете. Наведу, думаю, справки, прежде чем налетать на человека. Навел. И все говорят, что вы – он, и никто иной. Тот самый. Вернулся с войны живой и невредимый в шестнадцатом достопамятном году. Писали родным о вашей гибели, но, видать, ошиблись.
Михаил присел на столешницу. Смотрел на меня, ждал, что я скажу в ответ, не торопил. И я решил сказать правду, другого не оставалось:
– Я на той войне с вами не был. Я тот самый Петр, но до встречи с вами. До войны. Двадцать шестого сентября тысяча девятьсот четырнадцатого года на московской улице среди бела дня я потерял сознание и очнулся двадцать третьего декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года на жестком ложе в кабинете брата. Жена сидела возле меня. Я был накрыт простыней. Я был наг под простыней. Я знать не знал, что прошло два года. Мой брат воскресил меня. Им пришло письмо о гибели Петра на войне, о той самой общей могиле, и Митя решился меня воскресить. Вот только…
Я замолчал. Он смотрел на меня, не торопил. И я продолжил:
– Беда в том – а могло быть радостью, – что Петр не погиб тогда. Он выбрался из общей могилы. Вернулся в Москву в январе девятнадцатого. И тогда же его застрелили. Ночью, в подворотне. Я с ним не виделся… Так что вашего друга нет на свете.
Михаил помолчал. И спросил:
– А где же сейчас ваш ученый брат Митя?
– Не знаю. Поверьте. Мы с ним виделись мало последнее время. Он меня невзлюбил после гибели Петра. С шестнадцатого по девятнадцатый год любил, я был ему воскрешенным братом, и он меня берег, прошлое любил со мной вспоминать, детские годы, а после девятнадцатого – как отрезало, ненавистен я ему стал. И я, и Маша моя – оба мы стали ему нелюбы. Он жил одиноко, только Анна Васильевна, наша кухарка, с ним была. Ее грабитель зарезал на рынке в двадцать шестом году. После ее смерти Митя совсем стал затворником. В тридцать четвертом году он исчез из города, в доме его все заросло пылью. Я много бы отдал, чтобы узнать о нем, чтобы свидеться. Я о нем тоскую.
Мы помолчали.
Михаил вернулся за стол. Нажал кнопку с торца. Дверь мгновенно отворилась, и охранник переступил порог. Михаил сказал резко, не глядя на меня:
– Задержанный, встаньте.
Долгий коридор, монастырский двор, ворота, часовой отворяет в воротах калитку, передает мне мой чемодан. Я выхожу и оказываюсь один под монастырской стеной, на воле. Я вижу речушку, поле, дорогу. Через полтора часа подхожу к своему дому.
Наверное, стоило воспользоваться милостью, в тот же день забрать жену и ребенка и уехать из Москвы куда подальше, в глушь, затеряться. Раз уж попал им на заметку – значит, пропал, известное дело. Но не решился я начинать новую жизнь. Очень уж старой было жаль. Жаль всего привычного, московского, налаженного. Всего своего. Могилки нашей доченьки жаль, кто за ней будет смотреть? Не знаю, как поступил бы на моем месте тот Петр. Я тогда часто думал, как бы он поступил на моем месте, и не мог придумать.
Через два года пришла вторая Отечественная. Мы страх как боялись потерять второго ребенка, позднего, выстраданного, и я отправил их к Машиной бабке за Уральские горы, у бабки был огород и корова – с голоду хотя бы не пропадут. Я проводил их и ушел в ополчение. В сорок четвертом попал в госпиталь с осколочным ранением левой ноги. Открыл глаза после операции и увидел – кого бы вы думали? – Михаила на соседней койке. Голова перевязана, глаза запали, но узнать можно.
Поговорили как старые знакомцы. Он служил в артиллерии, командир расчета, а я – в пехоте. К куреву я пристрастился к тому времени, так что смолили мы с ним помаленьку за разговорами. Его раньше выписали, и я его провожал до шоссе. Шли тихо, я пока не мог быстро, да и не хотелось спешить: солнце грело, не стреляли рядом, мы были живы. На прощание обнялись, и Михаил передал мне конверт. Он сказал, что в этом конверте – копия признательных показаний, в них объяснение Митиного исчезновения; автор этих показаний расстрелян, как и вся его шпионская шайка. Это был очень рисковый шаг со стороны Михаила – передавать мне этот конверт. Даже просто хранить этот конверт. Насколько я понял, Михаил и хранил его затем, что надеялся встретить меня на войне и передать. Мы бы могли с ним крепко дружить, но больше никогда уже не встречались.
Вот он, этот конверт, я сберег его. Простой, без адреса. И листки в нем, смотрите. Исписаны красными чернилами. Я их читал тогда в березовой рощице, усевшись на старом пне и вытянув больную ногу. И сейчас прочту. Слушайте:
«Признательные показания
7 октября 1934 года я, Артем Дорошин, прибыл по указанному адресу по Мясницкой, 13, в квартиру доктора Дмитрия Андреевича Пантелеева. Дверь мне не отворяли, но соседи сообщили, что доктор дома. Я позвал дворника, и мы взломали дверь.
Доктор был пьян, я оттащил его в ванную, от ледяной воды он очнулся, дворник сбегал за водкой, доктор был в порядке через полчаса, машина ждала нас, по дороге я объяснил доктору дело, он уверял, что ничем таким не занимается, что слухам верить нельзя, я сказал, что ради родных надо уже сосредоточиться и перестать болтать ерунду. Доктор окончательно протрезвел и сообщил, что уничтожил все, что требуется для подобных экспериментов, что пользы от них никакой нет. Я достал блокнот и велел диктовать список необходимых препаратов и технических устройств.
Мы прибыли в больницу, я передал листок Кобзеву. Мы поднялись в палату. Товарищ Антонов был в еще сознании, но надежды на выздоровление никакой. Доктор забрал у него кровь в пробирку. Лабораторию тем временем срочно оборудовали в кладовой химического отдела института криминалистики, там нашлись в наличии необходимые препараты, а кладовая была без окон, что и требовалось. Мы везли туда кровь в сухом льду для сохранности. По дороге доктор сказал, что его способ консервации никуда не годится, кроме как для этого противного природе дела. На что я ответил, что природе ничего не противно. Доктор рассмеялся.
Мы прибыли, все уже было готово. Доктор добавил в кровь препараты (список прилагается), поставил колбу в прибор со шкалой. Доктор спросил, во сколько было совершено покушение, повертел ручкой, нажал клавиши и сказал, что нужно подождать. Он сел за стол, который перенесли ему из его же собственного кабинета в институте, я же и товарищ Кобзев стояли. Прибор со шкалой подключен был к деревянному ложу, на которое мы все и смотрели, так как понимали, что именно там должен появиться воскресший. В институте, кроме нас, никого более не было, сотрудников спешно эвакуировали, сообщив о задымлении в подвалах. Дым был создан с помощью дымовых шашек.
Доктор уснул, положив голову на стол, мы же смотрели. Момент появления я не уловил. Как будто я моргнул, а товарищ Антонов, совершенно невредимый, вот он – лежит на деревянном ложе и спит. Кобзев тут же накрыл товарища Антонова простыней и разбудил доктора. Доктор сказал:
“Хорошо, пусть поспит”.
Достал из своего стола папиросу и закурил. В дверь постучали условным стуком, и Кобзев вышел. Товарищ Антонов спал спокойно. Кобзев вернулся и сообщил, что товарищ Антонов умер в больнице.
Доктор рассмеялся и сказал:
“А хрен тебе”.
Кобзев сказал, что мы, к несчастью, опоздали, вождь узнал о покушении, прибыл в больницу и теперь горюет у одра любимого ученика и товарища.
Доктор опять сказал:
“А хрен тебе”.
Я попросил его помолчать. Товарищ Антонов перевернулся на спину (до того он лежал на боку, поджав ноги) и открыл глаза. Мы сообщили ему происшедшее, он не мог поверить, ругался и смеялся, ударил меня, ударил доктора. Кобзев принес парадную форму товарища Антонова. Сказал, что машина ждет.
Вождь все еще был в больнице. Мы поднялись в палату. Не знали, как лучше предупредить вождя, и вошли без предупреждения. Вождь увидел товарища Антонова в полном здравии и потерял сознание, медсестра прибежала с нашатырем, но вождь уже пришел в себя и отогнал ее движением ладони. Товарищ Антонов разглядел себя мертвого, опустился на колени и заплакал. Я попросил доктора объяснить всем про воскресение и после объяснения увел его из палаты.
В коридоре доктор потребовал водки, мы с Кобзевым решили отвезти его в ресторан, потому что хотелось еще поговорить о воскресении. По дороге в машине доктор сказал, что воскресение товарища Антонова было большой ошибкой, что вождю не понравился живой Антонов, что мертвый он его устраивал гораздо больше. Кобзев сказал доктору, что товарищ Антонов любимец вождя и что, если доктор не перестанет пороть чушь, мы вместо ресторана поедем на Лубянку.
Уже в ресторане, выпив первую рюмку, он сказал, что вождь сам и устроил это покушение на товарища Антонова. Кобзев сказал:
“Ну всё, контра, поехали”.
Но доктора уже развезло, он вдруг взял Кобзева за руку и сказал:
“Куда спешить, друг, ешь, успеем еще туда, ешьте, мальчики, а я выпью, водка – прекрасная здесь”.
Мы с Кобзевым решили, что действительно успеем, и заказали полный обед. Выпивать не выпивали, но бдительность наша притупилась. Доктор исчез, а мы и не заметили. Мы не нашли его в ресторане и на улице. Не нашли дома.
Провели обыск. В кладовой обнаружили пять пронумерованных запаянных колб с кровью. Они сохранились, видимо, еще с начала двадцатых годов – в двадцать шестом году доктор уже отказался от опытов по воскресению.
Доктора Пантелеева объявили в розыск. Вождь лично интересовался ходом расследования. Лабораторию решено было законсервировать. Колбы с кровью перевезли в лабораторию. Копии записей научных экспериментов были отданы в институт физиологии. По их заключению кровь, сохраняемая по методу доктора, не годится для переливания. А для чего она годится, они затруднились ответить. Не догадались».
Голос за кадром помолчал. И возобновил рассказ о своей жизни:
– Я прочел листки и вернулся в госпиталь. Через две недели я уже сам шел к шоссе ловить попутку и добираться до своих.
В августе сорок пятого вернулся в Москву, Маша с Котей уже были там: они вернулись домой в сорок третьем. Котя окончил школу в пятьдесят пятом, поступил в университет на физико-математический, закончил, стал преподавать, женился. Бабка Машина одряхлела, и мы оставили Котю с семьей в Москве, а сами перебрались сюда к ней, за Уральские годы. Ходили за больной бабкой, да так и остались насовсем. В Москве бываем редко, нам там стало шумно, воздух серый. Внуки приезжают на лето…
Именно в этой точке закадрового рассказа старик Петр на экране идет уже по старой части кладбища среди дерев и надгробий, камера иногда задерживается и показывает нам полустертую надпись: НЕЗАБВЕННОЙ МАТЕРИ ОТЪ… А закадровый голос продолжает тем временем:
– Митю я часто вспоминал, снился он мне, как сидим вдвоем в отцовском доме за круглым столом, пьем чай, и лампа светит, я просыпался и думал: ну хоть бы он написал мне, если жив.
Старик на экране начинает мыть могильную плиту. Его голос за кадром тем временем говорит:
– И он написал мне.
В кадре появляется открытка с готическим почерком.
Николай Иванович в этот момент остановил фильм, полюбовался на Митин почерк. Прочел открытку:
Брат мой Петр, пишу тебе на старый адрес, откликнись, если жив.
И запустил фильм дальше. И голос Петра за кадром продолжал:
– Брат мой Петр, пишу тебе на старый адрес, откликнись, если жив. Вот и вся открытка, в одно предложение. На московский наш адрес; Котя нам сюда переслал. Я пишу ответ, бросаю в ящик и сам тут же еду. На поезде, тогда еще у меня машины не было, на поезде и на автобусе, не так уж далеко, через сутки я был на месте, раньше, чем мой ответ по почте. Митя слабенький уже был, лежал в больнице, жил одиноко, некому и присмотреть, так что я Машу вызвал, и мы за ним ходили, и в больнице, и дома потом, они его выписали домой умирать, им он в больнице был лишний. Но ничего. Он нас узнавал, плакал, и говорить мы говорили. Он рассказал, как сбежал из Москвы после воскрешения товарища Антонова, как жил отшельником далеко от столиц.
На экране тем временем плита уже отмыта и буквы на ней видны:
Дмитрий Андреевич Пантелеев (1890–1970)
Старик появляется на экране; он сидит на лавке у могильной плиты, курит, отгоняет дымом комаров.
Курит. Щурится.
Идут конечные титры, повторяют начальные:
Документальный фильм
Ивана Кормухина
И ОН МНЕ ОТВЕТИЛ
1974 год
Фильм снят на базе Учебной студии
Николай Иванович встал из-за компьютера и побрел к дивану.
Часть IV. Понедельник
Утром, в семь пятнадцать, проснулся по звонку, принял душ, выпил чаю с булкой, побрился, почистил зубы, оделся.
На остановке стояла будничная толпа. Автобус уже показался. Николай Иванович рванул, успел, вскочил на ступеньку, двери сомкнулись за спиной. Следовало выйти у метро, но Николай Иванович выходить передумал, сел на освободившееся место, достал мобильный, позвонил на работу:
– Галя, привет, я опоздаю сегодня… Да нет, все нормально, проспал… На час, наверно… Все в порядке… Нормально провел… Нет, не ездил… Да не знаю, не сложилось, то одно, то другое, ты скажи Виталичу… К обеду точно буду…
Автобус заворачивал уже в переулок.
Николай Иванович вышел возле института, постоял возле приоткрытых дверей и вошел.
Все то же полутемное фойе, вахтерский тяжелый стол, тишина. Неслышно ступая, Николай Иванович завернул за лестницу. Дверь в кабинете нараспашку, тянет холодом из разбитого окна. Шкаф сдвинут, темно за шкафом. Николай Иванович вошел крадучись в потайную комнату, нащупал на стене выключатель, сдвинул рычажок. Оглядел при свете разгром. Выбрался из кабинета, постоял у лестницы и направился вверх по ступенькам.
На площадке у стены спал мальчишка. Николай Иванович едва не наступил на его маленькую исцарапанную руку. Спал на боку, с полуоткрытым ртом.
Конопатое бледное лицо. Светлые редкие волосы, штанины задрались, белые щиколотки торчат из громадных, не по размеру, ботинок. Неказистый мальчишка, мелкий. Нечаянно воскрешенный. Куртка сбилась набок, ремень сполз, и журнал ДЕБЕТКРЕДИТ выскользнул наружу, лежит за спиной.
Николай Иванович осторожно, стараясь не потревожить спящего, ухватил журнал за угол, приподнял. Мальчишка не шевельнулся. Николай Иванович медленно стянул с себя куртку, постелил у противоположной стены, сел. Вытянул ноги. Открыл журнал, тихо перелистал. Пробежал глазами уже прочитанное:
«…мой ум был занят, и внешняя катастрофа задевала меня нечувствительно…»;
«…крови много видел…».
Прочел об Анне Васильевне («От смерти ты меня не спасешь»). Посмотрел на спящего. Перевернул лист. Увидел приклеенную к странице пожелтелую газетную вырезку со статьей. Название статьи: «Контрреволюционные слухи».
Николай Иванович наклонился к странице и стал читать серые типографские буквы:
«По Москве ходят слухи. Шепчут в темных храмах, шепчут в лавках и трамваях, и в банях, и даже в рабочей столовой я слышал шепот. Что товарищ Ленин жив. Адрес говорят точно, переулок, и номер дома, и квартиру в полуподвале. Живет, говорят, там Ленин. Воскрес после смерти и сапожником стал. Не хочет в истинном облике показаться, потому что воскресителей его всех расстреляли враги товарища Ленина.
Решил я сходить по указанному людьми адресу. Нашел сапожную мастерскую в полуподвале.
Стучу в окно. Хозяин выходит ко мне. Небольшого действительно роста, лысый, с усами и бородкой, да еще и картавит. Ну, конечно, воскрес! Я ему говорю о слухах. Он смеется. Говорит, что придется сбрить бороду, а то уж проходу нет. Показывает мне руки. Спрашивает: могут ли такие руки быть у товарища Ленина?
Руки сапожника Григория черны, пальцы корявы.
– Ко мне тут пристала недавно баба, – говорит сапожник Григорий, – мол, при товарище Ленине была, когда он болел, полы там мыла и своими глазами видала, как забирали у спящего товарища Ленина кровь в пробирку и ставили в короб со льдом и увозили в черной машине, и слышала разговор про эту кровь, что есть в Москве доктор, он из этой крови товарища Ленина воскресит. Так пристала ко мне дура, не знал уже, куда деваться, и в землю мне кланялась и бежала за мной. Нет, сбрею бороду и адрес переменю. Хотя, – подмаргивает мне сапожник Григорий, – мне эти слухи на пользу: от заказчиков отбоя нет.
Суеверий еще много в народе, много работы предстоит по просвещению масс».
Более в журнале ни записей, ни вклеек не было.
Николай Иванович закрыл ДЕБЕТ-КРЕДИТ, положил поближе к мальчишке.
Сидел тихо, смотрел на спящего. И думал Николай Иванович, что неспроста вклеил Митя в свой журнал газетную статейку «Контрреволюционные слухи». Что ведь, наверное, кровь Ленина была в одной из пробирок. Что именно эту пробирку сунули пацаны в «приемник». Что этот спящий перед Николаем Ивановичем мальчишка и есть воскресший Ленин. Который еще никакой, конечно, не Ленин и никогда им уже не станет, потому как другие времена. Николай Иванович всматривался в лицо спящего и не понимал, отчего же он сразу не заметил сходства, такого очевидного сейчас.
Мальчишка шевельнул во сне губами, перевернулся на спину, вытянулся и ударился рукой о стену. Мотнул головой, открыл глаза. Туманным взглядом смотрел на Николая Ивановича.
Николай Иванович сидел совершенно неподвижно, спокойно.
– Слушай, – сказал Николай Иванович самым мирным тоном, – а ты из какого года сюда попал?
Мальчишка сел, огляделся.
– Думаешь, это тебе все снится? Нет, брат.
Мальчишка молчал. Шмыгнул носом.
– Ну вот, простыл. На полу-то на каменном, конечно.
– Да вот, не нашел здесь постели, – отозвался мальчишка. Слова он выговаривал быстро. Смотрел исподлобья на Николая Ивановича яркими маленькими глазами.
– Из какого ты года?
– А вы?
– Я? – переспросил Николай Иванович. – Ты думаешь, я тоже? Нет. Я из этого года. Местный.
Мальчишка смотрел недоверчиво.
– Правда. Но я твою историю знаю.
Мальчишка молчал.
– Я помочь тебе хочу. Пропадешь без помощи. Ничего здесь не знаешь, не понимаешь, денег нет, документов нет.
Мальчишка чихнул.
– Воспаление легких заработаешь и помрешь.
– Вам что за беда?
– Ты же не виноват, что так вышло.
Николай Иванович поднялся, подхватил свою куртку:
– Ну что, пойдешь со мной?
Мальчишка встал, ДЕБЕТ-КРЕДИТ подхватил, затолкал сзади в штаны, за ремень. Волосы пригладил назад маленькой ладонью.
В автобусе они сели на одно сиденье, мальчишка у окна, Николай Иванович у прохода.
Позвонил на работу Гале, сказал, что не придет сегодня, чтоб его прикрыли, так как больничного нет. Мальчишка смотрел в окно. Голос объявил остановку.
– Наша, – сказал Николай Иванович.
У подъезда поздоровался с соседкой, сказал, что привез племяша на побывку, зовут Володей. Мальчишка молча взглянул воспаленными глазами и не возразил.
Дома Николай Иванович показал мальчишке, как пользоваться ванной. После ванны нарядил его в старый свой спортивный костюм, напоил чаем, объяснил про газовую плиту, показал, как горит синее пламя, и уложил спать под ватное одеяло. Лоб у мальчишки пылал.
– Все-таки разболелся, – сказал Николай Иванович и задернул шторы, чтоб свет не резал глаза.
Он подумал, что надо купить жаропонижающее и одежду, а этот ужас выкинуть, затолкать в мешок и сунуть в мусорку подальше от дома. Что надо будет как-то справить мальчишке документы. Надо поговорить со следователем Сергеевым, вышел ли из заключения тот мужик. Что-то придумается. Все-таки четверть века в институте криминалистики.
Он поправил одеяло, посидел возле ребенка.
«Ничего, освоится, – думал Николай Иванович, – он ведь умный, на одни пятерки учился там у себя; древнегреческий был у них вроде бы в программе, с ума сойти. И у нас будет на пятерки учиться, почему нет. Да и не в оценках же дело. Интересно, он уже знает, кем стал, когда вырос там, в своем времени? Что совершил… Переворот. Весь этот ужас. Только не он ведь один. Нет, не может он отвечать за пролитую с тех пор кровь. Он здесь, а не там, и еще ребенок. Да и с тем не все просто. Много там тогда сошлось. Не мне судить».
Так думал Николай Иванович. И жаль ему было мальчишку. И сам над собой он смущенно посмеивался, над проснувшимся вдруг отцовским инстинктом. И надеялся, что мальчишка вырастет под его присмотром и проживет спокойную, мирную жизнь. Совсем другую. Кто знает.
Через несколько месяцев, в январе, мальчишка попросил, и Николай Иванович сходил с ним на Красную площадь, в гранитный Мавзолей, и мальчишка увидел мертвеца в стеклянном гробу. Маленького, измученного, жалкого.
После Мавзолея молчали. Николаю Ивановичу хотелось спросить мальчишку, о чем он думает, но не спросил, не решился. Зашли в ГУМ, Николай Иванович взял мороженое. Сели на лавку у фонтана.
Ели мороженое, разглядывали толпу.
– Хочешь на каток? – спросил Николай Иванович.
– Хочу, – сказал мальчишка.
И они пошли на каток.
Декабрь 2014 – февраль 2015Машина
Часть 1
Нина Петровна шла уже больше часа. Иногда слышала гул мотора, останавливалась и, если машина направлялась в ее сторону, осторожно поднимала руку. Машина пролетала по ледяной дороге. Скорей всего, ее и не видели из кабины – темную фигуру в темноте. Шоссе было освещено скупо.
Она оступилась на скользкой обочине, споткнулась и едва не упала. И пошла совсем тихо. Машины не появлялись, Нина Петровна слышала только свое дыхание и шаги. Она устала. Увидела короб остановки и прибавила шаг.
Щиток с расписанием был сбит. Нина Петровна села на узкую лавку внутри короба. Понимала, что вряд ли в час ночи придет автобус, и все-таки ждала. В коробе казалось тепло. Иногда она слышала мотор приближающейся машины, машина пролетала, и звук мотора обрывался. Она подумала, что, может быть, и досидит здесь до утра, но скоро стали замерзать ноги, и она решилась идти. Хоть к утреннему свету, а дойти до поселка. Думать думала, но встать себя заставить не могла.
Послышался шум мотора. Машина приближалась. И приближалась медленно, еле-еле. Нина Петровна поднялась с лавки.
Она выступила из короба и подняла руку. Огни. Желтый, почти апельсиновый, и белый, ледяной. Машина с разноцветными фарами подкатила к коробу и остановилась прямо напротив Нины Петровны. Нина Петровна шагнула к машине, взялась за холодную ручку, потянула на себя.
Она сунулась в кабину и увидела, что в машине никого нет: ни водителя, ни пассажиров.
Она отпустила дверцу и растерянно отступила от машины. Машина не двигалась. Мотор урчал, дверца оставалась приоткрытой.
Нина Петровна зашла поглубже в короб остановки. Машина не двигалась.
Нина Петровна постояла и, решившись, выбралась из короба. Тихо пошла по обочине, чувствуя спиной свет разноцветных фар, будто машина смотрела ей в спину. Она не оглядывалась. Начался снег.
Нина Петровна услышала, как машина трогается. Как приближается. Она прибавила шаг, ступила на ледяную дорожку, покатилась и потеряла равновесие. Машина остановилась у лежащей на обочине Нины Петровны. И заглушила мотор.
Нина Петровна поднялась. Взглянула на приоткрытую дверцу и пошла, осторожно ступая, глядя под ноги. Никто ее не преследовал, в тишине ночи она слышала только свои шаги. Наконец, не выдержав любопытства, она оглянулась. Машина стояла. Снег налипал на крышу и ветровое стекло. Разноцветные фары светили приглушенно. Нина Петровна прошла еще несколько шагов, снова оглянулась, остановилась и повернула назад. Промчалась громадная фура.
Нина Петровна подошла к машине. Открыла шире дверцу и забралась на сиденье. Посидела и захлопнула дверцу. И, как только она захлопнула дверцу, заработал мотор. Фары вспыхнули ярче и осветили дорогу. Заработали «дворники» и счистили с ветрового стекла налипший снег.
– Я поняла, – сказала Нина Петровна, – это дистанционное управление. Наверно, уже все знают, что такое есть, я только все никак не поспею за прогрессом, уж и горевать бросила. А вам спасибо.
И она поклонилась.
– Мне до поселка Коршун. Знаете?
Наверное, машина знала, так как тронулась с места и уверенно пошла вперед. Скорость, правда, большую не набирала, шестьдесят показывал спидометр. В салоне было тепло, и Нина Петровна сняла толстую вязаную шапку и расстегнула верхнюю пуговицу пальто. Вдохнула освобожденно.
– Я от всего отстала. Дети фильмы смотрят, я сяду рядом и ничего не понимаю, они смеются, а мне не смешно. Только вы не подумайте, что я на детей жалуюсь, я на себя жалуюсь, что не поспеваю.
Машина ехала ровно, мягко. Видимо, хороший водитель ею управлял. Хотя и немножко не по себе было от такого управления, от того, что руль поворачивался сам собой. Но бояться Нина Петровна уже не боялась, в конце концов, чего только не бывает в нынешней жизни. Оно даже и спокойнее, что водителя здесь нет, что он где-то совсем в другом месте сидит и на кнопки нажимает. И кофе отхлебывает из большой кружки. Отчего-то Нина Петровна ярчайшим образом представила эту большую кружку. Высокая, строгой цилиндрической формы, брусничного цвета. Тяжелая, хорошо держит тепло. Кофе густой, черный.
Нина Петровна молчала. Возможно, ее молчание тяготило невидимку, потому что включилось вдруг радио, заухала музыка. И, хоть ухала она негромко, у Нины Петровны мгновенно разболелась голова. Она решилась уже попросить выключить радио, но оно переключилось на другую станцию. Нина Петровна послушала птичью болтовню дикторов о стране Австралии, радио вновь переключилось, и Нина Петровна узнала голос Пашенной. Давнишняя запись давнишнего спектакля. Из старинной московской жизни. Радио смолкло на полуслове, к большому сожалению Нины Петровны. Машина свернула с шоссе на проселок. Еще двадцать минут – и дома.
– А я уже и не надеялась живой домой добраться, – сказала Нина Петровна, – думала, что околею, как дворняга. Это я станцию свою проспала. И здесь отстала. Никогда еще со мной такого не было. Я обычно как делаю, я в Правде уже встаю и – в тамбур. И там уже после Правды занимаю место у самых дверей. Как раз на последний автобус успеваю на этой электричке. А сегодня я задремала и проспала. Очнулась, а в вагоне народу уже совсем мало, электричка несется, ночь, ни одного огонька, даже страшно. Человек сидит через проход, я кричу: где мы? А он говорит, что все, следующая конечная, идем без остановок. Я в тамбур, жду, а поезд гонит и гонит, я аж глаза закрыла. И чувствую, тормозит. Открываю глаза – огни, платформа, и люди уже в тамбуре. Они все вышли и разошлись, электричка уехала в депо, а я одна осталась. Обратная электричка только утром, а мне до утра не простоять на голой платформе. Пойду, думаю, пешком по дороге, от ходьбы тепло, к утру дома буду, если сил хватит.
Так она говорила невидимому шоферу, а машина везла ее осторожно, замедляя ход на колдобинах.
Показался указатель: КОРШУН.
– Название у нас какое у поселка, – сказала Нина Петровна. И замолчала.
Машина доехала до указателя.
– Улица Ломоносова у нас. Первый поворот на право.
Въехали в поселок, повернули направо.
– Тут справа у нас дачи, я так люблю на дачи смотреть, на домики их. По осени листья жгут, дымом пахнет. Я люблю. А вот и мой дом. Вы прямо во двор. Четвертый подъезд.
Машина повернула во двор. Из угловой квартиры на первом этаже грохнула музыка.
– Бедные соседи, – сказала Нина Петровна.
Машина подъехала к подъезду и остановилась. Нина Петровна торопливо достала из сумки кошелек, вынула две бумажки по сто рублей и положила на приборную доску:
– Спасибо вам.
Она немножко подождала, как будто надеялась услышать голос, хотя бы из радио. Но машина молчала.
– Вы извините, что так мало, у меня нету больше. Эти-то занимала сегодня до зарплаты.
Машина молчала, приглушенно работал мотор. Нина Петровна отворила дверцу и выбралась на улицу. Дверцу захлопнула. Побрела по свежему снегу. У дверей обернулась. Машина уже отъезжала.
На сапоги налип снег, но сбивать его сил не было. Нина Петровна оставила сапоги в прихожей, прошла на кухню, выглянула в окно, машина стояла во дворе, у детской площадки. Фары погашены, мотор заглушен, как будто уснула. Нина Петровна поставила чайник, переоделась в халат, надела шерстяные носки, чтоб согреть ноги. Она выпила чаю и вновь посмотрела в окно. Машина стояла. Снег уже засыпал ее крышу. Нина Петровна подумала, как утром позвонит сыну и расскажет про машину без шофера. Скажет, что машина в точности, как была у дяди Коли когда-то, только цвет другой, синий цвет, и фары, как глаза у кота Васьки, разного цвета. Машина старая, а управление новейшее, дистанционное.
Сын ей не поверил, а доказательств у нее не было, машина к утру исчезла.
Часть 2
Окно Нины Петровны погасло, и машина у детской площадки завела мотор.
Включились фары и осветили путь. Машина мягко тронулась с места. «Дворники» не двигались, ветровое стекло оставалось залеплено снегом. Машина выехала со двора и покатила узкой дорогой.
Из дачного поселка выбежала собака. Залаяла и бросилась за машиной. Машина ехала тихо, и собака долго бежала за ней. Домов уже не было, по обе стороны дороги – чистое поле. Собака наконец отстала, гавкнула вслед красным огонькам, встряхнулась под снегом и побежала назад.
Дорога пошла вдоль черной, незамерзшей речки, по узкому каменному мосту, через редкий лес. За лесом машина встала. Кончился бензин. Фары погасли.
К утру, когда снег перестал, к машине на лыжах подкатил мальчик. Он попытался заглянуть внутрь, сбил рукавицей снег с ветрового стекла, увидел две сотенные бумажки на приборном щитке. Дернул ручку двери, и дверь отворилась. Мальчик снял длинные лыжи и забрался в машину. Внутри было холодно. Мотор не заводился.
– Бензин кончился, – понял мальчик.
Взял две сотенные и спрятал в карман куртки. Попробовал покрутить руль, соскучился и выбрался наружу.
Он вернулся к старому дому на деревенской окраине, услышал стук топора, докатил до сарая. Переступая на лыжах, зашел в сарай и сказал деду:
– Там машина.
Дед расколол полено и сказал:
– Где?
Вдвоем на лыжах вернулись к машине. Дед тащил канистру.
Залил бензин. Забрался в кабину, завел мотор.
– Ничего, – крикнул внуку, – жива старушка.
Прислушался.
– Мотор, конечно, барахлит. Но я его переберу.
Похлопал по рулю.
– Я из тебя красавицу сделаю.
Конечно, никаких документов у него на машину не было, так что ездили они недалеко. В магазин до станции. В поселок к брату. До церкви. Как-то раз дед решился доехать до Москвы, чтобы встретить на вокзале дочку. Слава богу, никто его старенькой машиной не заинтересовался. Старенькая она была, но удаленькая благодаря его рукам. Все в ней было в порядке, все в рабочем состоянии. Ночевала она в теплом сарае, который он сам надстроил для нее.
Почти через два года глубокой осенью дед умер. Жил он к тому времени в доме один – внук снимал комнату в Москве: он там нашел хорошую работу. Деда похоронили и на семейном совете решили дом продать, как только пройдет полгода. С машиной не знали, как быть, ведь документов на нее не было. На другой день после поминок дом заперли и разъехались. Полили дожди, и очень грустно было смотреть на этот дождливый мир из окон.
Через девять дней запертая в сарае машина завела мотор.
Несколько тычков, и проржавевшие гвозди выскочили из трухлявого дерева, дверь распахнулась, и машина выехала на раскисшую дорогу. Уже стемнело, и машина включила фары, одну желтого, почти апельсинового, света, а другую – холодного, белого. Дед так и не собрался поменять в фарах стекла.
Ночь
Солдат возвращается после ранения. Дома у солдата нет. Тем не менее он выходит на станции, от которой мог бы добраться до своего дома, если бы дом был.
Он выходит на станции, идет по дороге, не торопится, смотрит вдаль. Его нагоняет подвода. Лошадью, старой клячей, правит женщина. Она говорит ему:
– Садись, солдат, подвезу.
Она говорит ему (он уже едет на ее подводе):
– Я тебя помню, ты жил в Калиновке до войны, дом, в который попала бомба.
– Так точно.
– А я живу в Серегине.
– Я был в Серегине.
– Дом возле пруда.
Лошадь едва тащится. Скрипит правое заднее колесо. Солдата укачивает дорога.
Он просыпается от грома. Полыхает свет.
* * *
Он просыпается и не может понять, где он. Дощатая стена перед глазами. Сквозь щели пробивается свет. С потолка капает. Но он лежит на сухом клочке, на сене. Вещмешок в головах. Он не помнит, как здесь оказался. Помнит только белую вспышку над полем.
Солдат поднимается, стряхивает сухие былинки. Проводит ладонью по небритому лицу.
Он выбирается из сарая и зажмуривается от неяркого утреннего солнца. Белый холодный туман стелется по полю. Женщина стоит у колодца, вращает за ручку бревно, наматывается на бревно веревка, поднимается из колодца ведро. Женщина ухватывает ведро, вытягивает, ставит на траву. Зачерпывает из ведра воду, плещет в лицо.
Он смотрит, как она умывается, как пьет воду из горсти. Как выпрямляется и глядит на него спокойными глазами. Он помнит, что она везла его от станции, что живет в Серегине. Дом у пруда. Все, что было до белой вспышки, он помнит.
Солдат приближается к женщине:
– Доброе утро.
– И тебе.
– А лошадь? Где?
Женщина смотрит на него удивленно.
– Я не помню, что было, у меня бывает после контузии. Провалы. Молнию помню, а грома после нее – нет, провал.
Она молчит, смотрит на него. Не удивленно, спокойно.
– Совсем не помнишь?
– Ничего. Как после наркоза.
Женщина медлит. Наконец говорит:
– Лошадь понесла, телега опрокинулась, ливень, мы увидели сарай в поле, молния поле осветила, мы увидели. Побежали к сараю. Нашли сухое местечко.
Она замолкает. Смотрит на его худое, щетинистое лицо. Он трогает свое лицо и спрашивает:
– Что?
– Ничего. Умываться будешь?
– Нет. Я пить хочу.
– Пей. Я к дороге пойду. Догонишь.
Он смотрит, как она уходит по траве. Зачерпывает в ведре воду, пьет.
Солдат догоняет женщину. Идет рядом. Что-то она недоговаривает, он чувствует. И решается спросить:
– Что случилось?
– Туман, – говорит женщина. Так просто говорит, не ему, себе.
– Туман, – соглашается солдат.
Они идут в сырой траве.
– Ничего не помнишь?
– Ничего.
Она молчит. Ему не по себе.
– Что там было еще?
Она отвечает сердито:
– Что бывает между мужчиной и женщиной, то и было.
Он потрясен, ему не верится.
– Я не помню.
– Я поняла.
Он смотрит на ее маленькое округлое ухо, на влажный завиток волос. Она вдруг хмыкает:
– Замуж меня звал.
– Я?
– Вон уже дом мой. Какой туман над прудом.
Он идет за ней к дому. Лошадь стоит у крыльца, жует траву. Женщина гладит лошадь, обнимает, выпрягает из покалеченной подводы. Солдат смотрит. Она уводит лошадь. Возвращается. Поднимается на крыльцо, отворяет дверь и заходит в дом. Солдат стоит в тишине, в оцепенении, в белом поднимающемся от пруда тумане. В доме что-то звякает. Солдат поправляет вещмешок на плече и поднимается на крыльцо.
Он входит в дом. Женщина уже растопила печь. Уже ставит чайник. Солдат подходит к столу. Развязывает вещмешок, вынимает американскую колбасу в длинной жестяной банке. Банка выскальзывает, падает с грохотом, он наклоняется поднять. В жестяном боку отсвечивает пламя. Солдат поднимает банку и садится за стол. Он сидит за столом и наблюдает за женщиной. Как она достает из буфета чашки. Стопки. Круглую бутыль. То ли от грохота, то ли от вдруг просыпавшихся из приоткрытой дверцы печи искр, но память солдата пробуждается. Он вспоминает прошлую ночь. Как молния осветила поле и они увидели сарай. Как побежали к нему. Как он сбивал замок с двери. Как искали сухое место и нашли. Как легли рядом. Как он слушал дождь и ему казалось, что он превратился в камень, так устал. Он не думал о женщине рядом, слушал дождь и засыпал. Ничего не было, она обманула его.
Женщина принесла несколько холодных отварных картошин в кожуре. Он достал нож и вскрыл банку.
– Мясом пахнет, – воскликнула она.
– Да, – согласился он.
После еды он сказал:
– В сон клонит.
– Ложись.
– А ты?
– И я. Только со стола уберу.
Она легла к нему под бок, едва уместилась на узкой койке. Легла поближе, обняла, прижалась.
Он никогда не признался, что вспомнил ту ночь.
Холодный ветер
Холодный ветер, мокрый снег. Артистка вчера читала. Накликала. И ветер, и снег.
Лицо замерзшее. Музыка из наушников прямо в мозг. Как они не глохнут только, я в стороне и слышу. Бум-бум-баа. Смотрит на дорогу. Должен быть автобус. Но не идет.
Высокий. Щеки гладкие. Куртка хорошая. Сразу видно, что дорогая. И обувь. В такой обуви по паркету ходить. Грязью залепил. И джинсы. Грязь у нас едучая, не отстираешь. Кто-то ему стирает. Руки в карманах. Интересно на руки посмотреть, есть кольцо или нет. Курит? Нет. Ни в коем случае. Не вынес бы без сигареты. Встал бы спиной к ветру и закурил. Вот телефон бы у него зазвонил, он бы ответил. Голос услышать.
Автобус, автобус, где же ты, милый? По каким ездишь ухабам и закоулкам, темно уж, ослабли мы тут стоять, горемычные, а ты пропал. Или плохо тебе? В беде ты? Колесо укатилось, авария, а там люди. А мы и не знаем, ругаем тебя.
А не такие уж длинные пальцы, как я думала. Не как у того актера. Не нашего. У наших нет таких пальцев. У наших пальцы крючковатые, чтоб денежку зацепить и не выпустить. Мимо машины, мимо, не хотят тебя брать, боятся. Вот если бы я руку подняла, то кто знает. Если бы мы вместе. И у меня сапоги были бы. Не как эти. И шуба. Вся черная и гладкая. Струится. И я бы в ней стояла. Сумочка на плече. Золотой замочек. Лицо бледное, точеное. Конечно, совсем другой крем. И машина тут же тормозит. Вам куда? Нас двое. Отчего же вы не на своей? Сломалась.
Нет, зачем сломалась? Это автобус наш сломался, а машина целехонька. Но ехать нельзя. Выпили. Были у друзей. У них дом свой. В лесу. Подвезти не могли – тоже выпили. Отчего же не вызвали такси? В самом деле. Долго, что ли, было позвонить? Странные люди. Теперь вот стоим на обочине, голосуем.
Смотри-ка, действительно тормозит. А это ведь не московский номер. Слушай, друг, не садись к нему, он из Рязани, у них там, в Рязани, пироги с глазами, их едят, а они глядят. Ой, зря ты, мужик, белыми своими руками да за грязную рязанскую дверь. Да он и не один там, в машине, ой, беда. Черный. И не боится лезть к ним. Ну что, вдова останется, ей дом достанется.
Что же мне делать? Придет когда или так и буду тут стоять веки вечные? Корни пущу, стану как дерево, через подошвы корни, через асфальт. Чтоб только покрепче. Дуб. Триста лет простою, люди все в перегной уйдут – мне на прокорм. Мужик этот, жена его, дети, внуки, дороги этой не будет. Главное, чтоб не спилили, эти суки могут, и дуб трехсотлетний не пожалеют, им недолго, электропилой.
Господи, да неужто ты, родимый, целый, невредимый? Прямо лайнер океанский, весь сияешь. И мне, грешной, счастье.
Туман. Потише бы ты ехал, друг, в таком молоке на ладонь видно. И то без пальцев, пальцы туман съел. Форточку я закрыла, замок навесила, за зиму промерзнет дом, отдохнет от меня, выспится, часы еще потикают, пока завод есть, и встанут, старше меня часы. Сколько их раз заводили?
Есть охота. Я бы в такой ресторан пошла, как вчера показывали, чтобы все сияло, а я в синем платье, глаза зеленые, волосы рыжие. Он – смуглый, высокий, в бабочке. Рубашка белая. Сидим друг против друга. Но так не поешь, так только друг друга глазами есть. Если поесть, то лучше к Маше в гости. Переночевать после Нового года, приползти на кухню с утра, усесться вдвоем, кухня маленькая, до холодильника рукой подать, салаты там, закуски, водочка-селедочка, тортик, Маша сама печет, медовик, только курить тебе, Маша, надо бросать. И Витьку бросать, прижился, присосался, не работает ничего, а всегда доволен, Маша говорит, всегда доволен зато, так и я была бы всегда довольна – дотянешься до холодильника, и на тебе, пожалуйста, и водочка, и закусочка.
Чё ж так громыхаешь, подруга? Труба иерихонская. О чем ты вообще? Ну, бросила ты его, так кричи потише, нам всем это знать необязательно. Химия в колбасе. Конечно, химия. Говорят, сейчас червяки мертвецов не едят, брезгуют, берегут здоровье. Так мертвецы и лежат в земле, не разлагаются. Как цари. Рабы не мы.
Водитель хороший. Ведет мягко. Не по земле, а по воздуху. Здоровенный мужик. Как в ладонях у него. Неплохо бы.
Куда торопитесь? Там слякоть.
Год буду работать, и то не хватит. Не платье, а самолет. И не страшно такое в витрине держать? Стекло, наверное, небьющееся. Зайти и померить. Так посмотрят – заледенею. Викуша бы ничего, она от таких взглядов подзаряжается. Меня инфаркт хватит, а мне еще дочь растить. Вот когда захочу с собой покончить, тогда и приду сюда платье мерить.
Что, милый, смотришь? Нет у меня ничего. В другой раз возьму колбаски, приберегу для тебя, а сейчас нет. Домой не позову, и не смотри. Возьмешь тебя, привыкнешь, а потом ты заболеешь, помрешь, а я места не найду, нет уж, прости.
Еще немного, еще чуть-чуть. Что это за машина к нам тут пожаловала? Стекла черные, не разберешь, есть там кто. У меня тоже стекла черные, я гляжу, нет дома никого. Гуляет засранка.
Что это со мной, как в сериале: потеря памяти? В первый раз такое приключение. Какие же там цифры? Имя собственное еще помню, и на том спасибо. Ничего, мы и без цифр, мы ключик приложим, дверь и откроется. Ключик, ключик, где же ты, родимый? Где ты, сиротинушка? Выручай. От меня не укроешься. Ветра нет, тихо, сейчас бы лет тридцать скинуть и погулять, и чтоб денежка в кармане. Да за тридцать лет я бы и без денежки. Петрова, что ли? Приближается, колтыхается. Нет уж, спасибо, некогда мне болтать, недосуг, сил у меня нету косточки людям перемывать. Давай, ключик, выбирайся на свет.
Ну что, квартирка, привет тебе. Как ты тут без меня? Соскучилась? Пыль не протер никто, не позаботился. Что, худо без меня? Сейчас хозяйка отдохнет маленько, чаю выпьет, новости посмотрит и пыль уберет, а полы уж до завтра подождут, на полы сил нету. Пыль-то что, пыль недолго, Настюху я не приучила, пусть ее свекровь учит, когда появится, может, выучит.
Ты гляди-ка, записку мне девка моя оставила. После «мама», запятую надо ставить, доченька, я сто лет назад училась и помню. И то еще у меня тройка была. Я бы сейчас у них в отличниках ходила. А позвонить ты не могла, поросенок этакий? Конечно, не могла, я бы ни в жисть не разрешила, а тут ставит мать перед фактом. Ну, конечно, и телефон отключила. Есть у нее вторая симка, для подружек, а мать отключила, мать вне зоны.
Яйцо поджарю. Хлеб есть? Есть. Есть хлебушек, есть, родимый, тебя буду, на сковородку тоже тебя, подсолю, подрумяню, лучше, чем в ресторане.
Как это Валька телевизор совсем не смотрит, я бы не смогла. Минус десять? Ну, спасибо тебе, обрадовал, пуховик с антресолей доставать. У меня ведь там дырка, убила бы дядьку с сигаретой – в толпе курить! Новый пуховик.
Как ты ему всандалил, друг, а он ничего, поднялся. В живой бы жизни нипочем не поднялся, концы бы отдал, был случай, видала, слесарь у нас был в семидесятые, молодой еще мужик, жалко. Но слесарь плохой. Хорошие все в Америку уехали. И врачи. Да не такие, как ты, хамы, – Фраерман у нас был, участковый, все расспросит, все поймет. Про них бы сняли кино, как они там, в Америке, прижились, не тоскуют? Да уж понятно, что любишь. Пройдет, ничего. Этой не верь, без мыла пролезет, изнутри пожрет. Ой нет, фантастику нам не надо. Вот кто бы мне сон растолковал: собака лежит поперек в подъезде, рыжая, большая, не войти, не выйти, лежит и смотрит, надо было ее погладить, да я побоялась. Про сны с Машей хорошо говорить, у нее все сны к добру. Может, взять мне того бродяжку в дом?
Ну, я – Рак. И что? Откуда деньги возьмутся? Что, у всех Раков или у меня одной? Зарплату прибавят или наследство? Я точно знать хочу: где, сколько? Вот прямо сейчас влезу в коробку, а там вместо старых сапог три мильона плотненько лежат. Деньги он пророчит, надо же. И любоооовь? Да замолчи уж. Я про себя все наперед знаю. Есть у нас Козероги, давай про Козерогов, только попробуй плохое наскрести, прокляну. Подружка у Настюхи на динозавра похожа. Головка маленькая, а зад большой. И ростом под два метра. И ничего, липнут мальчики. Взгляд у нее, что ли, такой? Моей бы Настюхе такой взгляд.
Да уж, давай лучше про погоду, про погоду нам всегда интересно.
Надоел уже твой ветер, по правде говоря. В космос больно много летают. Они летают, дырки пробивают, а нас ветер замучил. Ты, милый, загорел. Ездил, наверное, к теплу, к морю, ходил по бережку, девушкам улыбался. Зубы у тебя хорошие, новые, можно и девушкам показать, и есть удобно, яблоко сгрызут твои зубы, интересно? И тебе всего доброго, отдыхай, до завтра, будь здоров.
Ну вот, Господи, прости мне грехи мои и смилуйся надо мной, Настеньке моей помоги, Господи, дай ей разума и здоровья, и чтоб достаток был, Господи, потому как от бедности характер портится. Как там мои родители и братец Алеша? Пусть им будет у тебя хорошо, покойно, прости им грехи их. Прости нас всех, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Города
…Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз, – ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего?..
Лев ШестовНиколай Игоревич.
Сорок восемь лет. Подполковник. Живет в большом городе в Восточном Казахстане. Только что вышел в запас. Служил в штабе гражданской обороны области. Женат. Единственный ребенок, дочь Лера закончила школу, уехала в Москву и поступила в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Живет в общежитии. Супруга Николая Игоревича Мария Натановна – врач-терапевт.
На дворе середина восьмидесятых. После ухода в запас офицер имеет право выбрать место жительства. Любой город Советского Союза, кроме Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и некоторых особо чудесных мест, к примеру Одессы. Впрочем, офицер имеет право вернуться туда, откуда призывался на службу. Даже в Москву. Государство обязано выделить офицеру и его семье квартиру.
Город в Восточном Казахстане Николаю Игоревичу и его жене не нравился. Несмотря на солнце, на желтые осенние дыни и живых карпов в магазинах, несмотря на синие сопки и суровый, в каменных берегах, Иртыш. Слишком уж сладкий был в этом городе воздух. Титано-магниевый и свинцовоцинковый. Огнедышащие драконы кормили город и душили. Да и скучал Николай Игоревич по Средней России, по серому, низкому, текучему небу, по соломенным октябрьским равнинам. Хотя возвращаться в свой родной город, под таким именно серым, текучим небом стоявший, он не собирался.
«В детстве мне там было хорошо: печка, бабка, пироги, лыжи, горка, товарищи, – говаривал он, – а сейчас что мне там делать? Ни бабки, ни печки, ни пирогов, товарищи большинство спились, да если и не спились, общего уже ничего».
Так себе городок, если смотреть взрослыми, серьезными глазами: скучный, маленький, дымный. Нет, не годится для остатка дней. Остаток хотелось провести в тишине и удобстве. Чтобы и лес грибной недалеко, и культура.
Они с Марией Натановной много разговоров проговорили о том, где бы им преклонить голову на старости лет. Разглядывали карту, произносили названия городов. Хотелось, чтобы город был на реке. И чтобы река была чистой, прозрачной. Чтобы в городе был парк. И драматический театр. И памятники архитектуры. И колхозный рынок. И доброжелательные жители. И хорошая поликлиника с местом терапевта для Марии Натановны. О работе для себя Николай Игоревич не беспокоился. Работу он найдет. Хотя бы на дому. Утюги чинить и телевизоры. Что угодно. Колоть дрова. Водить машину. Все Николай Игоревич умел и ничего не боялся, никакого дела. Мария Натановна горя с ним не знала. Весь ремонт в доме Николай Игоревич делал сам, аккуратно, умело. Он никогда не спешил, не рвался, все продумывал, намечал, прикидывал. Даже иногда очень долго не брался, что-то вычерчивал у себя в блокноте, весь план действий разрабатывал, как полководец. И не план битвы, а план кампании. Изучал территорию «врага». Собственные силы взвешивал. И так как любил все делать своими руками, то и знал, где достать материал, у кого.
Они даже думали с Марией Натановной, что в новом и окончательном уже своем городе обзаведутся непременно участком и на нем выстроят дачу, посадят яблони и вишни, и внуки будут к ним приезжать дышать воздухом. Помотались они по Союзу за тридцать почти лет службы будь здоров – и Сибирь Восточная, и Сибирь Западная, и Средняя Азия, и Казахстан Восточный, бывший Алтайский край, и по общежитиям, и по казенным квартирам. Так что очень уже им хотелось тихой гавани, своей собственной.
О городах расспрашивал Николай Игоревич знакомых, собирал сведения в блокнотик.
Из гражданской одежды имелся у Николая Игоревича один костюм черно-коричневый и один костюм сливочного цвета, летний.
– Оба цвета вкусные, – говаривала Мария Натановна.
Вкусные, сытные, калорийные, добавлю я от себя.
Костюмы были давнишние, но сохранились как новенькие в темном высоком шкафу, пропахли смертельной лавандой. Что для человека летучая сладость, то для моли летучей – смерть. Сладкая ли, не знаю. Костюмы сохранились, так как и вне службы Николай Игоревич носил военную форму. В ней ходил в магазин, и на рынок, и в кино с Марией Натановной. Были у него рабочие брюки, старые, от военно-полевой формы, – очень удобные, плотные темно-зеленые галифе. В старых армейских рубашках ходил Николай Игоревич дома, закатав до локтей рукава. Но в поездку он решил надеть гражданское. Чтобы слиться с толпой, не выделяться. Костюм ему было жалко трепать по поездам, и потому взяли в местном ЦУМе черные простые брюки.
– Смотрю на них, и кажется, будто горелым пахнет, не брюки, а головешка, – сказала Мария Натановна.
Купили рубашку в желто-серую клетку.
– Немного солнышка, – обрадовалась Мария Натановна.
Из простой светло-серой шерсти она связала Николаю Игоревичу толстый свитер с высоким воротом. Купили серое драповое пальто, такое же тяжелое, как офицерская шинель. Шапку-ушанку Николай Игоревич решил надеть все-таки свою, армейскую, старую, со вмятиной на месте кокарды; шапка эта была у него рабочая, он носил ее с ватной телогрейкой. Выглядел в своем дорожном одеянии Николай Игоревич солидно. Несмотря даже на армейскую шапку с вмятиной.
– Импозантно, – сказала Мария Натановна.
Они посидели перед дорожкой на старой кухне. Таракан прошуршал. Никак не было возможности избавиться в этой квартире от тараканов, исчезали и набегали вновь. Мария Натановна надела на выход черное пальто с меховым серебристым воротником и такую же меховую шапочку. Шли они к станции молча, наблюдая проезжающие трамваи, вдыхая сладкий смертоносный воздух. Снег лежал только что выпавший, младенческий. Мороз был слабый, не подгонял.
На платформе ждали поезда.
– Носки шерстяные я не забыла тебе положить? – спохватилась озабоченно Мария Натановна.
Утро стояло прекрасное, тихое, с фиолетовыми тенями. Поезд пришел чистый, натопленный, с белоснежными занавесками в сияющих окнах. Мария Натановна зашла вслед за мужем в вагон, увидела кипящий титан, туго натянутую дорожку, белое постельное белье, спящих еще пассажиров за зеркальной дверью купе. Поцеловала мужа в гладко выбритую щеку, холодную с улицы. Он поцеловал ее, вдохнул запах духов и пудры. Он любил наблюдать, как она пудрится перед круглым зеркальцем. Как прыскается душистой водой.
– Провожающие, выйдите из вагона, – сказала проводница в черной форме с золотыми пуговицами.
Мария Натановна примерилась и спрыгнула с ажурной ступеньки на низкую, песком посыпанную платформу.
Она стояла внизу. Из серого мехового облака смотрело маленькое лицо.
Громадный железный состав тронулся. Мария Натановна прошла за ним недолго, пока он не ускорил ход.
Вечером ей было скучно одной дома. Она посидела у телевизора. Начала вязать из цветных остатков шарф. Оставила вязанье, выключила телевизор, села на кухне за стол, из тетради не вырвала, а ножницами вырезала аккуратно лист, послушала тик-так часов и начала письмо:
«Здравствуй, дорогая Лерочка! Вот взяла твою старую тетрадку по математике, одни пятерки, чистый из нее листочек вырезала и пишу тебе. У нас морозец. Не знаю, как у вас, говорят по телевизору, что ноль градусов, но они и про нас говорят, что минус пять, а холоднее. Начала тебе шарф…»
Николай Игоревич стоял у окна в узком коридоре. Поезд качался и вез его за Урал, в русскую Европу. К городу на чистой реке. О нем рассказал Николаю Игоревичу человек по имени Никита. Он окончил военное училище в Ленинграде и отслужил в городе на чистой реке один год – круглый, завершивший круг, замкнувший и укативший. Год укатился, а Никиту отправили к ним, в Восточный Казахстан, уже не лейтенантом, а капитаном, и он щеголял в новенькой светло-серой шинели, и девушки на быстрых каблучках поглядывали на него.
Никита успел разглядеть город на чистой реке и зимой, и летом, и осенью, и весной, и в солнце, и в тьму. Жил он там на съемной квартире, в доме, который строили после войны военнопленные немцы, и в этом Никита усматривал символический смысл. Никиту считали слегка сумасшедшим, но сумасшествие его вызывало даже уважение. Никита был обращен своим бледным, не впитывающим солнца лицом в давно отгремевшую войну, хотя как отгремевшую? – если и посейчас находятся снаряды, готовые разорваться от неосторожного толчка, погубить и покалечить. Никита хотел увидеть ту войну как можно лучше, хотя бы и чужими глазами. Но ведь и астроном смотрит в космос не своим слабым глазом, а электронным глазом машины. Никита собирал свидетельства непосредственных участников, он спешил – шли уже восьмидесятые годы, поколение вымирало.
Никита жил войной. Он жил на войне. Даже с красивой девушкой, танцуя в Доме офицеров под музыку диско. Война не кончалась. Не в силах Никиты было ее остановить. Никита много об этом переговорил с Николаем Игоревичем, который годился ему в отцы, но оказался лучшим собеседником. Сиживали они за столом у Николая Игоревича до утреннего бледного света. Никита рассуждал о Боге.
– Если бы он был, – говорил Никита, – если только предположить, что Он есть, то возникает вопрос: как Он видит? Как Он видит все, со всех сторон, каждую точку Вселенной, одномоментно? Не есть ли глаза людей – Его глаза? Множество Его глаз.
Так рассуждал Никита. Не он первый, не он и последний.
– В войне столько миллионов людей было, и каждый что-то видел своими глазами, и если собрать все эти картинки в одну, то это и будет взгляд Бога. Всеобъемлющий. Вездесущий. Потому что люди везде были – и на небе, и в щелях на земле, и в подвалах, и в чистом поле, – везде и повсюду, в штабах, в лагерях, по болотам пробирались, под артобстрел попадали, под бомбы, лежали в госпиталях, сколько их там было, везде и повсюду, сколько миллионов глаз, сколько за четыре года каждый успел рассмотреть. Если бы все это собрать, и был бы полный взгляд, взгляд Бога. Но уже не соберешь, никогда не соберешь, сколько там погибло народу, они уже никогда не расскажут, да и эти, кто до сегодняшнего дня доплыл, и они мрут. Или не помнят. Или не хотят говорить правду. Или не умеют. Но это уже помехи, искажения, астрономы тоже с помехами видят. И ничего нет второстепенного, все главное, ничего нельзя выкинуть, упустить.
Записывал Никита разговоры летучим карандашом в блокноте, поспевая за речью, затем расшифровывал записи, стучал на пишущей машинке, мучил соседей. Множество у него скопилось бумаг в аккуратных картонных папках, два больших чемодана. Фотокарточки, письма военные тоже иногда Никите перепадали. Письма он любил больше всего, считал самыми верными свидетелями. Разворачивал трепетными пальцами. Знал наизусть. Да и все свои записи он помнил. И мог при случае восстановить.
Мария Натановна говорила Николаю Игоревичу о Никите: наш маньяк. Жалела его, мечтала женить на хорошей, доброй девушке. Была на примете одна, фармацевт из больничной аптеки. Но Никита связался с буфетчицей из вокзального ресторана.
– Поблядушку нашел, – сердилась Мария Натановна.
– Зато сыт, – усмехался Николай Игоревич. И добавлял: – Это она его нашла.
Как бы то ни было, на мнение Никиты о городе можно было вполне положиться. Несмотря на молодость лет, он и в самом деле много повидал. Благодаря своей мании, вынуждавшей его быть внимательным и точным.
Итак, Николай Игоревич стоял в узком коридоре. Смотрел на зимнюю, убегавшую назад землю. Она казалась малозаселенной, почти пустынной, иногда показывались дома и тут же исчезали, и подступал заснеженный лес, и не отпускал долго, казалось, что надвигается и вот-вот сомкнется, поглотит поезд вместе с железной дорогой, но лес обрывался вдруг, показывался переезд, за переездом поле, в поле на лыжах шел мальчик, один-одинешенек.
Солнце пробивается сквозь морозный туман, мальчик останавливается и смотрит на далекий грохочущий поезд, идущий на запад, уносящий Николая Игоревича, и всех пассажиров, и машиниста, и помощника, а Николай Игоревич уже сидит в купе и знакомится с соседями, и проводник несет им чай, стаканы покачиваются в подстаканниках, Николай Игоревич рассказывает, зачем едет в незнакомый город, угощает попутчиков пирожками с рисом – напекла в дорогу Мария Натановна. А мальчик все стоит один в поле на накатанной лыжне, и ему немного страшно в безлюдной пустыне, хотя светит солнце и даже тепло лицу. Но так тихо и так безлюдно, и такое застывшее небо над головой. И ты такой маленький здесь. Черная, лишняя точка.
К вечеру, устав уже от чая, от лежания на верхней полке, от душного воздуха, вновь вышел Николай Игоревич в коридор. У окна стоял сосед со второй верхней полки, невысокий, крепкий, в белой майке и синих спортивных шароварах. Николай Игоревич встал рядом с маленьким, коренастым соседом, пахло от него крепкими, едкими папиросами и прохладным «Тройным» одеколоном.
Они молчали, смотрели, как угасает на горизонте солнечный, в облаках разлитый свет, отгорает и обращается в пепел.
– Вот ты говоришь, воздух сладкий, – произнес вдруг сосед. – У нас воздух тоже не сказать что свежий. Химических запахов, правда, нет. Липой пахнет, когда цветет. Или, когда печи топят, дымом тянет. Но производство все равно вредное. А где оно полезное, я не знаю. И река уже, конечно, не такая, как в детстве была, сырой воды не попьешь без страху, да и так лезть в воду подумаешь, стоит ли. А я все же не хотел бы уезжать. Даже если совсем рай. Я здесь врос, корни пустил, вытащи меня отсюда, из земли этой, я и помру. Я уже сам отравлен. Вместе с водой и воздухом.
– Очень понимаю, – отвечал Николай Игоревич, – я бы тоже так врос, но не дали. Жизнь мне такая выпала, не успевал врасти.
– Дело военное.
– Вот именно. Сам ничего не решаешь. А сейчас иди, куда хочешь, а я и не знаю, куда хочу.
Стемнело. Николай Игоревич был уже один у окна. В дальнем черном пространстве мерцал огонек. Колеса бешено стучали, поезд мчался, рвался вперед, но казалось, глядя на неподвижный огонек, что поезд никуда не движется, что он застрял в этой ночи и никуда от этого дальнего огонька ему не деться. Морок.
«А может быть, – подумалось Николаю Игоревичу, – огонек – центр, и поезд идет вокруг него, как Земля вокруг Солнца, огонек сегодня виден, а завтра нет, но существует всегда, и поезду от него не отвязаться».
Было уже совсем поздно, весь вагон уже спал, и Николай Игоревич тоже отправился спать.
Через три дня – так далеко увез поезд Николая Игоревича – пришла Марии Натановне телеграмма: «Доехал хорошо целую Коля».
Мария Натановна разглядывала точку на карте, название точки на карте равнялось названию реального города, город скрывался за названием, весь, со всеми своими улицами и жителями. И Николаем Игоревичем, потому что и Николай Игоревич был сейчас в этом городе, так далеко от нее. У Марии Натановны настало уже шесть вечера, а там еще только три часа дня.
«Наверное, уж пообедал, – думала Мария Натановна, – город большой, столовая есть, кафе – может, и ничего готовят – или в гостинице. Или в комендатуре с кем-нибудь познакомился, и там люди хорошие есть, сидит у кого-нибудь в гостях или место смотрит, где у нас будет квартира. Ходит по магазинам – как там со снабжением? Кинотеатр широкоформатного фильма там должен быть. В драматический театр пойдет вечером, посмотрит, как актеры играют».
Мария Натановна волновалась. И за Николая Игоревича. И предчувствие скорого переезда ее томило и пугало. Хотя уже одиннадцать раз переезжала, вся ее семейная жизнь была кочевой. Но теперь предстоял последний переезд. Предстояло укорениться. Навсегда. «Навсегда» оказалось для Марии Натановны слишком большим словом. Ее сознание не могло его охватить.
«Навсегда», – думала Мария Натановна на каждом шагу. И не могла осмыслить.
Все эти дни, пока Николай Игоревич был в отъезде, она прощалась с городом, а он показывал ей себя в зимней красе.
«Точно сахарный», – думала Мария Натановна.
Морозный, солнечный, ясный.
Мария Натановна ходила к Иртышу в каменных берегах. И пыталась вообразить его течение под толстым льдом. Большую лобастую рыбу. Ходила по центральным прямым улицам. Увидела парикмахерскую за детским садом, в жилом доме. Ей показалось, что еще вчера этой парикмахерской не было здесь. Мария Натановна даже спросила прохожую старушку.
– Вчера точно была, – усмехнулась старушка. – До такого я еще не дожила, чтоб вчера не помнить.
Мария Натановна долго стояла и наблюдала, как в освещенном сияющим электричеством зале сидит под белой простыней мужчина, как лезвия ножниц посверкивают, как падают темные пряди на линолеум.
За эту прогулку Мария Натановна много заметила того, что все пять лет здешней жизни ускользало от ее глаз, а теперь вот решило показаться. Деревья. Арки. Лица людей. Город оброс вдруг подробностями.
«Это он со мной прощается», – догадалась Мария Натановна.
В поликлинике уже знали о скором ее отъезде. Очень горевала медсестра Клава, которая работала с ней все эти годы.
– Я нервная, – сокрушалась Клава. – Я сумасшедшая, дома всех дергаю, с утра психану, наору, а сюда приду, вы мне что-нибудь скажете, даже неважно что, что угодно, хоть про погоду, меня и отпустит.
Мария Натановна и в самом деле умиротворяла. Без усилий и не нарочно. Так уж она была устроена.
– С тобой и наркоза не надо, – посмеивался Николай Игоревич.
– Ах, как жалко, что вы уезжаете от нас, – переживали больные, – прямо хоть за вами отправляйся, вещи собирай.
А главврач так сказала:
– Да пусть ваш Николай Игоревич уезжает, коли ему охота, а вы оставайтесь.
– Это все равно что сказать: пусть ваша рука или нога уезжает, а вы оставайтесь, – рассмеялась Мария Натановна.
Вот, к примеру, посуда.
Сервиз Ленинградского фарфорового завода. Без трещин и сколов, как новенький. Купили здесь, в Восточном Казахстане. Веточки коричневые с золотыми мерцающими лепестками, переплетаются веточки. Сложный узор, не сразу и разберешь, а разберешь, так и усомнишься: веточки ли это? Или блики света на текущей воде?
Любила сервиз Мария Натановна. Выстояла за ним долгую, как война, очередь. По записи давали, холодным мартовским днем. Ставила его только на новогодний стол. Чай в мерцающих чашках становился солнечным. Рождение света из скрученных черных лепестков было чудом. Чай, конечно, к Новому году заваривали не грузинский, грузинский чай пасмурный, для трудовых будней. К Новому году доставали индийский, с королевскими белыми слонами. Николай Игоревич приносил из буфета. Полюбившая сумасшедшего Никиту Томка и придерживала, простая душа. И чай индийский, и конфеты московские, и сыр голландский, и колбасу одесскую или краковскую.
Вопрос заключается в том, как довезти сервиз этот со всеми его веточками, лепестками и бликами? Через леса, через реки, через степи, через Уральские горы. В целости и сохранности к новому месту. А кроме сервиза, сколько еще всего нажито! И телевизор цветной «Горизонт-723», и проигрыватель «Мелодия-103В стерео», и пластинки к нему. И со старинными голосами: Шаляпин, Лемешев, Вертинский; и с детскими волшебными спектаклями; и с зарубежной эстрадой. Книги – целый шкаф набили – по военной истории, кулинарные, детские. Жаль расставаться, Лерочка их читала, плакала над «Оводом», из «Трех мушкетеров» фразами разговаривала, «Тому Сойеру» письмо писала, не сохранилось. Стенка чехословацкая, кухня венгерская, ходовая посуда, одежда. Новогодние стеклянные игрушки гэдээровские. Туча вещей, целый мир.
Каждый сервизный предмет – и чашку, и блюдце, и чайник, и крышку от чайника – завернуть в газетную бумагу; свертки собрать в картонную коробку и переложить ватой. Газеты надо копить, не выбрасывать: «Известия», «Труд», «Литературку».
«Картонные ящики Николай Игоревич добудет в универмаге. Большие деревянные ящики с защелкивающимися железными замками из-под средств химзащиты остались с прошлого переезда. Телевизор завернем в детское ватное одеяло, перетянем шпагатом. Стол разберем. Стулья поставим один на другой, свяжем. Книжный шкаф можно все-таки не тащить, новый купить на месте. В крайнем случае, смастерит Николай Игоревич стеллаж. Закажем пятитонный контейнер. Наверное, хватит».
Так соображала, прикидывала Мария Натановна. Представляла: приезжает грузовик. Рабочие грузят скарб. Николай Игоревич присматривает. Вещи должны стоять плотно, надежно, не биться при качке. Рабочие закрывают наконец контейнер, получают свою плату. Грузовик разворачивается во дворе.
– А я все не верила, что вы уезжаете, – растерянно говорит почтальонша.
День стоит тихий, снежный. Они все смотрят грузовику вслед.
Почему зиму представляла себе Мария Натановна? Не собирались они переезжать зимой, только летом. Это смотреть Николай Игоревич по зиме решил, чтоб увидеть город без прикрас, обнаженным, понять сразу, как работают коммунальные службы.
Мария Натановна спала тревожно, прислушивалась к подъездной двери, она у них была на пружине, ухала пушкой. Дверь выстреливала, Мария Натановна вскакивала с постели, подходила к глазку. Смотрела на выпукло залитую неподвижным светом площадку. Возвращалась в комнату. Отогнув штору, заглядывалась на ночной мерцающий двор.
Где-то там ее Коля?
Трогала горячую батарею и шла в постель. Завтра на работу, надо выспаться.
Через десять дней ожидания Мария Натановна позвонила знакомому милиционеру, она когда-то вовремя заставила его жену пройти обследование. Милиционер перезвонил к вечеру. Сказал, что связался с тамошней комендатурой. Николай Игоревич к ним заходил. Девять дней назад. Расспрашивал. Больше не появлялся.
– Давайте подождем, – просил милиционер.
И Мария Натановна подумала, что говорит он примерно с той же интонацией, с которой она обращалась к своим испуганным пациентам. И с теми же словами:
– Давайте подождем.
Только она еще добавляла: «Вот придут анализы».
Ближе к ночи Марии Натановне казалось, что она потеряла опору, летит в безвоздушном пространстве. Без воздуха. Без света.
Заварила пустырник и подумала горестно: «Пустырник, пустырь, пустошь. Ну, хоть ты там растешь, пустоту заполняешь. И мою пустоту заполни».
К концу второй недели, в пятницу после работы, Мария Натановна вынимала газеты из почтового ящика. Из газет выскользнул конверт. Дрожащей рукой она подняла его с пола. Измятый. С расплывшимся пятном на уголке. Две недели добирался.
Проклятая почта. Как будто они пешком эти письма несут. В заплечных мешках. АВИА, тоже мне.
Она начала читать тут же, на лестничной площадке, и не слышала уже ни пушечных выстрелов, ни шагов, ни голосов.
«Здравствуй, Маша, объясню телеграмму о задержке…»
Какую телеграмму? О какой задержке? Не было ничего! Ну, почта!
«…решил я посмотреть еще один город. Этот что-то мне не показался. Так вроде бы Никита ничего не соврал: и чисто, и парк над рекой, и ребята нормальные в комендатуре. Говорят, из Москвы артисты часто приезжают. Но думаю еще посмотреть. Не легло на сердце. На всю последнюю жизнь решаем. С деньгами нормально. Здесь снимал у хозяйки комнату, ребята сосватали. Помылся нормально после дороги, простирнул кой-что. Не волнуйся, сыт и здоров. Город серый. Ясно, что зима, так и задумано – зимой смотреть, весной сады украсят и так далее. Топят, кстати, не очень. И поликлиника в старом здании. У тебя-то там – последнее слово, а здесь – коридоры узкие, люди толкутся. Посмотрю еще. Ребята сватали один город, к югу поближе, к теплу. Лучше я сейчас помотаюсь, чем потом жалеть. За деньги не волнуйся».
Схватила бы Мария Натановна ручку да начертила бы огненные слова: «Да разве я за деньги волнуюсь?!»
Но куда писать? Куда до востребования, в какой город?
Где-то он сейчас, ее Коля?
Терпеть и ждать, что еще остается.
«Ну, вот, Маша, второй мой отчет. Пишу на почтамте. Город южный, мороза, снега нет, но в принципе бывает. Снабжение неплохое…»
Усмехнулась Мария Натановна. Как будто и снег от снабжения зависел: то завезут, а то жди. Читала она и перечитывала. У них был мороз уже сильный, земля, как железо, гудела под ногами. Но дома, слава богу, тепло, да и чай, хоть и грузинский, согревал.
«…Снабжение не так чтобы совсем плохое. Люди мне не особенно понравились, все как-то шутят, не поймешь, когда уже всерьез. Еду вечером на северовосток, город на Волге. Здешний комендант там служил, хвалит. Посмотрим. За деньги вообще не беспокойся. Одному майору починил телевизор, его соседу “жигуленок” реанимировал. Заработал нормально. В столовой тут была неплохая еда, супвторое – по всем правилам».
Третье письмо вынула из почтового ящика утром. Читала в автобусе по дороге на работу, место досталось у окна, так что не толкали. Проехала остановку, уже и не читая, глядя в окно на размытый свет фонарей.
«Вообще город хороший. Были бы помоложе, ни секунды бы не сомневался. Во-первых, здесь сейчас Гриша Бабушкин, помнишь, в Чите парень был? С Любой у него еще была история. Он и к тебе подкатывал. Так вот, женился здесь на чувашке. Вроде бы нормально живут. Накормили меня до отвала. Рыбу свою ели, Гриша ловит, говорит, будем вместе – будем ходить на лодках на острова. До утра сидели. Детишек у него маленьких двое, так тоже маленьких захотелось в доме. Город большой. Предприятия. В то же время – природа. В магазинах, конечно, слабо. Но это практически везде. Исключая Москву и столицы республик. Набережная красивая. Волга не хуже Иртыша. Театров два: драматический и оперный. Своя труппа. Новый кинотеатр в центре, я ходил, отличный. Люди спокойные. Говор своеобразный, но быстро привыкаешь и сам начинаешь так же говорить. Единственное, что весь город вверх-вниз, с горки на горку. Красиво, но старикам ходить трудно. Квартиру обещают в новом районе. Старый больше по душе, но дом будет высокий, хороший, рядом с водохранилищем. Ты уж не сердись, Маша, съезжу я еще в одно место. С деньгами нормально. Во-первых, я аккуратно, во-вторых, спрашиваю, и всегда кому-то что-то надо чинить. Я чиню, люди благодарят, а я не отказываюсь. Береги себя, Маша, не волнуйся. Посмотрю еще, тут главное – не ошибиться».
Уехал Николай Игоревич почти сразу после Нового года, 3 января, а вернулся 20 марта, уже снег таял. Похудевший, поизносившийся, с провалившимися, потемневшими глазами.
– Как после войны, как после войны, – повторяла-шептала Мария Натановна.
И пальто его будто порохом пропахло.
Принял ванну, выпил с Марией Натановной ледяной водки, поел горячего плова. И вспомнили они то время, когда жили за железными воротами с красными звездами, далеко от России и от предгорий Алтая далеко, в Средней Азии.
У них были две комнаты в прохладном кирпичном строении с деревянным темно-коричневым полом и зарешеченными окнами. Возле одноэтажного их строения росли яблони, черешни и абрикосы, за деревьями стояли кирпичные гаражи штаба гражданской обороны, асфальтовая дорожка вела к уличному туалету, шпалерами вдоль нее рос черный виноград. Охранник у железных ворот носил оружие, посторонних не пропускал, но обстановка была нестрогая, мирная. По вечерам пели цикады. Ночью открывались звезды, пропадали во тьме ледяные вершины Тянь-Шаня, жара спадала. Садились ужинать за деревянным столом во дворе. Днем водители и механики забивали за этим столом козла. Николай Игоревич и Мария Натановна полюбили местное розовое шампанское. Пили из высоких стеклянных бокалов, ели черный терпкий виноград. Собака дремала на медленно остывающем асфальте. В один из таких летних вечеров пожилой охранник-узбек и научил Марию Натановну готовить плов в черном чугунном казане. Не на растительном, а на топленом сливочном масле.
Ели этот огненный плов все вместе. Собака подбирала жирные куски. Сухое вино казалось сладким. Узбек принес из дома помидоры. Шуршала трава. И Лерочка была с ними. Никто не гнал ее спать, она быстро соскучилась за столом, улеглась в обнимку с собакой. Ленивейшее существо была эта собака. Кличку так и не смогли вспомнить.
Они не уедут. Не решатся. Останутся дышать сладкой отравой. В отпуск будут навещать Лерочку, нянчиться с внуками. Время пойдет медленно, но пройдет быстро. Новый тысяча девятьсот девяносто второй год встретят уже в другой стране. Чтобы оказаться в другой стране, никуда переезжать не надо. Сбережения их обесценятся. Как у всех. На пороге нового тысячелетия Мария Натановна устанет и уйдет окончательно на пенсию. Николай Игоревич будет работать в мастерской (изготовление ключей, ремонт сумок) до две тысячи пятого. В две тысячи десятом объявится вдруг Никита – письмом в узком конверте:
«…живу неплохо, вожу фуры, здоровье пока позволяет, никто мне моих лет не дает, женился в восемьдесят седьмом, в девяностом развелся, архив свой берегу, участники войны почти все уже умерли, вот свидетелей еще немного осталось, тех, кто детскими глазами смотрел. Помните, Николай Игоревич, вы рассказывали, как ваш эшелон бомбили? Напишите мне со всеми подробностями. Про все напишите. Что только помните. Как с одеждой было, что ели. Все мелочи».
«Кому же они нужны? – подумает Николай Игоревич. – Разве что тебе, сумасшедший Никита».
Письмо Николай Игоревич напишет – Мария Натановна уговорит. И снимет копию. Для внуков. Для правнуков. Если будут еще понимать по-русски.
Премьерный показ
Он его ненавидел.
Конечно, здорово, что сам режиссер приедет. Но какая же будет с ним морока! Заранее страшно. Хочется заболеть и пропустить день. Только бы не видеть лишенные всякого выражения глаза, не слышать бесцветный голос, почти беззвучный, не слышать пауз, которые никто не смеет прервать, не видеть чашку в худой дрожащей руке. И непременно нужна белая, без рисунка и позолоты, без пятен и трещин, девственная-белая чашка.
Он выйдет на сцену, начнет фразу и не докончит. И конца паузы никто не дождется. Так тоже может случиться, так бывало. Будет молчать, уставившись в серый пол. Недостаточно чистый.
Нет, правда, лучше заболеть. Или яду принять – отличный повод.
Так или примерно так думал организатор кинопремьеры.
Яду он не принял. Заболеть не решился, хотя соблазн был велик.
Он притащил из дома чай, который привез ему друг из Лондона. Черный, без примесей. Принес заварочный чайник, на всякий случай тоже белый, без пятен, трещин и позолоты. Чайник пришлось покупать. И чашку с блюдцем.
За окнами в этот день летел густой снег, и Москвы за этим снегом не было видно, а может, и в самом деле уже не было.
Сеанс назначили на семь тридцать. Режиссер обещал прийти к шести.
Водить машину режиссер не умел. Он вообще не любил машины, а любил только поезда. Поэтому для передвижения пользовался подземными поездами метрополитена. Он был человек пунктуальный, и никакой надежды не теплилось, что он опоздает. От метро он жил недалеко, кинозал тоже был от метро в двух шагах.
Разве что заплутает в снегу, зайдет в другой переулок, спрячется в храме от непогоды, заслушается певчих, засмотрится на пламя свечей.
Замечтался организатор.
В шесть часов ему позвонил вахтер и доложил, что лифт с режиссером стартовал наверх, на шестой этаж.
Он мгновенно включил чайник.
Электрические чайники в те времена были другие. Железные, приземистые, широкие. Нагревались медленно, сами не отключались, следовало за ними следить, чтоб не сгорели. Пожарные их запрещали, но безрезультатно.
Режиссер постучал в дверь и вошел. Чайник еще не закипел. За широким окном валил снег и шуршал по стеклу.
Очень трудно прервать молчание гостя. Он светлыми глазами смотрел на желтый блик света на железном боку чайника, помаргивал, погруженный в свои мысли. Организатор премьеры знал, что режиссер его не услышит. И потому молчал.
Режиссер был в клетчатой мятой рубашке, застегнутой на все пуговицы. В серых мешковатых штанах. На его высыхающих ботинках проступали соляные разводы. Организатор оделся на премьеру нарядно, в черную пару и белую, в синеву отдающую рубашку. Он был гладко выбрит и пах тонким одеколоном. Он, когда одевался вот так празднично, всегда казался немного иностранцем.
Чайник наконец закипел. Организатор ополоснул кипятком заварочный чайник, бросил щепотку заварки. Светлые глаза следили за ним. Но бог знает, что видели – его, организатора, или что-то воображаемое. А что мог вообразить этот человек, даже и думать не хотелось. Судя по фильмам, что-то тяжелое и неподвижное. Цвет лица у режиссера был нездоровый, со свинцовыми тенями под глазами.
Организатор поставил перед режиссером девственно-белую чашку с блюдцем. Себе поставил кружку, из которой всегда пил на работе. Это была его кружка теплого медового цвета. Разлил чай. Режиссеру покрепче. И два куска сахара. Он помнил все его привычки. Ни конфет, ни печенья, лишь два куска сахара для сладости. Себе взял печенье из вазочки.
Сейчас режиссер отопьет чая и, если понравится, прикроет глаза. Посидит, отворит глаза и посмотрит уже осознанно. И что-нибудь скажет. И будет уже полегче.
И режиссер отпил чая и прикрыл глаза. Посидел, отворил глаза и посмотрел уже осознанно. И сказал, что ехал на автобусе до Москвы. Был у матери, у нее домик между двух областей, Владимирской и Московской.
– Там торфяники горят, если жаркое лето. Можно дойти до шоссе и подождать на повороте автобус. Или затормозит, или нет, как повезет. Я задумал, что если затормозит, то сбудется одна вещь. Сбудется или нет. Кто знает? Поглядим. Дорога была скользкая, мокрый, тяжелый снег. Водитель слева, как водится, а в правом ряду на переднем пассажирском месте сидел его приятель, тоже водитель, судя по разговору. Говорили они без умолку. И тот, кто вел, беспрестанно жестикулировал. Я все время наблюдал его танцующие руки, позабывшие руль. На мокрой дороге, под снегом. Я думал, что мы едем прямиком на тот свет. После кольцевой, уже в Москве, мы встали в пробке. Разговаривали они уже значительно меньше, вытягивали шеи, всматривались вперед. Мы сползли с моста, и я увидел разбитую машину. Одну. Затем другую, третью. Кто-то считал вслух. Всего двенадцать.
Он допил чай, и организатор тут же налил ему еще, черного-пречерного.
– Вот почему я люблю поезда. Они едут по расписанию, и я не вижу, что делает машинист, пью чай, если дают, и смотрю в окно.
Организатор подумал: кто знает, не окажется ли водитель с танцующими руками и двенадцать разбитых в снежном тумане машин в следующем фильме этого человека, не увидит ли их тогда еще множество людей, наших современников и жителей будущего? И эта мысль взволновала его.
Он посмотрел в невыразительные бледноголубые глаза, будто подернутые туманной пленкой. Да ведь это и в самом деле волшебство: вот он – тот, кто может сделать видимыми свои грезы. Произвести их на свет. И сам организатор может оказаться таким образом на свету, в фильме этого режиссера. И будет он там в черном костюме и белой свежей рубашке, удивительно, наверное, сочетающейся с несущимся за стеклом снегом.
Проблема заключалась еще и во вступительной речи, которую режиссер непременно произносил на премьере.
Он становился на самый край сцены, нагибал микрофон к губам, опускал глаза в пол и задумывался. Кто знал, не удивлялся. Прочие – недоумевали. Он стоял долго, разглядывая пол под ногами, серые, давно не крашенные доски. Что-то там поблескивало в щели, монета или пивная крышка. Может быть, он ее видел, а может быть, и нет. И даже если кто-то шумел в зале, смеялся, сморкался, кашлял, режиссер оставался в тишине, своей собственной. Мобильных телефонов тогда не водилось, так что звонки не трезвонили. Наконец, бог знает почему, он начинал говорить. Губы его шевелились у самого микрофона, едва его не касаясь, но говорил он все равно еле слышно. Так что людям в последних рядах приходилось напрягать слух. Еще спасибо, что зал был невелик. Некоторые просто засыпали в духоте под невнятный бубнеж, похожий на осенний шорох листьев. Мог он так говорить и десять минут, и все сорок. С неожиданными провалами в молчание, когда только дыхание его передавал микрофон.
В дверь постучали.
– Пора.
Он остановился на самом краю сцены, нагнул микрофон к губам, опустил глаза в пол и задумался. Кто знал, не удивился. Прочие – недоумевали. Он стоял долго, разглядывая пол под ногами, серые, давно не крашенные доски. Казалось, в забытьи. И вдруг произнес:
– Я веду дневник. Про сегодняшний день тоже напишу. Вечером. Встал в шесть. Так я напишу. Минус пять. Снег. Выпил чаю. По радио сказали, что будет похолодание. Искал чистую рубашку. Рассматривал себя в зеркале. Постарел. Бритва сломалась.
Он замолчал. Зрители ждали. Он стоял, опустив глаза в пол. Заговорил очень тихо:
– Это очень скучно для постороннего, а для меня – зашифрованная жизнь. Код известен только мне, никому больше. А может быть, и мне неизвестен. Может быть. По радио сказали, что будет похолодание. Всего не запишешь. Подробности умирают. У меня очень плохой почерк. Его никто не разбирает. Даже моя жена. Она еще спала, когда я собирался сегодня утром. Я нашел старое лезвие в ящике кухонного стола. Добрился. Сегодня было странное утро. Я мысленно возвращаюсь к нему. Как наваждение. Что-то было. Какая-то мысль, она мне пришла в голову, когда я брился, я думал, что запомню, но сломалась бритва, и я все упустил. Не мысль, образ. Образ важнее, все начинается с образа. Ты к нему стремишься, как к небу. Строишь свою башню, свой фильм. Но больше он похож на лабиринт, чем на башню. Ты думаешь, что выйдешь куда-то. Выпутаешься.
Он смолк в недоуменной тишине. Его слушали, как ни странно. Он говорил не для публики, а для себя, в каком-то сомнамбулическом состоянии он пребывал. И каждый зритель в зале оказался вдруг свидетелем невозможного, запретного, того, что должно быть скрыто от постороннего слуха. Свидетелем чужих тайных мыслей.
Неожиданно он прервал молчание и начал рассказывать фильм:
– Один человек следит за другим. Мы никогда не узнаем, зачем и почему. Мы даже не видим толком того, за кем он следит. Я не знаю, видит ли его жертва. Я сам вижу только преследователя. Он идет по улице. Он запрыгивает в автобус. Едет в автобусе. Оказывается на вокзале. Он даже не может выкурить сигарету или сходить в туалет. Он привязан к жертве. Он – тень. Я думаю, что жертва видит своего преследователя. Думаю, да. Но не бежит от него. Не бежит от тени. Ему, преследуемому, отчего-то все равно. Возможно, он отчаялся. Возможно, он слишком погружен в себя, в свои беды. Я не знаю, как угодно. Я не все знаю о своих героях, далеко не все. Они для меня – закрытая книга. Я только чуть-чуть могу приоткрыть ее, уловить пару слов.
Он замолк. В зале ждали продолжения. – Преследователь едет с ним в одном автобусе, сидит с ним в одном кафе. Покупает билет в один с ним вагон. В поезде не спит. Он только позволил себе выпить чая. Пьет чай и смотрит на спящего. Занавески раздвинуты, и полосы света скользят по его лицу. Он решается и уходит в туалет. Он справляет нужду и ополаскивает лицо холодной водой из странного железнодорожного умывальника. Он даже не смотрит на себя в зеркало, хотя зеркало там висит. И, возможно, оно его отражает. Он возвращается и не находит того, за кем следил. Он спрашивает проводника. Нет, проводник не видел. Тень без человека, чего она стоит? Он должен его найти и вновь к нему прилепиться. Он проходит состав, все вагоны, заглядывает в лица спящих, открывает туалеты, даже если они заперты изнутри, у него при себе служебная отмычка. Поезд приближается к станции. Кто-то выскакивает на платформу, черная фигура, он видит из окна. Ему кажется, что это его жертва. Он спрыгивает с подножки и бежит по платформе за черной фигурой. Ошибка, обман, ложная фигура, посторонний. Поезд трогается.
Пауза. Дыхание в микрофоне.
– Поезд ушел. Преследователь один на незнакомой платформе. Он бродит по городу, в котором ему нечего делать. Он странно себя ведет. Он прилепляется то к одному человеку, то к другому. То одного преследует, то другого. Он идет за стариком, не скрываясь, он никогда не скрывается. Старик замечает его, оглядывается, старику страшно. Он торопится домой, захлопывает дверь квартиры, выглядывает в окно, видит своего преследователя во дворе, на лавке. Собирается дождь, поднимается ветер, сносит шляпу у человека на лавке, взметывает полы его пальто, треплет волосы. Темнеет. Ослепительная белая вспышка. Старик поспешно задергивает шторы. Раскат грома, от которого дрожит на потолке люстра. Старик лежит в постели и смотрит в потолок. Мир за стенами рушится. Старик закрывает глаза. Утром он просыпается в тишине. Подходит к окну, отодвигает штору. Утро серое, мокрое, беззвучное. На лавке сидит преследователь, мокрый, тихий, нахохлившийся. Облетевшие листья у него на плечах и в волосах. Старик медленно отходит от окна. Он ставит чайник на огонь, он отрезает ломоть от батона и мажет его сливочным маслом. Посыпает сахаром. Заворачивает в белую салфетку. Он выходит из дому и идет к лавке. Преследователь смотрит на него черными, как у птицы, глазами. Старик кладет сверток на мокрую лавку. Дома, из окна, он смотрит, как преследователь жует его подаяние.
Режиссер смолк. Он стоял у микрофона, и все ждали продолжения речи. Но он вдруг поднял глаза и посмотрел на людей в зале. И некоторые заметили, что глаза у него стали вдруг черные, в точности как у птицы. Он отступил от микрофона. И тихо, сгорбившись, пошел со сцены.
Из зала он не вышел. Сел на свободное место в первом ряду с краю, у прохода. Место было свободно неслучайно, его берегли именно для него, на мягкой спинке пришпилили бумажку: «Не занимать». Итак, он сел на это специальное место, и тут же директор привстал и махнул механикам. В зале стемнело, из окошка механика упал луч и осветил экран.
Организатор знал, что режиссер досидит весь фильм до финальных титров. И не тронется с места, даже когда экран погаснет, а в зале вспыхнет свет и зрители потекут к выходу, молча или переговариваясь. Он будет сидеть, сгорбившись, глядя в пол, пока не останется один в зале. И просидит так какое-то время, жалкий, нахохлившийся, опустошенный. Затем выберется из зала в сумрачное фойе и потащится к лифту. Приблизится к гардеробу и положит на черный барьер номерок. Только его куртка и будет висеть на крючке. И кем-то забытая перчатка.
Организатор встанет из кресла под зеркалом и подойдет к режиссеру. Поблагодарит за прекрасный фильм. Режиссер наденет свою большую куртку, поданную вахтером, и, не глядя на организатора, с обиженным лицом направится к выходу. Снег будет идти.
Так все и сбылось. Даже снег.
По дороге к метро режиссер заглянул в аптеку и попросил цитрамон. Проглотил сразу две таблетки, постоял растерянно, словно позабыл, что он здесь делает.
Дома ждала жена. Напоила его чаем, рассказала, что внук принес двойку, что за молоком была очередь, что мир катится в тартарары.
– Да, – сказал он, – да. – Поцеловал ее в руку пониже локтя и пошел спать.
Но, конечно, уснуть не мог, вспоминал фильм, какие-то реплики вдруг слышал из фильма, из зрительного зала, не умел отрешиться, мучился. Наконец поднялся и ушел на кухню. Достал из холодильника водки. Выпил полстакана. И отпустило.
Билет
Начальник сказал, что очень рад его видеть после отпуска, отдохнувшим.
– Вы где-то на море загорали?
– Не совсем.
Была у него такая дурацкая привычка на элементарные вопросы отвечать уклончиво.
– Ну, хорошо, значит, приступите к работе с новыми силами. Кстати, можете занять стол Николая Анатольевича, а то у вас там угол темный, я помню, вы на глаза жаловались.
– Николай Анатольевич ушел?
– Простите, я же забыл, вы не в курсе. К несчастью, да, ушел от нас, умер. Вы лет десять в одном кабинете просидели?
– Семь.
– Да, простите еще раз.
– Ничего.
– Он во сне умер, никто не ожидал.
Он не ответил на эту реплику. Молчал. И все в лифте молчали. Пахло сыростью, с мокрых зонтов текла вода.
В кабинете он включил обогреватель. Сел за свой стол в темном углу, включил лампу. Новость его не поразила. Он мало знал Николая Анатольевича, хотя и просидели в одном кабинете семь лет. Пока был в отпуске, вообще забыл о его существовании.
Воздух в кабинете потеплел.
Он посмотрел на пустой стол у окна. Шел мокрый снег, стекло запотело.
Он взял картонную коробку из-под принтера и переложил в нее вещи Николая Анатольевича. Интернетовские распечатки, несколько номеров футбольного журнала, кружку, коробку с чаем, коробку с сахаром, коробку с нитками и иголками, черную пуговицу, лезвие, ластик, шариковые ручки, простые карандаши, очки, растоптанные туфли, в них Николай Анатольевич переобувался. Бордовый галстук. Билет в филармонию. Билет был на сегодняшнее число, и это неприятно удивило.
Коробку он затолкал под шкаф, переложил свои вещи в освободившиеся ящики стола. Распечатки, банку с кофе, кружку, зажигалку. Хотя мог и выкинуть зажигалку – курить бросил год назад. Сел за новый стол, посмотрел в запотевшее окно. Подумал невольно о своих вещах: кружка, зажигалка. Так же бросят в ящик, ящик задвинут, подождут и снесут на помойку в конце концов.
Посмотрел в окно и подумал, что вот так мог бы смотреть Николай Анатольевич, если бы не умер. Подумал, что сидит на его месте. Что это неуютно, сидеть на его месте. Вытянул из-под шкафа его коробку, отыскал билет.
Начало в девятнадцать тридцать.
Позвонил домой и сказал, что будет поздно.
Странное это было решение – сходить на концерт по чужому, лишнему в совершенно особом смысле билету. Классическую музыку он не любил. Вообще не любил куда-то ходить по вечерам. Любил быть дома. Читать, пить кофе, смотреть телевизор. Говорить пустые, незначащие вещи. Еще лучше – молчать. Не думать. И вот отчего-то ему показалось невозможным, чтобы этот билет пропал. Он решил, что поход на концерт будет чем-то вроде извинения перед Николаем Анатольевичем. За то, что сидит на его месте и вместо него смотрит в окно. За то, что ничего о нем не помнит. Даже лицо смутно.
Припарковался на маленькой улице. Шел до филармонии не спеша и замечал рекламные щиты, теплый свет в газетном киоске, запах еды из забегаловки, ярко-красный зонт, чью-то испуганную, замерзшую физиономию, огрызок яблока возле урны, дымок сигареты. Обычно он был невнимателен к окружающему. Но в этот вечер он чувствовал себя на месте Николая Анатольевича. Как будто бы Николай Анатольевич мог видеть все то, что он видел.
Не своими, чужими глазами он смотрел. И мир казался новым. Таким, каким никогда прежде не был. Он доставал из кармана билет и выронил монетку. И даже эта упавшая на каменный пол монетка казалась необыкновенной. Как будто бы он видел все это в первый раз в жизни. Или в последний.
Сдал пальто. Посидел в буфете с чашкой кофе, наблюдая с тревожным чувством новизны за людьми.
Прозвенел звонок, и он отправился в зал.
Люди рассаживались, покашливали. Инструменты в оркестре тоже как будто покашливали, как спросонья. Народу было много, он всматривался в лица, в основном пожилые. Справа у стены повернулся большой прожектор и осветил сцену.
Тяжелая музыка. Больно слушать. Решил, что в антракте уйдет, достаточно, ритуал соблюден.
Наутро он сидел за компьютером, работал. И вдруг отчетливо вспомнил, как Николай Анатольевич подошел к нему с листочком и сказал: вот задача, никак не могу решить внуку, трудная, помоги. Задача не решалась. Наверное, в условии ошибка, сказал он тогда Николаю Анатольевичу. И Николай Анатольевич согласился: наверное.
Дома, за ужином, вдруг вспомнилось, как у Николая Анатольевича разболелся зуб.
Вообще стали приходить на ум какие-то мелочи, пустяки. Николай Анатольевич как будто пытался к нему вернуться.
Вспоминалось, как Николай Анатольевич заваривал чай в кружке. Только рассыпной. Как прочитывал утром газету, которую брал в метро. Как в столовой ел только первое и говорил раздатчице: мне супчику, милая.
К зиме взяли нового сотрудника, еще молодого человека, он обжил стол в темном углу и сам постепенно прижился. Николай Анатольевич стал вспоминаться реже. И вскоре совсем перестал.
Следы
В Японию на русском языке.
За письмом он позабыл время.
Дело было непростое. Русский язык адресат знал плохо, но умолял писать по-русски. И сам выводил по-русски. Аккуратными растерянными буквами, почти без ошибок. Простыми, в три-четыре слова, предложениями. Он старался отвечать так же просто и коротко.
Идзу спрашивал о политической атмосфере. Об экономическом положении. О семейных делах. О кинопоказах. О погоде.
Идет снег.
Это предложение годилось в ответы на все вопросы Идзу. И не нужно сложно сочинять.
Снег.
Но главный вопрос был о прошлом, в котором светило солнце, и пели птицы, и первый космонавт летел в космос. Идзу спрашивал о начале шестидесятых. Он писал книгу о фильмах «Оттепели» и не все в них понимал.
Почему газеты наклеены на стену?
Их клеили под обои. Для ровности и тепла. Обои старились со временем. Их надо было менять. Покупали новые. Старые обдирали со стен. Открывались газеты. Обнажалась прошлая жизнь.
Он перечитывал и упрощал написанное. Слова, которые он подбирал одно к другому, были сетью. Для уловления смысла. Мелкие, частые ячейки не годились. Упрощая, он ячейки укрупнял, и смысл иногда вываливался, и тогда он подштопывал свою сеть. Вопросы японца – как вопросы инопланетянина: он смотрел на их мир под неожиданным углом странными раскосыми глазами.
Директор подбирал простые слова для непростых смыслов и позабыл о сегодняшнем времени, а когда закончил длинное письмо, не сразу сумел в настоящее вернуться. Не полностью включился, не враз.
Надписал и заклеил конверт, взглянул на часы. Они стояли. На восемнадцати тридцати. Так что он понятия не имел, сколько сейчас времени: девять, десять, час ночи. Его часы показывали восемнадцать тридцать. Он их просто завел. Пропущенное время – как у пассажиров, пролетевших над Бермудским треугольником. В те странные годы много писали о не объяснимых наукой чудесах. Как будто люди вернулись в первобытный хаос.
В кабинете стоял сизый и горький туман.
Директор приотворил фрамугу.
Совсем темно на маленькой улице, и машин не слышно. Бог его знает, может, и метро уже закрыто. Поднял трубку, хотел позвонить домой, но побоялся, что дочь уже спит. Решил спуститься в буфет и сварить себе настоящий кофе. Он часто так делал, когда засиживался допоздна, когда оставался один во всем здании. Спускался на первый этаж, зажигал в буфете свет. Набивал поплотнее рожок. Вода тем временем нагревалась в кофейном аппарате. Деньги за кофе он оставлял в ящике стола. Из-за границы привозил буфетчице конфеты и колготки и детские игрушки внукам. Он всем привозил. Обо всех помнил. Варить кофе было удовольствием. А потом сидеть за чашкой в прохладном зале, курить, дымить, думать, грезить.
В буфете, кстати, и время можно узнать – по часам над зеркалом; надзеркальное время, пропущенное. Это было для него важно. Время упорядочивало его мир. Определяло систему координат. И ночь под снегом была переходима.
Он спустился по холодной лестнице на первый этаж. В фойе смотрели со стен черно-белые лица. На дверях в зрительный зал была налеплена бумажка с печатью.
И он мгновенно оказался в настоящем. Он вспомнил убитую. Синяк на шее. Носилки. Чьи-то испуганные глаза. Вернулось пропущенное время. Ему даже показалось, что пахнет кровью, хотя никакой крови не было: убийца ударил по сонной артерии.
И вдруг он понял, что не один. Из буфета слышались приглушенные голоса, пахло едой, и падал свет, узким лезвием разрезал полумрак. Директор посмотрел на черно-белые немые лица, они глядели со стен, и вспомнил, что идет с сигаретой. Гасить не стал, хотя сам запрещал курить в фойе. Так с сигаретой и направился из фойе в коридор – по лезвию. Тихо, неслышно, боясь спугнуть голоса.
– Как этот салат называется? – Это водитель спрашивает. Голос у него слабый, тихий. Даже не верится, что бывший военнослужащий. Может, он в армии иначе как-то говорил.
– «Мимоза», – отвечает буфетчица. У нее голос, как всегда, будто простуженный.
– Условие задачи такое, что за час один человек успевает пошить пять рукавиц. – Это билетерша. У нее голос уютный, домашний.
– Прямо про зэков задачка. – Водитель.
– Про фабрику. – Билетерша.
– Это что, до сих пор в школе такие задачи? Нет чтобы про киллера. Или про бизнесмена. Сколько он денег за час заработает, если в Китае, скажем, наводнение случится. – Водитель.
– Нет, это старый учебник, он его в чулане нашел, а новый он весь перерешал.
– Про киллеров?
– Да что вы, Николай, заладили, и так тут у нас…
И они замолчали. Вспомнили про убийство. А может, и дым его сигареты почувствовали. Поняли, что не одни.
Пепел с неподвижной сигареты упал на старый паркет. На освещенную сторону. Он переступил с ноги на ногу, и паркет всхлипнул.
В буфете – ни шороха. Будто и нет там никого, а голоса почудились.
Он кашлянул и направился к ним твердым, отчетливым шагом. Выступил из проема в маленький буфетный зал и увидел напряженные лица.
И сказал доброжелательно, мягко, как только он умел:
– Я вас напугал, кажется, извините, сам напугался, слышу – голоса. Хотел уже милицию вызывать. После сегодняшнего.
– Да, – сказала билетерша.
– Да, – подхватила буфетчица.
– А я там был, – сказал водитель. – В зале. Кино смотрел.
Они засобирались уходить, но он сказал, что совершенно не хотел никого снимать с места, что, напротив, очень рад, что оказался не один, и, если только они не против, с удовольствием бы с ними еще посидел, выпил чашечку кофе. И немедленно буфетчица ушла варить кофе, и запахло свежемолотой арабикой, которую она специально приберегала для своих.
– Значит, вы кино смотрели? – переспросил водителя. – Мне кажется, вы его уже видели?
– Видел.
– Все-то вы, Константин Алексеевич, помните, – восхитилась билетерша.
– Если бы, – весело отозвался директор.
– Смотрел, смотрел, – признался водитель, – да и не один раз; я уж не знаю сколько; вы тоже фильмы по множеству раз смотрите.
– Бывает. Потому что все-таки забываю. Восстанавливаю. Я же киновед, надо помнить.
– А я помню. Этот. Каждую секунду помню. И все равно. Хочется там еще раз оказаться. Я каждый раз, когда иду после этого фильма, грущу, что все закончилось. Был праздник – и нет, пусто.
– Я вас понимаю.
– Да?
– Конечно. Знаете, как я поступил во ВГИК? Тогда вышла в прокат вторая серия «Ивана Грозного», где цветной эпизод вдруг, как огонь. И после него – смерть, пепелище. Я ходил и смотрел десять раз. Я не мог остановиться.
– Да! – воскликнул водитель.
– Я тоже понимаю, – сказала билетерша мягко, задумчиво. – Я вот так старые фильмы смотрю, из нашей молодости, как все одеты, какие улицы, какие автобусы, что в магазинах, что телевизор показывает, так бы и вернулась.
– А я бы тот фильм посмотрела еще раз, который в прошлом году, когда испанский посол у меня тут кофе пил и нахваливал, – сказала буфетчица.
– Интересно, – сказал директор. – Почему?
– Море. Солнце. И ехать никуда не надо, сел в зал, свет погасили, смотри и слушай. Волны.
Они еще поговорили о фильмах, которые хочется отчего-то пересмотреть, и директор даже пообещал учесть пожелания, поставить пару фильмов в программу. Затем он взглянул на свои часы и вспомнил об утраченном времени. Выяснилось, что утрачено три часа, что метро уже не ходит, и водитель вызвался его подвезти до самого дома. У буфетчицы была своя машина, «шестерка», с облезшей, ободранной краской, с трещиной на заднем стекле, буфетчица говорила, что это камуфляж, что вообще-то «Клава» (так она называла свою машину, «Клавой») в порядке, зато никто на нее, облезлую, не позарится, не угонит. Билетерша ходила домой пешком, она жила рядом с кинотеатром, в соседнем дворе, говорила, что всю жизнь мечтала вот так вот рядом работать, что сейчас она вообще живет, как в мечте, и люди хорошие вокруг, притом что жизнь страшная.
У водителя была старая «Волга». ГАЗ-21, третья серия. В отличном состоянии. Он говорил, что может ее разобрать и собрать с закрытыми глазами, как автомат Калашникова. У него никогда ничего не было лишнего в салоне, никаких наклеек, присосок с качающимися фигурками. Чисто, радио говорит, приборы подсвечены. Печку практически не включал – любил прохладу. И директору эта строгость, холодность нравились. Работал водитель у них по свободному графику. Подвозил по необходимости коробки с фильмами, бухгалтера с зарплатой. Вообще, он, что называется, бомбил – подрабатывал к военной пенсии извозом.
Они свернули с маленькой улицы к набережной. Летел мокрый снег и таял в реке.
– Так, значит, вы были на этом сеансе? – спросил директор. – И что? Видели убитую?
– Ну, только уже убитую. Живой я ее не приметил, я ближе сидел, я вообще люблю кино поближе смотреть.
– Я помню.
– Как вам так все обо всех помнить удается?
– Само выходит.
– У меня тоже память неплохая. Профессиональная.
– У меня тоже профессиональная.
– А вы помните, в этом фильме человек мелькнул на тридцать третьей минуте, просто мелькнул, как прохожий? Бритый, высокий. У него лицо. Грустное лицо. Будто сейчас заплачет.
– Кажется, я напрасно похвастался своей памятью.
– Они там еще едут на автобусе. И долго стоят на светофоре. И пока стоят, герой смотрит в окно и разглядывает улицу. На остановке люди ждут, их он тоже рассматривает. Лица. И этот бритый, высокий, на остановке. У них даже взгляды встретились.
– Да.
– Вспомнили? Ну вот. Он сегодня был, тоже это кино смотрел.
Директор изумленно взглянул на водителя. Машина шла уже по мосту, над рекой.
– Фильму пять лет, – заметил директор. – Даже пленка постарела.
– Я понимаю. Но это был он. Я изучил его лицо досконально. Выражение. Не смоешь. Сколько бы лет…
– Надо бы следователю сказать.
– Разумеется. Я сказал. Я, как только вошел в зал, его увидел. За пять минут до начала фильма. Десятый, по-моему, ряд.
– Убитая сидела в восьмом. У прохода.
– Он тоже у прохода. Мне кажется, у него даже шарф тот же был, что в фильме. Но свет погасили, и я забыл о нем думать.
Они молчали. Ехали по ночной Москве. Москва напоминала пустыню. Казалось, что жители ее покинули. Казалось, что в домах живут пришельцы. Кочевники. И даже не живут, остановились на время, передохнут, и пойдут дальше, и оставят разгромленный город. И одичавшие псы будут грызть его старые кости.
Чувство это не оставляло директора. И он вспоминал фильмы «Оттепели», тот солнечный мир, о котором хотел знать далекий японский друг. Конечно, и та реальность была не такой ясной. Но хотя бы фильмы.
Они проехали мимо заброшенного парка и встали. Дорога была перерыта.
– Трубы, что ли, взялись менять посреди зимы, – сказал директор. – Ничего, здесь рядом, дойду.
– Я вас провожу, – предложил водитель.
– Ну, вот еще. Думаете, мне в первый раз? Я часто сижу допоздна. Все уходят, я работаю и забываю время. Или оно обо мне забывает. Тоже вариант. Так что иду пешком.
– Далеко.
– За час добираюсь. Нормально.
– Не боитесь?
– Боюсь. Но что делать. Иду и пою песни. А вы? Не боитесь подвозить незнакомцев?
– У меня нож в кармане.
И водитель вынул из кармана нож и показал директору, как выскакивает из рукоятки узкое лезвие.
– Отличный, – сказал директор. – Мне бы в детстве такой.
– В детстве я себе сам такой сделал. У меня брат на заводе работал. Научил. Но, конечно, и нож не поможет. Вот как сегодня эту женщину. Просто сзади, ребром ладони. И что там в кармане – нож, пистолет, уже не важно.
– А что это было? Какой-то особый прием?
– Рубящий удар по шее сбоку. Перекрывается сонная артерия. Человек теряет сознание.
– То есть убивать ее не хотели?
– Этого я не знаю. Могли не рассчитать. А могли наоборот.
На этом они попрощались, и директор вышел под мокрый снег. Водитель подождал, пока он перейдет по шатким мосткам канаву, посветил ему фарами, затем дал задний ход, выехал на пустынную дорогу, развернулся и на большой скорости помчался к себе, в Сокольники. Человек с обочины махнул рукой, но водитель не остановился. Не было у него настроения сажать в машину чужого, с чужим запахом, человека, слушать чужой голос, смотреть в чужие глаза, прикидывать, не набросит ли этот чужой тебе на шею удавку. Не остановился и ничего в этот день не заработал.
Никаких домофонов тогда не существовало. Кто угодно мог войти в подъезд, хлопнуть дверью, сесть на подоконнике, закурить, вынуть почту из любого ящика. Это было время, когда газеты перестали выписывать. Их просто не читали. Интернета еще не существовало в той нашей действительности. И казалось, что ничего уже не будет. Что мир катится прямиком к концу.
Мир катится к концу, думал директор, открывая ключом дверь, а есть все равно хочется, хотя бы хлеб с маслом.
Но даже хлеба дома не оказалось. Хотя с утра, когда он уходил на работу, был хлеб, полбуханки черного, ему продавщица знакомая придержала. И масло оставалось в масленке, и пара яиц. Ничего. Все съела подчистую дочка, а сама исчезла. Где проводит ночь? с кем? когда вернется? В прихожей еще пахло духами, которые он привез ей из Парижа в маленьком, с мизинец, граненом флаконе. Она называла этот флакон «мальчик-с-пальчик».
Он сел в кресло в большой комнате, посмотрел на книжные корешки, вытянул одну книжку из тесного ряда наугад. Наугад открыл. Сидел, не зажигая в комнате света, буквы различал от уличного фонаря.
«Мы редко говорили с Володей с глазу на глаз и о чем-нибудь серьезном, так что, когда это случалось, мы испытывали какую-то взаимную неловкость, и в глазах у нас начинали прыгать мальчики, как говорил Володя…»
У него тоже был друг Володя. Его Володя редактировал книги. По искусству и философские. Иногда они гуляли вместе по тому самому парку, мимо которого сегодня вез его водитель. Гуляли по узким асфальтовым дорожкам, шуршали осенними листьями, в последний раз именно шорох осенних листьев сопровождал их. Разговаривали о далеком каком-нибудь прошлом, о Средних веках, к примеру, и казалось, что гуляют они где-то в райском саду. Бывает в райском саду осень? Голые мокрые ветки? Ветер? Холодная дрожь?
Он закрыл книгу, откинулся на мягкую спинку и начал задремывать, хотел встать, пойти в ванную, почистить зубы, но сон уже не отпускал. Он услышал, как книга упала на ковер, но не проснулся. Звонок его разбудил. За окном брезжил свет. Часы показывали начало девятого.
– Кому ж это делать нечего в такую рань? – спросил директор.
Телефон у него стоял на полу, под заваленным книгами журнальным столиком. Так что директор лег на пол, на старый, вытертый ковер, и взял черную трубку. Кстати подобрал валявшуюся под столом монету.
– Разбудил? – спросил голос из трубки.
– Нет.
– Я помню, что ты рано встаешь.
Директор смотрел в потолок, на хрустальные висюльки старой люстры. Разглядывал и подбрасывал монету. Монета беззвучно падала на ковер. Орел. Решка. Орел. Орел. Упала ему на грудь. Орел.
– Слышал, у вас вчера женщину убили. На моем фильме. Почему – не знаешь? А кто убийца, так и не выяснили? Да-а-а, навряд ли теперь и найдут. А что, народу много было? Полный зал? Это хорошо, все-таки давний фильм. Я думал, ты позвонишь, что поставил его в программу. Ну да, я понимаю. Ладно, если будут новости, дай знать.
– Погоди, Миша. Ты фильм-то свой помнишь? Не шучу. Там у тебя в конце третьей части мелькает человек, не актер, на остановке человек, высокий, бритый, в синем шарфе. Лицо скорбное. Секунду. Полсекунды. Ничего. Просто интересно. Он совсем случайно в кадр попал? Ну да, как жук в смолу, навечно. Как Алена поживает? Привет ей.
Принял холодный душ, сварил в турке французский кофе, выпил, стоя у окна. Через двор шла женщина, тащила за руку сонного ребенка, в детский сад, наверное. И невольно подумалось о стране, в которой довелось родиться этому ребенку, и о том, что с ним и с этой страной будет дальше, и о ребенке, которым беременна его дочь. И земля внизу казалась холодной, пустынной и горестной.
Звонить не пришлось, вахтер уже успел отворить дверь. Директор вошел с холодной улицы в затхлый, но теплый крохотный вестибюль. В гардеробе висела с прошлой зимы забытая кем-то варежка. На низеньком черном барьере, отделявшем гардероб, лежал раскрытый на вчерашнем дне журнал. Директор посмотрел, кто во сколько вчера пришел и ушел, стряхнул со страницы сухарные крошки и перевернул лист. Открылся новый, чистый пока, день. Директор поставил число и время и расписался своей твердой, разборчивой подписью. Напротив гардероба, в комнатке с открытой нараспашку дверью, висели на щитке ключи. Директор снял свой ключ, снял кабинет с сигнализации. Заметил на столе книжку в газетной обертке. Открыл книжку наугад и прочел:
«Этот образ Мессии есть еще один шаг ветхозаветного сознания к тайне Богочеловечества».
Те же сухарные крошки на странице. Вахтер бесконечно пил чай с черными сухарями. Наверное, эти крошки были у него повсюду: в карманах, в постели. В ботинках.
Тьма книжечек издавалась тогда на тонкой, временной, норовящей уже в пальцах истлеть газетной бумаге. Тьма книжечек о пророках, о божественном, о чудесах, об инопланетном разуме, о непознанном и непознаваемом. Иллюзорная материя поддерживала людей, давала точку опоры. Мир рушился, но было за что ухватиться. Впрочем, вахтер объяснил когда-то директору, что ухватиться можно только за небо. Выйти на волю, посмотреть в небо, вглядеться и удержать равновесие. Только так. В тот же день директор попробовал. Голова закружилась, но в общем и целом он почувствовал себя лучше.
Где он был сейчас, специалист по небу? Может, стоял во дворе, искал равновесия? Или где-нибудь медитировал в темном закутке.
Директор побарабанил пальцами по черному барьеру, никто не отозвался. И направился к лестнице.
Кабинет его был на втором этаже. Перед дверью стояли два старых стула, между ними – тумба с жестянкой из-под индийского растворимого кофе – для окурков и пепла. Мертвым светом светила люминесцентная лампа под потолком. На стуле сидел мужчина. В сером пальто, с портфелем на коленях. Он был похож на бухгалтера из советского фильма. От неожиданности директор замер. Бухгалтер посмотрел на него. Лицо белело в мертвящем свете. Вдруг бухгалтер улыбнулся, и директор мгновенно узнал в нем своего школьного приятеля Ваню Полынина. «Горькая у тебя фамилия», – сказала ему как-то учительница, и Ваню с тех пор стали звать Горьким, как великого пролетарского писателя.
– Близкие и сейчас так зовут, – сказал Ваня. – Жду недавно, минут десять. Дверь в кинотеатр была отворена, вахтера не видел, поднялся, сел на стул и стал ждать. Была, конечно, вероятность, что ты совсем не придешь, но я рискнул. Телефон у меня твой есть, но я звонить не хотел, хотел так, лично, у меня коньяк, ты как, с утра нет? Правильно, потом выпьешь, не сам, так гостей порадуешь, у тебя тут и послы бывают, говорят. А кофе? В буфете варят? О, я тебе принесу в другой раз кофеварку, у меня лишняя, случайно образовалась. А что же ты пьешь здесь по утрам? Это из-под него банка там? Нет, это не кофе, брат, это отрава, давай чаю, у меня конфеты, ты ешь конфеты? Я помню, что ты любил в детстве. Я ничего живу, нормально. Бухгалтер? Насмешил. Нет, можно и так сказать. Почти что так и есть. Бухгалтер. Это почему так? Портфель и пальто? А ты посмотри на пальто, посмотри внимательно, потрогай, это драп такой, как шелк. Портфель посмотри, какая кожа. Да это там освещение такое, что лицо белое, таких ламп нигде уже нет в мире, поверь мне, хотя что это я, ты и сам поездил, весь белый свет видел, ты же величина, ну, понятно, что в своей области, все мы – в своей области. Я? Не пустое место, так скажем, уже хорошо, я доволен. Ага, кипит чайник, давай-давай, хочется горячего.
Когда он смеялся, директор узнавал в нем прежнего Ваню, а когда не смеялся, уже не узнавал.
– Как ты вообще? Нормально? Развелся? Я слышал. А дочка? Ну да, трудный возраст, все охота попробовать, мы сами-то, вспомни, вспомни, как водку пили, впервые в жизни, постановили выпить, помнишь? Бутылку купили, ханыга нам взял, мы ему сверху рубль дали, о-хо-хо, как мне было нехорошо, как меня выворачивало, ты меня до дому дотащил. Вот ведь, Костя, не сказать что мы дружили, а водку – с тобой первым.
Константин Алексеевич помнил Ванин дом с тенями в углах, бабку, которая не волновалась о внуке, пила чай с баранками и слушала радио. Отворила им тогда дверь, спросила, чего такие бледные оба. «Ничего, – просипел Ваня, – отравились». Она предложила им чаю, но они ушли к Ване Горькому в комнату. И там сидели, опустошенные. И слышали, как бабка ходит по скрипучему полу. На столе у Вани была фотография женщины в черных очках. Он сказал: мать.
– Твоя, родная? А других нет фотографий?
– Есть.
Поразило, что выбрал эту, в черных очках.
Мать Вани погибла в аварии, еще и год не миновал.
Ваня лежал на коротеньком диване с потертой зеленой обивкой, а Костя расположился в кресле. Сидел в чужом доме, смотрел на фотографию и думал, что женщина на ней как слепая.
Давно уже прошло опьянение, и дома наверняка волновались, но уходить не хотелось, хотелось сидеть и молчать. Ваня вдруг сказал, что у матери было свойство, которое ни в ком другом он не наблюдал: она добивалась от людей живого отклика, умела добраться до живого в любом, даже каменном.
Отклик, сочувствие. Как это еще назвать?
– Она меня часто до слез доводила, – признался Ваня.
– Как доводила?
– Ну я, например, принесу замечание в дневнике, что безобразно вел себя на уроке физики; а она мне объясняет, как эта физичка наша, Галина Петровна, как она возвращается домой, а дома никого, только кошка, и как эта Галина Петровна одна, маленькая, некрасивая, лысина светится на макушке, как ей горестно, как она не виновата, что такая, что голос слабый. Так распишет ее одиночество, что я плачу. И она плачет, и я. Не мог потом на Галину эту Петровну смотреть, сидел на уроках, молчал, глаз не поднимал. Часто я так плакал. А после матери, как умерла, ни разу еще не плакал.
Бабка им крикнула из-за стены, что ложится спать, и он оставил Ваню и отправился домой по ночной глухой улице.
Его мать тогда мгновенно догадалась, что он пил, и он обещал, что больше не будет, пока школу не закончит, ни капли.
Долгое время ему казалось неловко, что узнал о Ване сокровенное. Казалось, это мешало подружиться, сблизиться. Он и так нечаянно очутился слишком близко.
– Я живу неплохо, – говорил взрослый Ваня. Ваня, о котором теперь мало кто помнил, что он Горький. – Семья: жена, художник по костюмам, детки, двое, помладше твоей, я поздно собрался. Квартира хорошая, на Юго-Западе. Бабка давно померла. В институте отучился. «Базы данных» называлась специальность, потом юридический, так и работаю юристом. Нет, не адвокат, именно юрист, знаю законы, даю консультации. У тебя нет юриста? Плохо. Я бы пошел, но ты ведь зарплату мизерную дашь. А почему у тебя доходов нет? Может, ты неправильное кино крутишь? Может, вместо кино что-то другое надо? Вот был кинотеатр «Октябрь», а сейчас там автосалон, знаешь? Не нужно это людям сейчас, не время.
Он осмотрел внимательно кабинет, в котором они сидели вдвоем за черным чаем. Утренний зимний свет.
– А почему у тебя так холодно?
– Я вчера фрамугу забыл закрыть.
– Сейчас закрыта.
– Значит, вахтер с утра заходил прибрать и закрыл. Воздух не успел прогреться.
– Вахтер еще и убирает? Слабо старается, пыль в углах.
Директор сощурил близорукие глаза:
– Да, пожалуй. Скажу ему.
– Вольготно ему при тебе, что хочет, то и делает, хочет – на месте сидит, хочет – уйдет, а дверь открыта, заходи, прохожий, грейся. Это хорошо, если мирный человек зайдет, вроде меня, а если убийца? Я слыхал, у тебя вчера женщину убили? Молодая?
– В институте преподавала. Экономику. В концерты ходила часто. На выставки. Культурная жизнь. Наших с тобой лет. Средних.
– Ну, мы еще молодые.
– Это как сказать.
– По самочувствию.
– Я себя на сто три сейчас чувствую. Стариком дряхлым.
– Помирать, что ли, собрался? – усмехнулся Ваня. – А завещание составил?
– Не думал.
– Напрасно. Дело важное.
– У меня дочь. Больше делить наследство некому.
– Не скажи. Сегодня дочь, а завтра и внук и зять.
– Да и нечего делить. Ну, квартира, конечно. Но это уж как хотят.
– Квартира, положим, тоже не пустяк. А с этим как быть? – И Ваня обвел рукой вокруг себя.
Директор смотрел недоуменно.
– Это ведь твоя собственность? Кинотеатр этот, историческое здание, памятник конструктивизма. Что ты так удивляешься? Откуда я знаю? Работа такая – знать. И не хотел бы, а приходится.
– Зачем?
– Дело заключается в том, Костя, что с прежним хозяином мы вели долгие и тщательные переговоры насчет этого здания, и достигли уже некоторого соглашения, и уже готовили бумаги на подпись, как вдруг явилась эта дама с косой, а ей наши договоренности смешны. И вдруг оказалось, что покойный тебе завещал эту свою собственность.
– Для меня это было полной неожиданностью.
– Я знаю.
– Нет, правда. Абсолютно. Мне это не надо. Я работал спокойно директором, художественным руководителем, на самом деле и не вникал во все эти тонкости: налоги, пожарная инспекция. Я в этом не смыслю.
– То есть, если я правильно понимаю, тебе нет резона за это здание держаться?
– Меня прежнее положение вполне устраивало.
– Нет проблем, Костя. У меня в этом красивом портфеле – бумаги. Я тебе их оставляю, ты прочитываешь внимательно, консультируешься, подписываешь, и здание переходит в надежные руки.
– А я?
– Ты получаешь достойное вознаграждение. Дочке поможешь свою квартиру приобрести, это важно для семейной жизни, сам знаешь.
– А здесь что будет?
– Гостиница.
– В этом здании?
– Не совсем.
– Это здание – памятник архитектуры, уникальный экземпляр. Как редкая бабочка, его впору в Красную книгу занести.
– Никто его сносить не собирается, начинку переделаем.
– Начинка важна. Здание строилось как кинотеатр.
– Оно разваливается. На него смотреть больно. Это как нищий старик на дороге. Всеми брошенный. Ему недолго осталось.
– Нет.
Ваня помолчал, внимательно разглядывая директора, его седеющую голову, помятый воротник рубашки, порез на щеке.
– Костя, ты с ума сошел? Зачем тебе это надо?
– Не знаю.
– Что ты собираешься делать с этой, хотел сказать, рухлядью, но пусть будет бабочка. С этой бабочкой?
– Что и прежде – кино показывать.
– Какое кино? О чем ты?
– Людям надо отвлечься.
– Люди прекрасно пивом отвлекаются. Плюс телевизор.
Директор молчал. Он вынул и вертел в руках сигарету, но не закуривал.
– В стране разруха, – сказал Ваня, – по ночам фонари не горят. Жрать нечего. Стреляют. У вас женщину убили.
– Между прочим, был полный зал.
– Что?
– Ни одного свободного места. Фонари не горят, жрать нечего, стреляют, телевизор хоть не включай – такое дерьмо, где еще человеку отвлечься?
– Я, кажется, понял, – сказал Ваня. – Ты решил, что ты – важная птица. Поставщик чудесных видений. Ты же знаешь, что показать, ты киновед, ты мировая величина, ты исследования пишешь про крупный план.
– Я ничего не писал про крупный план.
– Да какая разница? Про средний. Про эффект Кулешова. Я в библиотеку зашел, поинтересовался.
– Подготовился.
– Я такой. Ты прогоришь, Костя. Твой покойный хозяин – он, конечно, любил кино, но у него и другое дело было, серьезное, за счет которого он ваш кинотеатрик и подкармливал. Знаешь, что за дело?
– Нет.
– Хочешь, открою?
– Мне без разницы.
– Как скажешь. Ты ведь не дурак, Костя, ты же понимаешь, что иллюзион твой личный рухнет, полгода не проживет, если только спонсора не найдешь, но что-то я сомневаюсь.
– Полгода так полгода. А может, год. В Союз напишу обращение. В Союз кинематографистов.
– Я понял.
– За рубежом, как ты верно заметил, ко мне с большим уважением относятся. Передам здание Союзу. Или Москве. На условии, что будет по-прежнему кинотеатр и я в нем – директор.
– Не выйдет.
– Чего так-то?
– Мы об этом в состоянии позаботиться.
– Мы?
– Наша строительная компания. А ты думал кто? Мафия? Меньше кино смотри.
– Угрожаешь?
– Уговариваю.
– Ты чай будешь допивать?
– Нет. Паршивый у тебя чай.
Ваня взял портфель, действительно прекрасный, из толстой кожи, с золотыми замочками, которыми Ваня щелкнул.
– Документы я тебе все-таки оставлю.
Вынул папку и положил на стол, на край, подальше от кружки и сладких, липких разводов.
– Не хочу тебя пугать. Просто советую. Подпиши. Серьезные люди просят. Советую очень. Настоятельно рекомендую.
– Послушай, Ваня, – сказал задумчиво директор, – можно, я тебя спрошу? Ты не против? Ты больше ни разу не плакал с тех пор, как мать умерла?
Ваня посмотрел на директора долгим взглядом:
– Нет.
– Почему? Ничего в жизни такого не случалось? Даже щенок твой не помирал?
– Я не держу щенка. И не держал.
– Но дети-то у тебя есть.
– С ними все в порядке, спасибо.
– А фотография? Помнишь, мать твоя без глаз, черные очки вместо?
– Храню.
– По-прежнему? На столе держишь?
– Чего ты добиваешься, Костя? Чтоб я заплакал? Мать хочешь мою повторить? Она неповторима. Недосягаема. И ты меня до слез не доведешь и до живого меня не достанешь. Бумаги изучи, посоветуйся с умными людьми, хоть бы и из Союза вашего. Подумай, я перезвоню через неделю. Будь здоров.
И Ваня поднялся и направился к выходу.
В кино или в книгах реальность подчинена истории (той, которую рассказывают). И телефон, к примеру, звонит только тогда, когда нужно прервать разговор или повернуть сюжет. И в дверь никто не ломится, позволяя героям выговориться. История диктует. Но в реальности невыдуманной звонки и случайные взгляды диктуют историю. И даже Историю. Стук в дверь, обрывки новостей в телевизионной программе, колдобина, о которую спотыкаешься, ступенька, с которой летишь. Разумеется, вниз.
Телефон молчал все время разговора директора с Ваней. И некоторое время после Ваниного ухода. Словно бы давал возможность директору побыть одному. Постоять у окна, покурить у открытой вновь фрамуги.
Он уже собирался выйти из кабинета, ополоснуть чашки. Уже взялся за Ванину чашку, полную наполовину. И ему вдруг показалось, что Ваня смотрит на него из чашки, из черного подвижного зрачка. Зазвонил телефон, и директор чашки оставил.
– Костя? Здравствуйте. Это я, Андрей.
– Здравствуйте, Андрей.
– Вы меня узнали?
– Да, конечно. Что-то случилось? У вас голос растерянный.
– Вы извините, я не могу долго говорить, у меня нет возможности, я из телефона-автомата, пришлось идти на станцию, возле дома не работает, сорвали трубку, а здесь очередь. У вас какая погода?
– У нас? Снег.
– И у нас. Наверно, сейчас везде снег, даже в Африке. Я прошу прощения, Костя, я слышал, у вас человека вчера убили?
– Слышали?
– Это правда?
– Да. Я поражаюсь, как новости разлетаются. У вас и телефона нет.
– Ко мне студенты приезжали.
– А-а.
– Талантливые ребята, жалко их, я всегда талантливых жалею, а в наше время и совсем. Что с ними будет? Во что их жизнь превратит?
– Да, я понял, студенты вам рассказали.
У режиссера была способность отклоняться от темы, отвлекаться и забывать даже причину и цель затеянного самим же разговора. Директор направлял по возможности его речь.
– Что? – растерянно переспросил Андрей. – Что рассказали?
– Про убийство.
– Да-да, ребята сказали. Они как раз были на сеансе. Не все. Двое из них. Их всего пятеро приезжали, Аня их картошкой кормила. У нас своя.
– Я помню.
– Да, вы тоже у нас были, бывали. Аня вас любит.
– Передавайте ей привет.
– Непременно.
– В дверь барабанят, я задерживаю, всего доброго, Костя.
– Секунду, Андрей. Так что насчет убийства?
– Ах да. Конечно. Самое главное. Простите. Я очень испугался. Понимаете, Костя, я не могу допустить, даже помыслить, чтобы мой фильм увидел свет в таком месте. Премьера. Это важно. Это рождение. Где убили, где кровь.
– Крови не было.
– Но смерть, насильственная.
– Андрей?
– Да?
– Я вас понимаю.
– Правда? Это большое облегчение.
– Подождите, Андрей, не спешите. Попытайтесь и меня понять. Ваша премьера заявлена месяц назад. Ваши же студенты афиши клеили. Во ВГИКе, на Курсах.
– Они даже на вокзале лепили, где отмены электричек, чудаки.
– Отмены. Вот именно. Все билеты проданы, Андрей. И меня и кассиршу звонками замучили. Что я скажу публике? Вы меня без ножа режете, а еще что-то говорите об убийстве. Вы меня убиваете. Бескровно.
– Костя?
– Да?
– Простите.
– Не смогу я вас простить.
– Я вам компенсирую потери. Сразу не смогу, частями выплачу, у меня договор будет, вот-вот, и сразу аванс, я выплачу. Не молчите. Костя?
– Я думаю. Думаю, что таких странных людей, как вы да я, скоро уже не будет, мы вымираем.
– Мне стучат с улицы.
– Я слышу.
– Костя, простите меня.
– Нет.
– Я компенсирую.
– А моральное мое поражение тоже компенсируете? Люди-то явятся. Не хотите приехать объясниться перед ними самолично? А?
– Костя, я не смогу. Я и так-то людей боюсь, а еще объясняться.
– Не сомневаюсь, за моей спиной куда как спокойнее.
– Костя, я так не могу, в таком разладе, невозможно, и фильм невозможно, это как собственного ребенка своими руками вытолкнуть. Это же не просто показ – премьера, рождение, как можно. Костя, вы там? Мне стучат.
– Я понял. Идите.
– Простите меня.
– Не сейчас.
Он положил трубку, мокрую от потной ладони.
Почти тут же телефон зазвонил вновь. Но директор брать трубку не спешил. Смотрел на нее устало, хмурился. Вдруг схватил и бросил на рычаг. Достал сигарету, глядя на онемевший аппарат. Сигареты у него были хорошие, из самой Америки друг привез, друг старинный из прекрасного прошлого, давно подался в американцы, поменял судьбу. По крайней мере, с сигаретами у него там проблем не было, не как здесь, не по талонам выдавали. Директор по старой привычке разминал американскую сигарету, киношный разведчик погорел когда-то из-за этой привычки.
Телефон затрезвонил. Директор закурил.
Смотрел на трубку.
Перевел взгляд на грязные чашки. И вновь ему почудилось, что из недопитой чашки, из черного подвижного зрачка, смотрит Ваня.
Телефон не умолкал. Директор поднял трубку:
– Да?
Молчание.
– Вас не слышно. Дочка, это ты? – спросил он голосом, которым никогда больше ни с кем не говорил, мягким и беззащитным.
– Простите, – ответил чужой голос.
И связь прервалась.
Директор послушал короткие гудки и положил трубку. Докурил и отправился мыть чашки. Унесло Ваню в сток вместе с простывшим чаем.
Вымыл чашки. Вымыл пепельницу. Затолкал в урну ненужные бумаги. Папка зеленела на краю стола, цвет был тревожный, сумеречный. Директор схватил тряпку, протер стол, папку зеленую сдвинул. Посмотрел на нее, взял и спрятал в сейф. Выскочил из кабинета, захлопнул дверь и быстро, почти бегом, направился к лестнице.
Вахтер сидел на своем месте за низеньким черным барьером, ограждающим крохотный гардероб. Сидел неподвижно, с закрытыми глазами. На черной лаковой доске барьера лежал прямо перед ним раскрытый на сегодняшнем дне журнал с единственной пока записью, которую оставил директор.
Он подошел к вахтеру, посмотрел на него несколько тяжелых секунд. Вахтер был все так же неподвижен, скудный свет стекал по желтому лицу. Директор постучал о черную доску. Вахтер не сразу отворил глаза.
– Владимир Николаевич, отчего вас не было на месте сегодня утром? Дверь открыта, вас нет, комната с ключами нараспашку. Я вошел, расписался, взял ключ, а мог и бомбу подложить. Поднялся к себе и застал человека у дверей. Вы видели, как он проходил? Конечно нет. Вас и на месте не было. А если бы и были. Кого можно заметить с закрытыми глазами? Для чего вы здесь, Владимир Николаевич? Бога ради, просветите меня, за что вам платят зарплату? И не одну. Три!
На этом месте голос директора утончился, полез вверх.
– Вы у нас один в трех лицах значитесь: и гардеробщик, и уборщик, и вахтер. Но я вижу только одного, только гардеробщика. Нет, я понимаю, что у нас оклады мизерные, но нельзя же так наплевательски к своим обязанностям, так нагло пренебрегать!
Совершенно спокойно, широко отворенными глазами смотрел вахтер на взбесившегося директора. Никогда прежде не слышал он, чтобы директор повышал голос, выходил из себя. А случаи бывали критические. И коробки с фильмами исчезали порой перед самым показом. И пленку гробил пьяный киномеханик, и картинку давал нечеткую и без звука, когда все французское посольство сидело в зале, и дрались в буфете случайные, не из их публики, люди. Но никогда директор не терял лица. Всегда находил нужные слова, знал, к кому обратиться, куда позвонить, как перевести в шутку, успокоить, занять разговором, переключить внимание. Даже вчера он остался спокоен, когда вбежала к нему в кабинет билетерша с криком: «Мертвая сидит!»
– Я сейчас зашел в туалет, – продолжал тем временем пронзительным, неслыханным голосом директор, – зеркало мутное, из унитаза вонища, пол грязный, липкий, паркет замызганный, в фойе в углах пыль, буфетчица сама полы моет, она моет, а вы зарплату получаете! Не совестно? Книжки читаете про божественное, как жить, учите. Позвольте и мне вас поучить единожды: выполняйте свои обязанности или не берите их на себя. Наведите в кинотеатре порядок, немедленно, сию же секунду. Что вы сидите? Идите. Люди и без вас тут распишутся, и ключи сами возьмут, не в первый раз; говорили мне, возьми пенсионерку из ближнего дома, с радостью согласится и убирать будет на совесть.
Ни слова не говоря, вахтер поднялся.
До обеда писал статью для «Кайe дю Синема» о роли пассивного наблюдателя в американском кино тридцатых – сороковых годов. От сигарет першило в горле и слезились глаза, не облегчала открытая фрамуга, и шорох снега стал усыплять. От чая уже подташнивало. Так что он бросил ручку и погасил настольную лампу. И с наслаждением посидел в полумраке. Вышел из кабинета и не узнал даже воздух. Пахло чистотой. Полы влажно поблескивали. Он шел тихо, паркет отзывался стоном, почти блаженным. Черно-белые лица смотрели со стен. На лестничной площадке сиял кафель, и урна светилась отмытым боком. И даже оконце протер вахтер. Оно глядело во двор. Директор остановился у окна. Косо летел снег.
В буфете горел уже свет. Отмытое стекло витрины казалось невидимым.
– Чай свежий, только что заварила, – сказала буфетчица. Смотрела она на директора неуверенно, с испугом даже. Вахтер, очевидно, наговорил.
– Спасибо, не хочу, уже напился, – отвечал директор вежливо. Как и всегда.
И добавил по-домашнему, как близкому человеку, он это умел – к любому человеку обратиться как к близкому:
– Прогуляюсь. А то голова болит от сигарет.
Вахтер сидел на месте. Прямо, неподвижно, с затворенными глазами. В раскрытом перед ним журнале прибавилась запись буфетчицы.
Директор выбрался во двор. Вынул сигарету, закурил и прошел по свежему снегу. Оглянулся на отпечатки своих подошв – ребристые, с тупыми носами.
Один из вопросов в письме японца: почему так часто звучит радио?
Звучит фоном, за кадром. Передают сигналы точного времени. Обрывки мелодий. Новости бодрыми дикторскими голосами.
Все тогда слушали радио, в каждом доме оно звучало чуть ли не круглосуточно. Структурировало жизнь. Говорило с добрым утром и предупреждало об осадках, о полете в космос и о точном времени. Не фон – воздух. Дудочка крысолова?
Но время ушло, и скоро дети, как японец, будут спрашивать: зачем тут радио? И некому будет им ответить.
Время это ушло давно, уже в семидесятые ходили молодые люди с кассетниками, включенными на всю громкость. Навязывали другим людям свою музыку. Свою душу? Но ушло и это время. Люди надели наушники. Отгородились. Своя музыка, свой ритм, свой мир. И у каждого он движется в свою сторону.
Вот так он шел за молодым человеком в наушниках и понимал, что идут они в одном направлении, одной и той же улицей, но совпадение это мнимое. Фильм «Брат» еще не был снят.
Поймет ли японец? Даже простыми предложениями. А может, только простыми предложениями и можно объяснить.
Следом за молодым человеком оказался в магазине, посмотрел недоуменно на сиротские витрины, в которых не было ни сыра, ни масла, ни колбасы. Но вкусно пахло свежим хлебом. Взял только что привезенный нарезной батон. И с теплым хлебом вышел под снег.
Следы его уже занесло.
Быстро, подумал.
Стоял и смотрел на заснеженный глухой двор.
Он понимал ясно: ничего этого скоро уже не будет, он подпишет бумаги в зеленой папке, и кинотеатр исчезнет. Конечно, он подпишет. Страшно не подписать. Страшно получить пулю, еще страшнее услышать по телефону: ваша дочь, приезжайте на опознание. Он – не герой. Ни к чему это. Малая толика людей приходит сюда, запирается в темном зале, забывает о мире за его стенами, забывает о себе, пугается, радуется и плачет, и все это по-настоящему, и все это понарошку; но ничего этого уже не будет, следующей зимой, быть может, тот же снег, а в здании этом – не важно, что-нибудь, но за окнами – снег, и следов его на снегу уже не будет, а сам он уже в Америке, в это самое время, на другой стороне Земли, антиподом, в каком-нибудь солидном университете, с его английским и репутацией это просто, будет обеденный перерыв, ровно через год, он пойдет в кафе, он возьмет кофе. Ясно представил чашку, в которой подают ему кофе, белая чашка, но почему-то совершенно по-московски отбит край. Он так ясно это видел, что даже зажмурился.
Побрел ко входу в кинотеатр, на следы уже не оглядывался. Вошел в фойе, отряхнулся от снега. Батон был еще теплым.
Домой он в этот день возвращался поздно, как обычно. Лифт не работал, и он долго поднимался по каменным ступеням. Отдыхал на площадках, давал себе слово бросить наконец курить.
Отворил дверь тихо, осторожно, очень надеясь, что дочка дома, спит и видит сон, который он ни в коем случае не потревожит. Но дома не было никого. И все-таки он ходил тихо и даже не включил в комнате верхний свет, только торшер, словно пытался себя обмануть. Он принес купленный днем хлеб. Отрезал пару ломтей. Горбушку посыпал сахаром, поставил на огонь чайник. Вспомнил, что сразу после войны им в школьном буфете выносили к чаю поднос с хлебом, посыпанным сахаром. Пирожные детства.
Он ел это пирожное, пил крепкий чай, мял в пальцах американскую сигарету. И думал, что дело не в трусости.
Затрезвонил телефон. Он схватил трубку. Миша.
– Здравствуй, Костя. Ты никогда не вел дневников? Я считаю это дело безнадежным, но веду, привычка. Подробнейшие. У меня две сотни тетрадей, можешь представить? Иногда я перечитываю за какой-нибудь год, бывает интересно, книга моей жизни, которую я позабыл, бумага и чернила помнят лучше, французы правы. Но это все известно, это мы уже говорили с тобой, в прошлом хотя бы году. Если верить моему дневнику, хе. Я перечитал из-за убийства. Записи времен съемок. Дневник воскресил поразительный эпизод. Итак, пять лет назад я вышел из гостиницы в городе N. Натурные съемки были уже завершены, наутро поезд нас увозил в Москву, а ночью мы все стеснились у меня в номере, пели, ели, пили и разговаривали, и что-то я подустал от этих всех дел, и от пения, и от разговоров, и от пития, и вытащил себя из гостинцы, и объяла меня тишина. И даже говор из нашего окна не мог ее потревожить, так как окно выходило на другую сторону, а на этой стороне за окнами все, кажется, спали. И это я тебе читаю уже свой дневник. Я решил прогуляться по тихой ночной улице и отправился по ней, разглядывая неторопливо дома и палисадники, освещенные фонарями на деревянных столбах. Услышал шаги и обернулся на ходу. Вслед за мной по тротуару шел долговязый человек, я узнал его скорбное лицо, когда он вошел в круг света. Во время съемок он случайно попал в кадр, столь выразительную фигуру нельзя было не запомнить. Я шел и слышал его шаги за спиной. Я пошел тише, но и шаги за спиной замедлились. Я оглянулся. Он был метрах в десяти от меня. Я прибавил ходу, он не отставал. Я свернул на открывшуюся вдруг боковую тропинку. На ней шаги мои погасли. Тропинка оказалась тупиком, я уперся в глухую стену сарая. Оглянулся и никого не увидел. Мне послышались скрип и шорох, но может – из сада, вдоль него шла тропинка. Я вернулся по ней к освещенной улице. Моего преследователя на ней не было. Я постоял в одиночестве и вернулся в гостинцу. В Москве я рассказал эту историю Андрею. Он ее запомнил. Или забыл. Не важно. Факт тот, что он снял по ней целый фильм, и этот фильм его прославил.
– Андрей отказался давать у нас премьеру.
– У него должна была быть премьера?
– А ты не слышал?
– Ты же знаешь, я никуда не выхожу, и ко мне никто не ходит. Это к Андрею студенты ездят бесконечно. Его Аня их подкармливает, святая женщина.
– Я отправлял тебе приглашение.
– У нас из почтовых ящиков всё тащат.
– Я и звонил тебе.
– Не помню.
– Открой дневник.
– Издеваешься?
– Извини.
– Почему Андрей отказался?
– Уперся. Не хочет, чтобы его фильм рождался в зале, где убили.
– А убили как раз на моем фильме. Символично.
– Не знаю. Тебе виднее.
– Тебе пригодится моя история?
– Позвони следователю. Ему пригодится.
– Позвоню.
– Я тут подумал, что мне поставить вместо премьеры, чтобы публика не ушла, чтобы билеты не сдавали, и решил опять этот твой фильм дать. В кассе, конечно, повесим бумажку, что так и так, премьера отложена из-за убийства. Зачем скрывать? Можете посмотреть фильм, на котором убийство произошло. Что ты смеешься? Надо же мне как-то собрать зал.
– Думаешь, останутся?
– Понятия не имею. На этот твой фильм всегда публика идет. Любят.
– А когда бумажку повесишь?
– Да я уже повесил.
– А вдруг я скажу – нет?
– А вдруг не скажешь? Нет, правда, ты же не против?
– Удивительно, что его так смотрят. Не понимаю. Лично я его не люблю. Нелюбимое дитя. Мне он кажется уродом. Объясни мне как киновед.
– Бывает.
– Странно все же. Расскажешь потом, как прошло?
– Приезжай, Миша, сам, поговоришь со зрителями, на вопросы ответишь, может, поймешь, чего им там видится такое. Машину за тобой пришлю.
– Нет, Костя, мне дома спокойнее.
Директор хотел сказать, что их водитель большой почитатель этого фильма, но промолчал.
Так было тихо в доме, что он слышал шорох упавшей на стол крошки. Он подумал о времени, уже скором, если смотреть на календарь. В воображении это время казалось далеким. На календаре близко, а в воображении далеко, но, по правде сказать, оно уже наступило. Время, когда его в Москве не будет. Куда денутся тогда все эти люди? Буфетчица со своей одушевленной машиной по имени «Клава». Буфетчица умеет разговаривать и громко, и тихо, подстроиться под собеседника. Она не пропадет, найдет себе место. Она ведь и сейчас где-то еще подрабатывает. Как и все они. Будут вспоминать их смешной кинотеатр. Тихий угол, темный зал, странных, погруженных в сон зрителей, умные разговоры в прокуренном буфете. Разговоры ни о чем и ни с чем вприкуску. Водитель будет бомбить, сам себе хозяин, проедет случайно по их маленькой улице, увидит на месте их развалюхи… Что? Что там будет стоять? Невозможно вообразить. Билетерше судьба сидеть с внуком. Решать математику по старому учебнику. Задачки из старой жизни. С трамваями в другие города. Там молодые люди угощают кондукторш яблоками. Кондукторша надкусывает яблоко, молодой человек читает ей стихи про любовь, окна плачут. Сколько осталось до конечной?
Что будет делать он, представлял ясно.
Не хочу, не хочу в Америку! Хочу здесь. Пусть так.
Пусть так. Пусть фильмы по вечерам, пусть этот странный человек на вахте. Аномалия. Отдохновение. Полтора часа волшебства.
Он дернул рукой, опрокинул свой чай, выругался.
* * *
В день отмененной премьеры очистилось небо, ясным морозным светом дышал воздух. Директор распахнул створку окна, надел шапку, замотался шарфом. К вечеру он закончил статью о наблюдателе, другой вариант. Осознал, что замерз. Подошел к окну, посмотрел на тихий, совершенно уже ночной по виду двор. На остро мерцающий снег. Посмотрел на часы. Шли. Сообщали, что через десять минут начнется сеанс. Он решил спуститься в буфет, посмотреть, сколько пришло людей, взять кофе, посидеть, прислушаться к разговорам – он это любил. Пока кто-нибудь не узнает, не окликнет. И они с этим кем-то засидятся, люди уйдут на фильм, а они всё будут сидеть, чертить в синем горьком воздухе огненные круги.
Народ был. Даже очередь скопилась в буфет. Он встал в хвост – без очереди и в голову не приходило. Успокаивающе гудели голоса. Нащупал в кармане пачку сигарет, поглядел рассеянно на людей за столиками и увидел скорбное лицо.
Человек из фильма. Ошибиться невозможно. Не то чтобы он совершенно не изменился за эти пять лет, но – нельзя не узнать. Выражение лица. Прав был водитель. И точно, все тот же синий шарф. Несомненно. Старый, вытертый.
Мужчина сидел за столиком у стены, прямо под плакатом из немого фильма начала века. «Жизнь коротка – искусство вечно» – гласил плакат. Сидел, пил кофе из маленькой белой чашки. Директор оставил очередь и направился к столику под плакатом:
– Позволите?
Встретил удивленный взгляд. Приподнял стул за спинку, отодвинул. Сел. Вынул и положил на стол белую, с красными иностранными буквами пачку сигарет.
– Я – директор этого заведения.
Мужчина подумал и протянул костлявую руку над столом:
– Игорь.
Директор пожал руку, улыбнулся:
– Константин Алексеевич. А вы, Игорь, кино пришли посмотреть? Премьеру? Режиссер отменил. Сказал, не хочет в том зале, где убийство.
Мужчина смотрел недоуменно.
– Вы не слыхали? В самом деле? Я думал, вся Москва знает. Пришлось другой фильм ставить. Вы не очень разочарованы?
– Я? Да нет. Я, в общем-то… Я и хотел на этот. Я не знал, что другой должен был. Я на этот и шел.
– Вы, наверное, живете недалеко?
– Да нет. У меня здесь сестра недалеко. Она сказала. Объявление видела. Мимо шла к метро и видела. Афиша.
– А вы разве не смотрели уже этот фильм?
– Смотрел.
– И я смотрел. И даже за монтажным столом. На днях сподобился. Знаете, что такое монтажный стол? Он такой железный, на нем можно пленку вручную перематывать с бобины на бобину. Останавливать и кадр разглядывать на просвет.
– Зачем?
– Для монтажа. Резать, клеить. Или изучать, если киновед. Я – киновед.
– Ясно.
– И директор здешний.
– Я понял.
Долговязому со скорбным, трагическим даже лицом неуютно сиделось за столиком под упорным директорским взглядом.
– Что у вас с лицом?
– В смысле?
– Будто у вас желудок болит.
– Не болит.
– Или жизнь рухнула.
– Нормально все. Лицо такое. Я не виноват, мне все говорят: что у тебя с лицом? Ничего.
Отвечал он хмуро, раздраженно.
– Да нет, вы извините, это я глупость ляпнул, я не про это хотел, я хотел сказать, что лицо ваше мне знакомо. Я ведь ради чего фильм на монтажном столе разглядывал? Чтоб ваше лицо там отыскать.
– Понятно.
– А, то есть вы в курсе, что есть там?
– Знаю. Видел.
– И еще раз пришли полюбоваться?
– При чем тут? Мне тогда сестра сказала, что видела, я и пришел. А сегодня она вот напросилась. Тоже хочет.
И он указал на девочку с таким же грустным складом лица. Девочка несла от буфета к их столику стакан чая. Несла осторожно, сосредоточенно, чтоб не расплескать.
– В кино папку увидеть хочет. Будет врать подружкам, что папка актер. – Лицо его при этих словах смягчилось, но он отвернулся и не дал как следует разглядеть.
Домой добирался пешком. Город был уже предутренним. Загорались окна. Он думал о том, что был не прав. Следует написать японцу другое письмо. Радио и сейчас звучит. Как в шестидесятые. Музыка и сейчас кричит. Семидесятые. И ограждает. Новейшее время. Но самый, наверное, характерный сейчас голос – сработавшая сигнализация. Стоит во дворе машина, прыгает на нее кошка, и вой до небес. Для всей округи, для каждого за каждым окном. Мучительный, душу выматывающий звук.
Дома он включил радио. Новости.
Чиркнул спичкой. Поднес огонь к газовой горелке. И расслышал:
– Иван Полынин. По прозвищу Горький.
Огонь обжег пальцы.
По телевизору в вечерних новостях увидел остов машины на пустынной дороге. Обгорелые трупы. Затем Ванино лицо, еще живое.
– Взрыв, – сообщил ведущий. – Криминал. Пять человек. Новости культуры.
Как-то это все одновременно происходит, думал директор, глядя на бегущие по клавишам пальцы. И снег идет, и пианист играет, и машина взрывается, и Вани нет больше, и бумаги в зеленой папке утратили силу. И смерть не моя.
Он отыскал старый фотоальбом, а в нем школьный снимок со множеством лиц. Нашел Ваню. Рассматривал. Коснулся пальцем лица, но натолкнулся на холодный глянец.
Буквально на следующий день, не откладывая, он позвонил в Союз. Добился встречи с секретарем. Объяснил, что намерен передать в собственность Союзу историческое здание. Секретарь был его давним знакомым. Жили вместе когда-то в одной комнате в студенческой общаге. Хлеб выпрашивали у соседских девчонок. Чай с ними пили. Читали стихи.
Немало лет спустя Константин Алексеевич шел по Москве и едва узнавал ее.
Сияние витрин. Покойная жизнь. Катастрофа миновала.
Стояла сырая, холодная осень, которую в прежние годы Константин Алексеевич очень любил. Ему и сейчас приятно было идти и вдыхать сумеречный воздух. Увидел вдруг новый кинотеатр. Афишу. И так захотелось в темный зал. Скрыться в нем, забыться, переждать лет сто.
Он увлекся фильмом и не сразу услышал трезвон мобильника. Совершенно забыл про включенный мобильник. Прошептал: извините. Полез в карман.
Нет. Не здесь. В куртке. Куртка. Не в этом кармане. Нет. Черт, как трезвонит.
Люди оглядывались, он шептал: извините. Нащупал наконец телефон.
Кто-то схватил его сзади за плечо, тряхнул.
Извините.
Сбросил звонок, ура.
Фильм закончился, зажегся в зале свет. Константин Алексеевич обернулся, вставая, и увидел прямо за собой знакомое лицо. Произнес изумленно:
– Здравствуйте, Николай.
– Константин Алексеевич! – услышал обрадованный голос.
Они выпили в кафе возле кинотеатра, забрались в «форд» и там сидели, не зажигая света, и разговаривали. Водитель включил печку. Сказал, усмехнувшись, что с годами полюбил тепло. О «форде» сказал:
– Не новый, но в полном порядке.
Ни наклеек, ни висюлек. Чисто, спокойно. Как прежде.
– А я так и не обзавелся машиной, – признался директор, – даже не выучился водить. Что для Америки смешно. Дочка водит. Конечно.
– Как она?
На ветровое стекло налип жухлый лист. Печка согрела воздух.
– Я дважды дед.
– Поздравляю. А мой никак что-то не соберется.
– Отлично выглядите.
– Спасибо.
– Нет, правда. Практически не изменились. Сильный, загорелый.
– Это дача.
– Помню ваши яблоки, как же.
– Спилили антоновку.
– Жаль.
Он рассказал об американском университете, об озере, о размеренной жизни.
– Рад за вас, – искренне обрадовался Николай.
– Не то чтоб я об этом мечтал.
– Кинотеатрик наш вспоминаете иногда?
– Бывает.
– Жив еще.
– Я знаю.
– Осыпается. Внутри голо, снаружи леса, обещают реставрацию, но раньше он развалится. Я проезжал недавно. Не нарочно. Так вышло. Вспомнил хорошие времена. То есть времена были так себе, разруха, но там у нас – рай земной. Пока Союз вместо вас другого директора не поставил. Мы даже петицию писали.
– А где все?
– Буфетчица. Помните?
– Всех помню.
– Померла. Билетершу я прошлой зимой видел, столкнулись. Похудела. Говорит, что все хорошо, но я что-то не поверил, вином от нее пахло с утра пораньше, и глаза заплывшие. Но говорит, все хорошо. Она и всегда так говорила, что бы там у нее ни было.
– А вы? По-прежнему? Бомбите?
– Не-е-е-ет, – рассмеялся. – Я преподаю. А вы, я смотрю, курить бросили, бывало, каждую секунду за сигарету хватались.
– В Америке иначе сложно.
– И то хорошо.
Вечером, раздеваясь в ванной, Константин Алексеевич заметил на плече пятна. Потрогал, поморщился от боли. Железные пальцы у водителя. Как еще кости не хрустнули от его хватки. И Константин Алексеевич застыл перед зеркалом. Сообразил.
Он был в старой своей квартире. Здесь время остановилось, застоялось, зацвело пыльными цветами. Он отыскал в столе записную книжку, нашел номер водителя. Вспомнил, что появились коды. 495 или 499? Решил попробовать оба. Вытащил из-под журнального столика старый телефон. Снял трубку.
– Николай? Здравствуйте, это Константин Алексеевич.
– Я вас узнал.
– Вы прямо мгновенно трубку взяли.
– Я только что из ванной вышел.
– Я тоже. Я вот чего. Хотел вас еще спросить про то кино. Я вас не очень отвлекаю? Я вот о чем. Это ведь по-разному бывает. Иному человеку всякий шорох мешает. А я, к примеру, когда работаю или кино смотрю, окружающее уже не слышу. И этот звонок чертов не сразу сегодня расслышал. Спасибо, что успел на кнопку нажать, а то бы вы меня, наверное, прибили. Да? Как ту несчастную тогда. Помните? Фильм. Женщина кашляла и вам мешала, и вы по шее ее ударили. Рука крепкая. Что вы преподаете, кстати? Единоборства какие-нибудь?
– Приемы самообороны, – ответил после молчания Николай.
– Простите за догадку, – тоже после молчания произнес Константин Алексеевич.
Старый дом
Вроде бы она входит в дом, где родилась. И никто не замечает, что она старая, неловкая, что ей сорок шесть лет, и волосы крашеные, и морщины уже в углах губ. Ей сорок шесть, а они все из прошлого, из времени, когда она была девочкой, ребенком, что в ней живет, но никому не видим.
Они все сидят за столом, и она садится, и начинается их обычный разговор, обычный для того прошлого, которое, когда оглянешься на свою жизнь, кажется самым важным. Единственно верным – так и хочется сказать. Самое удивительное, они не видят, что она не девочка, говорят с ней как с девочкой: что-то об уроках, о косичках, что надо переплести. Видят косички, которых нет. Она пробует волосы – нет косичек.
На отрывном календаре 9 сентября 1975 года, брату пятнадцать лет, ей одиннадцать, матери тридцать шесть, а она, настоящая, сегодняшняя, старше матери на десять. Брат говорит, что в девятый класс не пойдет, что они с Витькой уедут в Горький, поступят в техникум. Она помнит, что брата уже нет на свете. И матери нет. А она есть. Берет чашку и отпивает чай, который мать ей только что налила. Дверь хлопает в терраске. Мать удивляется: кто там? Брат встает со словами: я посмотрю. Она просыпается.
Где-то. В какой-то утробе, пещере, в темной норе. От хлопка двери.
За ветровым стеклом горит фонарь, освещает тротуар, крыльцо ночного магазина. Она в автобусе. Ночь, пассажиры спят, водителя нет, он вышел только что, хлопнул дверью, и она проснулась в душном автобусном чреве. На черном асфальте золотой лист с ржавыми краями, хотя золото не ржавеет, золото вечно, оно не стареет, время ничего с ним не может сделать, золотое кольцо у нее на пальце как будто выпало из времени, она стареет, а кольцо нет, и если ее с ним похоронят, она растворится в земле, а оно нет. Какой-то есть в этом жуткий смысл для человека.
В круг света вошел мальчик. Поднялся на крыльцо, докурил сигарету.
Она его видела из темного чрева, он ее – нет.
Он курил, а она разглядывала его бледное, невыспавшееся лицо, утомленные взрослые глаза. Мятый воротник рубашки выглядывал из ворота свитера, шея казалась тонкой, беззащитной. Мальчик докурил сигарету до самого фильтра, отбросил и вошел в магазин. Она ждала, когда он выйдет, смотрела на застекленную дверь, за которой угадывалось движение.
Кто-то пробормотал во сне. Мальчик все не появлялся.
Наконец дверь отворилась. Из магазина вышел шофер. Он сбежал с крыльца, дернул на себя дверцу автобуса, пахнуло улицей, осенней сыростью.
На водителя она не смотрела, только слышала, как он усаживается, шуршит, покашливает, приоткрывает окно, щелкает зажигалкой, заводит мотор. Она не сводила глаз с магазинной двери, ждала, что мальчик выйдет.
Автобус тронулся, крыльцо исчезло.
«Что он так долго в этом магазине? – подумала она. – Наверное, какая-нибудь продавщица. Девчонка. Наверное, с ней».
Начался дождь, «дворники» заскользили. Она закрыла глаза. Хотелось вернуться в тот сон, в тот дом, от которого ключ лежал у нее в кармане, но время все украло, все сокровища, никакой ключ от времени не спасет. Надо быть золотым кольцом, чтобы укрыться, закатиться в щель и спастись.
В Москву приехали утром. Хрустели подмерзшие лужи. Она не любила этот звук.
Выскочила из метро, перебежала дорогу. Проскочила арку и очутилась во дворе.
Набрала номер у подъезда.
– Да? – спросил тихий голос из домофона.
– Анна Васильевна? Здравствуйте.
– Здравствуйте. – Неуверенность в голосе. Не узнаёт.
– Это Галина Петровна. Насчет вашего сына.
– Что? – Страх в голосе. Будто ослепший от страха голос.
– Насчет Сережи.
– Что? Что?
Галина Петровна не ответила, и голос в домофоне смолк. Дверь отворилась.
– Заходите. Пожалуйста.
Она переступила порог квартиры, и только тогда Анна Васильевна ее узнала, только в этот момент. Узнавание – будто вспышка. Мгновенное.
– Здравствуйте, хозяюшка.
– Что насчет Сережи?
– Узнали меня?
– Да. Что с Сережей?
– Я его видела.
– Где? Когда?
– Недавно. Где – не скажу.
– Что?
– Ничего.
– Вы смеетесь надо мной?
– Нет, Анна Васильевна, не смеюсь. Прощайте.
Анна Васильевна вцепилась Галине Петровне в рукав. Галина Петровна посмотрела спокойно на ее побелевшие пальцы:
– Отпустите.
– Вы не можете вот так уйти!
– Руку уберите.
– Где мой сын?
– Не скажу.
– Послушайте, Галина Петровна, вы же знаете, этим не шутят, я с ума схожу третий месяц, не знаю, что думать. Вы его правда видели?
– Правда.
Заглянула ей в глаза:
– Скажите где?
– Ни за что.
– Галина Петровна, умоляю.
– Нет.
– Что вы хотите? Денег? Сколько?
Галина Петровна рассмеялась. Попыталась отодрать ее пальцы.
– Погодите, умоляю, давайте поговорим, я виновата, простите, я наказана больше некуда, простите!
Замолчала. И вдруг выпалила:
– Хотите чаю? Хотите?
– Мне сегодня снилось, что я чай пью.
– Давайте чай, Галина Петровна, давайте поговорим, мы с вами ни разу не говорили, это неправильно, проходите.
– Смешно.
– Зайдите, прошу, смилуйтесь.
– Рукав отпустите. Как я пройду, вы в меня вцепились.
В кухне были задвинуты занавески, горело электричество, так что казалось, что на улице все еще ночь. На плите стояла кастрюля, томилась на огне, Анна Васильевна его поспешно завернула.
– Что варите?
– Кашу. Геркулес.
– Вам с утра сегодня?
– Нет. Я с трех.
– Тогда чего вскочили до света?
– Я не умею поздно, всегда рано просыпаюсь.
– А Митя поспать любил.
Затравленный взгляд в ответ.
– На работу, бывало, не добудишься.
Молчание и затравленный взгляд.
– Митя был страшный франт. И сам любил хорошо одеваться, и чтобы я, обожал, когда я на высоких каблуках, вся такая из себя, красивая и недоступная, рядом с ним. Это сейчас я подраспустилась, без него.
Молчание. Взгляд умоляющий, жалкий. Шепот:
– Простите.
– Бог простит, – встала и направилась к выходу.
Анна Васильевна потащилась следом, но ничего уже не смогла вымолвить.
Уткнулась лбом в закрывшуюся за Галиной Петровной дверь.
Митя был муж Галины Петровны. Он умер несколько лет назад. От того, что Анна Васильевна, их участковый терапевт, не распознала болезнь.
Галина Петровна жила в этом же доме. Анна Васильевна во втором подъезде, она – в четвертом. Анна Васильевна на пятом этаже, она – на третьем.
Лифтом Галина Петровна не воспользовалась. Она поднималась на лифте, если очень уж уставала. В это утро, особенно после разговора, она даже чувствовала прилив сил, как будто бы не было четырех душных часов в ночном автобусе, как будто она отлично выспалась и даже кофе уже выпила – такая была кристальная ясность сознания.
Дома она первым делом раздвинула занавески, распахнула форточки. Сумку оставила в прихожей неразобранной.
Долго, с наслаждением стояла под душем, закрыв глаза, представляла сильный тропический ливень, зарядивший на полгода, и – завернула кран, распорядилась погодой. Вышла из ванной оглушенная, обновленная. По квартире ходили сквозняки, пахло осенью, а не старым, затхлым жильем, и это было замечательно.
Она поставила варить кофе. И, уже выпив кофе, накрасившись, одевшись, преобразившись в элегантную, холодную женщину, с холодным запахом, уже не дома, в вагоне метро, в подземном туннеле, по дороге на работу, она почувствовала усталость. Исчезла свежесть, вернулась ночь, навалилась тяжесть. И ей показалось, что ее лицо исказилось не только в черном, неровном, как бы расползающемся стекле.
Она дотронулась до своего живого лица, до прохладной ухоженной кожи. На месте?
Анна Васильевна вернулась в кухню. От кастрюли поднимался жар.
Все в Анне Васильевне точно остановилось. Ей хотелось забраться в постель, еще не убранную, лечь и уснуть, проснуться в будущем веке, когда ее судьба станет неразличима. Она отправилась в душ и долго, упорно стояла под тугими струями. Вышла и глянула на часы. Около семи утра. Есть не хотелось. Она включила телевизор, посмотрела новости. Начало восьмого. Пошла в комнату. Одежда была приготовлена с вечера, висела на спинке стула. Серая юбка, черный свитер.
Она увидела себя в зеркале в черном свитере. Будто у нее траур. Стянула свитер, отбросила. Распахнула шкаф, выбрала цветное, натянула. Изумилась себе в зеркале. Слишком уж ярко, легкомысленно. Не по делу. Часы тикали за спиной. Настенные часы, с маятником. И она поняла, что уже не успевает за временем, надо выбираться из зеркального стекла, и тогда в ней все сдвинулось, рухнуло, и пришлось пить успокоительное, иначе тряслись руки, и она не могла закрыть дверь, попасть ключом в скважину.
Так и пошла в ярком.
Видно было, что он ее жалеет. И Анна Васильевна подумала – есть надежда. Хотя он сказал уже, что ничем помочь не может. Но она не уходила. Молчала. И он не выпроваживал.
Повторил:
– Что я могу сделать?
– Вы должны ее допросить.
– Предположим, я ее вызову и спрошу, где она его видела. Она скажет, что не видела, что пошутила.
– Вы ей объясните, что так нельзя. Мужа ее не вернешь, а мой Сережа ни в чем не виноват, она же меня хочет наказать, но получается, что Сережу, вдруг он… вдруг она его в больнице видела? Или он милостыню просил? – Голос ее осел.
– Или она его вообще не видела. Единственная цель – вас помучить.
– Она думает, я не намучилась? Думает, мне мало? Скажите ей, что он мне снится, ее Митя.
– Я не буду ее вызывать, Анна Васильевна.
– Я заявление напишу.
– Я его не приму.
– Вы объясните. Скажите ей. Скажите, чтобы простила, что так нельзя.
Он помолчал. Поднял на нее глаза:
– Анна Васильевна. А вы бы – на ее месте – смогли простить?
Глаз она не отвела:
– Не знаю.
Она бы хотела рассказать, как в тот же день, лишь только узнала о смерти ее Мити, написала заявление. Заведующая не подписала, сказала, что в любом случае она должна отработать две недели, по закону. И кроме того, она должна еще две недели отработать, которые ей давали в начале года, когда Сережка болел. Итого – месяц. Она бы рассказала, как шла по коридору; у них в поликлинике узкие коридоры, по стенам – стулья, все заняты людьми. Сумрачные взгляды, мимо которых она шла долгим коридором. Вдруг кто-то произнес: «Здравствуйте». И она ответила: «Здравствуйте». Медсестра была в кабинете, допивала чай. Анна Васильевна сняла пальто, принялась мыть руки, заледеневшие руки постепенно отходили под горячей водой. «Зови», – сказала медсестре и завернула кран.
Поначалу ей казалось, что люди смотрят с недоверием и со смирением. Смирение – оттого, что им не к кому идти больше, нет другого пути, кроме как к ней, убийце. Первым был ребенок, мальчик, его привела мама, он покашливал. На всякий случай Анна Васильевна выписала направление на флюорографию. Но они так и не пришли к ней с этой флюорографией. И она поняла, что от недоверия не пришли. Нашли, наверное, другого врача. С другой репутацией. Через несколько дней она их встретила в магазине. Они поздоровались. Мальчик выглядел здоровым. И так как мама его смотрела доброжелательно, она решилась спросить про флюорографию, почему не пришли показать. «Да мы ее и не делали, – ответила мама. – У нас в поликлинике аппарат не работает, вы знаете, а ехать в сто пятую мне недосуг было, мне посоветовали солодку и в молоке инжир кипятить; и тьфу-тьфу, обошлись солодкой». – «Но вы все же сделайте на всякий случай, не так уж далеко до сто пятой ехать». Очень она ее благодарила за внимание и всем рассказывала, какой внимательный врач. И через месяц Анна Васильевна уже не стала совать заведующей свое заявление. Заведующая не напоминала. Да и уходить, признаться, было некуда. В сорок лет с лишним жизнь заново не начнешь.
Ничего этого Анна Васильевна не объяснила следователю. Но призналась зачем-то:
– На самом деле мне ее Митя не снится. Если честно. Я его даже не помню. Хотя в одном доме жили. И температуру я ему мерила в тот вечер. И глотку смотрела. И легкие слушала. И живот щупала, когда он сказал, что болит живот. И не помню. Вот так.
Слова ее нисколько его не удивили. Как будто он их не услышал.
– Давайте подумаем, – сказал он.
– Что? – не поняла она.
– Где она могла его видеть?
– Я не знаю.
– Почему она к вам явилась с утра пораньше?
– Я не знаю.
– Как она была одета?
– Обыкновенно.
Он сказал, что в таком случае действительно ничем не может помочь, что дел много, и она извинилась, что отняла его время.
Вышла из кабинета и увидела, что несколько человек дожидаются приема. И эти несколько человек разом взглянули на нее, у них она тоже время отняла.
Она силилась представить. Анна Васильевна в каком-то детективе это вычитала, что надо представить. Она сидела в кафе, в крохотной забегаловке, за столиком у окна. Дождь протекал сквозь щель в раме, она пила кофе, по глотку, глядела в лужицу на подоконнике и пыталась представить.
Утро. Очень раннее.
Галина Петровна подходит к двери подъезда, набирает номер ее квартиры.
Зачем так рано? Ну, хорошо, положим, Галина Петровна боялась ее не застать, она ведь не знала, что ей к трем. Но к чему спешка? Почему не вечером? Почему не накануне, в конце концов? Выходит, что накануне она его не видела. А когда видела?
Сумка. Большая сумка у нее на плече. Зачем? Лицо утомленное, несвежее, тушь осыпалась с ресниц.
Она приехала только что, вот оно как, и сразу, не заглянув домой, не скинув сумки, к ней. Точно. Спасибо следователю, задал правильные вопросы.
Но куда она ездила? Тут сколько ни представляй, не догадаешься. Далеко? На самолете летела? Близко? Но совершенно ясно, что Сережа там, в том самом месте, где она была. Или они в одном поезде ехали? Как узнать?
Анна Васильевна взглянула на часы. Пора было на работу. И она оставила простывший кофе.
Шла по узкому больничному коридору, и взгляды людей, сидевших вдоль стен, казались ей тяжелыми. Она прошла побыстрее, прошмыгнула. Буркнула «здрасьте» на их «здравствуйте», прикрыла плотно за собой дверь. Медсестра пила чай, как всегда по утрам. В больнице еще не топили, но в кабинете был обогреватель, окна запотели. Анна Васильевна сняла пальто и вымыла руки с мылом.
– Звать? – спросила медсестра.
– Нет еще.
Медсестра долила себе чаю и вытянула ноги поближе к обогревателю. Анна Васильевна позвонила в регистратуру:
– Олечка, милая, не сочти за труд, найди мне телефоны в картах. По улице Крымова, дом шестьдесят три, квартиры сто восемь и сто девять. Да, я подожду. Лучше мобильные.
При медсестре звонить не хотелось, попросила ее сходить за бланками.
– Отчего же, – сказала медсестра, с большой неохотой оставляя свой чай. Медленно поднялась. Поглядела в запотевшее окно. Принялась искать в сумке очки.
– Они у вас на столе лежат. Прямо перед вами. Возле кружки.
Наконец дверь за ней затворилась, и Анна Васильевна набрала первый номер. Она сказала, что звонит из поликлиники, вопрос конфиденциальный и важный. Знают ли они свою соседку из сто седьмой, Галину Петровну? Не в курсе, куда она ездила на днях? А кто может знать? Ничего не случилось. Спасибо.
Не знали. И даже что ездила куда-то, не знали.
Медсестра шлепнула на стол бланки, Анна Васильевна и не заметила, как она вернулась, не знала, слышала ли она разговор.
Все едино.
– Начнем прием, – сказала Анна Васильевна. – Чай уберите со стола.
Медсестра взяла кружку и выплеснула в рукомойник.
Когда-то они сплетничали, рассказывали друг другу о детях, обновками хвастались, угощали пирогами, ворчали на больных. Но однажды Анна Васильевна услышала, как медсестра говорит о ее Сереже кому-то в больничном коридоре, она и не рассмотрела кому, какой-то черной тени. Говорила, что растет уголовник. С тех пор ни разу не улыбнулась ей Анна Васильевна, ни разу не обратилась по имени. Если и смотрела на нее, то невидящим, пустым взглядом.
В половине восьмого Анна Васильевна закончила прием, отправила медсестру домой, закрыла фрамугу, надела пальто, погасила свет. Все она делала механически, себя не чувствуя, не помня. И если бы кто-нибудь ее спросил на выходе из больницы, погасила ли она в кабинете свет, не забыла ли там медсестру, она бы затруднилась ответить.
В вагоне метро возле нее встал мужчина. Он поглядывал на нее сбоку, но она не замечала. Очнулась оттого, что поезд слишком долго не трогался, от тишины. И встречный не приходил на платформу. Так что тишина стояла непривычная для подземной станции. Старик, сидевший напротив, перевернул газетный лист, и она услышала шорох.
– От вас лекарством пахнет, – произнес мужчина.
Она промолчала. Поезд все стоял.
– Осторожно, – предупредил машинист, – двери закрываются, следующая станция…
Название станции она не дослушала и выскочила на платформу. Двери за ней сомкнулись, она уловила растерянный взгляд мужчины.
Поезд ушел. Она дождалась следующего и села. Не то чтобы ей неприятен был тот мужчина, но она не хотела ни с кем разговаривать, не хотела внимания к себе, даже такого легкого, поверхностного.
Она боялась, что закричит, если он скажет ей хотя бы слово.
Больше к ней никто не обращался, и она благополучно добралась домой.
Дома она поела холодной утренней каши, вскипятила чай, выпила полчашки, принесла в кухню альбом с фотографиями. Разглядывала снимки сына, совсем маленького, вспоминала его младенческий запах, светлые голубые глаза, они потемнели и обратились в карие, когда он подрос. Она его не видела три месяца, он исчез три месяца назад, его мобильный был недоступен, друзья ничего не знали, в милиции приняли заявление, но найти не могли, да и не искали, она была уверена. Она не знала, зачем ей жить без него. Зачем пить чай, есть, ходить на работу, мыться, ложиться спать.
Прозвенел телефонный звонок, она вскочила, альбом рухнул на пол, выскользнули снимки.
Пока она говорила по телефону, с пола на нее смотрело лицо с фотографии. Она не помнила, кто это. Старая черно-белая фотография, молодое незнакомое лицо. Откуда? Почему смотрит на нее? Как очутился в их старинном альбоме?
– Да? – сказала она в трубку.
– Это Галина Петровна. Я слыхала, вы интересовались, куда я ездила. Так вот, ездила я в город детства, моя родина, дом продавала, возле старого парка по Физкультурной улице, а как моя родина называется, вы в милиции спросите, паспортные данные пусть смотрят. Будьте здоровы.
Гудок.
Анна Васильевна отключила телефон, нагнулась и подняла с пола снимок. Посмотрела на строгое лицо незнакомца, вложила в альбом. Нашла фотографию сына, недавнюю, кто-то снял его на улице, в дурацкой вязаной шапчонке. Нос красный, замерзший, пушок над верхней губой.
В автобусе Анну Васильевну укачивало, но ей повезло, до городка шел еще поезд, не каждый день, но этим утром шел, она дозвонилась до вокзала, билеты были. Заведующей дозвонилась уже из поезда, попросила отгулы. Ехать не так много, четыре часа. Обошла состав, расспросила проводников, официанток в вагоне-ресторане, показала фотографию. Никто ее мальчика не помнил.
В городе было тихо. Начинался и почти тут же смолкал осенний дождь. Она расспросила кассиров на вокзале, уборщицу. Не помнили ее мальчика. Добралась до старого парка. Стучала в калитки по Физкультурной улице, окраинной, почти деревенской. Собаки лаяли, пахло печным дымом и яблоками, антоновкой. Показывала фотографию, расспрашивала. Не помнили, не знали. В проданном Галиной Сергеевной доме зудела дрель – рабочие начали ремонт.
Не помнили, не знали. Один из рабочих посоветовал зайти в фотомастерскую – размножить снимок, расклеить. Она поблагодарила. Оклеила стены, столбы. Отовсюду он теперь смотрел, ее мальчик. Вдруг она подумала, что неправильно дала номер, подошла к листовке поближе, перечитала цифры. Все было правильно, но телефон молчал, никто не звонил, не откликался. Она поела в кафе на вокзале. Поезд на Москву был через два дня, она купила таблетки от укачивания и пошла на автостанцию, автобусы ходили каждую ночь.
На автостанцию вела узкая заросшая улица вдоль заводской стены. И вдруг Анна Васильевна увидела впереди себя, буквально в десяти шагах, сына, его сутулую худую спину в черной куртке. Крикнула:
– Сережа!
Бросилась за ним, нагнала. Он обернулся, и она остановилась, пораженная. Лицо было чужое.
– Что? – спросил парень.
– Нет, – сказала она. – Ничего.
Отступила. Ее мальчик стал оборотнем.
От таблеток веки тяжелели и закрывались, Анна Васильевна забылась сном. Проснулась, когда автобус стоял. Горел фонарь и освещал крыльцо магазинчика. Водителя не было. Моросил дождь. Дверь магазинчика отворилась, и водитель вышел на крыльцо. Она закрыла глаза. Слышала, как он садился в автобус, как заводил мотор. Очнулась, когда все уже вставали выходить.
– Москва, – сказали ей.
Ключ вошел в замочную скважину, повернулся.
В темной прихожей Анна Васильевна споткнулась обо что-то. Зажгла свет и увидела ботинки сына. Грязные, раздолбанные ботинки, полгода назад всего купленные. Но обувь он убивал быстро.
Она сняла сапоги и прошла в квартиру.
Сын спал на диване под пледом. Немо мерцал экран телевизора. В блюдце на журнальном столике горой лежали окурки. Форточка была распахнута. Анна Васильевна села перед сыном на корточки, заглянула ему в лицо, словно хотела увериться, что это точно он. Поднялась и тихо вышла из комнаты.
В кухне она нашла две бутылки из-под пива, на полу, у раковины. Хлебные крошки на столе, нож со следами сливочного масла. Она вернулась в прихожую и взяла ботинки. Летние, легкие, в них уже холодно. Ботинки она вымыла, протерла и оставила досыхать, чтобы потом начистить кремом. Заглянула в комнату. Сын перевернулся на спину и приоткрыл рот во сне.
К обеду он проснулся – от запаха тушенного с картошкой мяса.
– Почему же ты не звонил? Где ты был? Работал? Кем? С кем ты? Как ты мог не звонить? Что я пережила, передумала, ты хоть представляешь?
Она его спрашивала, он ел, отвечал.
Так получилось. Уехал. Все достало. Все. Не мог. Потому что ты бы стала звонить, доставать. Я не хотел. Хотел один. Так. Грузчиком. Там, в магазине. Нормально. Я тут взять хотел. Свидетельство о рождении. Надо, сказали. Вкусная картошка, да. Чего ты плачешь? Извини, правда. Я не хотел. Я буду звонить. Ладно. Правда буду. Извини. Я тебе духи привез. Так. В подарок. Я права получу. Дальнобойщиком. Я не люблю на одном месте. Скучно.
– Ботинки у тебя холодные.
– Нормальные.
– Зима скоро, надо зимние.
– Куплю.
– Денег тебе хватает?
– Нормально все.
Он уехал в этот же день. Она досидела в кухне до сумерек, до темноты. Все слышала – и тиканье часов, и гул лифта, – слышала, осознавала, но так, как будто бы ее самой не было. Из небытия.
Позвонили в дверь, и Анна Васильевна подумала, что это сын, что-нибудь позабыл, за чем-нибудь вернулся. Тихо, шаркающей походкой пошла открывать. Старушечьи шаги. Не заглянув в глазок, отворила. На пороге стояла Галина Петровна.
– Можно?
Прошли обе в кухню.
Сидели в полумраке, молчали. В полумраке им легко было говорить, не видя друг друга, не различая.
– Сын был?
– Да.
– Уехал?
– Днем.
И молчать в полумраке легко, как бы с собой молчишь наедине.
– Спросить хочу.
– Да.
– Как там дом? Видели?
– Дом?
– Ну да. Видели? Подходили?
– Да.
– Как он там?
– Нормально. Стоит. Ремонт. Вроде бы говорили, что газ собираются проводить. Я слышала разговор.
– Значит, печку сломали?
– Наверное.
– А мебель?
– Не знаю. Вынесли, наверное.
– Я мало чего взяла. Нарочно, чтобы не тащить рухлядь. Прошлое – в прошлом.
Помолчали.
– Я бы не хотела туда совсем вернуться, в то время. Но я бы хотела взглянуть хоть одним глазком на них, на маму и на брата, и на себя в косичках, услышать, как тогда часы тикали, войти в дом невидимкой и посмотреть на нас всех, разговоры подслушать. Но мне остался только один вечер в старом пустом доме, где давно уж никого – ни мамы, ни брата, ни меня. Я нашла книгу на этажерке, «Тарас Бульба», сунула ее в сумку, прибор столовый для горчицы, соли и перца, я его купила с первой зарплаты и маме подарила, и больше я ничего не взяла, мы договорились, что они сами распорядятся, хотят – на помойку, как хотят.
Галина Сергеевна помолчала и сказала:
– Пойду.
Анна Васильевна ее не провожала. Слышала, как защелкнулась дверь. Посидела еще немного и пошла спать.
В субботу она все в доме прибрала, перемыла. Фотографии разложила и надписала. Но кто был незнакомец на снимке, так и не вспомнила.
Иллюзион
Предисловие
Две тысячи одиннадцатый. Январь. Первый рабочий день после Нового года, темный и сырой. Как он прошел – не помню. Вечером в электричке было жарко, полно народу, белый люминесцентный свет мерцал и дрожал. Передо мной сидели мама с дочкой лет семи-восьми, они накупили деревянных игрушек, наверное, такие делали в старину: круг с курочками, клюющими зерно, кукла с веревочными ногами и тяжелыми деревянными башмаками. Кукла качалась на пружинке и улыбалась нарисованной улыбкой, безмятежно-счастливой.
Машинист объявил, что поезд не останавливается на станциях Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
– Со всеми остановками, – вздохнула девочка.
– Нет, – возразила мама.
– Со всеми, – не сдавалась девочка.
И я подумала: какая глупая девочка, но девочка оказалась умная, поумнее нас. Они вышли в Мытищах. И потому Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма и Мамонтовская для них не существовали – были уже после того, как они покинули электричку, после Мытищ. Да, большая часть мира для нас не существует, не имеет значения. Видимого значения, по крайней мере.
Чуть впереди и через проход от нас сидел парнишка. Сидел ко мне спиной, но иногда поворачивал лицо, так что я могла его разглядеть. И сразу было ясно по его лицу, что он слабоумный. Не знаю, почему это сразу так ясно. Кажется, что в его лице не было выражения. Не было усталости, не было радости, не было мысли. Даже в деревянном лице куклы было выражение, художник его худо-бедно изобразил.
Поезд шел, я по большей части смотрела на девочку, как она играет, как стучат клювами курочки в наклеенное на деревяшку пшено, как улыбается и качается на пружине кукла. Затем я устала от них, отвлеклась, перевела взгляд и увидела чуть впереди через проход от нас руку. Это была рука глупенького. Он закинул ее за спинку сиденья и, не глядя, водил рукой по плечу сидевшего к нему спиной пассажира. Рука трогала спящего пассажира за плечо, гладила, она была как бы отдельно от глупенького, жила своей жизнью. Но пассажир проснулся, дернулся, обернулся, увидел чужую руку и крикнул:
– Руку убери!
Рука мгновенно исчезла.
Еще несколько раз идиот забывался и закидывал свою руку, и она гладила пассажира по плечу и после окрика исчезала. В окрике был испуг, гадливость, ненависть. Как будто бы не рука человека коснулась пассажира, а паучья лапа. Боюсь, что и я так бы вскрикнула:
– Руку убери!
Глава 1. Коричневое лицо
Я вижу свое лицо на фотографии и не знаю, всегда ли я была так сосредоточена и грустна. Лицо на фотографии слишком даже с выражением – замкнутое, печальное лицо. Надеюсь, что оно не всегда такое было, что бывало и веселым. Но фотографии со смеющимся лицом нет, а есть только эта. Она вообще одна-единственная из того времени. И я даже не знаю точно, сколько мне здесь лет. Семнадцать или восемнадцать.
Я без очков, глаза видят, но плохо, кажется, что глаза черные из-за огромных зрачков, да и качество фотографии не бог весть какое, чтобы передавать оттенки. Черно-белая, небольшая, вся умещается на ладони.
Я пытаюсь понять, могла бы я такая понравиться какому-нибудь мальчику. Вряд ли. Он бы, скорей всего, испугался этого моего сосредоточенного лица, безумных, ничего не видящих глаз. И все знакомства, которые все-таки состоялись в моей жизни, начинались не с этого выражения лица. Жаль, жаль, что нет другой фотографии, я бы смотрела на нее.
Тысяча девятьсот восемьдесят первый. Моя первая осень в Москве, далеко от родительского дома. В то время я писала домой часто. Письма не сохранились, но помню, что почерк у меня был тогда детский и что в каждом буквально письме я описывала погоду. Не знаю, можно ли было доверять этим письмам даже по части погоды. Не уверена. Что касается внутренней жизни, то в них она не отражалась. Лживое зеркало – эти письма, всегда бодрые и торопливые.
Я возвращалась из института троллейбусом номер три, от Новослободки. Мужчина в троллейбусе спросил, где я учусь. Я честно ответила, что в Институте инженеров железнодорожного транспорта. До сих пор, если я знакомлюсь с кем-либо и этот некто – кто угодно – спрашивает, как меня зовут, где я работаю, где живу, замужем или так и есть ли детки, я отвечаю на все вопросы честно и прямо. Как будто мне вкололи сыворотку правды. И незнакомец узнает обо мне, что я не замужем и что детей мне бог не дал. Тогда, в третьем троллейбусе, вопрос о детях не возник, я сама была ребенок.
Я отвечаю правду на вопросы, но ведь не всегда люди спрашивают, бывает, что и сами догадываются. В таком случае я всегда соглашаюсь с их догадками. Вас дома ждут. – Ага. – Муж. – Точно. – Наверное, военный. – Ну да.
Так что, с одной стороны, не могу соврать, а с другой – они получают полную свободу обманываться.
Тот мужчина в троллейбусе был очень загорелым, не легким курортным загаром, а слишком темным, рабочим. Глаза у него были светлые на фоне коричневого лица. Он ничего не предполагал. Получил на свои вопросы правдивые ответы: что живу в общаге, учусь на первом курсе, отец служит в Казахстане. Почему он вообще ко мне обратился, мне сейчас сказать трудно. По всей видимости, наши взгляды встретились совершенно случайно. Мы просто увидели друг друга, так бывает.
Он назначил мне свидание в Сокольниках, в восемь вечера.
Пока я в общаге искала утюг, гладила блузку, чистила зубы, красила ресницы перед крохотным зеркальцем, пока ехала в третьем троллейбусе до Новослободки, а от Новослободки, под землей, до Сокольников, я уже мысленно вышла замуж за этого коричневого парня и родила ему сына, и сын этот был со мной в метро, и я гладила его светлую голову, и все смотрели на нас и улыбались.
В восемь уже темнело и загорались фонари. Я вышла из метро и напугалась, что не узнаю его. Возможно, что я отличаюсь в этом отношении от других людей, но я не умею запомнить лицо человека с первой же встречи. Увидев человека во второй раз, я всегда с удивлением отмечаю, что он не такой, как мне представлялось. Образ, более-менее отвечающий реальному человеку, складывается, может быть, при третьей-четвертой встрече, и то я не уверена насчет цвета глаз. Для цвета глаз нужна особая близость.
Видимо, я все же не особенно отличаюсь от других людей, потому что мужчина, стоявший у метро, тоже смотрел на меня неуверенно. Неуверенно и выжидающе. Наконец он решился и приблизился.
– Привет.
– Привет.
Кто знает, меня ли он ждал на самом деле, его ли я видела в троллейбусе номер три? Как бы то ни было, мы отправились вместе по асфальтовой аллее в парк. Небо было еще светлым, а на земле сгущались сумерки. Цветов при мужчине не было. Я представляла, что цветы должны быть, но их не было, и я решила тут же, что и не обязательно. Это еще одна моя особенность – соглашаться с тем, что происходит, не спорить с реальностью и ничего от нее не требовать. Другие лучше знают, как оно все должно быть, и я им покоряюсь.
Широкая аллея повернула, сузилась, стала глуше, мы невольно замедлили шаги. Осторожно он взял меня за руку. Я чувствовала, что моя рука лежит в его как мертвая, так я вдруг испугалась, что осталась одна с совершенно незнакомым мне мужчиной в глухом углу огромного пустынного парка. И никто не знает, где я.
– Сядем? – предложил он.
И мы сели на лавку, освещенную грустным электрическим светом. Этот свет преображает вещи, и мне показалось, что брюки моего незнакомца лоснятся от старости, а лицо у него скорее серое, чем коричневое. Серое, нездоровое и гладкое, как будто бы борода на нем не растет в принципе. За руки мы уже не держались, я вынула свою руку, чтобы расправить плащик, когда садилась.
Он чуть придвинулся. Я не шевельнулась. Он накрыл мою ладонь своей, поймал.
– О чем думаешь? – спросил он.
– Что ты – маньяк.
Он посмотрел на меня растерянно. Понял, что не шучу. И тихо разжал пальцы, освободил мою ладонь. Мы сидели, молчали, и я чувствовала, что он меня боится. Боится, что испугаюсь чего-нибудь, шороха, кашля и заору. Наверное, он решил, что я сумасшедшая, параноик. Я осторожно поднялась с лавки и отправилась по узкой аллее, окруженной глухими зарослями. Он остался на лавке. И по сей час там сидит – в моей памяти. Человек с коричневым лицом.
Глава 2. Ой – мама
Мы ехали в девятнадцатом автобусе от Марьиной Рощи, я и Рита, моя соседка по комнате. Уже была зима, ехали мы к общаге, стояли на задней площадке, окна плакали, а моя соседка читала мне такие стихи: «Языки, словно змеи, ласкались в глубине двуединого рта».
– Правда, здорово? – спрашивала Рита.
– Да, – отвечала я неуверенно.
Автобус потряхивало, за туманными окнами плыли огни, глаза моей соседки светились, что-то она такое понимала в этих строках, чего я по невинности никак не могла уловить. Она была причастна к этим стихам, а я – все еще нет.
– Да, – соглашалась я, – здорово.
Вот бы почувствовать эти стихи так же, как она.
Над пивзаводом поднималась черная туча птиц, автобус уже шел по Огородному, на котором и стояла наша общага. На одной стороне – общага, жилые дома с магазинами в первых этажах, детским садом и кафе-мороженым, а на другой – пивзавод, мясокомбинат, молочно-перерабатывающий завод, экспериментальная кондитерская фабрика. Из окна нашей комнаты виднелась Останкинская башня, она качалась под ветром и скрывалась в опускавшихся на город тучах. Слышалась железная дорога. Узким проулком между высоченными каменными стенами пивзавода и мясокомбината можно было пройти до станции Останкино Октябрьской железной дороги. Днем – не страшно.
Я проскакивала эту щель, западню, пропахшую гнилью, страшась дворовых собак. Проскакивала, чтобы доехать до Ленинградского вокзала, перейти площадь, сесть на Казанском на поезд и ехать до города Мурома, в котором жила тогда моя бабушка. И все мои поездки туда были поездками в прошлое, в мое несуществование, потому что в том дальнем прошлом меня еще не существовало. Москва тоже для меня была прошлым, но об этом чуть позже.
В Муроме стоял деревянный дом на четыре семьи. Для каждой семьи огород и сад, и такое чувство, что живешь совсем отдельно ото всех. Печка, вода на колонке, туалет во дворе, поленница возле сарая прикрыта толем, от дождей. Старинная жизнь, застывшая в другом времени, ушедшая на дно. На самом дне течение времени замедляется, на поверхности оно бежит, а чем глубже, тем спокойнее, так что я в Муроме оказывалась на самой глубине, дай бог выплыть. Я ложилась на койку с железными шишечками и слушала радио со стеклянной шкалой, брала чашку из буфета, черную, с рыбкой на боку, я разглядывала черно-белые снимки в альбоме. Как-то раз я проснулась ночью от голоса Левитана, он читал сводку Совинформбюро. Я расширившимися зрачками глядела в черное окно и верила, что проснулась прямо во время войны, ушла в ту глубь. Собаки лаяли издалека. Я догадалась, что Левитан говорил в каком-то фильме – у соседей работал телевизор. Не все ли равно? Я была в том времени, я вступила в его воды.
И старину Москвы я узнала в Муроме. Мой маленький брат был с нами одно лето. Он просил меня почитать сказку перед сном, я читала «…Петровский замок, мрачно он…», отрывок из школьной хрестоматии для пятого класса. Мне нравилось повторять эти слова, а ему нравилось слушать, он засыпал под мой размеренный, тихий голос, в темноте, на самом дне времен.
Ездила я в субботу вечером, чтобы утром в понедельник вернуться, успеть к первой паре. Не слишком часто, но ездила. В Муром – с московскими гостинцами: колбаса и конфеты, обратно – с бабушкиными: плюшки, которые я называла поцелуйчиками, варенье вишневое, соленые огурцы.
Итак, ноябрь. И поезд в Муром. Светлый плацкартный вагон.
Читать я не могла, меня укачивало за чтением, ехали мы уже давно, проводница разносила только что поспевший чай. Я разорвала бумажную обертку, бросила сахар в стакан и стала помешивать и постукивать по твердому, неподдающемуся рафинаду. От стакана валил пар.
– Так что? – сказал мне строго молодой человек. – Будем знакомиться?
Он сидел напротив со своим чаем, но сахар бросать в него не спешил. Говорил он строго, но смотрел весело. Я чувствовала себя не слишком уютно, но на вопросы его отвечала.
– Как тебя зовут?
– Лена.
– И сколько же тебе, Лена, лет?
– Семнадцать.
– Давно живешь на свете. Куда едешь?
– К бабушке.
– А в Москве что?
– Учусь.
– Я тоже в Москве учусь. После армии. Заканчиваю, последний год, пишу диплом, распределение уже знаю, Урал. Поедешь со мной на Урал, Лена?
– Я на первом курсе пока.
– Это я понял. В общаге живешь?
– Да. У вас чай остынет.
– Говори мне «ты», Лена, а чай я горячий не люблю. Расскажи мне, что ты любишь.
– Мне выходить скоро.
Я вышла в Муроме, а он поехал дальше, в Казань. Забавно, я шла от вокзала к Казанке, так назывался наш район, а поезд уносил моего попутчика в Казань. А выезжали мы из Москвы с Казанского вокзала. Казанский Бермудский треугольник. И бумажная иконка Казанской Божьей Матери стояла у бабушки на буфете.
В декабре пришли холода. Выяснилось, что я выросла из летом купленного новенького зимнего пальто. Лет до двадцати я продолжала расти.
Еще не Новый год, но уже близко. Пахло не мандаринами, как в детстве всегда пахло под Новый год, но апельсинами. Их немерено завезли в магазинчик на Огородном, мы их брали и ели каждый день, апельсиновая зима была, со шкурками на полу, на подоконнике и даже в постели. Удивительно, только я не разлюбила ни вкус апельсинов, ни запах. Жили мы как в войну при затемнении. Страшно похолодало, ветер дул в наше окно. Щели мы забили, но ветер пробирался и пробирал, так что мы придумали завесить окно синим казенным одеялом, прибили к раме крохотными гвоздиками, которыми тогда забивали посылочные ящики. И стало теплее, хотя и без вида из окна.
Я читала на своей койке, включив лампу. Просунулась голова в дверь.
– Ленка, а тебя ищут.
Голова исчезла, вошел незнакомец, сказал строго:
– Здравствуй. У тебя ночь?
Я книгу закрыла:
– Здравствуйте.
– Мы на «ты».
Я смотрела неуверенно. Где-то я слышала его голос. Лицо казалось незнакомым.
– Ты меня не узнаешь, что ли? Тук-тук, тук-тук – стучат колеса.
Парень из поезда?
– Узнаю, – сказала я осторожно.
– Ну, и хорошо. Бокалы у вас есть? Или из стаканов будем пить?
И он поставил на стол шампанское. «Советское». Сладкое. Я его не любила.
У меня от шампанского болела голова, но отказаться я не решилась. Бокалов не было, как и стаканов, так что я достала чашки. Он тем временем обошел нашу комнатушку. Три койки, шкаф один на всех, стол у стены ближе к выходу, три тумбочки, три книжные полки. Шкаф у нас был развернут лицом в комнату, спиной к двери, он отгораживал что-то вроде прихожей.
Мы уселись за стол, и он вытянул пробку, бережно и осторожно. Я и не знала, что так можно, без грома и пальбы, с легким всего лишь хлопком и тонким вьющимся из горлышка дымком. И разливал он шампанское так же бережно и нежно, без пены.
– Давай, – сказал он. – До дна.
И проследил, как я пью.
– Ну вот, – заключил строго, – порозовела, оживилась.
– Вы написали диплом? – спросила я.
– На брудершафт с тобой, что ли, выпить?
– Нет, спасибо, я не хочу больше.
Мы помолчали. К стенке было приткнуто радио, и он нажал кнопку, радио что-то воскликнуло, ни ничего не успело объяснить, он выключил. Спросил:
– Чья это картина на стене?
– Крамского. «Незнакомка». Репродукция.
– Я не про автора. Кто прикнопил?
– Девочка. – И я указала на койку этой девочки.
– Романтично, – сказал он. И, помолчав, спросил: – А где она?
– Дома. Она редко здесь ночует. Она в Московской области живет.
– Далеко?
– Загорский район.
– С ума сойти. Сколько же она на дорогу тратит? Зачем?
– Скучает по своим.
– Романтичная барышня. А вторая чем интересна?
– Стихи наизусть читает.
– Не может быть.
– Вот, например, в очереди стоит и читает, чтобы отвлечься. Не вслух, конечно.
– Романтичные барышни.
Помолчал, потрогал кнопку на радио, но не включил.
– Ну, а ты?
– Я в «Иллюзион» хожу.
– Что такое «Иллюзион»?
– Кинотеатр. Старое кино.
– Романтичные барышни, – повторил он в который уже раз. И налил нам в чашки еще шампанского.
– Я не хочу.
– Я тоже. – Он поднял чашку. – Но выпить надо. Выдохнется.
Мы стукнулись чашками и выпили.
– А поесть что у тебя?
– Колбаса.
– Тащи.
– Хлеба нет. Могу сходить, одолжить.
– Не суетись.
Он жевал колбасу и запивал шампанским.
– Мне показалось – в поезде, тогда, – что ты постарше.
– В феврале мне будет восемнадцать.
– Да. Но выглядишь ты на тринадцать, не больше.
– Это я подстриглась.
– Да, точно, стрижка молодит. Чувствую себя отвратительно. Как будто ребенка спаиваю.
В дверь просунулась голова.
– Ленка, ты лекции вчера писала по матану?
– Нет.
Голова исчезла.
– Что ж ты лекции не писала? – спросил он строго.
– У меня очки разбились, я не вижу ничего на доске.
– Очки надо заказать. – Он посмотрел на часы: – Пора.
Встал, ушел за шкаф, надел там свою шуршащую куртку. Дверь затворил за собой тихо, бережно. Я посидела, выждала, чтобы он успел пройти весь долгий коридор до лифта, и поплелась из темной комнаты в общую на весь этаж кухню. Белый свет из кухонного окна ослепил, напомнил, что день на дворе.
Включила горячую воду. Смотрела, как она течет и дымится, и думала примерно следующее: вот интересно, почему он сюда притащился, симпатичный парень, неужели у него девушки нет, или поссорился, или совсем расстался, а может, я ему и правда понравилась, там, в поезде, зачем я только подстриглась, дура, еще в очереди сидела почти час, а парикмахерша ножницы роняла, два раза.
Оставила воду и рванула из кухни к лифту, лифт был занят, и я покатилась вниз по лестнице, вылетела на улицу, на обледеневший тротуар.
Парень стоял на остановке, ждал автобус. В темно-синей куртке, стройный, симпатичный. Он меня не видел. Я так и не решилась к нему подойти. Пришел автобус и увез его. И тогда я заметила, что я в тапочках и в тонком свитерке и что дует и пробирает морозный ветер.
У лифтов стояла толпа, и я потащилась по лестнице, марш за маршем, к себе, на восьмой этаж. На площадке стояла знакомая девочка, сигарета тлела в ее пальцах.
– Слушай, – сказала я, – дай закурить.
– А ты умеешь?
– Нет.
Курить она меня выучила так:
– Смотри. На вдохе – как будто говоришь «ой». На выдохе – «мама». Вдох – «ой», выдох – «мама». Ой – мама, ой – мама.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Кружилась голова.
Глава 3. Лучшие книги
Лучшие книги были в Муроме.
«Том Сойер». Его я читала летом, на лавке под яблоней.
«– Том!
Нет ответа».
«Детство» Николеньки, тонкая книжка, твердый переплет, плотные, чуть пожелтелые листы. Она стояла в терраске на этажерке с журналами «Квант» в одном тесном ряду. Промерзала, отогревалась, пахла серым, подтаявшим снегом. Я забирала ее в дом и читала под светом странной лампы на очень высокой ножке под крохотным железным колпаком ярко-красного цвета. Колпак надевался прямо на лампу и накалялся так, что можно было обжечь пальцы.
Третья лучшая книга – «Пиквикский клуб», я ее купила зимой, в Москве, в «Букинисте», привезла с собой в Муром, читала возле печки. Дверца была приотворена, я читала и наблюдала пламя. Так что в «Пиквикском клубе» на каждой странице есть наша облупленная, беленная голубоватой известкой печь, и отсветы пламени, и перестук круглых часов на буфете. И детская фотография моей мамы.
В «Детстве» совершенно определенно написано про вкус чая, который я пила за чтением, грузинский, номер тридцать шесть, и про мою задачку по математике там есть, которую я никак не могла решить. Пришла соседка, сбила с валенок снег, села на край дивана у самой двери, тоже думала над моей задачей и ничего не надумала.
В «Томе Сойере» трепещут тени от яблоневой листвы, на страницах, где они были на острове, и все думали, что они мертвые, а они были живые в своем мальчишеском раю.
В Москве в семнадцать лет я читала Достоевского. «Преступление и наказание». То, что задавали еще в школе. Читала как в первый раз. И Москва казалась мне местом действия. Петербургские улицы оказались в Москве. Раскольников жил где-то в Марьиной Роще. Лекции кончились, я шла от МИИТа и знала, что он следует за мной, погружен в свои лихорадочные мысли, я заражалась его лихорадкой, у меня горел лоб. Я оборачивалась и почти что успевала его заметить, но встретиться взглядом – никогда. Я слышала его мысли.
Удивительно, меня преследовал человек, который понятия не имел, что он меня преследует, понятия не имел о моем существовании, да и сам не существовал. Хотя я-то уверена в существовании вымышленных героев. Они существуют для меня с гораздо большей определенностью, чем те миллиарды человек, о которых я не имею ни малейшего представления. Я лишь знаю, что они существуют. Но кто они? Я не могу вообразить их лиц, их занятий, их образа мыслей, забот, их боли. Только в самом общем – общечеловеческом – плане могу. Но не конкретно, не так, чтобы все эти миллиарды стали живыми для меня. И точно так же я не существую для них. И никогда не буду существовать. Как будто бы и вовсе не была на этом свете.
Воображаемый герой Раскольников занял мои мысли до такой степени, что я чувствовала его живое присутствие. Он шел той же улицей, по которой и я шла из института. Я могла бы его увидеть, если бы оглянулась. Я в этом не сомневалась. Отвязаться от такого преследователя невозможно. Отвязаться, уйти, обмануть. Ты можешь повернуть назад, запрыгнуть в автобус, скрыться в толпе – преследователь от тебя не отстанет ни на шаг, ни на секунду.
Мне стало не по себе в тот стылый вечер с моим спутником, задумавшим убийство. Его лихорадка меня заразила, я чувствовала себя больной.
Моим спасителем оказался парень с нашего потока. В потоке три группы по двадцать пять человек, семинары у каждой группы проходили отдельно, а лекции мы слушали вместе, потоком. Парень шел медленно, я его нагнала, пристроилась рядом. Имени его я не помнила.
– Привет.
– Да, – ответил он, как бы соглашаясь с моим приветствием.
– Куда идешь?
Мне было необходимо отвязаться от призрака, и я позабыла свою застенчивость, бросилась к живому человеку. Мне повезло, парень охотно отвечал на вопросы, охотно и доброжелательно. Возможно, он даже помнил мое имя.
Он сказал:
– Я иду в марьинский Мосторг. Хочу купить заварочный чайник. Взамен разбитого вчера вечером при странных обстоятельствах.
– Серьезно? А у нас нет заварочного чайника.
– Как же вы завариваете чай?
– В кружке. Полулитровая кружка эмалированная, блюдцем накрываем, очень хорошо, только проливается, конечно, когда по чашкам.
– Я бы на вашем месте завел все-таки чайник.
– У нас был, но разбился, причем неизвестно, кто разбил, смотрю утром, нет чайника, осколки в мусорке, и никто не признается, у меня есть подозрение, но я молчу, я бы купила, но я хочу, чтобы тот, кто разбил, купил, так будет справедливо.
Мне было легко идти с ним рядом, как будто со старинным приятелем, с которым мы часто вот так уже ходили вместе, и болтали, и молчали. Он улыбался, и я узнавала его улыбку. Узнавала взгляд. Это странно, оказаться вдруг рядом с человеком, который кажется тебе близким и родным, хотя ты даже имени его не помнишь.
Маленьких чайников не было, и он взял большой. Сказал, что будет заливать кипятком на треть. Я заметила, что этот чайник на большую компанию и потому будет притягивать к себе гостей, гости будут на него слетаться, как мотыльки на свет, теперь не придется пить чай в одиночестве.
– Не дай бог, – отвечал он серьезно.
Мы вместе доехали до общаги, проверили внизу почту, ее раскладывали в открытые ячейки по алфавиту, и поднялись на лифте, я сошла на восьмом, а он отправился выше, на последний, девятый этаж. В лифте я успела спросить его о странных обстоятельствах, при которых он грохнул чайник.
– Обстоятельства такие, что я был один и вдруг меня кто-то окликнул, я дернулся, чайнику не повезло. Я был один, никто меня не окликал, мне почудилось.
В его голосе была – или мне казалось тогда, что была, – какая-то особая, ко мне только обращенная доверительность.
Рита притащила в тот день с почты посылку, здоровенный фанерный ящик. Ей не терпелось его вскрыть, но гвозди вошли прочно, насмерть, мы даже не могли втиснуть нож под крышку. Рита раскраснелась, запыхалась, сказала мне:
– Подожди, я сейчас, не трогай без меня смотри! Не трогай!
Она умчалась, я осталась одна в комнате. В этот вечер я все как будто к чему-то прислушивалась – и когда с Риткой пытались содрать крышку, и оставшись одна. В окно глядела ночь, луна была ее зрачком, желтым и бледным, с подтаявшим краем. Я сидела с ножом на полу возле фанерного ящика, он, конечно, таил сюрпризы. Риткин отец плавал на научно-исследовательском судне, они заходили в заграничные порты, мне сложно было представить тамошние улицы и магазины, я только дары оттуда видела и держала в руках: блузки, бусы, тушь. И все это было особенным, совершенно не нашим, удивительным, инопланетным.
Дверь распахнулась, Рита привела Яшу.
Он выдирал гвозди клещами, Рита удерживала ящик, они смеялись. Я тоже смеялась и удерживала, но все к чему-то прислушивалась.
В посылке, тесно набитой, были и шоколадные конфеты. Всегда, в каждой посылке, либо шоколад, либо шоколадные конфеты, и в письме, лежавшем всегда на самом дне, так что до него еще надо было добраться, всегда была приписка: «…и для Лены – шоколадный сувенир». В самом начале нашего общежития Рита написала отцу, что в каждом кармане у меня хрустит серебряная фольга от шоколада, который я жую прямо на улице, и от этого щеки у меня круглые и румяные, и что я трачу на шоколад половину стипендии, и что мороженое ем только шоколадное, и пирожные только шоколадные, и масло шоколадное мажу на булку, когда пью утром чай, – наверное, это болезнь. И Ритин отец, которого я только на фотографиях видела, а сейчас уже не вспомню его лица, присылал мне шоколадные сувениры, и меня поражало, что никогда он об этом не забывал, и я даже чувствовала себя ему немножко родственницей.
Совсем недавно он мне приснился, хотя я и не помню его лица и не знаю, на этом ли он свете. Такое странное явление из прошлого. Я не стану пересказывать этот сон. Я много раз пробовала пересказывать свои сны, но всякий раз выходило, что я сочиняю их заново, а не пересказываю. Сон разрушается при свете дня.
Мы разобрали посылку и сели пить чай. С присланным шоколадом, конечно. Яша его тоже любил, хотя и говорил, что наш советский не в пример лучше. Не знаю, мне тогда всякий нравился. Я спросила за чаем, знают ли они парня с нашего потока, который живет на девятом этаже.
– Кто-то живет, – сказал Яша.
– Его фамилия начинается на «А».
– Моя фамилия тоже начинается на «А».
– Твоя фамилия начинается на «Ш», – рассмеялась Рита.
– Когда я ее забываю и пытаюсь вспомнить, она начинается на «А».
– Потому что «а» есть в середине.
– Скорее в первой четверти.
Я их слушала и то же время прислушивалась к чему-то. И вдруг вспомнила, что точно так же прислушивалась моя мама как-то ночью. Мы сидели в кухне, не спали, пили чай, играли в дурака, я что-то рассказывала, мама слушала меня и прислушивалась – не ко мне. Мой брат должен был приехать в эту ночь.
Я ушла из комнаты и поднялась на девятый этаж. Он был тише и чище восьмого, в основном здесь жили семейные, на площадке стояли детская коляска, трехколесный велосипед. Из кухни пахло не запустением, а борщом. Я прошлась по этому тихому, теплому этажу, оглядывая двери. Дошла до лифта и вернулась обратно, спустилась по лестнице на несколько маршей, попросила сигарету.
Глава 4. Он
Москва мне казалась городом чужим и холодным, городом, навсегда обращенным в прошлое, а не в будущее, городом, который меня не видит и не знает, для которого я никогда не рождалась. Москва разрушалась, в ней были облупленные стены. В булочных в граненых стаканах продавали кофе с молоком, и, когда я пила его, мне представлялось, что время зашло в тупик. Я чувствовала себя не девочкой, а старухой, которая уже прожила свою жизнь. Я бы не удивилась, увидев свою детскую еще руку иссохшей, сморщенной, с выступившими жилами и пожелтелыми ногтями.
И все-таки я любила ходить по Москве несуществующим человеком. Я и не думала, что однажды осуществлюсь. Что это случится, хотя и ненадолго.
В ту ночь я спала плохо, смотрела на свой фосфорный будильник. За окном, которое было у нас занавешено недавно купленным прозрачным тюлем, горели сигнальные огни Останкинской телебашни. Я уговаривала себя, что несомненно увижу его завтра, что он не заболеет и не умрет в эту ночь. И я не заболею и не умру. Мы увидимся. Я к нему подойду и скажу: привет. Все будет хорошо. Ничего еще в жизни я так не хотела, как увидеть его, подойти, сказать: привет. Без него, без уверенности, что я его увижу, я как будто теряла равновесие, летела к Земле каменным обломком.
Будильник прозвенел, утро настало, я отправилась чистить зубы. Над умывальником в общем туалете висело зеркало, закапанное, замызганное. Я вынула из кармана кусок туалетной бумаги и протерла в зеркале островок, разглядела в нем себя. Могу ли я, такая, ему понравиться? Много, наверное, зеркало видело таких вопросительных взглядов. Ничего, ресницы накрашу – и будет лучше. А иначе – каменным обломком.
На остановке он меня окликнул. Стоял в толпе, а я и не заметила близорукими глазами. Так что не я ему, а он мне сказал: привет. И вышло опять так, будто мы сто лет знакомы, так давно, что успели друг друга позабыть.
– Я тебя не заметила, – сказала я уже в автобусе, толпа нас притиснула к стеклу на задней площадке, к поручню. – Ты не удивляйся, если я пройду мимо и не поздороваюсь, я плохо вижу, а очки не ношу, они мне не идут. И стекла потеют, когда холодно.
– Можно линзы.
– От линз глаза болят.
– Я вижу нормально, но я задумываюсь и тоже могу пройти и не увидеть, так что мы на равных.
Автобус затормозил, меня качнуло, и я коснулась его руки, рука показалась мне горячей. Автобус подходил к Новослободке.
Мы шли к институту переулком, молчали. По рельсам громыхал ослепительный трамвай. Мы шли очень медленно.
– Ты куришь? – спросил он вдруг.
– Да.
– У меня астма. Я от дыма задыхаюсь.
– Да я не особенно курю, баловство.
Переулок повернул, уже виднелся институт за старинной оградой.
– Неохота учиться, – сказал он.
– Да.
– У меня так бывает, что я не хочу учиться и не иду.
– И что делаешь?
– Бреду куда-нибудь.
Мы приблизились к черной решетке ворот. Пара уже началась, в окнах горели огни, утро было сумрачным. Мы прошли мимо ворот. Еще одни трамвай нас перегнал с тревожным лязгом. Или это мне было тревожно.
Я не помню, как мы оказались в этом дворе, тихом, замкнутом. Качели поскрипывали, ветер их качал, гнал поземку по голому асфальту. Мы разом остановились и стали смотреть на этот дом.
– Хотела бы здесь жить?
– Почему нет? Тихо. Кирпичный дом, старый, чугунные батареи, наверное, и потолки высокие. Да, годится.
– А где? На каком этаже?
– На третьем.
– Где?
– Вон то окно.
– Где кошка сидит?
Я вынула из сумки очки, надела:
– Где кошка?
– Она уже спрыгнула. Есть, наверное, пошла.
Он смотрел на меня улыбающимися глазами.
– Что? Не идут мне очки?
– Не знаю. Я этого не понимаю, идут – не идут.
– А ты бы здесь хотел жить?
– Очень. Только повыше, вид будет хороший, на всю Москву.
– Последний этаж рискованно, крыша протечет весной.
– Нет, здесь не протечет, здесь недавно ремонт был, и топят здесь хорошо, я тепло люблю, я бы, как кот, сидел на подоконнике над батареей, здесь широкие подоконники, я бы сидел и глядел.
– Откуда ты знаешь, что тепло топят?
– На форточки погляди, балда, у многих раскрыты.
Я переводила взгляд с одного окна на другое, видела через очки непривычно четко, даже немного голова кружилась, оттого что дальняя жизнь вдруг вышла из тумана, приблизилась ко мне со всеми подробностями.
– А здесь занавешено окно. До сих пор спят?
– Я бы тоже спал.
– А я нет, я бы уже встала. Я бы завтрак готовила.
– Что именно?
– Не знаю. Кашу бы сварила, геркулес.
– На молоке?
– Ну да, на молоке вкуснее. Яйцо бы всмятку.
– А я бы ничего не готовил, я бы пошел в булочную на первом этаже, взял бы свежих булок, кофе с молоком.
– И что нам мешает пойти в эту булочную?
В булочной я заметила, что он без перчаток. Он сказал, что его руки никогда не мерзнут. Я потрогала. Рука была горячей. Как в автобусе, когда я нечаянно ее коснулась.
Обычно я стеснялась самой себя. Все во мне как будто было не к месту. Но с ним я чувствовала себя спокойно. Он едва ли не любовался мной. В очках я была или без. И даже когда я расплескала кофе и закашлялась.
Ходили мы в этот день долго, еще не в одну булочную заходили и пили кофе, и я не казалась себе старухой, я была девочкой, мы оба были детьми, он брал меня за руку горячей рукой, и я как будто чувствовала ток его крови, как будто у нас был общий ток крови. Не знаю, была ли волшебной та страна. Разве что в тот день и в тот вечер, когда уже стемнело и мы попали в Замоскворечье, где тоже нашли дом, в котором поселились, и в моем окне горела лампа под красным железным колпаком, а в его окне было темно, он не включил свет, поставил пластинку и лег на пол слушать. Что-то классическое, громоподобное, звучащее с небес.
Имени его я так и не спросила. Не уверена, что он помнил мое. Не назвал ни разу.
В общаге мы поднимались в лифте. Не одни, в толпе. Наши взгляды встретились. И его взгляд был взглядом чужого человека. Возможно, он задумался и потому уже не видел меня.
– Мой этаж, – напомнила я о себе.
– Да. Спокойной ночи.
Я вышла, лифт закрыл двери и унес его на девятый этаж, под крышу. Наверное, он уговорил комендантшу поселить его повыше. А может быть, ему разрешили из-за астмы: на девятом этаже меньше курят – там дети.
– Ну, хорошо, – спросила меня Ритка, – вы целовались хотя бы?
Мы сидели за нашим столом у стены, по клеенке бежали зеленые олени, Ритка заварила чай, он дымил в чашках. Я смотрела на башню за окном, она покачивалась под ветром.
– Ну, то, что ты ему нравишься, однозначно. Так что все идет по плану. Другое дело, что вот лично мне он не очень нравится. И между прочим, чтоб ты знала, он кандидат на вылет после сессии. Потому что слишком много гулять любит, а староста у нас такая, что все его прогулы отмечает. Так что ты смотри, не полети вместе с ним.
– А вы с Яшей сразу целовались?
– Нет.
Она помолчала и прочитала такие строки:
Сближеньем с вами на мгновенье Я очутился в той стране…Не знаю, что там было после или до, но эти две строки говорили обо мне, Ритка угадала.
Кстати, она мне сказала его имя. Как будто нарекла. Потому что до Ритки имени у него не было.
На другой день Ритка дала мне свой свитер: новенький, из последней посылки, итальянский, так называемая лапша, цвета спелой вишни. Дала мне кулон из черного полупрозрачного камня, квадратный, тяжелый, на серебряной цепочке. Сказала, что если потеряю – не выживу. Сказала, что у меня отвратительная тушь и что губная помада мне не идет, так что я накрасила ресницы ее французской тушью и ее французской помадой губы. Она была бледно-розового цвета, и Ритка сказала, что от моих губ глаз не отвести. Джинсы я ее примерила, но они мне были великоваты, Ритка огорчилась, она не думала, что настолько толще меня, к тому же ей действительно не хотелось, чтобы я надевала свои, купленные в Марьинском за тридцатку. Но что делать. Шапку она мне не разрешила надевать, сказала, что мое уродство пора выбросить или отвезти к бабушке, пусть распустит и свяжет носки. На улице не так холодно, переживешь без шапки, так она сказала. Еще сказала, чтобы я не щурилась и почаще улыбалась.
– А то, когда ты не улыбаешься, кажется, что ты внутри плачешь.
Только все оказалось напрасно, потому что его не было. Ни на остановке, ни в автобусе; но в автобусе я еще надеялась – он мог уехать раньше или позже или вообще на троллейбусе, были варианты; я еще и на паре надеялась, что он опоздал и вот-вот постучит в дверь и вступит с виноватой физиономией или ко второй паре успеет. Но он не пришел, и я с тоской рисовала в тетрадке рожицы и думала, что он бредет по Москве один и не помнит обо мне, находит дом, где будет жить, конечно же без меня. А может быть, он заболел и не бредет, а лежит в бреду или бредет в бреду, и если в бреду, то со мной. И мне больше хотелось, чтобы он заболел и даже умер, но со мной в мыслях, жаль, что не увидел в вишневом свитере с черным кулоном, не засмотрелся на мои бледно-розовые губы, они даже пахнут розой, утренней, свежей.
Из института я поехала сразу в общагу, стояла на задней площадке у плачущего окна, смотрела на убегающую дорогу, и мне казалось, что моя жизнь обрывается. Я поднялась на девятый тихий этаж и подошла к его комнате, номер мне сказала Ритка. За дверью была глухая тишина. Я осторожно, робко постучала, ничто за дверью не шелохнулось. Я подумала, вдруг он и в самом деле там лежит без сознания или уже без жизни, от страха я забила в дверь кулаками. Отворилась соседняя дверь, из нее высунулось женское измученное лицо.
– Я только что уложила ребенка.
– Извините.
– Там никого нет.
– Да?
– Он уехал утром и еще не возвращался, здесь картонные стены.
– Он что, один там живет?
– Почти. У второго девушка в Москве. Насколько я знаю.
Несколько раз за этот вечер я поднималась на девятый этаж по холодной каменной лестнице. На девятом охватывало домашнее тепло, домашние звуки, домашние запахи. Я подходила к его двери, осторожно стучала.
Ритка ушла с Яшей в кино, я взяла книгу, поднялась на девятый, послушала тишину за его дверью, постучала, ушла к окну возле кухни, забралась на подоконник, широкий, каменный и теплый, под ним жарили чугунные батареи. Я сидела на подоконнике, прямо как он в той своей фантазии, в которой он был котом на подоконнике. Книга лежала у меня на коленях, внизу сиял огнями ночной город, но я не смотрела ни в окно, ни в книгу: боялась пропустить его. Этаж жил своей домашней жизнью, на кухне варили еду, ребенка выпустили в коридор на трехколесном велосипеде, он изо всех сил вращал педали, трезвонил. Его сняли с велосипеда и понесли домой ужинать, он не хотел, захлебывался криком, оглядывался на свой велик.
Он вышел из лифта в начале одиннадцатого. Я мгновенно опустила глаза в книгу. Я надеялась, что он меня заметит, обрадуется, подойдет, спросит: а что ты тут делаешь? И я скажу, что живу тут, на подоконнике, совсем неплохо, правда, из окна дует, но вид прекрасный.
Он меня не заметил, наверное, был погружен в свои мысли. Я смотрела, как он идет по коридору, обходит велосипед, вынимает из кармана ключ. Он не знал, что кто-то его видит, был как бы сам с собой, был больше самим собой, так мне думалось, хотя что я видела? Только его удаляющуюся фигуру. Навряд ли его походка изменилась бы, если б он знал, что я на него смотрю. Усталая походка. Он отворил дверь, вошел в комнату. Я услышала щелчок выключателя. Дверь затворилась, он меня не заметил.
Коридор продолжал жить своей жизнью. Мне казалось, что я не существую. Вижу, слышу, отчасти понимаю, но не живу здесь, да и нигде не живу.
– Кто тебе мешал постучать к нему? – спросила Ритка. – Стучала же ты в пустую дверь.
– Я подумала, что он устал, у него была усталая походка.
– «Когда усталая подлодка из глубины идет домой», – пробормотала Ритка.
Мы лежали в темноте на своих койках. Фосфорные стрелки показывали второй час ночи. Я спросила Ритку, можно ли мне и завтра надеть ее свитер. Но Ритка уже спала.
Глава 5. Математика
Будильник я слышала, но проснуться сил недостало. Ритка уверяла, что и не слышала и что, если бы я ее не растолкала, проснулась бы только в двухтысячном году, на пороге нового тысячелетия. Нас тогда очень занимал этот далекий год, мы подсчитывали, сколько нам будет лет, гадали, что с нами станется, в кого мы превратимся, а я думала, что до двухтысячного еще доживу, но до трехтысячного – никогда, и никто из нас не увидит того времени, что это и есть бесконечность – трехтысячный год от Рождества Христова. Это звучало торжественно: от Рождества Христова. Нас там не будет.
Мы опоздали на пятнадцать минут, лектор оглянулся, когда мы проскальзывали в аудиторию, а староста с неохотой вычеркнула из журнала наше небытие. Мы сели с краю, где нашли свободные места. Я оглянулась. Он был здесь, в последнем ряду у стены. Он смотрел прямо на меня. Серьезным, внимательным взглядом. Я улыбнулась. Он поднял палец и погрозил мне. В перерыве я к нему пересела. Он строго велел мне надеть очки, чтобы я видела, что пишет лектор на доске. Я сказала, что все равно не пойму. Он сказал, что ничего сложного нет, он объяснит, можно прямо сегодня, если у меня нет других планов. Я хотела сказать, как Пятачок, что до пятницы совершенно свободна. Но промолчала. А вдруг он никогда не видел этот мультфильм. Он мне казался совершенно особенным, исключительным, не как все.
Я оказалась в его комнате в этот же вечер, за той самой казенной дверью, на том самом тихом этаже. Из его окна тоже была видна Останкинская телебашня. Она и должна была быть видна, но мне почему-то казалось странным, что он смотрит на ту же самую башню, что и я. Правда, с чуть большей высоты. Но для башни это не имело значения. Для ее роста это было мнимостью, величиной, не принимавшейся в расчет.
По дороге из института он сказал, что не умеет ничего объяснять на голодный желудок. В булочной на Огородном проезде взяли его любимых булок, калорийных, с изюмом и орехами, и шоколад для меня. Его комната оказалась меньше нашей, рассчитанной только для двоих. Он сказал, что живет с аспирантом, аспирант хочет жениться, но девушка боится, что только из-за прописки, и не решается. Собственно, так оно и есть, хотя не только. Но роль прописки исключать нельзя из уравнения, иначе не сойдется.
– А ты бы женился из-за прописки? – я спросила.
– Возможно.
– В том доме, под крышей.
– В том доме – несомненно, не раздумывая.
– Даже на старухе?
– Отличный вариант, и ей недолго мучиться, и мне.
– На старой сморщенной старухе, которая видела Наполеона.
– Послушаю о Наполеоне.
– У нее склероз.
Чай он заварил в том самом большом чайнике, и я сказала, что была права: чайник притянул гостей, то есть меня. Пили из стаканов. Точно таких же граненых стаканов, из которых пили в булочных сладкий кофе с молоком. И он сказал, что стащил их именно из булочных, четыре стакана, один уже разбит. Во-первых, сэкономил денег, во-вторых, ему нравится пить из граненых стаканов. Ложки тоже были краденые, алюминиевые. Шелестела-хрустела серебряная фольга. Он сказал, что я измазалась в шоколаде, и попросил провести шоколадным пальцем по верхней губе: он хотел посмотреть, пойдут ли мне усы. Никогда, ни один человек не казался мне ближе. Мы сидели совсем рядом, и я вдруг мазнула шоколадным пальцем и по его верхней губе. Он растерялся. Молча стер шоколад ладонью, стер, конечно, не до конца, больше размазал. Буркнул: «Я сейчас» – и ушел из комнаты большими шагами. Я подошла к зеркалу, увидела свои усы – я бы хотела, чтобы он их слизал. Смутилась от этой мысли, достала платок. В зеркале за моей спиной отражалась карта Москвы, она была разбита цветными фломастерами на квадраты, три были пронумерованы. Я спросила, не шпион ли он, когда он вернулся с чисто вымытым, серьезным лицом. Он сказал, что квадраты – отметки пешехода. Нумерует те, что исхожены. Без номеров – что планирует исходить. И сказал, сдвигая к стене стаканы и шелестящую фольгу, что пора заняться делом, линейная алгебра нас ждет.
На меня он не смотрел. Вырвал из тетрадки лист. Произнес холодно:
– Рассмотрим неоднородную систему линейных уравнений.
Он объяснял слишком быстро, я не успевала. Он бросил на стол ручку и стал смотреть, как я читаю то, что он успел написать. Он заметил вслух, что у меня шевелятся губы, когда я читаю. И добавил, что мозги, наверное, тоже шевелятся. Я попросила еще раз объяснить метод исключения.
– Не буду.
– Почему?
– Потому что это – элементарно. Элементарно и очевидно. Очевидные вещи пусть в детском саду дважды объясняют. Зачем ты вообще пошла сюда учиться? У тебя ноль способностей к математике.
Я растерялась, такая была неприязнь в его голосе.
– А ты зачем?
– Чтобы в армию не попасть.
– Но ты же не учишься, ты по Москве гуляешь.
– Не учусь, но знаю.
– И вылетишь после сессии.
– С какой стати? Я все сдам.
– И вылетишь. За прогулы.
– Значит, мы вылетим вместе. Я за прогулы, а ты за глупость.
Я ушла.
Я спустилась до третьего этажа, там на площадке курил мужчина. Он дал мне сигарету и сказал, что лучше бы я бросала курить, это вредно. Я обещала. Он приехал к дочке на несколько дней. Хотел посмотреть, как она здесь. Сказал, что она стала совсем взрослой, раньше, когда она была маленькой, он был ей нужен, а сейчас нет, сейчас она его стесняется, и еще никогда он не чувствовал себя так одиноко, проживет еще как-нибудь оставшиеся два дня и вернется домой.
– Я бы женился на Валентине, – сказал он, – но как-то боязно.
Уж не знаю, почему он жил один и кто такая была эта Валентина. Не хотела знать и не спросила.
Ритка вернулась во втором часу ночи, по свидетельству фосфорных стрелок. Я лежала и смотрела в черное окно, на красные огни нашей башни. Она за шкафом стягивала сапоги, пила из чайника воду.
– Вы ссоритесь? – спросила я.
– Бывает.
– Из-за чего?
– Вчера мне не понравился фильм. Яшка сказал, что не виноват, не он же его снял, я сказала, что его фильм был бы еще хуже, и объяснила почему, он разозлился. Наверное, полнолуние.
– Нет. Луна идет на убыль.
– Странно.
– А во второй раз вы уже целовались?
– Ну, почти. – Ритка вышла наконец из-за шкафа.
– Почти?
– Я вырвалась.
– Почему?
– Не знаю. Испугалась. Подумала, вдруг он заразный.
– Да ты что.
– Серьезно. Я потом целый день губы в зеркало рассматривала, не вскочило ли чего.
Она улеглась на свою койку, не раздеваясь, не разобрав постели. Повернула ко мне лицо.
– А ты чего не спишь?
– Думаю.
– «Что это? Жар любви? Жар неприязни?»
Я закрыла глаза. Поэт угадал. Откуда бы ему знать обо мне?
Глава 6. «Где печали, где качели, где играли мы вдвоем?»
Спалось плохо, мешали огни башни и ход часов. И его презрение, которое я не умела забыть, и лишь презрение казалось мне в нем искренним, пока была эта ночь. Она шла медленно и тяжело, со скрипом. Казалось, что стоит разобрать часы и смазать механизм, их ход повеселеет, и мы проскочим эту ночь.
В четыре я решила подняться. Я, пожалуй, никогда так рано не вставала в общаге, я только в детстве так рано вставала, в Муроме, когда мы собирались за грибами на пригородном рабочем поезде, мама, и я, и бабушка, и баба Катя, и Мишка.
В кухне горела забытая газовая горелка. Стояла на полу лужа. Валялись картофельные очистки. Бежал по обитому жестью столу таракан. Я отправилась чистить зубы. Тихо, чтобы не разбудить Ритку, собралась. Будильник придвинула к ней поближе. И ушла. Мне очень не хотелось с ним встречаться, и я решила, что это самое верное – выйти пораньше, не в свой час, в ничей час.
Поехала полупустым автобусом по ранним улицам, по ничейным улицам. Они всегда ничейные, ничьи, но только в этот час ты это понимаешь. Институт был наверняка еще закрыт, так что я медлила, шла тихо, заглядывала в окна, и ни в каком мне не хотелось жить. Я заметила переулок, в котором никогда не была, и свернула в него. Переулок оказался тупиком, его перегораживал дом, нежилой, с полосками бумаги на окнах, крест-накрест. Как во время войны. Чтобы взрывной волной не вынесло стекла. Бумажные кресты их удерживали. От близкого взрыва не удержали бы. Я понимала, конечно, умом, что дом не из войны. Наверное, снимали кино и заклеили окна. Я понимала, но это понимание было мнимой величиной. Как с Левитаном когда-то в Муроме. А существенной и важной величиной было чувство, что я вошла прямиком в раннее утро тысяча девятьсот сорок второго года от Рождества Христова. И мне не было страшно. И если я вернусь из тупика на улицу, но не в свое время, если так и не выберусь из войны, не испугаюсь, останусь там жить, как сумею. Но я вышла из тупика в тысяча девятьсот восемьдесят второй, навстречу ослепительному трамваю. Я остановилась и проводила его глазами. Значит, буду жить здесь как получится.
Я вошла в аудиторию, только что вымытую уборщицей. В форточку залетали снежинки. Я забралась на подоконник и захлопнула форточку. Снег шел тихий, крупный. Стоял уже март, первый весенний месяц. Я как будто парила над землей вместе со снегом.
Я спрыгнула с подоконника и уселась у окна в первом ряду, достала тетрадку и ручку, очки положила, и в стеклах немедленно отразился электрический свет. Раскрыла тетрадку и стала перечитывать лекции, внимательно, сосредоточенно, отрешившись от шагов и голосов. Я не желала видеть, когда он войдет, не желала знать, войдет ли он вообще. Ни видеть, ни знать. Так что, когда лектор начал лекцию, я понятия не имела, здесь ли он.
Я старалась сосредоточиться на лекции, в конце концов и в самом деле сосредоточилась, увлеклась, поняла, о чем речь, и, когда лектор задал вопрос по ходу доказательства, я ответила. Сама удивилась, когда услышала свой голос.
– Молодец, – похвалил лектор.
Я оглянулась на аудиторию, мне вдруг захотелось, чтобы он был там, был свидетелем похвалы, успеха.
Он был там, на последнем ряду, у самой стенки. Встретился со мной взглядом, улыбнулся и поднял в знак одобрения большой палец. Я показала язык. Я была счастлива. Совершенно.
Обедать мы пошли вместе. В буфете стояла громадная очередь, как всегда. Обычно я переживала от того, что вот-вот прозвенит звонок и придется бежать на пару голодной, нахалы лезут без очереди, а буфетчица треплется с теткой из подсобки и вообще не шевелится. Звонок прозвенел, но не для нас. Народ рассеялся, буфетчица спросила, что мы желаем, но не любое желание она могла исполнить. Он взял любимых булочек, а я – сосиски и черный хлеб, хотела взять шоколад, но он сказал, что возьмет мне – в подарок. Для него это был жест. Он не любил тратиться, да и не на что ему было разгуляться, стипендия сорок, и мать присылала тридцатку, он говорил, что ему хватает на его образ жизни, а летом надеялся подработать.
С этого дня мы ездили вместе в институт, вместе сидели на лекциях, вместе прогуливали, вместе возвращались, ходили в кино, пили чай вечерами из граненых стаканов в его комнате. Люди считали, что мы живем вместе. Я не разубеждала, я уже говорила, что не люблю разрушать чужих представлений о себе, обычно мне просто лень их разрушать, объяснять, как обстоят дела на самом деле. Не все ли равно, как они обстоят? Пусть люди думают то, что им хочется. Но в данном случае мне бы и самой хотелось, чтобы было так, как думают люди. Но не случилось. Он не допускал. Я даже поцеловать его не могла. Самое большее – взять за руку. Как будто бы он растает от моего поцелуя или превратится в лягушку. Что-то было во всем этом странное, непостижимое моим детским умом, ирреальное. Я плакала по ночам в подушку, думала, что дело во мне, спрашивала Ритку, что во мне не так. Она объясняла, что проблема у него, а не у меня, и уговаривала его бросить, чем скорее, тем лучше. Я соглашалась и не могла. Не могла без него. Или – каменным обломком.
Пришло лето. Его астма и моя близорукость избавили нас от стройотряда. Мы остались вдвоем в опустевшем общежитии, в опустевшем институте, в лаборатории. Она была в старинном корпусе, в подвале, и добираться до нее надо было подвалом. Пружинили под ногами деревянные серые доски настила. По стене шли толстые трубы в клочковатой обмотке. Дни стояли жаркие, но мы зябли за толстыми стенами, не было ни дня, ни ночи, горело электричество, гудели высокие металлические шкафы ЭВМ, мы прогоняли программы, отлаживали, сдавали распечатки, болтали. Он расспрашивал меня о детстве, о местах, в которых я жила с родителями, – Средняя Азия, Забайкалье. Он там не бывал. Муром он проезжал, видел вокзал-крепость. И мы установили, когда он проезжал, в каком году, в какой день, и я пыталась вспомнить или придумать, где была и что делала в тот самый момент. Это было лето, так что я совершенно точно была в Муроме, у бабушки, на каникулах. Мы даже решили, что я была на вокзале и смотрела на его поезд, видела окно в вагоне, за которым – его силуэт. Нам нравилась эта выдуманная нами встреча.
Все было хорошо, все было невыносимо. Так близко, и невозможен последний шаг.
На восьмом затеяли ремонт, и комендантша выдала мне ключ от свободной комнаты на втором. Чем ниже, тем хуже. Больше грязи, шума, дыма, тараканов, щелей в окнах. Мы перетащили мои и Риткины вещи и вещи девочки, которая с нами не жила, только числилась. И «Незнакомку» тоже не забыли. Он сказал, что устал, наглотался дыма, – лифт сломался, и мы таскали по каменной лестнице, мимо курильщиков, хотя и мало их оставалось в это лето. Он ушел, едва начался вечер.
Мне было далеко от него на новом месте, и даже башни не видно. Окно выходило на другую сторону, во двор. Прежде я смотрела на башню и думала, что и он смотрит на нее. Мне всегда казалось, что мы смотрим одновременно. Сейчас я смотрела на кусты сирени, давно отцветшие, темные. Кусты вдруг зашелестели – пошел дождь. Я долго слушала его ход.
Я взяла казенный чайник с номером комнаты на алюминиевом боку, чтобы пойти в кухню, налить воды, вскипятить, отвлечься. Едва я взялась за ручку, как услышала поворот ключа в замочной скважине. Я тихо, бесшумно, поставила чайник на место, на грязный, еще не отмытый стол. Дверь отворилась широко, настежь, и в комнату вошел совершенно мокрый парень. Увидев меня, он застыл, мгновенно натекла вокруг его башмаков лужа. В правой его руке был ключ, а в левой фанерный чемоданчик, старый-престарый, с железными углами, мой папа когда-то давным-давно ездил с таким в командировки.
– Двести девятая? – растерянно спросил парень.
Я повернула к нему бок чайника с номером. Он сощурился:
– Черт. А мне комендантша сказала, что пустая комната.
– Комендантша – дура.
– Это да.
Он потоптался и ушел разбираться, я перешагнула лужу и побрела в кухню. Здесь башню загораживали дома. Не было высоты, полета, второй этаж приземлен. Я чувствовала свою оторванность, одинокость, потерянность.
Я вернулась с кипящим дымящимся чайником, тяжеленным, слишком много я бухнула в него воды. И – следуя моей логике – большой чайник притянул гостя. Он постучал в дверь, дождался моего «Да!» и вошел. Он уже переоделся в сухое, правда, вся эта сухая одежда была ему великовата. Белые огромные кроссовки едва виднелись из-под спадающих штанин. Я хмыкнула – Чарли Чаплин.
– Ты чего?
– Так.
– Слушай, а можно с тобой чаю выпить? Я тортик принес. – Он вывел руку из-за спины и показал белую, перевязанную бечевкой коробку. Рука, торчавшая из большого рукава футболки, казалась совсем детской, мальчишеской.
– Где ты его добыл? Магазины закрыты.
– Если честно, спер у ребят из холодильника, меня подселили к каким-то парням, у них не то что холодильник, у них телевизор есть и кассетник, все дела, в принципе они разрешили взять чего-нибудь пожевать. Они спят, а мне скучно одному жевать.
– А что за тортик?
– Понятия не имею. Я бы с большим удовольствием колбасы съел, но у них колбасы не было.
– Ну, открой мой холодильник – вдруг найдешь?
Я постелила на стол клеенку, достала чашки. Он нашел в холодильнике банку скумбрии. Я подкинула ему открывалку.
– С тебя штаны сваливаются.
– И штаны, и башмаки, и все остальное, потому что не мое, мое промокло. Представляешь, открываю чемодан, а там вода хлюпает.
– Чемодан у тебя хипповый.
– Ага. Кто хиппует, тот поймет. У меня была нормальная сумка, ее уперли, а чемодан дед одолжил, он даже за границей побывал, чемоданчик этот.
– В какой стране?
– В социалистической.
Парень чихнул.
– Заболею. Водки бы, согреться.
– Водки нету.
– У комендантши всегда есть.
Он был кристально ясным, простым. Как будто не из нашего времени, а из шестидесятых примерно годов, ранних шестидесятых, таких, какими я видела их в кино, когда незнакомцы улыбались, и пускали ночевать, и одалживали денег. И можно ходить без страха по дальним улицам, и каждый человек друг, и каждого впереди ждет жизнь, исполненная смысла. Прекрасный утренний мир.
Мы с ним выпили комендантской водки. Треть чашки, и еще треть, и еще столько же, тепло и легко, как никогда, и можно сказать: ты славный, да, ты как брат, нет, зачем брат, я не брат, я хочу тебя поцеловать, можно, я не умею, серьезно, да, я тебя научу, подожди, ты можешь встать, запросто, голова кружится, обними меня, держись, молчи, мне дышать-то надо, носом дыши, не смейся, дурочка.
Он был меньше меня ростом, но крепкий, с твердыми мышцами, когда он скинул штаны, оказалось, что у него лиловые ноги до лодыжек, он объяснил, что это носки вымокли и полиняли, я хохотала.
Я сказала ему, что никогда еще, что в первый раз; я тоже, он сказал, не бойся, давай матрац на пол бросим, а то эта койка, да, голова и так едет, и койка едет, лучше пол, пол твердый, к земле близко, второй этаж.
Слушай, а ты тоже близорукий. Откуда ты знаешь? Щуришься.
Ты ничего?
Нормально.
А я тоже первый раз.
Да ладно.
Фосфорные стрелки показали начало девятого. Они светились в полумраке. Здесь, в этой комнате, за глухой сиренью, всегда был полумрак, утро начиналось выше. Меня тошнило, болела голова. Парень замерз под утро, завернулся в серое казенное одеяло, на лице у него выступила золотистая щетина.
Я встала, нашла зубную щетку, уронила мыло, подняла, оно опять выскользнуло. Парень не просыпался. В туалете я сунула два пальца в рот, меня вырвало, но легче не стало.
Я занесла в полутемную комнату щетку и мыльницу. Парень перевернулся на спину. Приоткрыл во сне рот. Из-под одеяла выползла лиловая нога. Я тихо, морщась от головной боли, оделась.
Лифт по-прежнему не работал. Пришлось тащиться на девятый по лестнице, вдыхать зловонный дым. После пятого марша я села передохнуть на каменной ступеньке. За узким, пыльным окном росло дерево, ветка утыкалась в стекло. На ветке сидел маленький серый воробей. Наши глаза встретились. Мы с птицей были словно бы один на один во всем мире, никого, кроме нас. Одно лишь мгновенье, но так было.
На тихом девятом пахло подгоревшим молоком. Я прошла долгим коридором и постучала в его дверь. Слышала, как он встает со скрипучей койки, как двигает стул, идет. Распахнул дверь и уставился на меня светлыми, удивленными глазами:
– Что с тобой?
– А что?
– Тебе плохо?
– Нормально. Просто тошнит.
– Что же тут нормального? Заходи.
– Я водки вчера выпила, до сих пор плывет, все плывет.
– Заходи, чай сделаю. Сколько же ты выпила?
– В общем и целом бутылку на двоих.
Я устроилась за столом, он пошел ставить чайник. Вернулся, заварил чай, поставил стаканы, сахарницу. И только тогда переспросил:
– На двоих?
– Да, понимаешь, парень один, долго рассказывать, он под дождь попал, мы целовались, ну, и не только. Понимаешь?
Он промолчал. Налил одной черной заварки мне в стакан, бросил четыре куска сахару.
– Больно сладко, – сказала я.
– Пей.
Сел и смотрел, как я отпиваю крохотными глотками.
– Ну и как? – спросил.
– Горячо.
– Я не про чай.
– Нормально. А что?
– Ничего. Какие планы?
– Не знаю. Давай пойдем куда-нибудь.
– Куда?
– Не знаю. В Третьяковскую галерею.
И мы в самом деле пошли в Третьяковскую галерею, и бродили по залам, и смотрели картины, и даже что-то обсуждали. Возвращались пешком до самой общаги. Замоскворечье, Красная площадь, площадь имени Дзержинского, улица Кирова, Садовое кольцо, проспект Мира. Улицы и переулки. Дома, в которых зажигались уже огни. Дома, в которых мы никогда бы не могли жить. Двор, качели. Он сел на доску, качнулся. Я подошла. Он взял меня за руку, усадил на колени. Уткнулся лицом мне в спину, затих. Спокойный был двор, глухой. У гаражей мужики возились с машиной, ковырялись в моторе. Он поднял лицо, подтолкнул меня, и я встала. Оглянулась и увидела, что он плакал. До общаги молчали. Он пошел к лифту, а я к себе, на второй.
Дверь была открыта. Парень сидел за столом и что-то писал. Увидел меня и радостно улыбнулся:
– Слушай, я матери письмо сочиняю. Помоги. – Напиши про погоду.
– Уже.
Я взяла чайник:
– Ты долей, чтоб побольше, я много пью. И ем. Звали его Коля. У него был разборчивый почерк и добрый нрав.
Сон
Дом старый, деревянный, обои зеленые, с серебром; серебро – как иней нетающий, хотя тепло в доме.
Девочка, ее дочь, ей лет пять, стоит коленками на стуле и смотрит в окошко, ждет ее. Метет белый снег.
Проснулась и не поверила, что дочери нет, казалось, она ждет ее где-то, смотрит в окно. Метет белый снег, и если бы знать, где этот дом, бегом бы бежала, а не лежала бы в постели с мокрым лицом.
На чужой даче зеленые обои в серебряной патине, увидела, и сон вспомнился.
Подошла к окну. Мел белый снег. Стояла, смотрела. В доме были люди, накрывали стол, звали ужинать. Она не отзывалась, смотрела – до сумерек.
Отпуск
Необходимо было освободиться, чтобы совершенно ничего не тревожило, не смущало, не занимало мысли, чтобы можно было спокойно закрыть эту дверь и не думать о том, что за ней, чтобы из какого-нибудь пустяка – там – не вырос монстр, который вырвется наружу до того, как она вернется. Проще говоря, до отпуска она хотела завершить на работе все дела.
Три и семь минут ночи показал компьютер, когда она откатилась в кресле от экрана. Она была уже свободна.
Домой возвращалась пешком. Обходила лужу, останавливалась перед одиноко и страшно летящей по проспекту машиной (и водителя в ней не увидела; да был ли?). Человек курил на балконе. Небо над Москвой стояло коричневое и как будто горящее в глубине. Странное небо, неземное; Земля давно превратилась в другую планету, вот что, а мы – в инопланетян. Или Земля – всегда другая планета?
До дому она добралась в начале пятого. С трудом нашла в сумочке ключи.
Вошла в темную, затхлую квартиру, затворила дверь и поняла, как устала. Стащила туфли и пошла по холодному полу босиком. Цветам на подоконнике сказала «здравствуйте», потрогала землю в горшках, полила и сама почувствовала вкус этой воды; сама была сухой землей, постепенно насыщающейся, и была растением, корнями его, сосущими воду. Отворила форточку. Небо из коричневого становилось бледно-розовым. Солнце всходило. Она задвинула занавески и легла на диван под плед. Прежде чем уснуть, удивилась, что не побоялась идти одна пешком в такой глухой час; она же всегда была трусихой. От усталости забыла бояться. И от радости – что отпуск впереди.
Спала она сладко и проснулась со сладким вкусом сна на губах. Она улыбнулась, потянулась. Вставать было лень. Даже глаза было лень открывать. Лежала и гадала, сколько сейчас времени, да и число какое, она не знала, могла и больше суток проспать. Судя по звукам с улицы, был день, в крайнем случае – ранний вечер: дети еще гуляли и перекрикивались птичьими голосами. Сосед за стеной слушал что-то однообразное, бессмысленное. Она провела рукой по ворсистому пледу, вздохнула и открыла глаза.
Часы показывали пять, пять вечера, судя по всему. Она встала и побрела в ванную. В грохоте душа ей почудилось, что кто-то звонит в дверь. Она поскорей завернула кран. Все было тихо. Вода со всхлипом уходила в сток.
Вышла с приятным ощущением собственной тишины и чистоты. В кухне пахло от соседей жареной картошкой. Ей тоже захотелось, и она нашла в холодильнике несколько картофелин; в корзинке под столом, в шелухе, проросшую луковицу. Масла растительного стояла почти целая бутылка. Нажарила картошки, съела прямо со сковородки. Включила радио, ноги положила на табуретку. И слушала дурацкий разговор про перемещения в верхних эшелонах власти, а представляла эшелоны военные, с солдатами и боевой техникой, они стояли на перегонах, солдаты спрыгивали на насыпь черными сапогами. Кто-то упал – засмеялись. Видела она это в каком-то фильме, черно-белом, и потому солдат представляла черно-белыми, и траву, и небо; что-то и в нем было черное, туча, должно быть. По радио уже шла игра с отгадыванием литературных персонажей. Она угадала Раскольникова и Пьера Безухова, современной литературы не знала. Зазвонил мобильный, и она пошла искать сумку, из которой он звонил.
Выпал патрон помады и покатился. Она держала в руке трубку. Из светящегося окошка смотрело на нее имя: Петя. Звонок отзвенел, и имя исчезло, появилась надпись: «1 непринятый звонок». Как название триллера. Она отключила мобильный: ей не хотелось ни говорить, ни слушать. Отключила стационарный телефон и домофон. И тогда почувствовала себя недоступной никому, свободной. Никто не мог втянуть ее в свою орбиту и закружить.
Она раскрыла окно. Стояла середина лета, а вечерний воздух казался уже осенним, усталым.
В этот вечер она лениво смотрела телевизор, переключая с одного канала на другой. Люди рассказывали о себе в разных ток-шоу, они были как жители иной планеты, а она сидела в своей квартире, в своем космическом корабле, и лишь наблюдала за происходящим. Была ото всех в безопасном далеке.
Она устала от телевизора и выключила. Увидела, что уже темно в комнате, что небо коричневое за окном. Подумала, что надо выйти и посмотреть почту. Подошла к двери, взялась за ручку. И не смогла повернуть замок. Услышала голос соседки на площадке, не захотела встречаться, отвечать на вопросы.
Соседка ушла, но она дверь не отворила. Она осознала, стоя перед этой дверью, что самое большое ее желание сейчас – остаться дома. Ей и подумать было страшно, что надо пройти мимо кого-то, пусть даже незнакомого. Ей казалось, любой взгляд отнимет у нее все силы. Любой вопрос («Сколько времени?») убьет.
Когда поняла, что не может выйти из дому и даже позвонить кому бы то ни было, рассмотрела запасы. Крупы манной была пачка. Гречки – полпачки. Спагетти две упаковки… Составила реестр, рассчитала, сколько чего можно потратить в день и сколько дней можно так продержаться.
Кое-что она сделала по дому: постирала, окно вымыла наконец-то в кухне, но только изнутри. Такая трата энергии была расточительством, и в дальнейшем она старалась больше спать, лежать, не двигаться, не думать о еде, которой становилось все меньше и меньше; а от соседей так вкусно пахло, беспрерывно они что-то готовили, то баклажаны томили с помидорами и чесноком, то борщ варили, то курицу жарили, от одних только запахов можно было умереть, она закрывала дверь в кухню, но они все равно просачивались.
Она ничего не могла с собой поделать, отвращение – люди кругом, люди! – перебивало страх смерти. Умереть казалось легче. Без особого ужаса она представляла, как доедает последнюю крупинку гречки или последнюю макаронину, и остается ей одна вода, на ней еще можно протянуть с месяц. А дальше? Тишина. К которой она так стремительно приближалась.
В первый день после отпуска она проснулась в семь утра, как будто будильник прозвонил. Встала, легкая от голода, пустая. Приняла душ. Выпила кипятка, чай и кофе все вышли. С конфетой, которую нашла накануне в запылившейся вазочке. Оделась. Отворила дверь и равнодушно за нее вышла.
В лифте с ней поздоровались, и она ответила. Удивилась своему голосу. Кружилась голова, и она зашла в булочную. Булку брать побоялась, слышала, как умирают вдруг наевшиеся с голодухи люди. Взяла сухарик и кофе и выпила с сухариком, удивляясь новизне вкуса. И тому, что сидит здесь, среди людей, в тепле и уюте, как будто бы только сейчас прилетела издалека-издалека.
На работе она так и сказала, что прибыла только утром, что самолет опоздал, что побывала в стране, совсем маленькой и далекой, высоко в горах, в Южной Америке. Что немножко странно себя чувствует, нужно акклиматизироваться. «Как ты похудела», – с завистью сказала приятельница.
Рассказывала в самых общих словах, что отельчик был неплохой, кормили просто и сытно, на экскурсии ездила. Фотографии нашла в Интернете – горы на фоне синего неба, ущелье, стадо белых овец. Ее на этих фотографиях не было – неудивительно, она бы никому не доверила свой дорогущий фотоаппарат.
Что-то было
Леха отсканировал фотографии и вернул. Она спрятала их в белый плотный конверт. Он попросил ее встать и взял камеру. Конверт она не выпускала, Леха сказал, что никуда он не денется, пусть положит на стол.
Она стояла, как он велел, у стены и смотрела на этот белый конверт. Леха сказал, чтобы посмотрела прямо в объектив. И еще:
– Вы хотите, чтобы с таким лицом? А смысл?
Она улыбнулась и даже рассмеялась. И головой тряхнула, и склонила голову, и посмотрела – в сторону. Но счастливых глаз все-таки не получалось, испуг из них не уходил. И Леха сказал, что сделает все возможное, но ничего не гарантирует. Она заплатила аванс, Леха пересчитал и сказал, что позвонит через пару недель и чтобы сама она не звонила, не торопила, спешить в таком деле невозможно. Места они выбрали: средневековая улочка, мощенная белым камнем, кафе на набережной, веранда, белый песок, самая гуща уличной летней толпы.
Она вышла из студии и направилась, сжимая сумочку, в которой лежал белый плотный конверт, к остановке.
Через две недели он не позвонил.
После работы она не выдержала и поехала к салону. Войти не решилась. Спряталась за газетным киоском. За широкой стеклянной дверью горел свет, она знала, что там сидит охранник и, наверное, читает газету, и всякий вошедший говорит ему, куда идет. «В салон». – «Третий этаж». Что там еще было, кроме салона? Турагентство, нотариальная контора, какие-то офисы, запиравшиеся на кодовые замки.
Леха вышел из стеклянной двери около восьми, она уже думала, что его там нет, и, если бы он не появился, она простояла бы до ночи. Леха вышел, посмотрел на низкое небо и направился к своей машине.
Он давно уехал, а она все не отступала от киоска.
Народ схлынул, и автобус был почти пустой. Она смотрела в окно. Дождь начался, капли чертили линии по пыльному стеклу. Зазвонил телефон, она выхватила его из сумочки как оружие, из которого будет сейчас выстрел.
– Все готово, – сказал Леха.
– Все?
– Увидите.
Белые крахмальные скатерти пришпилены к столешнице – от ветра. Салфетка улетает.
Она сидит за столиком в светлой кофточке, пьет кофе, чашка белая, сияющая, с ослепительным золотым ободком. Она смотрит вниз, на море.
Вадим Сергеевич сидит напротив нее. Смотрит на нее. На нем рубашка с распахнутым воротом, волосы растрепаны ветром.
– Где вы достали эту кофточку? – спросила Леху.
– В Интернете.
– Как вы думаете, она дорогая?
– Не знаю. Оставить вам ссылку?
Улочка, мощенная белым камнем. Катит мотоциклист. Пешеходы прижимаются к стенам. Они стоят в арке. Вадим Сергеевич положил руку ей на талию. За ними аквамарином светится море. Справа от арки – сувенирная лавка: ракушки, бусы, магниты, керамика. Бусы у нее на шее – из такой лавки, круглые бусы из прозрачного камня, они очень ей идут.
– Где бы такие достать?
– А вы зайдите в «Подарки» на Московской. Вадим Сергеевич за рулем. Из окна открываются пропасть, скалы, на вершине стоят сосны, черные на фоне неба. Она сидит возле Вадима Сергеевича. Ее внимание захвачено космическим видом из окна. В глазах – безумный восторг.
– Где вы мне такие глаза достали?
– Само вышло. На фоне такой красоты.
Где они, не очень понятно. Скорей всего, в гостиничном номере. Полумрак. Стоят, тесно прижавшись друг к другу. В зеркале отражается его голая спина. Они целуются.
– Возникает вопрос: кто снимал? – говорит она Лехе.
– Какая разница?
– Тогда получается, что мы позируем, это фальшиво.
– Можем убрать.
Она молчит, смотрит. На отражение голой спины в зеркале. Ее спина размыта, прямо перед объективом, не совсем в фокусе. Губы полураскрыты, волосы откинуты его рукой.
– Пусть, – решает она. – Ладно.
Леха сказал:
– Не хочу вам голову морочить, эксперт сразу поймет, что это подделка.
– Подделка?
– Ну, разумеется. Я, конечно, мастер, но всего не предусмотришь, во-первых; во-вторых, половина здесь додумана, не так много у меня было исходного материала. Так что вы поосторожнее с этим делом. На испуг еще можно взять, а что-то серьезное лучше не надо. И, если что, я дам показания.
– Какие?
– Что это фальшивка, что я ее изготовил по вашей просьбе и все такое.
– Думаю, до этого дело не дойдет.
– Хотелось бы.
Она никому и не собиралась показывать эти снимки. Они лежали у нее в альбоме. Иногда она доставала и смотрела, как чудесно они провели с Вадимом Сергеевичем эти семь дней в Хорватии. Бусы у нее лежали в шкатулке, иногда она брала их в руки, перекатывала. Светлая кофточка висела в шкафу. Ни разу она ее не надела – здесь.
Вадим Сергеевич работал этажом выше, встречались они в основном в столовой. Иногда в лифте. Как-то раз она увидела его с женой и детьми в парке. Поздоровались. У нее сжалось сердце, ей показалось, он задержал на ней свой взгляд. Глаза у него были серые.
Прощание
В глухом мраке, под землей, под чугунной плитой. Плита опускается медленно и неотвратимо, как в рассказе Эдгара По. Чем тише сидеть, тем тише она будет опускаться. Глядишь, и не придавит, не заметит, не успеет, всему свой срок, а ей – один год, три месяца и две недели, если считать с сегодняшнего утра. Так думала, идя от метро просторной обледенелой улицей.
Она не спешила, время у нее было. Через голый сквер перешла на другую сторону. Ветер шумел в черных ветвях.
Зашла в гастроном. Он был как привал в дальней дороге, лучшая часть путешествия, роздых перед предстоящим. В кафетерии она брала кофе и бутерброд с колбасой. В те, давние уже, времена кофе в таких кафетериях наливали в граненые стаканы, и был он с молоком. Бутерброд стоил десять копеек, кофе – двадцать. Она несла свой стакан к высокому столику. Стояла, облокотившись о высокую столешницу, бутерброд с лепестком колбасы лежал на салфетке. За высоким окном казалось совсем темно, и тоскливо было выходить. Она смотрела на часы, я уже и не помню, как они выглядели. Опоздать она боялась, на проходной отмечали время прихода.
В это утро умер человек, который и был ее чугунной плитой, кто преграждал ей воздух и свет, и когда она пришла на работу и узнала, чуть-чуть не рассмеялась. Плиту сняли, вышла амнистия.
На третий день сказали, что работы не будет, отдел едет на похороны, собрали деньги на цветы. Деньги она сдала и подумала, что совсем не обязательно ехать ей на его похороны, она выйдет со всеми и отстанет, свернет в какой-нибудь переулок, никто и не хватится, кому она нужна.
Был ей двадцать один год, и работала она на этом заводе по распределению и по закону должна была еще отработать один год, три месяца и две недели. Но теперь, после его смерти, это уже казалось легко, несущественно, понарошку.
Дождались всех и отправились. Странно было выходить так рано с завода, странно, что выпускали. Время отвлеклось, как отвлекся бы часовой на посту, и они проскочили. За проходной их ждал автобус. Она замешкалась, отстала, задержалась с рассеянным лицом у щита с газетами. Подошел пожилой мужчина с палкой и загородил ее. Он читал, близко наклоняясь к газетным буквам. Она видела автобус из-за его плеча. Все уже сели, но он стоял, мотор работал вхолостую. Наверное, шофер закуривал.
Из автобуса вдруг вышла Анна Сергеевна. Направилась к газетному щиту.
Она сжалась за большим, тепло дышащим мужчиной. Анна Сергеевна обошла мужчину. Пахнуло всегдашними ее духами.
– Тебя ждем.
– Да?
– Нашла время газеты читать.
– У меня голова болит, Анна Сергеевна, я на воздухе постоять.
– Я тебе таблетку дам, а воздухом мы сегодня на месяц вперед надышимся.
– Я бы домой лучше…
– Я бы тоже.
– А…
– У тебя во сколько рабочий день заканчивается?
– В шесть.
– Вот и будь добра до шести – с трудовым коллективом. Здесь не детский сад.
Весь автобус на нее смотрел, когда шла по проходу, все двадцать человек, первый раз так – все взгляды на нее. Села в самый хвост, притиснулась к окну, затаилась.
Ехали очень долго, больше часа, при том, что в те времена дороги были почти пустынны.
Прощались в каком-то как будто ангаре с воротами и без окон. Дурно пахло цветами. Незнакомый человек сказал, что помнит покойного маленьким мальчиком и всегда в нем видел этого мальчика, и заплакал. Она смотрела на него удивленно. Начальник отдела сказал, что покойный был прекрасным работником и товарищем. «Нам всем его будет не хватать».
В гроб заглянула почти нечаянно и оторопела, не узнала лежащего и сейчас только поняла, что он совсем ушел, что его уже нет, что это тело – не он, это почти сама земля, и радостно стало, и жутко от этой радости. Радость была понятная, простая, что он не посмотрит больше никогда на нее бледноголубыми неподвижными глазами, от которых и она становилась неподвижной и не могла уже даже думать, едва только дышала. Никогда он не скажет громко, на весь отдел: «У вас три ошибки в программе!», не швырнет распечатку о стол: «Будьте любезны, разберитесь». И не добавит, не добьет: «На первом курсе такие ошибки студенты делают, и то не все, самые тупые». И не будет он сидеть с чашкой чая и громыхать в ней ложкой! Не услышит она ни его голоса, ни его ложки, ни шагов, которые всегда узнавала. И не увидит она больше его носовой платок – у него часто был насморк, и она помнила все его платки. И никто не обзовет ее дурой набитой, объясняя задачу. Она его боялась, а теперь бояться некого, и слава богу, спасибо Ему, если Он есть, что прибрал это чудище, иначе бы она уже не смогла, не вынесла. И она поняла, как хорошо, что поехала со всеми прощаться, ей очень нужно с ним попрощаться, навсегда, попрощаться, чтобы уже забыть.
Вдалеке темнел лесок. Ноги скользили по глинистой земле, дул ветер. Дождь начался и шел все сильнее. Мужчина, который помнил его маленьким, сказал, что душа покойного не хочет нас покидать и стонет и плачет. «Уходи, уходи, – думалось, – не стони, не поможет, а я тоже плакала, но тебе все равно было». Зонта она с собой не захватила, и Анна Сергеевна взяла ее за локоть и притянула к себе:
– Чего-то ты, подруга, дрожишь, первый раз хоронишь?
Точно, первый раз.
Анна Сергеевна сама, своей рукой, налила ей водки и велела выпить сразу, чтоб не заболеть. И горячего ей подкладывала, и чаю покрепче наливала, с коньяком.
А ей интересно оказалось посмотреть, где он жил, так бы и не побывала никогда. Квартирка была в панельном доме, на окраине, холостяцкая, холодная, в окна дуло из щелей. В ванной висела его рубашка, она ее не видала, наверное, домашняя, с обтрепанными манжетами. Уж могли бы и убрать, ни у кого руки не дошли. Незнакомый мужчина оказался дядей покойного. Рассказал, что тот рос сиротой и всего сам добился. А чего добился? Квартиры этой щелястой на птичьей высоте? Работы в затхлой конторе от девяти до шести? Это, наверное, не она одна так подумала, по глазам было видно. Жена у него, оказывается, была – пять лет назад. Ничего от нее не осталось, даже фотокарточки, все порвал, она ему изменяла. Книжки он читал – воспоминания маршалов о Великой Отечественной войне. В одной была закладка, она открыла. Схема сражения со стрелками передвижений войск, с речкой и сараем на том, на не нашем, берегу.
От выпитого ей не сиделось на месте, какое-то беспокойство появилось во всем теле и томление, она вышла на балкон, там курили мужчины и седая женщина, соседка. С такой высоты она и не видела никогда мир. И балкон казался совсем крохотным, приступочкой.
– А тебя я знаю, – сказала соседка.
– Да?
– С его слов. Ты у него, прямо скажем, с языка не сходила. И походка твоя его раздражала, и голос, и всякий раз, как ни зайду, он помянет тебя. Я не вытерпела, сказала: «Покоя она тебе не дает, влюбился, наверно». Так он пирожки мои шваркнул с балкона, представляешь?
Дом
Выход из метро закрыли, пришлось через радиальную. Шла незнакомым переулком под утренним небом. Сказали, что переулок приведет к третьему корпусу. Прозвенел невидимый трамвай. С пустого серого неба слетел, вращаясь, листок, – откуда его принесло? Не желтый, помутневший. Всё, кончилась сентябрьская ясность.
В приземистом одноэтажном доме горели огни. Он стоял здесь лет сто, у дверей памятная табличка, можно бы прочитать; издали она не могла различить, а подойти, отворить калитку, подняться на крыльцо времени не было, она на секунду только задержалась у желтых огней. Ей подумалось, что там все как сто лет назад, люди сидят за круглым столом, поет самовар, печи уже растоплены. Она бежала на работу и улыбалась, представляя тепло того дома. Но уже на проходной забыла о его существовании. На другое утро опять он встал перед ней, за невысокой оградкой, в окружении старых лип, и подумалось о летнем их сладком запахе, как проникал он сквозь открытые окна в дом, где все еще спали, и какая тишина тогда стояла в Москве, в глухом ее этом углу.
Настали заморозки, она бежала по черному, сырому асфальту, посыпанному солью, а раньше бы здесь все оледенело и дворники бы сбивали лед ломом, и вдруг она остановилась. В доме горели огни, из печной трубы шел дым. И так ей захотелось войти и приблизиться по дощатому полу к изразцовой, наверное, печи, жарко гудящей.
Она приехала в субботу. Волновалась, так что не сразу решилась пройти через калитку. Боялась, что не увидит того, что придумала, – ни дощатого пола, ни изразцовой печи. Людей за самоваром точно не будет, это она понимала. Снег нападал за ночь, за оградкой он был белый, и черные липы стояли в нем торжественно. В окнах горел свет, скрипело крыльцо под ногами. Она отворила обитую ватином дверь и вошла в прихожую. За столом сидела женщина в платочке. Пол под ногами был деревянный, серый, некрашеный. Она заплатила пятьдесят копеек, и женщина дала ей билет, зеленый, как в кинотеатр, разве что не был указан ряд и место.
Дом был, конечно, не жилой – музей, но самовар стоял на круглом столе, и печь топилась, изразцовая. Подойти к ней было нельзя, ее ограждали бархатные шнуры, но жар от нее исходил, и немного надо было воображения, чтобы представить себя сидящей на корточках у приоткрытой дверцы, за которой пляшет огонь.
Она прошла вереницу комнат, рассмотрела кожаные, твердые наверное, диваны, горки с посудой, сундуки, девичьи кровати в спаленке, и подумалось почему-то о мяче, закатившемся под кровать. Мучительно хотелось знать, кто же здесь жил, в этом доме, как жили, как проводили время, какие здесь звучали разговоры… а вот здесь, в темном закутке возле чулана, поцелуи.
Экскурсоводша в очках все рассказала. Посетителей других не было, и рассказывала она спокойно, неспешно, с удовольствием отвечала на вопросы. И даже книжку подарила о всех жителях этого дома, об их судьбе.
Книжку она прочитала не только эту, в библиотеке ей все нашли, что только можно, об этих людях, о доме, о вещах в нем, у каждой была история. И каждый почти выходной, если только не болезнь или еще какое происшествие: трубу, например, прорвало под Новый год, наведывалась в этот дом и с экскурсоводшей уже говорила как с равной, но больше любила ходить одна, сидеть на стульях для посетителей, смотреть на убранство, все о нем зная, всю подноготную. Но ей хотелось большего. Не просто вплотную подойти к этой жизни, а сделать шаг за грань. За бархатные-то шнуры она проходила уже как своя, и ладони ее ложились на горячие изразцы, но все это было не то. Близко она подходила к той жизни, близко та ее к себе подпускала, но не впускала – все-таки оставалась сама по себе, как бы за гранью. И дело было не в разных временах: она в настоящем, они – в прошедшем. Они просто не хотели ее впускать к себе, так ей чувствовалось.
После она догадалась, что не только они. И те, кого она любила в настоящем, с кем хотела бы быть и, кажется, могла бы, ее не допускали. Никогда не было последней близости, самой. Не в плотском смысле, в плотском смысле такая близость меньше всего достигалась – из ее опыта. Ей оставалось только чувствовать их жизнь, издали, всегда как чужую, всегда как из другого времени, всегда как прошедшую. Их жизни уже прошли, а ее все еще длится. Но ничего в ней уже не будет.
Работа
Это была ее третья работа. На первой она продержалась один день, на второй – до обеда. Мать не могла взять в толк почему.
Она не умела объяснить. Молчала.
– Обидел тебя кто? – спрашивала мать. – Работа тяжелая? Что вообще не так? Почему нельзя потерпеть? Как ты собираешься жить? Ни образования, ни внешности. Как-то надо приспосабливаться к жизни. Ничего в ней особо страшного нет. Привыкать трудно, надо потерпеть. И денег у меня больше не проси, может, это тебя научит. Ведь есть же у тебя слова, когда деньги нужны, а когда мать спрашивает, слов нет, все куда-то деваются.
Мать спросила, что за работа, на которую она пойдет завтра.
– Не знаю еще, – ответила дочь, – сказали, что просто, объяснят.
– Испытательный срок?
– Испытательный срок.
– Сколько?
– Три месяца.
– Зарплата будет?
– Будет.
– Продержись.
– Продержусь.
Мать осмотрела, что есть из продуктов и прочее. Стиральный порошок, зубная паста, грязное белье – все ее интересовало.
– Пыли у тебя много, – сказала в конце концов. – Когда здесь тетя Римма жила, в честь которой тебя назвали по ее просьбе, здесь чистота была идеальная. Если бы Римма знала, как ты ее квартиру загадишь, ни за что бы тебе ее не завещала.
– Римма знала, что у меня пыль будет.
– А где, я что-то никак не увижу, чайник с петухами, это я его Римме дарила на пятьдесят лет. Разбила?
– Да нет.
– А где он? Римма его любила.
– Подружке я его подарила, денег не было подарок искать.
– Вот спасибо.
– Не разбила же.
– Да, молодец. Весь дом у тебя из рук разлетится. Когда-нибудь и дом продашь и пойдешь бомжом.
– Бомжихой.
– Ты улыбаться научись. Все легче будет.
Мать взяла с дивана старого плюшевого мишку с пуговичными глазами, с голубой атласной ленточкой на шее.
– С детства его Римма хранила. Разговаривала с ним на старости лет, вела беседы, даже ссорилась, я свидетель. Пережил хозяйку.
Посадила мишку на место, ленточку ему поправила.
– Помнишь Римму? – заглянула в пуговичные глаза.
Имя свое Римме нравилось. И только. Внешность ужасная, голос мальчишеский, походка нелепая. И глаза разного цвета, если вглядеться. Зеленый и карий, почти желтый.
Ночью спала плохо. Подходила к окну.
Начался снег, может, к лучшему. Первый снег, первый рабочий день, день с чистого, белого листа. К утру снег растаял.
Уже перед выходом она задержалась. Смотрела угрюмо на стену в прихожей и пыталась вспомнить, что же такое важное она должна сегодня сделать, не упустить. Должна, точно знала, но что именно – вспомнить не могла. Проверила, выключен ли свет, не горит ли газ. Взяла ли с собой паспорт.
Задача первая была – не опоздать. Ее предупредили, что начальница за опоздание выписывает штраф. Минута – тысяча рублей. Деньги идут в черную кассу. Больше чем на пять минут опоздание – можно и совсем не приходить, автоматом увольнение.
– Что же, им денег не нужно в черную кассу? – угрюмо пошутила тогда Римма. – Двадцать минут, к примеру, двадцать тысяч.
– Дело не в деньгах, – отвечала ей девушка по персоналу. Она была прехорошенькая, легкая, светлая, душистая. Римма возле нее чувствовала себя каменной дурой.
– А не будет у меня денег? У меня их сейчас совсем нет.
– Не опаздывайте.
– А если авария?
– Не попадайте.
Черную кассу Римма представляла черным кассовым аппаратом. Сдаешь деньги, их прячут и выбивают чек.
В метро Римма боялась задуматься и проехать стацию. Реклама на стене обещала райскую жизнь за городом.
Поезд грохотал в тоннеле. Римма держалась за поручень и смотрела сверху вниз на сидящих пассажиров. Многие спали. И Римме казалось, их вязкие сны забираются в ее мысли.
Приближалась ее станция. Римма пробилась через толпу к дверям.
– Вы хотя бы спросили, девушка. Я тоже выхожу, между прочим, – прошипел кто-то.
В черном стекле Римма встретилась со своим отражением. Глаза были совершенно одинакового цвета, черные. Совершенные глаза. И губы улыбались. Отражение жило своей жизнью.
Троллейбус Римма ждать не стала и пошла пешком. Скоро он ее обогнал.
И народу немного, и салон ярко освещен. Сиденья мягкие, воздух теплый, едет человек и глядит сквозь чистое стекло на сумрак улицы. Римма разозлилась на себя, что не дождалась троллейбуса. Испугалась, что может опоздать, хотя пугаться не стоило, время было. Но она все-таки прибавила шагу, почти побежала и в здание влетела красная, взмокшая, сапоги замызганы грязью. Девушка по персоналу предупреждала, что начальница любит людей чистых, спокойных, вкусно пахнущих. Римма отправилась в туалет, протерла сапоги, руки вымыла, волосы пригладила. Поглядела на часы.
Из кабинки вышла женщина, взглянула на Римму настороженно. Ополоснула руки. Наклонилась к зеркалу. Кафель, раковина, женщина перед зеркалом – все блестело чистотой, пахло чистотой, и Римме слышался запах собственного тела, некрасивый и грубый. Она ждала, что женщина что-нибудь сделает, поглядев на себя в зеркало, прядь волос поправит, губы, может, подкрасит. Но женщина ничего менять в своем облике не стала, отклонилась от зеркала и, не взглянув более на Римму, вышла из туалета. Дверь за ней закрывалась медленно и мягко. Римма вдруг испугалась, что ее часы отстают.
В коридоре перед кабинетом Римма сняла куртку, поправила белый воротничок рубашки. Вздохнула, потянула на себя дверь, вошла, буркнула «здрасьте».
Ей никто не ответил. Ярко горели под потолком лампы. Две женщины, каждая за своим компьютером, бегло стучали по клавишам. Еще один был компьютер в комнате, наверное, для Риммы. Возле окна на журнальном столике в небольшой клетке сидела серая крыса с длинным хвостом. В клетке было колесо для бега, плошка с водой, сухарик лежал.
– Здрасьте, – повторила Римма.
Одна из женщин прервала стук по клавишам.
– Валя, – сказала. – Ты набрала? Распечатай.
– Секундочку, – с готовностью отвечала ей вторая.
– И чайник поставь, кстати.
Сказав это, женщина взглянула наконец на Римму.
– Ты выйди, – сказала Римме ровно, – и опять зайди.
Римма смотрела угрюмо, непонимающе. Крыса принялась грызть сухарик. Женщина вернулась к работе, у Вали загудел принтер.
Римма вышла из кабинета в тихий коридор. Стояла и не знала, что делать.
В конце коридора показался мужчина. Он приближался с озабоченным лицом. Шагов его не было слышно. Римма сказала ему «здрасьте», он взглянул удивленно, но ответил: «Здравствуйте». Римма смотрела ему вслед, пока не скрылся за поворотом.
Вдруг дверь в кабинет отворилась, и появилась с чайником Валя. Дверь за собой затворила и направилась к баллону с водой.
Вода наливалась в чайник тонкой струйкой, медленно. И Валя, и Римма наблюдали за ее неторопливым течением. Чайник наполнился, и Валя понесла его к кабинету.
Она взялась за ручку двери и сказала тихо неподвижной, мрачной Римме:
– Войди с улыбкой, поздоровайся громко. И не «здрасьте», а «здравствуйте».
Она скрылась в кабинете, Римма вздохнула, выдохнула и взялась за ручку холодными пальцами.
Улыбнуться не получилось, но «здравствуйте» сказать удалось. Начальница глядела в экран компьютера, хмурилась. Римма ждала. Крыса чем-то шуршала. Торчал наружу длинный хвост.
– Валечка, – сказала начальница, – объясни сотруднице обязанности.
Римма сидела за компьютером. Куртка ее висела в общем шкафчике, с краю. Валя налила ей в кружку чаю, и он дымился на краю стола. На голове у Риммы были наушники, мужской голос, старый и бессильный, говорил ей. Валя посоветовала сначала прослушать, а после уже вернуться к началу и расшифровывать по фразам. Она сказала, что не надо заботиться о запятых и правилах, Валя сама потом отредактирует текст.
– Я был середняком, – сообщил голос, – и по учебе, и по внешности. Меня в компаниях не замечали. Забывали пригласить на день рождения, просто забывали. И я не обижался, я все равно приходил, я любил ходить в гости, есть в гостях, все попробовать хотелось, мать однообразно готовила, в гостях было интересно, и с людьми я любил быть, мне даже нравилось, что меня не очень замечают, что потом, когда видят на фотографиях, удивляются: о, ты тоже был? Тихий и незаметный, я мог делать что хочу, я мог не прийти на урок, и меня могли не хватиться, только если к доске вызывали. Я и дома так же, мало меня замечали. Мать иногда скажет: «Ты поел?» – «Да». – «Уроки?» – «Да». Хлопот не было от меня, она и так была вся в хлопотах, работа тяжелая, на стройке, в выходной отоспаться, белье постирать. Меня все устраивало в моей жизни, я не страдал, я даже влюбился, не страдал, что безответно. Я бы даже испугался, если бы она мной заинтересовалась. Заметила бы если.
Голос замолчал. Римма сняла наушники и увидела, что чай уже простыл, не дымит. Протянула руку к чашке и скорее почувствовала, чем услышала, голос из наушников, как будто пшено рассыпалось. Она торопливо нацепила наушники и отмотала запись назад.
– …Меня все устраивало в моей жизни, я не страдал, я даже влюбился, не страдал, что безответно. Я бы даже испугался, если бы она мной заинтересовалась. Заметила бы если.
Пауза. И голос продолжает:
– Мать была маляром. Мы ходили с ней подрабатывать, я на подхвате. Разные были люди, я многих помню, а они меня вряд ли, кроме того старика, конечно. У него была однокомнатная квартирка на окраине, мать белила потолки, тогда белили, и он радовался, говорил, что теперь у него свету много, потолки в самом деле были грязные, старик говорил, что пять лет копил на ремонт, и мать поклеила ему обои, сама выбирала, он остался доволен, ромашки на зеленом фоне, мне иногда очень хочется их увидеть и потрогать, те обои, вернее, те стены, уже оклеенные свежими обоями. Он нас усадил в комнате пить чай, когда все было закончено. Чай был с молоком и с сахаром. Старик сказал матери, какая она хорошая, а мне сказал, что я необычный человек, что у меня большое будущее. И я подумал, что сказал он это просто так, чтобы сделать моей матери приятное, и так оно, наверное, и было. Тем не менее я стал задумываться, что есть во мне необычного и какое у меня будущее.
Монолог закончился.
Римма набрала его уже весь и перечитала. Но снимать наушники и получать задание на другую работу ей спешить не хотелось. И она сидела за экраном в полной тишине, огражденная от звуков наушниками. Крыса напилась воды, забралась в колесо и побежала. Конечно, надо же ей было двигаться.
Вдруг Римма уловила на себе взгляд начальницы. Слева от Риммы, у окна, бежала в колесе крыса, справа работала за своим столом Валя, а стол начальницы располагался напротив, так что она всех их обозревала со своего места. На Римму она смотрела взглядом пристальным и холодным.
Римма стянула наушники и пробормотала, что закончила.
Следующее поручение ее не удивило. Она все принимала с угрюмым безразличием. И никаких вопросов не задавала.
Велено было доставить крысу по указанному адресу.
– Езжай спокойно, – шептала Валя, – время есть.
Начальница углубилась в работу, и они старались ей не мешать.
– Зайди пообедай сначала, на первом этаже у нас столовая, замечательно готовят, я домой беру, мои любят. Деньги есть у тебя?
– Есть, – почему-то ответила Римма. Хотя было сто рублей с мелочью, что за деньги никак нельзя считать.
У Риммы такая скрытность была в характере, что ни на какой вопрос о себе она не могла ответить постороннему человеку правдиво. Не оттого, что стеснялась. Как будто бы, попав на свет, под чужой взгляд, все ее могло разрушиться, исчезнуть. Так хранят в темноте, как бы втайне от света, лекарства и вина.
Валя продолжала шептать:
– Возьми машину, деньги вернем, у нас все четко.
Римма сняла с крючка куртку. Стала надевать.
Валя уже работала, близко и словно бы удивленно наклоняясь к экрану. Начальница стучала по клавишам. И Римме казалось, что куртка ее шуршит слишком громко и мешает людям сосредоточиться.
Римма сдвинула клетку и развернула на журнальном столике выданный Валей старый-престарый шерстяной платок, серый, с белыми полосками по краю. У ее бабушки был такой же. И Валя сказала, что это бабушкин платок. Так что у их бабушек одинаковые были платки, и это сделало Валю Римме ближе. Платок пах старостью, так Римме чудилось. Но был он прочный. Валя сказала, что таких сейчас и не делают, сейчас никакие вещи долго не служат, все приблизительно делается, кое-как.
Клетку с крысой Римма поставила на платок, концы завязала узлом на верхушке, так что крыса оказалась в темноте и тепле шерстяного платка, который весь пах старым человеком. Каково быть крысе в объятиях этого запаха, Римма не задумывалась. Она взяла клетку за ручку-кольцо и потащила к выходу. У двери пробурчала «до свиданья» и, не дожидаясь ответа, вышла.
В столовой были стеклянные стены. Из коридора сквозь эти стены Римма увидела столы под белыми скатертями, люди за столами все казались Римме нарядными, праздничными. Из распахнутых настежь дверей пахло свежемолотым кофе, и запах этот Римма любила больше самого кофе.
Она пересекла теплый, светлый зал, приблизилась к раздаче и стала рассматривать салаты в металлических корытцах. Салаты тоже выглядели нарядно и празднично. Крыса взволновалась в клетке, зашебуршала, застучала быстрыми лапками.
– С курицей шикарный салат, – сказала добродушно женщина на раздаче, в белом чистейшем халате. – Ешь курицу?
– Ем.
– Добавки попросишь. Только куртку сними, у входа вешалка.
Римма молчала и продолжала стоять и рассматривать. Крыса тревожилась. И мужчина, который встал за Риммой с подносом, воскликнул:
– Ох ты! Кто это там?
Римма ему не ответила. Пробурчала:
– Сколько стоит?
– Почти задаром. Сто грамм пятьдесят рублей. Будешь?
Ничего ей Римма не ответила, развернулась и отправилась к выходу. Женщина переглянулась с мужчиной.
– А я не откажусь, – сказал он.
До метро Римма добрела пешком. Взяла в киоске булку и чай в пластиковом мягком стаканчике. На высокий столик поставила клетку и пристроила с краю до жути горячий чай. Голуби садились на стол, клевали крошки. Крыса заволновалась, забегала, и клетка поехала по столу. Мужик за соседним столиком расхохотался. Что-то перед ним дымилось в пластиковой тарелке. Мужик улыбался и как будто собирался с Риммой заговорить.
Римма придержала клетку. Подумала, не сунуть ли туда, крысе, булку, но решила, что сама голоднее крысы, крыса недавно сгрызла сухарь, так что эта булка – ее, а еще одну покупать денег не напасешься. На мужика она больше не смотрела.
Здание оказалось недалеко от метро, в глухом переулке. Серый мрачный дом. Римма прошла через арку, нашла черную, глухую дверь в полуподвал, без надписей, позвонила.
Окна в полуподвале были темные, и к двери с той стороны никто не подходил. Римма с тоской подумала, что перепутала адрес. Двор был маленький, серый, огражденный со всех сторон домом. Тюремный двор, подумалось Римме. Видела она тюремный двор лишь в кино, но мрачный дом очень уж казался тюрьмой. И из подъездов как нарочно никто не выходил, будто все были заперты.
За черной дверью раздался вдруг голос:
– Чего тебе?
– Я, – сказала Римма, неуверенно глядя в дверь. И приподняла клетку. Крыса ворохнулась внутри.
– Рано еще, – сказал голос. – Видишь, нет никого. К шести открою.
Больше голос ничего не сказал, исчез. Римма подождала. Еще раз позвонила. Но голос так и не появился.
Переулком она вышла на старинную улочку, которая вела к метро. Холодный ветер задул, и Римма пожалела себя. Неплохо бы устроиться сейчас в кафе. Римма засмотрелась на освещенные окна. Посетитель раскраснелся и распустил галстук, так ему было там тепло. Кофе чернел в белой чашке. Сигарета дымилась в хрустальной пепельнице. Даже на кофе денег бы недостало, на самую крохотную чашку.
В метро Римма согрелась. Она спустилась вглубь, на станцию, и сидела там на лавке, наблюдая, как толпа то сгущается, то рассеивается. Клетку поставила на колени, обхватила и чувствовала, как там крыса шебуршится. Римма попыталась представить, каково ей, крысе. Клетка как будто разрослась, вобрала в себя Римму.
– Девушка, – услышала голос. И клетка распалась.
Жутко загрохотал поезд, заглушая старика, который что-то говорил. Римма и не заметила, как он очутился возле нее на скамейке.
Поезд отгрохотал, старик улыбался, ожидая ответа, но она не слышала вопроса и тупо смотрела на старика, и так они промолчали до следующего грохота.
Римма встала и поспешила в вагон, чтобы только не видеть чего-то ждущего от нее старика. Места были, и она удобно устроилась со своей клеткой. Посмотрела на часы и решила доехать до конечной и вернуться обратно. Закрыла глаза.
Очнулась от истошного вопля.
Народу заметно прибавилось. Поезд шел в черном тоннеле. Никто не кричал. Приснилось, подумала Римма. Вдруг женщина взвизгнула и запрыгнула на сиденье, и все на этом сиденье вмиг раздвинулись, вскочили со своих мест, и только эта женщина осталась над ними с искаженным, страшным лицом.
– Что? Что такое? – волновались голоса.
– Крыса, крыса, – шуршали.
Люди переступали с ноги на ногу, всматривались во что-то на полу.
Римма ощупала клетку. Рука провалилась в дыру. Очевидно, крыса прогрызла железные прутья и платок и выбралась. Поезд подходил к станции.
Дома Римма была в начале седьмого.
Уже стемнело, и она зажгла свет. Нашла иголку и нитки, села под лампу, стянула в платке дыру. Ужасно! Она отбросила платок.
Подошла к шифоньеру, отворила дверцы. Висели на плечиках пальто тети Риммы, зимнее и осеннее, и белый, совсем новый плащ. Ничто из этого Римме не годилось: тетка была выше, крупнее. Но Римма не трогала теткины вещи, не выбрасывала, они ей не мешали, места много не занимали, да и прожили они в этом доме гораздо дольше Риммы и больше на эту жилплощадь имели право.
Она сняла с верхней полки норковую теткину шапку, за ней лежал огромный павловский платок, сизо-красный, с кистями, платок пах тети-Риммиными духами, жасмином.
Полуподвальные окна все горели, и доносился оттуда гул сквозь приотворенные форточки. У черной двери стояла нарядная женщина и курила. Время приближалось к половине восьмого. Женщина затянулась. Римма с каменным лицом подошла к двери. Нажала кнопку звонка.
Дверь отворилась. Женщина выдохнула белый легкий дым.
Римма спустилась по крутой лестнице в узкий тамбур. Справа был гардероб. За барьером стоял элегантный мужчина в черном костюме, белой рубашке и бабочке. На барьере лежала стопка глянцевых журналов.
– Слушаю вас, – сказал элегантный приостановившейся Римме.
Тамбур закрывался стеклянной дверью, за ней гудела музыка, матовое туманное стекло скрывало происходящее, угадывались фигуры, тени, кажется, они двигались.
Элегантный мужчина будто бы и не ждал от Риммы ответа. Ему все равно было, ответит она или так и останется на веки вечные стоять в узком тамбуре.
– Мне Валю, – произнесла Римма. И приподняла клетку в сизо-красном теткином платке.
Элегантный постучал узким длинным пальцем о барьер, и Римма догадалась поставить клетку. Элегантный клетку забрал и спустил вниз.
– Я Вале должна ее передать, – хмуро сообщила Римма.
– Я в курсе, – невозмутимо сказал элегантный.
Поколебавшись, Римма стянула куртку и протянула ему. Он взял куртку за шкирку и повесил на крючок. Только сейчас Римма обратила внимание, какие шикарные висят в гардеробе пальто, плащи и куртки, многие с прекрасными меховыми воротниками, мерцающими в неярком электрическом свете. Мать называла такой свет щадящим, в нем не так видна старость.
Элегантный уловил взгляд Риммы и указал ей на стеклянную дверь. Римма смотрела нерешительно. Элегантный отступил от барьера и как будто о Римме забыл. Она двинулась к двери. Когда приблизилась, дверь сама приоткрылась.
В зале переливались разноцветные всполохи. Оркестрик располагался на низенькой сцене. Оглушал. Люди в зале двигались больше вразнобой, чем под музыку. Римма разглядела столики вдоль стены, пробралась. Нашла свободное место и села без спросу. Но пожилая дама за столиком не обратила на нее внимания. Перед ней была тарелка с крошками, рюмка с остатками вина. Официант подошел и взял тарелку и рюмку.
– Коньяк есть? – спросила дама погромче, перекрывая музыкальный грохот.
– Армянский, «Арарат», – отвечал официант.
– Сто грамм.
– Что-нибудь еще?
– Кофе.
Официант взглянул вопросительно на Римму, но она молчала. Есть хотелось умопомрачительно, но за деньги здесь давали еду или за так – Римма не знала. Можно было бы и поинтересоваться. Но Римме заговорить сейчас с кем-то было все равно что поднять грузовик. Так она устала, и так ей хотелось посидеть тихо и не думать о том, что будет с ней дальше.
Дама выпила коньяк. О кофе словно забыла.
Музыка вдруг смолкла. И люди в зале остановились. Цветные всполохи погасли. Зажегся ослепительный свет. У дамы оказалось бледное, невыразительное лицо. Музыканты уходили за кулисы со своими инструментами.
В зале свет приглушили, но опустевшая сцена осветилась ярко. Люди в зале сели на свободные места за столиками, но на всех мест не хватило, и многие остались стоять, они загораживали сцену от Риммы. Впрочем, ей не особенно интересно было, что там сейчас будет, она отупела от усталости. Вдруг раздался знакомый голос:
– Прекрасный вечер сегодня.
Римма изумленно привстала. Голос был из наушников, тот самый, старый и слабый. Его усиливал микрофон. Голос принадлежал человеку на сцене. Выглядел человек молодо и, как сказала бы мать, стильно.
– Но все хорошее заканчивается. И скоро мы разойдемся по домам. И встретимся завтра на работе. Сегодняшний праздник нас сплотил еще больше.
Люди в зале одобрительно загудели. Кто-то захлопал.
– Сегодня мы отмечали хорошую работу. Дарили подарки лучшим из нас. Я старался, чтобы подарки были достойными. Чтобы люди остались довольны и готовы трудиться еще лучше.
В зале одобрительно загудели.
– Напоследок я хочу подбодрить отстающих. Я хочу преподнести подарок худшему из нас.
Римма стояла у своего места и, вытянув шею, отупело смотрела на сцену. Из-за кулис показалась Валя, она несла сизо-красную огненную клетку.
Человек на сцене продолжал:
– Это подарок-шутка. Чтобы посмеялись напоследок. И чтобы никто не захотел получить такой подарок через год. Хотя… кто знает.
Валя тихо оставила клетку возле оратора и ушла за кулисы.
Оратор наклонился и поднял клетку. Высоко поднял, всем показал. И воскликнул:
– Анна Викторовна Аникина.
В зале люди расступились, образовав к сцене проход. По которому никто не шел. Оратор стоял с поднятой в руке клеткой. Клетку он держал за кольцо, и она немного покачивалась.
– Анна Викторовна, – сказал он, скорее даже понизив голос, чем возвысив. Но вышло даже значительнее.
Соседка Риммы по столику поднялась со вздохом, и все услышали ее вздох. Она пошла в тишине к сцене.
Оратор, улыбаясь, смотрел, как она поднимается по ступенькам. И когда поднялась и остановилась перед ним, принялся на весу развязывать концы платка. Все следили напряженно. За кулисами тихо и грозно нарастал рокот, бил барабан.
Платок упал. Открылась клетка. В ней сидел плюшевый медведь с пуговичными глазами и голубой атласной лентой на шее. В клетке зияла прогрызенная крысой дыра. На секунду, на крохотную секунду, растерялся оратор. И улыбнулся стоящей на сцене даме:
– Как вам подарок?
– Ничего, – сказал она, сглотнув.
– Вы не в обиде?
– Нет, конечно.
– Будете стараться в следующем году?
– Буду.
– Я обещаю вам поездку на Кубу. Десять дней на двоих, в лучшем отеле.
Зал восторженно охнул.
– Если только выйдете в лидеры. Любому, кто выйдет в лидеры. – Он оглядел толпу. – Есть за что бороться?
– А-ааа, – сказал толпа.
Римма опустилась на стул. Взяла так и не тронутый дамой кофе и заглотнула.
Очередь в гардероб подходила, элегантный работал споро.
– Пропустишь? – услышала Римма.
Это Валя пробилась к ней. И Римма потеснилась, давая ей место.
– Слава богу, – возбужденно сказала Валя, – все кончилось.
Римма молчала.
Элегантный подал Вале пальто с черным лисьим воротником, Римме сунул ее куртку. Валя взяла с барьера глянцевый, матово поблескивающий журнал и протянула Римме:
– Это мы к празднику издали. В последнюю минуту тираж печатали, можешь поверить? Главное, завтра не проспать. Минута – тыща рублей, ты в курсе?
Домой Римма ехала ночным полупустым троллейбусом. Журнал она пролистала. Расшифрованный ею монолог дали на первой странице. С фотографией оратора. Он улыбался.
«…а мне сказал, что я необычный человек, что у меня большое будущее», – перечитала Римма, закрыла журнал и бросила возле себя на сиденье.
Напротив Риммы сидели мама с дочкой. Девочка грызла вафли и трещала без умолку – и что у них было в детском саду, и что было на плаванье, и как называется по-английски троллейбус, вафля, мама, ночь.
– Дай вафлю, – вдруг сказала ей Римма. Девочка опешила. Мама растерялась.
– Дай вафлю, – потребовала Римма и протянула руку.
Девочка смотрела испуганно. Мама – со страхом. Наклонилась к дочке и тихо сказала:
– Дай тете вафлю.
Девочка протянула вафлю. Римма взяла и стала ожесточенно грызть, отвернувшись к окну.
Мама подхватила дочку и поспешила к выходу, благо остановка приближалась.
Совет
Окно на лестнице распахнуто, пепел на подоконнике, хруст подсолнечной шелухи.
– Вообще здесь нормально моют. Это так. Нетипично.
Нетипично.
Второй этаж.
– Видите, и лифт не нужен. Конечно, когда на пятый, то пожалеешь, что нет лифта.
Она перевела дыхание. Из окна пахло сыростью.
– Видите, какой воздух. В Москве такого воздуха нет.
Дверь железная, обита снаружи черным. Два замка. Хозяйка их отомкнула и вошла первая в темный коридор. Нажала клавишу выключателя.
Душно.
– Плащ можно сюда, на вешалку. Шляпку на полочку. У вас красивая. Женщинам идут шляпки. Но редко кто умеет носить. Пыли нет, не беспокойтесь, все убрано. Кухня, пожалуйста. Небольшая, пять с половиной метров, для одного человека нормально, я считаю. Плита новая. Холодильник старый. Работает, сейчас включим. Размораживать придется; но хороший, ни разу не ломался. Кастрюльки, тарелки, чашки – все есть. Комната у нас на другую сторону. Запад. Диван раскладывается. Постельное белье в комоде, если устраивает, пожалуйста, все чистое. Книжки последний жилец оставил, хотите, читайте, нормальные, детям можно. Магазины здесь кругом, прямо во дворе есть. Аптека, остановка – все рядом.
Я видела из окна кухни, как она выходит из подъезда, как идет, медленно, тяжело.
В комнате я отворила окно и услышала гул Ярославки. Будто за лесом не шоссе, а взлетная полоса, по которой бесконечно разгоняются самолеты, да никак не могут взлететь. Странное сочетание рева с тихим деревенским видом. Казалось, еще немного – и пейзаж с прозрачным месяцем над лесной полосой попросту снесет звуковой волной. Но мир держался.
Я нашла в комоде полотенце и пошла в ванную, вымылась зеленым обмылком от прежних, наверное, жильцов. Жаль, что из съестного ничего не оставили, хоть консервную банку какую-нибудь, так неохота тащиться в магазин. Я была Робинзоном на своем маленьком острове. Придется обживаться, придется. И хлеб нужен, и сахар, и шампунь, и стиральный порошок. У Робинзона длинный перечень – все его мироздание, до последнего гвоздя.
Я бродила по маленькой квартирке, садилась на диван и смотрела в серый экран старого телевизора. Пришла на кухню. Включила конфорку и залюбовалась плитой. Она была великолепна. Новая, матовая, из черного непроницаемого стекла и серой строгой стали. К такой плите совсем бы другую обстановку. К примеру, деревянные темные панели, узкую длинную столешницу.
Черный мрамор? Бутылка белого. «Шардоне».
Другая обстановка, другая квартира, другой дом, другой город, другая страна. Другой человек – я тоже выгляжу не очень возле этой плиты. Не соответствую.
Чайник вскипел, и я выпила пустого, неподслащенного даже кипятку. И как будто в нем было снотворное.
Ушла в комнату и легла на узкий диван. В комнате сгущались сумерки. Гул меня уносил. Я представила себя в машине на ночном пустынном шоссе. Человека за рулем я не видела и не хотела видеть, я смотрела вперед, на дорогу. Чувство дороги. Во сне я замерзла и проснулась. Дорога, машина и я вместе с ней исчезли. Другая я встала закрыть окно. Гул исчез, и мне показалось, что я оглохла. Спать уже не хотелось. Включила телевизор. Показывал нормально. Разве что слишком яркие краски.
Новости. Нет, спасибо. Реклама. Симфонический оркестр. Не сейчас. Сейчас бы детектив, американский, «Мальтийский сокол», что-то вроде. Мультик не хочется, спасибо. Стоп. Не поняла.
Я вдруг увидела на экране знакомое лицо. Очень близко. Самым, что ни на есть, крупным планом ко мне приближенное. Лицо хозяйки этой маленькой квартиры на краю света. Все мои квартиры – на краю света.
Разумеется, я не переключила и стала смотреть дальше. Камера отодвинулась от лица, и я увидела, что моя хозяйка стоит на балконе. Наклоняется и берет из таза тряпку. Встряхивает. Наволочка. Хозяйка набрасывает ее на веревку и зажимает прищепками. И замирает. С улицы слышно урчание мотора. Хозяйка стоит с опущенными руками. Камера вновь приближается к ее лицу. Очень уж близко. Слишком. Видны волоски над верхней губой. Капли пота. Поры в коже. Родинка. Прыщик. Морщины кажутся оврагами. Слишком близко. Зачем? Как это вообще можно снимать? Я даже представить не могу, где пристроился оператор. Полная шея. Складки кожи. Верхняя пуговица халата едва держится. На воротнике пятно. Зачем это все снимать? Неужели она актриса? Я вспомнила ее шаркающую походку. Сигнал прервался. Я переключила канал. Скучная минута футбольного матча. Вернулась на прежний канал. Сигнала не было. Выключила телевизор. Достала из комода белье, постелила и легла.
Свет был тусклый, глаза уже не видели страницу, и я закрыла книгу. Мужчина напротив смотрел на меня и улыбался. Гуляли по полупустому вагону зябкие сквозняки. Он спросил:
– Интересная книга?
Я не стала отвечать и закрыла глаза.
Но он продолжал говорить, он был навеселе и совершенно не походил на себя трезвого. Мы часто вместе возвращались домой этой электричкой. Выходили на одной станции, бежали на автобус, ехали до поселка, до площади. Трезвым он ни с кем не заговаривал, никому не улыбался. Не помню, чтобы вообще слышала до этого его голос. Он казался мне скучным клерком. Именно это слово, клерк. Персонаж старой, нудной английской книги. Друг матери героини. Что-то вроде. Выпивка его расслабила, губы расползались в улыбке, он не стеснялся рассматривать людей. Наверное, отмечали что-то на работе. Может быть, его день рождения.
Говорил он примерно вот что:
– Я тоже недавно книгу читал. Нашел. В подъезде на подоконнике. Кто-то оставил. Я даже знаю кто. Все знают. Книга. Там не одна была, штук сто, выставили вон из квартиры. Бедолаги, лежали там. Я там курил внизу. Открыл, и начало такое: две тысячи двенадцатый год. Опа. Вот прямо только что прошел год, еще не остыл. А книжка, обратите внимание, в тыща девятьсот шестьдесят девятом вышла. Вот так. Фантастика. Про нас с вами. Смешно. Конечно, я взял. Прочитал. Ну, понятно, лабуда, коммунизм, все люди братья, все милые, летают как-то так, без аппаратов, перемещаются. Общаются телепатически. Что-то там на другой планете было, все обеспокоены. Автор, кстати, жив, я смотрел в Интернете. Достиг, так сказать, две тысячи двенадцатого года без машины времени, естественным путем, тихим ходом. Тихим ходом оно вернее, да? Что-то электричка наша совсем уж тащится, боится мимо нашей станции проскочить, я как-то раз проскочил, было дело. А мне в школе ужасно хотелось в двухтысячный заглянуть. Я тоже верил, что будет что-то необыкновенное. На самом деле так оно и есть. Если бы мне тогда показать мобильные наши, айфоны всякие, я уж не говорю про наши дела… чистая фантастика, разве нет? Но как-то она не очень изумляет? Люди те же.
Острый кадык движется под плохо выбритой кожей.
– Станция наша.
– Ох, уже, быстро. Автобус-то придержите, я не добегу, меня ноги не слушаются, сами по себе идут.
Он рассмеялся счастливым смехом. Серебряный звук.
Кондукторша крикнула водителю: подожди!
Он шел, в общем, ровно. Но бежать не мог. Так что минуты на три мы позже отправились. Пока он тащился от платформы к автобусу, мы все его рассматривали из окон. Рубашка выбилась у него из брюк. Он улыбался.
– Дает Егоров, – сказал кто-то.
– Да ладно, – сказала кондукторша.
В этот вечер я долго возилась на кухне, варила картошку, жарила рыбу, захотелось нормального горячего ужина. Поела, вымыла посуду и включила телевизор. Восьмой канал.
Мужчина улыбается и идет. К автобусу. Снято прямо из автобуса. Слышен мотор. Стекло дребезжит. Видны на стекле грязные следы. Мужчина спешит, но бежать не может, сил нет, все уходят на то, чтоб держать равновесие. Улыбка кажется странной, так как глаза не улыбаются, смотрят растерянно. Рубашка выбилась из брюк.
Мой сегодняшний попутчик.
Я слышу голоса:
«Дает Егоров».
«Да ладно».
Час назад, чуть больше, я видела это непосредственно, в живой реальности. Из окна автобуса. И снято, несомненно, из автобуса. Я не помню, чтобы кто-то снимал. Не заметила, жаль.
Сюжет оборвался.
Бабка сидит на лавке и смотрит на прохожих, ветер дует, пыль оседает на ее башмаках.
Мужчина идет. И камера за ним следует. Куда идет, что вокруг, непонятно. Слышно его дыхание, слышен трезвон мобильника в его кармане. Мне, у экрана, слышен. А сам мужчина свой мобильник не слышит. Останавливается и высмаркивается прямо на землю.
Девочка качается на качелях. И скрипят они страшно, и тошно от этого скрипа, а девочке ничего.
Видимо, это кто-то местный снимает, какой-то любитель. Правда, непонятно, как это попадает в эфир. Может, сынок местного главы? Придурковатый малый с камерой. Снимает, что видит, снимает, как умеет. Удивительно, конечно, что эту чушь транслируют, но, если вдуматься, чем она хуже какого-нибудь энтэвэшного сериала или передачи про непознанное? В этих кадрах хотя бы подлинность есть. Двадцать минут реальной, непридуманной жизни. Недаром же я включаю и смотрю, как бабка сидит у подъезда, а ветер пыль несет. Тарковский отдыхает.
Он вошел в электричку, взглянул осторожно на меня, отвел глаза и прошел дальше обычного своего места, в самый конец вагона. Сел по ходу поезда, спиной ко мне. Через десять минут электричка отправилась. Народу за эти десять минут набилось много, люди толпились в проходе, невозможно протиснуться. Я закрыла глаза, но не задремала. Женский голос описывал цветы, они росли у нее на даче, под окном, женщина не помнила их названий, по описанию второй женский голос подсказывал названия: настурция, ирисы. «Я в дороге, – признавался мужской голос, – я вам перезвоню через сорок минут». Голоса, голоса. После Мытищ стало прохладнее, тише. Я открыла глаза. В проходе никто уже не стоял, а напротив моего знакомого появилось свободное место. Я поднялась и прошла качающимся вагоном.
Села напротив. Он увидел меня вдруг так близко и вжался в спинку сиденья.
– Прошу прощения, – сказала я.
– Это я, – лицо его покраснело, – я должен извиниться.
– За что, помилуйте?
– За вчерашнее. Я. Прошу. Извините.
– Да бога ради. Ничего страшного. Выпили и расслабились. Всем бы нам надо иногда. Мы слишком напряжены. И вы сейчас. Перестаньте. Я без претензий, абсолютно. Я вас вчера по телевизору видела, вот вопрос, вот что интересно.
– Да, – сказал он, глядя на меня с мучительной настороженностью.
– Вы тоже это смотрите?
– Все это смотрят.
– Расскажите. Кто это снимает? Кто-то местный, конечно? Где студия? Там ведь рекламы нет? На что они вообще живут? И почему только эти сюжеты? Почему элементарных новостей нет, местных?
– Новости в газете.
– И там бы не помешали.
– Там, это где?
– На этом канале.
– На каком?
– У меня на восьмом.
Он молчал. Взгляд у него был загнанный.
– Вам неприятен этот разговор? Я тогда не буду. Не думала.
– Да нет. Просто… Да, не очень приятен.
– Нет, я понимаю. Но, в конце концов, я же и так вас видела, в окно автобуса. А потом уж только по телевизору.
– Мне стыдно, что вы меня видели. Таким. А тут еще десять тысяч человек увидели, и жена, и дочка.
– Да, это верно, согласна. Можете в суд, кстати, подать.
– На кого?
– На того, кто снимал, разумеется. И тех, кто в эфир дал. Подсудное дело, без шуток.
Он вдруг рассмеялся.
– Не думала вас насмешить.
– В суд подать невозможно, вот в чем штука.
– Странно.
– Считаете, что только вы можете додуматься насчет суда? Все прочие дурачки неразумные?
– Тогда почему терпят, если не дурачки?
Он не отвечал.
– Да не молчите, я умираю от любопытства, я ваш башмак готова съесть, лишь бы узнать.
– Уже давно. С позапрошлой еще осени. Лично я тогда наткнулся на этот канал. Вечером, после работы. Аля на кухне с Иришкой математикой занималась. Видите, даже обстоятельства помню. Поначалу ничего, показывают и показывают что-то из нашей жизни. Знакомые лица вдруг. Ну и ладно. Но людям, конечно, не очень приятно, что их так, без спросу. Пошли в поссовет. А глава наш сам туда попал, в телевизор. Вроде бы ничего такого, стоит в ванной и ногти стрижет. Но как-то так показано… неприлично. Во весь экран потому что, наверное. Так что наш глава, он с нами, на нашей стороне. Вызвал ученых. Ходили, измеряли что-то. Ванную всю обыскали у главы. Ничего там не нашли, не прояснили. Военные приезжали. Следователь. И ничего. Непонятно кто, непонятно как.
Распорядок моей тогдашней жизни.
В будни вставала в пять тридцать утра, по будильнику, пришлось купить, так как здешний не звонил. Поднималась и шла в ванную. Вставала под душ, чистила прямо под душем зубы, выключала воду и стояла, оглушенная. Вода уходила в сток. Я вытиралась, надевала халат и шла ставить чайник.
Даже не знаю, зачем все эти подробности, могут ли они хотя бы что-то прояснить. Я выпивала чай с ломтем серого хлеба, намазанного маслом. В киоске у рынка этот хлеб назывался «деревенским». Ополаскивала кружку и мокрую ставила на стол. Торопливо одевалась и бежала на автобус. В вагоне подкрашивала ресницы. Наловчилась даже при большой качке, главное – сесть.
Утром на Ярославский вокзал прибывает множество электричек, и огромная толпа валит по платформам к метро. Скапливается в долгом подземном переходе. Молчаливая, траурная процессия. Катакомбные люди. Загорается зеленый глаз, и автомат выпускает меня. Я достаю второй пропуск, в метро. Стеклянные дверцы расходятся, и я прохожу. Толпа несет меня к эскалатору. Подземные жители. Через двадцать минут я выбираюсь на свет. Из метро направляюсь по переходу в переулок, к высокому зданию, достаю на ходу третий пропуск. Вахтер дает мне зеленый свет. Я смотрю на себя в зеркале в бесшумном лифте, иногда мне кажется, на мгновение, что моего отражения нет, что и меня нет, на мгновение, за которым я вновь есть; остается вопрос: кто это только что меня не видел? В кабинете затхлый воздух. Я отворяю окно и слышу стон. И вскрик. Внизу, под окном, зоопарк. Я смотрю на крыши павильонов и думаю, что схожу в зоопарк после работы. Но после работы мне уже не хочется в зоопарк, не хочется в театр и в кино, мне хочется поскорей оказаться дома, одной, скинуть туфли и одежду, надеть старый халат, поставить чайник. Я обжилась в маленькой квартире, стены и вещи уже не кажутся чужими.
Как правило, я успевала на электричку в восемнадцать десять. Она подходила к станции в девятнадцать ноль пять. Автобус нас ждал. Он отправлялся в двадцать три минуты. Узкой извилистой дорогой мы тащились до Ярославки, разворачивались у деревни под названием Кощейково и через несколько минут заезжали в поселок. Я выходила на площади. В магазине горел свет, толклись люди, казалось, что там праздник, я вспоминала, что ничего нет к чаю, и заходила в магазин. К восьми вечера я обычно уже бывала дома. В восемь тридцать садилась у телевизора и включала восьмой канал. Это стало привычкой.
В электричке мы здоровались с моим всегдашним попутчиком, но разговоры никакие больше не заводили. Он обычно задремывал над своей газетой, а я в конце концов закрывала книгу и смотрела в окно. Проталкивались торговцы и попрошайки. Один день походил на другой. Как-то раз мне приснилось: «Дни неотличимы один от другого, прошлое – ошибка памяти». Так оно и есть – до поры до времени.
Девятнадцатого сентября вечером, в начале девятого, я устроилась перед телевизором и включила восьмой канал. И увидела тарелку с макаронами.
Короткие, полые макароны. Белые, блестящие от масла.
Пальцы, тоже блестящие от масла.
Забирают из тарелки макаронину. Возвращаются, замирают над тарелкой. Берут макаронину.
Я не сразу сообразила, что это мои собственные пальцы. Точно. Шрам на указательном. Смешные пальцы. Мне всегда казалось, что у меня смешные пальцы.
Другая рука. Мужская. Широкая ладонь. Пальцы маленькие, крепкие, загорелые, ногти обрезаны очень коротко. Ухватили макаронину.
Мои пальцы.
Его.
Мои. Его. Столкнулись. Встретились.
Его масляный палец проводит по моему. Забирается ко мне между пальцами. Елозит.
Камера тащится, как осенняя, готовая к смерти муха. По его руке. До локтевого сгиба. До плеча. До ключицы. Острый кадык движется под небритой кожей. Мой попутчик?!
Неловко смотреть. Я выключила.
Никогда ничего подобного в жизни не происходило. Мы вообще нигде не встречались, кроме как в электричке. Вот так да. Вот вам и документальные кадры. Я дала себе слово, что больше не буду смотреть восьмой канал. Хватит с меня вообще телевизора. Буду читать.
Назавтра мой попутчик не появился. Поначалу я думала, что решил ехать в другом вагоне. Но и в автобусе его не было. Наверное, решил от греха подальше другой электричкой ехать. Лишь бы не встречаться со мной. Лишь бы не столкнуться взглядом. После того, как наши – наши? – пальцы столкнулись – у всех на виду.
Дома я все-таки не сдержала любопытства и в восемь часов включила телевизор. Но экран не осветился. Старый телевизор сломался. И слава богу, так я решила. Дни мои потекли вновь однообразно, по приснившейся мне формуле о несуществовании прошлого. И скоро я стала забывать о восьмом канале.
Выходной день. Я лежала в постели и представляла, как варю кофе. Насыпаю зерна в кофемолку. Нажимаю на кнопку. Кофемолка гудит.
Я лежала в постели, и мне казалось, что я слышу запах размолотого кофе. И от этого воображаемого запаха я встала. В сонном утреннем свете достала кофемолку, турку. С чашкой только что сваренного кофе подошла к окну. И увидела внизу, на улице, людей. Они тихо стояли под окнами нашего дома. Я посмотрела немного на эту странную толпу и отошла от окна. Выпила кофе, вымыла чашку и турку. Вернулась к окну. Люди стояли. Я приоткрыла форточку, но не услышала разговоров. Если и были, то очень тихие. И вдруг люди стали расступаться, прижиматься к обочинам старой асфальтовой дороги. Дорога освободилась, но приближающейся машины я не слышала. Я ждала вместе с толпой. Отвлеклась буквально на секунду – закрыть плотнее кран. Шагнула к окну и увидела открытый гроб. Он плыл над толпой. Я узнала застывшее лицо покойного. Мой попутчик.
Гроб пронесли. Толпа сомкнулась и последовала за ним, я бросилась в комнату, торопливо оделась. Выскочила из подъезда. Толпа текла. Как будто весь поселок вывели на улицу.
На площади у маленького памятника Ленину стояли «пазик» и два древних «икаруса». Гроб погрузили в «пазик». Женщина и девочка в черных платках. Наверное, жена и дочь, Аля и Ира. Им помогли забраться в «пазик». В «икарусы» набились люди. Автобусы медленно развернулись на площади и тихим ходом покатили из поселка к Ярославке. Толпа стояла. Кто-то тихо произнес, что поминки будут в семь, в ресторане «Сказка». Кто-то сказал, что это только для близких.
– Ну, конечно, – рассудил мокрый от пота мужчина, – всех накормить никаких денег не хватит.
– Простите, – спросила я его, – отчего он умер?
Мужчина пристально и недоверчиво посмотрел на меня.
– Я правда не знаю.
– Ну, ты даешь, – пропел чей-то тонкий голос.
– Помолчи, – сказал мужчина, не оборачиваясь на голос. И спросил меня: – А телевизор вы что, не смотрите?
– Сломан.
– А вас там часто в последнее время показывали. С ним. С Сергеем Ивановичем покойным. То волосы вы друг другу гладите. То книжку одну листаете. Вроде бы ничего особенного, но как-то так выходит… непристойно. Он потому и с собой покончил. Не вынес такой славы.
– Ничего этого не было, – прошептала я.
– Да, – крикнул тонкий голос, – он щас фантазировать моду взял, бабка моя как будто в магазине мороженое из витрины прямо стала есть, прямо в магазине, да сроду она ничего такого, что она, голодная?!
– Достал уже с бабкой, – не оборачиваясь от меня, сказал мужчина.
– Между прочим, бабке моей тоже «скорую» вызывали.
Помолчали.
– Надо что-то делать, – сказал мужчина.
– Что? – спросили его.
Мужчина молчал.
– Хоть что, – сказал кто-то.
Из аптеки вышла на крыльцо тетка в белом халате. Она закурила. Я стояла и смотрела, как тает белый дым.
Мы выпили водки, пустив бутылку по кругу, помянули Сергея Ивановича. Темнело. Аптекарша закрыла свою аптеку и пробралась мимо нас.
– Вот, – сказал мужчина, – домой спешит, скоро восемь, включит телевизор.
Раздался вдруг звон стекла. Кто-то бросил камень во второй этаж, в широкое окно поссовета.
– Дураки, – сказал мужчина.
Загудела сигнализация.
Через несколько минут на площадь медленно въехала черная машина. Толпа расступилась. Задняя дверца с правой стороны отворилась, из машины вышел усталый невзрачный человек. Посмотрел запавшими глазами.
– Что вы тут? – спросил. – Стекло выбили. Зачем это? Что вы этим хотите? Чем стекло виновато? Чем я виноват? Как дети.
– От бессилия, – сказал мужчина. – Люди не знают, что делать. Как нам вообще всем быть?
– Как быть? – Мужчина оглядел стоящих рядом с ним медленным взглядом. – Я вам скажу. Очень просто. Не смотрите.
Оглядел толпу и повторил:
– Не смотрите.







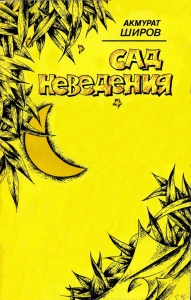





Комментарии к книге «Родина (сборник)», Елена Олеговна Долгопят
Всего 0 комментариев