Моше Шанин Места не столь населенные
© Шанин М. А., текст, иллюстрации, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Судьба этой книги началась с дружеского разговора бывших коллег – меня и Валерии Пустовой, редактора «толстого» литературного журнала «Октябрь», – когда Валерия посоветовала мне обратить внимание на творчество молодого прозаика Моше Шанина.
На момент выхода этой книги мы с автором так до сих пор и не встретились лично – современные технологии позволяют людям общаться виртуально, обсуждая все на свете вопросы, в том числе и вопросы издания книг. В процессе работы над сборником я периодически открывала на своем рабочем столе фото автора из Википедии и всматривалась в веселые и одновременно суровые черты лица этого человека, больше похожего на какого-то рок-музыканта, нежели на писателя. И всё размышляла: ну зачем такому симпатичному и явно нескучному человеку такое скучное занятие, как писательство? Но когда мы стали обсуждать особенности каскадных сносок и примечаний к одному из рассказов, я поняла, что ошибалась;) ни для Шанина, ни для меня писательство – дело не скучное. А всепоглощающее и азартное.
Рассказы этой книги – это лубок, изящная потешка, призванная и развеселить, и заставить задуматься одновременно. Когда я написала слово «лубок», полезла в словарь проверить все оттенки смысла, чтобы не опростоволоситься. И нашла еще один оттенок: приспособление для фиксации переломов. Потешка и фиксация переломов – а почему бы нет?
Современная проза так переломана амбициями авторов и издателей, что про читателя в ее пространстве как будто и забыли. А читатель между тем есть, и он хочет просто хорошие истории, ему дела нет до наших внутрицеховых споров, мнений и авторитетов… и «потешки» Шанина, на мой взгляд, и есть такие хорошие истории для чтения – без снобизма и депрессии. Чем-то Шанин похож на раннего Олега Зайончковского времен книги «Сергеев и городок», а чем-то – на ласкового садиста Юрия Буйду времен «Синей крови». Маленькие рассказы с картинками, десятки мужских и женских судеб, русская глубинка на берегу небольшой реки… наверное, когда-нибудь Шанин решит написать антиутопию, как это любят делать почти все прозаики (антиутопия – личный Рубикон каждого). Но пока это автор удивительной, особенной манеры, которую нужно успеть зафиксировать и проникнуться ею.
Ваша Юлия КачалкинаПлоссковские
Левоплоссковские
Петя Радио
Петю Радио хоронили в закрытом гробу. Гроб вынесли из дома во двор и выставили на длинную желтую лавку. Люди молчали.
Все левоплоссковские были здесь: Сухаревы, Новоселовы, Черняевы и Торбаевы. Коля Розочка, лучший друг Пети, стоял в тени старой березы облокотясь. Пришла и Света Селедка. Тридцать лет люди сватали ее Пете. Люди шутили. Есть ли в мире что-то страшнее шутки длиной в тридцать лет? Света смеялась первые десять, но – видит Бог – не более.
– Что я буду с этого иметь, люди? – смеялась Света таким смехом, каким обыкновенно смеются здоровые и беззаботные девушки. – Люди, я буду с этого иметь тонкую шею и мокрый зад – как от переноски тяжестей…
Сегодня ее лицо распухло от слез и чудовищный нос, слава о котором гремела на весь Устьянский район, скосился набок и обвис.
Стояла суббота. Левоплоссковские растопили бани. Дым лился по улице; дым лился по первой, старой, улице и по новой, второй, огибая дома и путаясь в гнилых палках изгородей. Солнце, веселясь, играло. Галки и грачи буйствовали в листве огромных деревьев.
Люди молчали.
– Не жалий, Светка, – сказал Коля Розочка. – Одне мы теперя.
– Молёно моё, молёно, да за какую болесь… – прошептала Светка, раскидала толпу и бросилась на гроб, как пловец бросается на воду, стелясь на нем и обнимая. Бабы взвизгнули и всполошились.
– Ну-ко, прижми хвоста, – прикрикнул Коля и обернулся к босому мальчишке. – За Мишкой-трактористом беги. Вброд поедем.
Мишка жил через три дома.
– Да поедет ли, – сказал кто-то. – Моды не имеет в выходной. Гулял вчера, спит.
Стали ждать, рассевшись на чурбаках.
– А знаете, – спросил Коля, – откуда Радио пошло?.. Не с работы. От болтливости. Как-то остался он у нас в гостях ночевать. Все уж легли, а он все чешет и чешет. У нас однопрограммник был, мы не выключали его обычно, только притушим слегка. Бабка моя и вопит из-за печи: «Выключите-ко радиво!» А я ей в ответ: «Это радиво, бабка, не выключается».
Коля посмотрел вокруг, отвернулся и провел ладонями по штанам, стряхивая табачные крошки. Ветвистая тень забилась на его лице, затрепетала и остановилась.
– Так вот, значит… Выключилось.
Мишка показался на улице. Дорога в сотню метров далась ему нелегко. Дорога несла его, как небо несет тучу, плавно и тяжело. Дорога несла его, как ручей несет щепку, крутя и болтая. Настежь раскрытый, беспомощно и бестолково устремленный вперед, он аккуратно вбивал в пыль иссохшие, карандашные ноги.
– Плеснет кто? – спросил он, обессилев. – Спасу нет – как гвоздь вколотили.
Развели в ковше чекушку спирта колодезной водой. Мишка выловил коричневым пальцем соринку, выпил. Подали папиросу – закурил. В кислом глазу дрогнула и повернулась мутная блаженная слеза.
– Встал сейчас, спросонья рубаху заместо штанов надел. Иду, а неудобьё ж. У порога сунулся. Лежу и думаю: чего так жопе-то холодно?..
Подпрыгивая и вываливаясь из кабины, Мишка подкатил трактор к околице. Гроб затолкали в кузов, обитый жестью. Скользя в грязи, спустились к реке. Трактор смело полез в воду, брод Мишка знал точно. Но река шалила в тот год, давно уже стаял вешний лед, и ждали: вот-вот спадет вода, отступит. Но прошло несколько дождей, и Устья, капризная и своенравная девка, опьяненная холодной водой лесных ручьев, поднялась еще выше. В Левоплосской подтопило несколько бань на берегу, а у дома Ивана Косоротика вода дошла до крыльца.
Колеса месили тяжелую воду. Мишка затянул одну из своих трех любимых песен. Он добрался уже до середины, когда с подвесного моста, что повыше брода, засвистели и замахали руками. Он оглянулся: гроб наполовину выскользнул из кузова, постоял мгновение боком к течению, пробуя воду, и поплыл.
На мосту то хохотали, то материли Мишку последними словами.
– Ладно Косоротик сробил, не тонет! – крикнул он в ответ.
– Так ведь он лодки шьет. Ему что гроб, что лодка…
Вечером гроб выловили в Студенце.
* * *
Петя Радио двинул в нежилую деревню Окатовскую, что на том берегу, в трех километрах. Несколько лет назад по федеральной программе «Телефон – в каждый населенный пункт» здесь навесили на столб посреди деревни таксофон. Ирония состояла, конечно же, в том, что на машине, привезшей сюда таксофон, из Окатовской уехала навсегда баба Маша – последний житель деревни. Та самая баба Маша, которая еще в войну срубила здесь дом в одиночку. И теперь она ехала к детям, в город, ехала умирать, и жива была формально, как формально жив кот Шрёдингера. Костлявая – внимательный счетовод – уже занесла ее в дебет на счет «Дебиторская задолженность», а то и «Средства в пути».
Связь и жизнь пересеклись в Окатовской минут на пятнадцать, пока в кузов складывали нехитрое бабкино хозяйство. А Петя отныне раз в две недели ходил в Окатовскую снимать с таксофона показания – количество наговоренных минут, перманентно равное нулю.
В дорогу Петя брать ничего не стал, пошел налегке: дело на пару часов да и инструменты не нужны. День выдался солнечный, искристый – май. По пути никого не встретил. Кто на работе, кто в огороде садит картошку.
Наклоня голову, как пристяжная, Петя думал о своем, о нехитром своем деле. За деревней пошел привычной тропкой, пересек лесок, по мостику через ручей и вышел на старую дорогу вдоль поля. Отсюда уже видны окатовские дома, но не видны еще дыры в крышах и выставленные рамы, раскрытые гнилые двери и обвалившиеся колодцы. Поднявшись на пологую горку, Петя почувствовал какое-то движение сбоку. Между ним и лесом, у старой конюшни, копошилась в сене стая волков. Увидели они друг друга одновременно. Резко вскидывая злые прямоугольные тела, стая бросилась в его сторону.
Так ведут себя только бешеные волки. Да что бешеные, если и здоровые совсем бесстрашные стали, повадились зимой в деревню бегать, сдергивать цепных псов – легкая добыча.
Петя сбросил сапоги и залез на старую полусухую березу. Ему бы рвануть наперерез, до близких уже домов, укрыться там, или хотя б найти брошенные вилы на повете, или к реке – переплыть, может, не сунутся, а там и на дорогу выскочить…
Но он полез вверх, на толстую ветку, уселся там и стал ждать. Волки крутились внизу, терлись о дерево, подгрызали друг друга, мотая слюнявыми мордами. Угомонились только к вечеру, улеглись спать. «Теперь уж не уйдут, – подумал Петя. – Как старик и море. Только без моря». Он показал вниз, в темноту, светящийся кукиш и привязал себя к стволу ремнем.
Первую ночь спалось неплохо, терпимо. День пролежал, вспоминая, может ли кто приехать в Окатовскую. Получалось, что только в июле могли сюда местные прийти на сенокос. В домах брать нечего, снято все, вплоть до печного литья, и по снегу утащена нехитрая мебель.
– Глупо это, братцы, конечно, но что поделать, – сказал Петя.
Третий день прошел, и четвертый. Стая не уходила. Солнце резало глаза. Птицы, не страшась, прыгали по ногам. Вниз уже не смотрел, только в небо. Пугаясь, что подводит черту, перебирал обрывки воспоминаний: как учился в Москве и как не сложилось с работой в Зеленограде, как возвращался домой без копейки денег, в тамбурах, на попутках, пешком, а потом сменял кроссовки на два сухопая дембелям, смастерил плот и последние сто километров сплавлялся и вот так – босым – спустя три дня явился пред родительские очи… Как расстроенный отец сказал ему: «Ты ущерб, ты ущерб мне и головная боль». Вспоминал прочитанные где-то заметки, статьи про волков, услышанные рассказы охотников, вспоминал рассказы деда, научившего его многому, и в том числе как подтереться спичечным коробком, но не научившего его главному – как выжить на дереве.
Папиросы кончились. Копил силы.
Иван Косоротик
Было пять утра: время, когда приходит вор, неприятель или смерть. Иван, тогда еще не Косоротик, появился в Лево-Плосской. В руках он нес табурет.
Бродяжек здесь не любят, потому что их не за что любить. В этих краях еще не закрывают дома на замки: приставляют к двери батожок или суют в кольцо. Но старинные законы гостеприимства забыты. Левоплоссковские забыли, как двести лет назад некий Руф, шедший в Вельск на учебу из Окичкино – первый день из десяти в пути, – остался недоволен левоплоссковским угощением. Много роста было в Руфе, и много силы, дурацкой силы; и много пустого места было у него внутри. Сначала он съел рыбник с лещом, с лещом – поперек себя шире, потом он съел пирог с брусникой и три пустых шанежки. Хозяйка поняла тогда, что ей не выиграть этой войны с пустотой и пожалела дать Руфу еще пирогов. Руф рассердился, обругал хозяйку и опрокинул кое-чего из мебели, а потом еще столкнул в овраг старую левоплоссковскую часовенку и порушил завор за деревней…
Иван же был похож на бродягу, и он был бродяга. Он не стал стучаться в двери, заглядывать в окна, а прошел по старой дороге мимо домов, часовни, пекарни, столовой, медпункта, двух магазинов и поднялся на подвесной мост. Там он выбрал место для обзора, сел на табурет и закурил.
Утренняя ленивая сырость висела у берегов. Деревня жалась к реке, выгибаясь. Река текла медленно, бесшумно уползая за поворот. На дальнем холме не стаяла шапочка первого снега, и теперь он похож на ромовую бабу. Петушиный крик и скучный брех собак обрывались ветерком, сносились набок… За три часа по мосту прошло несколько человек. Мост качался сначала в такт шагам, а потом и вперехлест, не скоро успокаиваясь. Все нравилось кругом Косоротику, и тогда он сказал: «Подходит!» – и направился в сельсовет, заранее замеченный. Все сельсоветы выдает флаг, относительно свежая покраска и прибранный памятник напротив.
Главы сельсовета, Тарбаева Федора, на месте не оказалось, ждали с минуты на минуту. Сельсоветские барышни, погрязшие в бумагах, в полотнищах таблиц сельхоззаготовок с мелкими цифрами, засыпали Ивана вопросами. Иван отвечал уклончиво, мысля себе, что пастух не разговаривает с овцами, – пастух разговаривает с пастухом, и к приходу начальства запутал барышень окончательно.
В кабинете главы Иван отодвинул стул и сел на свой табурет.
– Начальник, – сказал Иван, – Жить хочу у вас.
– Э, – ответил Федор, – Хорошие у тебя портки, козырные.
Штаны у Ивана были сшиты из бархатного советского знамени, с бахромой по краю и с кисточкой: надпись «вперед, к победе» шла по ляжке, а из-за колена выглядывал вышитый Ленин.
– Народ у нас простой как стружка, как опилок, – продолжил Федор, – Пройдись, поспрошай, может, примет кто… К Бобину на лесопилку сходи – работники нужны.
– Робин Бобин Барамбек скушал сорок человек, – ответил на это Иван, встал, открутил ножку у табурета и достал из нее свернутые в ничто деньги. – Пастух не говорит с овцами, пастух говорит с пастухом…
Денег там было – три года безбедной левоплоссковской жизни на всем готовом.
– Народ у нас простой как стружка, как опилок, как гвоздь, как трава, – сказал глава и потянулся к телефону. В пятнадцать минут судьба Ивана была решена, и был заочно, не выходя из кабинета, куплен дом, и сделана прописка.
Ну а потом, конечно, Иван сбегал в магазин. Сели втроем, с главой, с Геной Кашиным – участковым: за знакомство, за новоселье и вообще. Иван ждал вопросов, и он их дождался; вопросов о том, как выходит такая петрушка, что человек на старости лет угла не имеет, путешествует пешком и деньги хранит в ножке табурета.
Иван расстегнул ворот и приготовился рассказывать. Он начал с одного мартовского воскресенья.
Он начал с одного мартовского воскресенья – и не ошибся.
* * *
А воскресенье пошло насмарку. В субботу утром у Ивана Петровича в ухе выскочил прыщ. Ковырнул сначала пальцем, потом зубочисткой, но там, внутри, только набухло и поплотнело до степени невероятной и даже отчасти стыдной.
Болеющий мужчина жалок. Он то ноет и стонет, как старая дверь: тонко, непрерывно и заливисто, то порывается писать завещание, то неаккуратно ложится поверх одеяла, созывает родных-близких и собирается немедленно помирать.
Родных и близких у Ивана не было, и им овладел обычный стариковский страх, страх о не поданном стакане воды. Ему и в самом деле захотелось пить, и он налил себе молока. Так проверяют заболевшее животное: пьет молоко – будет жить, не пьет – не будет, не жилец. Иван Петрович выпил молоко одним махом, но несколько нервно и порывисто, да и без явного удовольствия, что отметил и запереживал еще больше.
Болеющий мужчина много думает. Его посещают такие мысли, от которых становится еще тошнее и невыносимее.
– Какая ерунда ваша наука: свистёж и провокация, – думал Иван, – Ведь что такое прыщ? Наука говорит: крошечный нарывчик. Что делать с крошечным нарывчиком в ухе? Наука не говорит. Молчат книги: словари и энциклопедии, стопа в рост высотой, и разве что справочник младшей медсестры рекомендует смазать настойкой на загадочной календуле. Что толку от такой науки, если мы расщепляем атом, если мы доказали теорему Ферма, если Марс уже изучили ничуть не хуже, чем Пензенскую область, но не можем разобраться в собственном, любимом, правом ухе?
Еще Иван думал о том, что за все и всегда приходит счет, и что просто так ничего не бывает, и что всякий приличный человек за жизнь проступков наберет, – а хоть и не уголовных, – на два пожизненных срока с поражением в правах.
Список проступков закрывал совсем свежий, вчерашний: он не помог упавшей женщине. Накануне мартовская ростепель сменилась заморозками. Иван пересекал двор по обледеневшей буграми дорожке, перебирая ногами, как конькобежец на повороте, и едва разминулся со встречной женщиной. Одной ногой та ступала в неглубокий сугробчик, а другой скользила по наледи. В руках она несла пакеты. Глядя под ноги, они проскользили мимо друг друга, шаркнув рукавами. Спустя несколько секунд за спиной раздался вскрик и звук отнюдь не мягкого падения; с треском что-то лопнуло, брызнуло, цокнуло стеклянное. «Надо бы развернуться, помочь», но ноги несли его дальше, вперед, и чем дальше он отходил, тем сильнее ему хотелось вернуться. «И действительно же, надо вернуться», – думал уже в магазине. – «Протянуть руку, сказать какую-то ерунду, мол, ну и погоды нынче, хоть с мешком песка ходи. А то и подшутить незлобно: что вы там нашли такое, что аж упали. Или нет, лучше даже так: вот же вы лежебока, травмпункты не резиновые, спасу от вас нет… А там, глядишь, за разговором, может, и проводить до дома». Из магазина зашагал той же дорогой, чуть быстрее, чем обычно. Женщины на тропинке уже не было, только порванный пакет лежал на обочине, да разбитая банка маринованных помидоров разметалась красными ошметками по чистому снегу.
Этим проступком список закрывался, а зачинался он еще трехлетним Ваней. Родители взяли Ваню в гости к двоюродному дяде. Скоро он утомился от застольных разговоров взрослых, захотел спать, и его отнесли в соседнюю комнату, на кровать. Укладываясь под покрывало, он нашел металлический кругляш: огромный, пятнистый медный пятак. Сжал его в кулачке и заснул. А когда проснулся, само собой как-то получилось, что положил пятак в карман. Он потом, лет через десять, хотел вернуть. Конечно же, с процентами, тысячей извинений, реверансами, поклонами и прочими книксенами: молод был и глуп, бес попутал, и ведь такая ерунда, но – прошу понять и простить мальчонку… И спустя двадцать лет тоже хотел, только вот дядя в Австралию эмигрировал, но, впрочем, так получалось даже интереснее: не просто привет из прошлого, а – межконтинентальный привет, и чем не повод съездить в гости: на месяц, а то и на два, чай не чужие люди, когда еще свидимся. А спустя тридцать лет дяди уже не было в живых, и все опять куда-то эмигрировали, неведомо куда; один только дядюшкин сын остался, которого он в глаза не видел и знал только, что зовут его Джон и что по-русски он знает только три-четыре мата; то есть выпить с ним еще можно, а вот поговорить больше получаса – это едва ли, тоска…
А в семь лет у Вани выпал молочный резец. Через образовавшуюся неприглядную дыру научился посылать плевки с необычайной точностью и силой. Дошло до того, что стал на спор бить плевками лампочки. В школьных туалетах лампочки кончились довольно скоро, пришлось гастролировать по подъездам. Сколько людей расквасило себе носы в потемках? Но и этим не кончилось. Однажды спорщиков и любопытствующих застукали, надавали подзатыльников и сдали родителям. В ходе непринужденной воспитательной беседы с отцом Ваня лишился еще одного зуба, соседнего. Дыра, или, если угодно, технологическое отверстие, утратило свое функциональное свойство, но тотчас приобрело другое: теперь Ваня мог свистеть. Свистел долго, пока не позвонили из школы:
– Петр Александрович? Ваш сын стекло в школе разбил.
– Ну, велика потеря, – отвечал в трубку отец, ласково глядя на Ваню и одной рукой высвобождая ремень из брюк, – завтра приду и вставлю, не впервой.
– Это вряд ли.
– Что – вряд ли?
– Вряд ли вставите.
– А что, стекло специальное какое-то?
– Специальное. В очках директорских.
И ведь все случайно получилось: гогоча и улюлюкая, бежал по школьному коридору и столкнулся с директором Виталием Фотиевичем, которого все звали Виталием Фотоаппаратовичем. Он схватил Ваню за ухо и даже слегка приподнял над полом. Ваня набрал полные легкие для крика, но не закричал, а засвистел. Свистеть он умел хорошо, слишком хорошо, об этом знали все, и нелишне было бы знать и Виталию Фотиевичу, но он не знал. Спустя секунду директор ощутил неприятный резонанс, и из его очков выпала левая линза. Ваня поднял ее, обтер о штанину:
– Ваше очко, Виталий Фотич…
…И вот – пришла расплата. За все лампочки, пятаки и линзы.
В таких мыслях прошел остаток воскресенья. Тысячи людей вставали перед Иваном Петровичем, тысячи глаз смотрели в одну точку с печалью и укоризной, и этой ничтожной точкой был он, он, он – Иван Петрович.
Читал медицинский справочник и темнел лицом все гуще и гуще. Глубокой ночью даже захотелось взвыть, от чего он воздержался только лишь из-за боязни разбудить соседей, милейших тихих людей.
Ранним понедельничным утром измотанный Иван Петрович выстрелил собой в аптеку. Фармацевт, отчаянно молодящаяся женщина, долго не могла понять, зачем покупать настойку календулы, если, во-первых, она невкусная и, во-вторых, есть настойка боярышника, отлично зарекомендовавшая себя как вкусовыми, так и прочими качествами. Иван мычал, мотал головой и показывал на ухо, и этим еще больше разжигал ее азарт продавца («Цвет – ну чистый коньяк!»). Потом она все же с опаской заглянула в его ухо, как, должно быть, заглядывают в пасть льву, и посоветовала сходить в поликлинику.
В поликлинике Иван Петрович не был давно. Не болел, хроническими заболеваниями не страдал, на здоровье не жаловался. И вообще не жаловался, не имел такой привычки.
Рук-ног не ломал. Точнее, рук-ног себе не ломал, но то – история давняя, из опыта работы крановщиком; да и, как растяпе, тогда было указано: «Если ты стропальщик, так лицом не торгуй и ветошью не прикидывайся, а смотри в оба и когда надо – отскочь» – и добавить к этому решительно нечего.
Со своим телом давно уже заключил ряд дипломатических соглашений. С головой – о дружбе и согласии, с желудком – о взаимных интересах, с легкими – об общем воздушном пространстве, с мочеполовой системой – о добрых намерениях. Соглашения соблюдались свято.
В общем, в поликлинике Иван не был лет тридцать пять, со времени обязательной медкомиссии при приеме на работу. Но по старой памяти помнил всё поликлиническое великолепие: осаждающую справочное окошко толпу неопрятных стариков, прикрывающие развал самодельные агитплакаты со страшными картинками, номерок к хирургу на 6 часов 15 минут утра.
Встал в очередь к справочному окну. Кругом – разноцветье и разномастье: шелестят бумажками и мнут пожелтевшие полиэтиленовые пакетики с документами пенсионеры разных возрастов и весовых категорий, тренируют болезненные позы симулянты и любители «побюллетенить», нетерпеливо вытягивают бритые шеи ребята с отпечатком на лицах простой и ясной заводской судьбы.
Самые частые слова здесь «медицинская карта». Ее просят, ищут, требуют выдать на руки или отнести в такой-то кабинет, сделать выписку, разыскать, завести новую взамен утерянной, достать из-под земли, материализовать из ниоткуда. А вот еще новое модное слово – «истребовать»: некоторые угрожают истребовать по суду. Стоя в очереди у справочного окна, легко представить, что в мире нет ничего важнее медицинской карты.
Очередь двигалась медленно.
– Издевательство над людьми… – сказала какая-то старушка.
«Вот, сейчас начнется». Он называл это самовозгоранием. Такое бывает в долгих очередях и поездных купе: у всех накипело, и всем есть чего рассказать, но – кто-то должен начать первый, кто-то должен прорвать плотину, нарушить напряженную тишину. Такой смельчак находится, он говорит заведомую ерунду про издевательство над людьми, или про погоду, или про цены; и все смотрят на него с обожанием, теперь каждый получает шанс развернуть перед случайным собеседником эпическое – как правило – полотно. И спустя каких-то полчаса вас уже несет по волнам чьей-то тяжелой жизни, в которой муж-работяга умер рано, потому что пил и, кстати говоря, по этому делу поколачивал, но в целом, в целом неплохой был человек, а сноха лентяйка и плохо моет полы, даром, что из неблагополучной семьи, не чета нашей, не чета, но зато внучка – внучка! – такой ангел, такое дите, такое золотце, что неровен час можно и ослепнуть, вот фото, смотрите и не говорите, что вам не показывали, нам тут четыре годика.
Нечто подобное Иван наблюдал каждые выходные. Под его окном сбежавшие от жен мужики каждые выходные играли в домино. С воскресного утра было ясно, к чему все идет и чем закончится, но до поры никто и виду не казал. К вечеру беспокойство нарастало, разговоры все больше становились пустыми, а фразы односложными.
Наконец, кто-то бил себя по ляжке: «Ну что? Кого ждем-то? Пора бы уже чего-то того?..» Мятые рубли горой сыпались на стол, из-под лавки доставались стаканы, а из карманов четвертинки хлеба. Некто, подробно проинструктированный, бежал в магазин за выпивкой…
Запахло пирожками. Это открылся киоск в холле, у раздевалки. И даже с пятнадцати метров бросается в глаза, какие они жирные и сытные. Почти решился перекусить, но тут как раз подошла очередь. Склонился к задышанному окошку, сделал скорбное лицо.
– У меня ухо…
– Запись к ЛОРу – третье окно.
Перешел в соседнюю очередь и выстоял еще с полчаса.
– У меня ухо…
– Паспорт, полис. Мужчина, ну надо же внимательней. Здесь окно для работающих, для пенсионеров – четвертое.
Ах, ну да: ведь это так важно – отделить тех от других. Кабинеты, врачи, воздух – общие, но окошки, будьте любезны, врозь. Четвертое так четвертое. И еще полчаса постоять.
– У меня ухо…
– Паспорт, полис. Ой, так полис у вас два года как недействительный, надо менять. Вам в кабинет номер пять.
– А можно сначала на прием, а потом поменять?
– Мужчина, очередь не задерживайте. Я же вам говорю: кабинет пять. Не заслоняйте. С утра принял и заслоняет.
На двери пятого кабинета висело объявление, что страховая компания переехала на новый адрес. Минут пятнадцать прогулочным шагом. Как раз и рабочий день начнется.
А на улице – прозрачно-призрачное утро, какое бывает только в марте: небо глубóко, деревья черны, птицы крикливы, и капель – пока еще – тиха и ленива.
В страховой очередь небольшая, всего пять человек, баловство. И не беда, что запросили пенсионное страховое свидетельство. Иван его потерял несколько лет назад, и уже искал по какому-то пустячному делу, и не мог найти. Значит, надо получить новое, и чем не повод.
В пенсионном фонде потребовали ИНН.
– Какой еще ИНН?
– Бумажка такая, красивая, с пломбой.
– Бумажка, я понял. Так это хоть что такое-то?
– И-эн-эн: индивидуальный номер налогоплательщика.
– Стоп. Какие налоги? Я пенсионер.
– Ну не всю же жизнь? А раз он был у вас, то надо указать.
– А нельзя сделать вид, что его как бы и не было?
Пришлось идти в налоговую инспекцию. Человеку стороннему туда в конце марта лучше не ходить: сдаются годовые декларации, страшная толчея. Но он этого не знал и с тупой механической убежденностью продолжал свой бег по учреждениям. Ему даже интересно стало: что придумают в налоговой инспекции, что попросят из-за пазухи достать? Десять фото три на четыре? Автобиографию на четырех листах? Выписку из домовой книги?.. А впрочем, такие круги должны замыкаться, и, положим, не будет ничего удивительного, если затребуют справку о составе крови, которую без сыр-борного полиса и не сделать.
Шлось – легко. Ухо, если ветру не подставлять, почти не болело. Разве что в груди при ходьбе что-то покалывало, да кружилась немного голова, но это скорее с недосыпа, и от свежего воздуха, и от непривычной беготни по городу, стояния в очередях.
Пересекая площадь Победы, скользнул взглядом по памятнику Ленину, и к месту вспомнилась цитата: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
– Мама, – произнес Иван Петрович, дернул рукой к нагрудному карману и упал.
И здесь-то и начинается история, здесь-то и находится водораздел; та самая точка, до которой Иван Петрович и не жил вроде, а так – баловался.
Очнулся Иван Петрович не где-нибудь, а именно в морге. Он сел, откинул простыню и встретился взглядом с патологоанатомом. Патологоанатом сидел в углу за столом и пил чай с печеньем. Спустя минуту, минуту пронзительного молчания, печенье в стакане пошло ко дну. В этом был тонкий символизм, настолько тонкий, что никто из присутствующих внимания на него не обратил.
Вещей и документов Ивана Петровича в морге не оказалось, только ключи от квартиры на тесемке.
В выпрошенном синем санитарском халате без пояса и сапогах на босу ногу Иван Петрович немало повеселил прохожих.
Но ключи не пригодились, потому что в двери своей квартиры Иван Петрович не обнаружил замка, к которому эти ключи подходили бы. На стук в дверь ему открыл некто в майке, пахнущий чесноком. Он молча – что пугало больше всего – вывел Ивана Петровича из подъезда и дал пинка.
В ЖЭУ выяснилось, что Иван Петрович по документам – мертв, и даже имеется акт, а в квартиру, по очереди на жилье, заселен некто Сидорчук, приватизировавший квартиру в тот же день. Скорость, развитая Сидорчуком, навевала на тревожные мысли. Заявление в милиции у Ивана Петровича не приняли: не хватало им еще заявлений от покойников.
У выхода из отделения милиции Ивана Петровича ждала машина, а в машине трое, и слова одного из них, по которым очень складно выходило, что лучше бы Ивану Петровичу исчезнуть, а раз жизнью своей он с актом о смерти не совпадает, так это поправить намного легче, чем он думает, благо и дорога в морг ему, Ивану Петровичу, известна, и никому ничего за это не будет, потому что – верно – акт.
Стоит ли удивляться, что уже на следующий день Иван Петрович прибился к бомжам, на свалку. Хотя слово «прибился» здесь не совсем подходит, потому что оно вызывает ненужные ассоциации с некими условными берегами и морями; на свалке же нет гаваней – и тем более тихих, нет портов – и тем более приписок, а есть там только приливы и отливы. Поэтому более уместно будет сказать «появился среди». Иван Петрович появился среди бомжей, на свалке, и отбросил фамилию и отчество как рудимент.
И устроился неплохо, между прочим. Заделался «металлистом», сдатчиком металла то есть, – высшая каста на свалке. Быстро вник, какому шоферу и сколько давать, чтоб сгружал металл на «его» территории. Сбилась своя бригада – не друзья, конечно, тут не дружат; кореша, кенты, напарники. Отстроил себе шалаш не шалаш, а даже можно сказать хибарку, кота завел – продукты проверять – и вообще стал за здоровьем следить, делать зарядку по йоговской системе – по книге, на свалке и найденной.
Соседей приучил к карточным играм: наберется трое – преферанс, четверо – бридж, покер – при любом составе. Игра обычно сопровождалась дегустацией настоек, которых Иван напридумывал множество: «Тайга» на сосновых и еловых иглах, «Макака» на бананах, «Гагры» на мандаринах, «Старая жена» на лимонах, «Новая жена» на апельсинах и так далее. На основе настоек готовились коктейли: «Гарем» – «Старая жена» и «Новая жена» в равной пропорции, «Гарем в тайге» – треть «Гарема» и две трети «Тайги». Спирт для настоек брал не какой-нибудь там технический, а именно что медицинский; остальное – валялось под ногами и требовало обработки зачастую минимальной.
Однажды подобрал подстаканник, выброшенный уже повторно кем-то на свалке, видно, подумали – «шлак», «мельхиорка», а он сразу распознал серебро; продал в антикварную лавку, и денег хватило на еле ползающий, но автомобиль – «жигули-копейку». Кое-как подлатали, в скупку стали ездить сами, ночью по объездной дороге; номера новые сделал Вова Антрацит, прозванный так за почерневшее свое лицо, за такие фокусы он срок и получил когда-то и недавно только освободился.
Такие истории немедленно попадают в золотой фонд свалочных легенд, легенд, придуманных не для развлечения и смеха, а для веры.
Ближе к осени с дальнего участка притащили коробку, полную всяких сувенирных мелочей, безделушек и фотографий. Иван хотел было задвинуть ее под кровать и разобрать позже, но с верхней фотографии, смытой, переклеенной на картон, на него смотрела его, Ивана, бабушка. В параллельной галактике Сидорчук устраивал жизнь, обживался на новом месте.
А на свалке, в первые же заморозки, в ночь, умер Вова Антрацит – пьяный, он не дополз до своей землянки десяток метров. Он должен был соседям пару-тройку тысяч, и об этом полагалось бы и забыть, но здесь долги брались и с мертвых. Тело вынесли на трассу, сразу за город, где водители, вырвавшись на простор, прибавляют скорость. Иван занял позицию, стал выглядывать подходящую машину – иномарку с женщиной за рулем. Спустя час ожидания он дал отмашку фонариком. За ближним поворотом двое подельников вынесли тело на дорогу и побежали вперед – остановить машину, если не остановится сама. Ну а дальше все было просто: удар, подпрыгивающая машина, остановка, труп и трое переговорщиков, согласных, что человека все равно не вернуть, и сам виноват, но похоронить надо по-человечески, и решить можно на месте, по-тихому, а если денег мало, то они согласны взять украшениями… Никто не торговался, и три раза повторялось представление, и вполне Вова мог войти в историю как единственный человек, четырежды мертвый за один только день.
Потом пришла беда – пожар на свалке. Сгорели все хибарки, и это – накануне зимы, зимы у Белого моря. Иван вытащил из огня один только табурет и отправился куда глаза глядят. Шел он на юг, потому что отсюда и можно идти только на юг, по трассе М8 «Архангельск – Москва».
Дорога до Левоплосской дорого ему обошлась, многое он видел в пути и многого натерпелся, и вот тогда-то на его лице и застыло этакое выражение, словно его вот-вот хватит кондрашка.
Так его и прозвали левоплоссковские – Косоротик.
– Ваня Косоротик, ну, тот, бродяга, дом у него на краю. Да ты видел, лодки шьет, Петьке Радио гроб он и сробил. Слыхал историю? Мишка его в реку с трактора упустил, так гроб до Студенца доплыл. Там выловили багром, а мог и ниже вполне. Ладно шьет.
Коля Розочка
Кашину Геннадию дай-бог-памяти Максимычу,
участковому милиционеру деревни Лево-Плосская, деревни Право-Плосская, Левой Горки и Правой Горки, и хутора Ехлебята, и хутора Михалевского, и Строкина хутора тож, и всей нашей округи от Черняева Николая Степановича по паспорту, а в миру Коли Розочки или Черняя, на двух листах собственноручная, в трезвом уме и трезвой памяти и с волей, направленной на донесение оной наперед и вопреки и так далее
Явка с повинной
По существу дела могу сообщить следующее. Жизнь – это фрукт навроде репы или лука. Сок есть и мякоть в том фрукте, сладость и горечь есть в нем. Но горечи мы не желаем, а сладости нам только давай, мы до той сладости порато жадны. Пуще пчел мы жадны и краев не видим.
Я тебя, Гена, с самого что ни на есть начала знаю, а это, считай, тридцать годов. А тридцать годов – это тебе не шутка и не чих собачий – тридцать весен и тридцать зим, я тебя снаружи знаю и изнутри, и что в голове твоей делается, и что в душе твоей топчется да с ноги на ногу переступает. И ты мне скажешь, Гена, что человека родители делают, а я отвечу на это твое старорежимное мнение, что вовсе не родители человека делают, а случай, поступок и подвиг.
А если нет за человеком каким случая, поступка или подвига, так и нет человека, считай. Бродит по миру организм зряшный, рот едой набивает и под солнцем греется без толку. И много у него отговорок: то бисер ему не тот, то свиньи не те, то обстоятельства неподходящи. Я так скажу: нам войны не выпало, в этом счастье наше, и в этом наша погибель. Где нам познать друг дружку, где нам зеркало взять, чтоб рожи увидеть свои немытые без прикрас и искаженья?
Чем нас измерить? Чем испытать?
Так и выходит, что в моем лице имеем мы неудовольствие и вышеуказанную ерунду, таковского субчика. Упустил я Петю, упустил. Мне бы людей поднять, мне бы носом землю рыть и в сито просеивать, мне бы под каждую травинку заглянуть, мне бы ноги стоптать. Упустил, упустил!
Да нешто не отбились бы, хоть и вдвоем? Жаль, часов не придумано волшебных, охти, как жаль, чтоб стрелки на них взад крутить и время за ними! Я бы рыл, я бы просеивал, я зверем бы стал страшным и рвал, рвал, рвал в клочья к лешакам всю стаю.
Ведь на березе той глаза он все высмотрел и слух надорвал, не слышко ли Колю, не видко ли друга сердешного? А я што? Ништо я, пустота, и звать меня никак.
Он, Петя наш, жизнь мне спас, без того я ему должен был, а теперь виноватый, кругом виноватый. Нет его – и нет меня, это одиножды один и дважды два. Нет больше меня, нет. Люди не скажут, а я скажу и говорю: знавали мы одного Колю Розочку, а более знать не хотим, скучно нам это и в неприять, язва он на нашем чистом теле и приживала гнусная среди нас.
Жизнь, Гена, это фрукт навроде репы или лука. Я сладость его познал и горечь, а человеком не стал, и с тем являюсь с повинною, и прошу по всей строгости закона, и по букве его, и по духу, чтоб жизни мне не было, чтоб мне пропасть на этом самом месте, не сходя, в прах обратиться и исчезнуть.
А слезам моим не верь, нет мне больше веры.
Дата, подпись.Света Селедка
Сошлись мы с ним, как люди сходятся. Наука простая, в школе не учат. Мне двадцать пять, да ему сорок, в сумме шестьдесят пять – можно жить, есть куда. Пришел он ко мне, я в половинке жила, в учительском доме. Ужну я справила, вина поставила и сама тут. Поели, я и баю, и волосы ему треплю, рыжие его волосы:
– Устал, Егорка? Пойдем спать.
Легли, значит, в кровать. Лежим. Луком от него несет, чесноком, потом, да мы привычные. Слышу – сопеть начал. Бью я его тогда в спину и говорю:
– Здравствуй, Егор Иванович! Мужик ты или вывеска? Мужик ты или название одно?
Поворачивает он ко мне свое лицо, глаз не открывает и лезет в меня пальцами, как в сахарницу лезут.
– Это, – говорю, – что за новость? Что за изыск?
А он отвечает:
– Завтра.
Поняла я тогда, почему он бобылем по сию пору ходит, столкнула его с кровати и говорю:
– Завтра для меня не существует, нет по такой жизни для меня никакого завтра. Кровь из меня уходит и молоко, красная кровь и жирное молоко. Я не муравей, я жизни хочу. Мне спокою нет – и тебе не дам. А раз ты такой, так катись колбаской.
Встал он и укатился в ночь.
А утром брат его приходит, Андрей. Чай пьет, моргает мне всеми глазами и на лытки смотрит мои голые.
– Что, – спрашиваю, – страсть хорошо живешь, Андрюша?
А он отвечает:
– Страсть хорошо живу, Света, страсть, – и лицо краем скатерти вытирает.
– Ты, – смеюсь, – Андрюша, и баб, поди, шоркаешь?
Краснеет он как заря и говорит:
– Шоркаю.
– Может, и жениться тебе пора, Андрюша? – спрашиваю вроде как в шутку, но и не в шутку вовсе.
– Может, и пора.
Так вот и думай: от осинки березка родится или нет? Далёко ли от яблони яблоко катится? Я так считаю, что метра два, но бывают исключения.
А он сидит в углу как неживой, смотрит на меня, и в глазах такая мысль, что словарь не нужен. Жалостный – хоть ори, сил нет.
Взяла я чемодан, покидала вещи.
– Веди, – говорю, – штурман будущей бури.
Только за околицу вышли – Егор бежит. Слово за слово, валятся они в грязь и давай друг друга по земле намазывать, как масло на хлеб мажут. Пар столбом – что над прорубью, червьми вокруг меня ползают, и вверх по дорожке, и вниз – смехота! Скоро упорхались, да не скоро угомонились.
Встал Егор, берет чемодан и тянет к себе. А он раскрывается как книжка, и одёжа вся моя в грязь и падает.
– Вот вы браты-акробаты, – говорю. – Ребус, а не братья…
И давай материть их. Все им высказала, весь алфавит перебрала. Мать-то у них общая, мне сподручней, а им обидней вдвойне выходит. Они аж рты пораскрывали.
– Брат, – говорит тогда из грязи Андрей и кровавыми пузырями булькает, – Егорушка-братка…
Где это видано и кто нас научил? Пошто мы из-за стервы деремся?..
…Историю эту рассказывает в магазине Света Селедка, а слушает ее Мишка Сухарев, тракторист. Воскресное утро, покупателей нет и не будет. Мишка похмеляется пивом и слушает эту историю, хоть и сам мог бы ее рассказать.
Мишка хочет что-то сказать, но в магазин заходит Коля Розочка и с порога кричит:
– Света, в тетрадочку.
– Кончилась твоя тетрадочка, – отвечает Света.
Коля Розочка просит у Мишки десять рублей. Мишка дает. Тогда он просит двадцать, и Мишка отказывает.
– Турок, – утверждает Коля и теряет интерес. – Турок – не казак.
Со лба у Коли капает, из глаз течет, изо рта течет и из носа.
– Нам войны не выпало, Света! – кричит он. – В тетрадочку будь любезна…
Но Света не хочет даже раскрыть тетрадь, долг за Колей тянется с зимы. Тогда Коля повторяет привычные слова про мать и про пенсию, про поминки и тоску, он говорит все тише и тише, и можно только разобрать отдельные слова – что-то про жизнь, про фрукт и про часы.
Вода камень точит – Света дает ему бутылку самой дешевой водки.
Коля хочет засунуть ее в карман куртки, но куртки на нем нет (он о том забыл), и он пробует раз, пробует два, пробует три – бутылка падает на пол и разбивается.
Света идет за тряпкой. Коля стоит посреди магазина, один-одинешенек посреди всего мира. Со лба у него капает, из глаз течет, изо рта течет и из носа.
– Света, – говорит Коля и трогает воздух вокруг себя, злой воздух, – солнышко мое. Ты поллитровку-то дай все-таки…
Мишка Сухарев
Я себя не жалею, зачем я буду людей жалеть?
Вот шурин золотой у меня. Плюнуть на него, потереть – блестанёт. Ну. Ты попробуй, будет интерес. Приехал сейчас, думал меня испортить. Я с такой постановкой несогласный. Посевная на носу. Пивка в воскресенье – и всё, хватит.
Есть в авиации термин такой – «точка невозврата». Это когда летишь, а назад вернуться уже топлива не хватит. Вот шурин как ни приедет, так я эту точку порато хорошо наблюдаю.
Уж до чего мы с ним, бывало. Ведь не высказать. В восемьдесят седьмом, помню, приехал к нему в Котлас. Выпить не достать нигде. То есть – ну совсем. А он председатель кооператива был, так шлепнул мне справку.
– Иди, – говорит, – в магазин, отоваришься по ресторанным. На похороны выделят.
Ну я взял, пошел. Иду себе, иду. А потом и думаю… я ж в поезде накернил еще чуток с ребятками, соображаю медленно. Так иду и думаю: кого хороним-то? Ведь не на похороны ехал, в отпуск. Разворачиваю справку, а там – мать честная! – меня хороним. Дела! Ладно, набрал в магазине полную авоську. Главное, водки нет. Все шампанское, наливки какие-то. Не похороны получаются, а баловство – даже обидно.
Пошли с шурином к Славику. Славик – золотой тоже паря. Сидит сейчас за грабеж и легкие телесные. Ну мы к нему – так и так, пасьянс известный. А он не пускает, и из-за спины жена так смотрит, что действительно в гроб лечь хочется. Взяли у него стакан только да одну бутылку шипучки тут же выпили на пороге, вроде как и не считается – бзынь, и всё, нету.
Пошли обратно, к шурину. Выпили дорогой, конечно, и дома. Сидим. Скукота. Звонит тогда шурин Толику: давай, говорит, к нам, только баб найди. Прозвище у Толика – Жженый, а еще Квазимодо. И то правда – похож. Я Квазимоды не видал, но чувствую – похож, не отнять.
Перезванивает Толик: будут бабы, только одна без зубов, а другая с экземой. Нам что? Нам что – молодым да неженатым? Нам ничего. Давай, говорим, только быстро.
Приходит он с бабами, да еще и спирту принес. Спирт – это, я тебе скажу, уже кое-что. После скобеля – да топором, это по-нашенски. Мы и разбавлять не стали, он медицинский, мягонький такой, только водой запиваем. А за водой надоело бегать, так стали из аквариума черпать, прямо с мальками. Вроде как и закуска заодно выходит.
А я все-таки решил сготовить чего, три дня, считай, на жидком топливе. Нашел в морозилке котлеты, давай их ножом ковырять, да по пальцу попал. Рукой махнул и всю стену на кухне кровью забрызгал. Деталь немаловажная, дальше слушай.
Потом и Славик нарисовался, и бабу привел, со сломанной ногой. Нам что? Мы и сами непрямые. Толик пропал куда-то, остались мы вшестером. Вижу, Славик что-то стал к нашим бабам клеиться. Раз так, думаю, так я себе оставлю со сломанной ногой. Все пошли Толика искать и тоже пропали.
Я бабу сразу отправил мыться. Горячей воды не было, чайник согрели. А гипс у нее с ноги снимался, она его в ванной оставила. Мы в постели, вдруг слышу: что-то упало. Потом еще раз. Подхожу к окну, стоит внизу Славик. Говорит: меня отшили, пустите хоть между вами полежать. Я ему в ответ:
– Мне, Владислав, ваши городские моды решительно непонятны, – и окно закрываю.
Ночью шурин пришел. Вытащил меня на кухню, а сам к бабе полез. Она ему спросонья:
– Мишка, ты?
А он ей:
– Тссс-тссс… – и ползет, гад.
Пришлось мне на кухне спать. Две табуретки поставил, не помещаюсь. Что делать? Открыл духовку и головой туда – как раз, как по мне делали.
Утром проснулись, по капле из вчерашней посуды выдавили на похмел – так, кости полизали. И думку думаем: как бы от бабы потактичнее избавиться? Чай, не звери, понятие имеем.
Шурин в окно соседа увидел, кричит ему:
– Вова, выручай!
– Чего надо?
– Зайди ко мне, тут у меня баба, ты изобрази, будто ты дядя мой, и отчитай.
Подумал Вова. Сам-то такой основательный дядька, в костюме, голос громкий.
– Будет, – говорит, – сделано.
Врывается Вова в квартиру и с порога давай орать. Ты, орет, такой-разэдакий, жена уехала, три дня на работе не бывал, в хвост тебя и в гриву, шиворот-навыворот и задом наперед. Баба собралась быстренько и даже гипс в ванной забыла.
Шурин на работу ушел, я денек покантовался, погулял.
Вечером только сели на кухне – Славик пришел. Выпил, его сразу рвать, он в ванную. Да так стартанул, что стол опрокинул. На шум сосед зашел, дядя Коля: что за представление? А сам на кровь смотрит на стене. Шурин говорит тогда:
– Да вчера по пьяни одному голову отрубили.
– Как… отрубили?
– Да вон в ванной посмотри.
Дядя Коля туда, мы за ним. Заглядываем: висит Славик через край ванны кверху попой, затих, голову и не видать. Чем не труп? И нога еще гипсовая рядом стоит. У дяди Коли чуть глаза не выскочили на ниточках.
– Пойду, – говорит. И в дверь чуть не насквозь.
Ну.
Мы неделю еще гуляли. Мы всех похоронили, всех. Славика, Толика – всех. Вот тебе моя неделя из месяца, а месяц из года. Сколько их было?
Вот так жить надо. Чтоб – до тошноты. Чтоб утром проснулся, солнце в темечко бьет, жив – да какая ж радость. Главное, чтоб мотор был работящий. Но и с одним лететь можно. А без одного – только фланируй носом вниз и приветствуй шахтеров да прочее подземное население.
Так и выходит, что ты мне про Петю Радио, а я – про себя.
Я ж заходил к нему в прошлый Прокопий с утра. Сидит у окна, книгу читает. Очки на носу. Смешные очки на синей лизоленте.
– Так и так, – говорю, – Петя, книжки в сторону, очки за печь. Прокопьев день – праздник в Устьянах первейший, если не сказать единственный.
А он на палец – харк! – и страничку переворачивает. Вроде как с понтом не видит меня.
– Гнусно, – говорю, – живешь, хозяин. Как мышь.
– Суета, – отвечает, – суёт. Жизнь – это стол с едой. Кому малёхо, а кому и в самый раз. Мне блохой прыгать удовольствия нет. Я, – говорит, – сопеть хочу – что наподавано.
Номер отколол, да? Совсем плохой от книг стал или страной ошибся? Я себя не жалею, зачем я буду людей жалеть?
Тебе говорю, всем говорю: как мышь жил, как мышь погиб. Только и делов, что Розочку с огня вытащил. Да кто ж упомнит. Тоска!
Прокопьев день
Скучное мужичьё с косами наперевес исходит потом в пыли дорог. В разгаре сенокосная пора. За деревней на узких полосах земли вдоль берега ждет их и наливается тяжелая трава. В дрожащем воздухе тесно маслянисто-черным телам оводов и паутов.
Замученная ими сука Пальма катается в иссохшей грязи, скуля и вытягивая шею.
Разрывая облака, солнце – величайший из шмональщиков – шарит по земле. Мужики спешат: будет дождь. На краю неба густеет недвусмысленная синь.
Прокопьев день – праздник в Левоплосской первейший, если не сказать единственный, и поэтому мужики тоже спешат. Загулять в такую пору дорогого стоит. У них всё с собой. По чуть-чуть, для крепкого сна в шалаше.
Прокопьев день – праздник не местных, но приезжих. Праздник давно уехавших – чтобы стать понаехавшими; праздник презренных дачников, романтиков, предателей и ностальгантов. Их много. Отсюда – успех.
Начинается с самого утра. К восьми часам на деревенское кладбище у соснового бора приходят первые поминальщики. Они стряхивают с деревянных скамеек у могил труху и мох, стелют на столы газеты и клеенки, раскладывают нехитрую снедь. Выпивают аккуратно: день предстоит долгий. Закусывают неохотно и выборочно, выцеливая наверняка.
К десяти – не протолкнуться. Выпивают и поминают, разбредаются по кладбищу в поисках старых знакомых. Им бы подправить косые деревянные кресты, подновить, выправить оградки – да некогда и недосуг, в следующий раз. Встречаются друзья, одноклассники, ученики и учителя, сослуживцы и коллеги. Повсеместно происходят мелкие чудеса. Первая любовь беседует о погоде со второй, но не последней женой; рядом троекратно целуются поссорившиеся навсегда братья.
Раскрошенная закуска киснет на столах. В рюмках с недопитым густо тонет гнус. Бродячие псы дремлют на узких тропинках, не в силах оттащить в сторону провисшие животы. В их влажных глазах гаснет сытая тупость.
Кладбище пустеет.
К двенадцати часам из придорожных кустов во множестве торчат ноги спящих. Раскрыв слюнявые рты и отбросив руки, они спят не шевелясь. Рядовые несуществующей армии, они похожи на буквы и знаки препинания, застывшие на листе. Никто не берется сложить из них слово или фразу. Новые смыслы никому не нужны. Новых и старых смыслов хватает без них.
В три часа – драка левоплоссковских и глубоковских. Начавшаяся в этот день много лет назад по мнимо серьезному поводу, она выродилась уже в нечто традиционное, театральное и номинальное, существующее вопреки, а не потому что или для. Проходя по разряду немногочисленных аборигенских причуд, вялый мордобой срывает овации.
Пресытившись зрелищем, народ готов потребовать добавки, хлеба и прочая. На плоском берегу – Лугу – к этому все готово. Пришедший сюда попадает в лабиринт столов. Ассортимент небогат, но четко структурирован: пиво десяти сортов и краеведческие книги, шашлыки и пейзажные фотографии, сладкая вата и лакированные лапти. Торг, как и везде на Севере, неуместен, смешон и постыден.
Дети клянчат монетки, дети хотят прокатиться кружок на пятиметровом колесе обозрения. Металла в этом колесе нет, только дерево. Ручку крутит взмокший Толя Боша. Он счастлив, как счастлив каждый дурачок, раз в году сопричастный работе чудного механизма. Год от года в безошибочно самом неожиданном месте старое дерево дает слабину, и под бабий визг дети сыпятся с неба спелыми фруктами.
Тем временем в клубе собирается цвет интеллигенции и ее полуцвет. Начинаются самодеятельные «Прокопьевские чтения». Интеллигенция опять первой чувствует скорую погибель и торопится высказать наболевшее, разделить на всех фантомную боль, заговорить судьбу и подменить что бы то ни было говорильней.
Со стены свисает полуоборванный плакат «С алкоголем в обнимку – короткий путь в могилку».
– Друзья, – говорит ведущий, втыкая взгляд поверх голов, – если угодно – товарищи. В этот светлый праздник…
Глава района раздает благодарственные письма. Бестолково сгибаясь, поближе к сцене подбирается фотограф районной газеты.
Чтения открыты. Регламент суров: десять минут на выступление. Первый докладчик читает с листа про топонимику волости.
– Есть два диаметрально противоположных отношения к именам. Первое – как вы яхту назовете, так она и поплывет. Второе – хоть шаньгой назови, только в печь не сажай… По всей видимости, деревня наша возникла на ровном плоском участке долины реки Устьи. Вариант «Плосская», который встречается в ряде источников, отражает местное диалектическое произношение названия… Далее.
Деревня Коростина: в переписной книге тысяча шестьсот тридцать девятого года зафиксирован Пят-ко Поспелов Коростин, название можно связать с этой фамилией, с прозвищем Короста… Деревня Окатовская: название происходит от прозвища Окат, которым могли наградить толстого человека. Окат – это большой чан для воды. Другое толкование связано с тем, что у мужского православного имени Акакий имелся просторечный вариант Окат…
Деревни и хутора, реки и ручьи, поля и холмы. Список длинный.
– Регламент!
– Ну, в следующий раз…
Неловкие аплодисменты.
– Просим выступить нашего дорогого гостя из райцентра. Прошу.
На сцену вспрыгивает провинциальный поэт, певец банальностей, головная боль районных газет. Поэт вертляв, короткорук, истеричен. Излюбленный прием: подмена искренности экспрессией. Пот бьет его беспрестанно и неумолимо.
– Извините, регламент.
Его сменяет церковный староста.
Косые лучи вьются в его седине, барабанят по гладкому лбу старца, лбу, выписанному с иконы.
– Двенадцатого мы праздновали Афанасия Афонского день, сегодня – Прокопьев. Три дня меж них. Три дня – как три эпохи русского православия. Век четырнадцатый, век пятнадцатый, век шестнадцатый…
Староста никуда не спешит. Последние сорок лет люди интересуют его ничтожно мало.
– Век четырнадцатый, век пятнадцатый, век шестнадцатый…
Сонливость ползет по рядам.
Гена Кашин, участковый в форме и при пустой кобуре, вздрагивает и встает, хлопая откидным сиденьем. На его лице – извинительная брезгливость. Стараясь быть незаметным, он продвигается к выходу. Он старается и оттого еще более заметен и шумен.
Гена выходит из клуба на свежий после дождя – в Прокопьев день непременно случается дождь – воздух. Тишина кругом, безмятежность; однотонное небо спокойно, и скоро придет подслеповатая белая ночь.
У поворота Гена встречает Колю Розочку. Розочка крутит педали своего знаменитого велосипеда. В этом агрегате, где предполагалось прямое, – все кривое, где планировалась изящная изогнутость, – все прямое, спиц в колесах не хватает едва ли не половины, а заместо вылетевших во множестве болтов – проволочные скрутки, об которые очень удобно рвать до крови кожу и на аккуратные полосы штаны.
Розочка едет на кладбище.
Человек порой удивительно непубличный, он рассчитал верно: там уже никого нет.
На кладбище Розочка докатывает велосипед до могилы, валит велосипед на холмик соседней, садится на скамью, закуривает и только потом говорит:
– Земля пухом, Петя. С приветом к вам мы, попроведать.
Им обоим некуда спешить, и разговор предстоит долгий. Коля достает водку и срывает пробку зубами:
– Новость, Петя: нас китайцем пугают. Мол, едут сюда китайцы жить, они нас научат как надо. Смешно это и обидно. Что я, китайца не знаю? Он в поле выйдет – я хорошо картинку вижу, как по телевизору в солнечный день… Он выйдет, тяпкой ковырнет: с одного края песок, с другого глина, тут заросло, а там провалилось, тут засохло, а там заросло. Оглянется, увидит. Глаза всем Богом дадены, Иисусик меня дери… Увидит бескрайность всю нашу непередаваемую, поля наши непролазные и леса прозрачные… Он в магазин пойдет. Я полчаса даю. Я полчаса даю, больше не дам, режь меня, калечь… Земля наша пустая, Петя, пресная, на хлеб не намажешь. Соли в ней нет, а сахара подавно. Дерьмом ее не удобришь. Только людьми, только людишками первого сорта…
Коля рассказывает долго, новостей за два месяца накопилось – необычайно; уже и стемнело давно, а он все смеется, показывает в лицах и делает ораторские паузы.
На небо, небо, зарешеченное ветками высоких сосен, выкатывается стеснительная луна.
Колю клонит в сон. Пора ехать, но велосипед слишком тяжел, слишком норовист, слишком рогат и неуступчив. Обессиленный борьбой Коля признает поражение и отходит ко сну, накрываясь велосипедом.
Это невозможно, и это немыслимо – накрываться велосипедом, но Коля накрывается.
Под ним – могила Василия Ротшильда, человека ординарной судьбы и неординарной фамилии.
Коле, не спавшему уже так хорошо год, пять или даже пятьдесят, тепло и сказочно мягко.
Ведь на могилах трава растет особенно густо.
Василий Ротшильд
Есть люди, что живут словно по сюжету дурного автора. Кажется им: чем более будет деталей, зигзагов судьбы, неслучайных встреч, тем убедительнее они будут смотреться на весах истории.
Василий Ротшильд был не такой.
По имени его не звали, а только по фамилии. Ротшильд – он Ротшильд и есть. Единственный, путать не с кем. Жизнь его описывалась простыми словами: детдом, училище, армия, совхоз, парторг, семья, новый дом.
Но что самое обидное при такой фамилии – не был он ни черняв, ни смугловат, ни носат, и даже еврейской нежностью лица не страдал. Может, никакой он и не Ротшильд вовсе? Нет, уперся: фамилию не сменил и не думал, хоть советчики и нашлись.
В новую российскую действительность Василий вошел парторгом, а вышел – никем. Страна ушла из-под ног, совхоз поразительно быстро растащили по щепочкам и кирпичам, скот забили, а сельхозтехника – так та вообще вышла из пункта А в пункт Б, но в пункт Б не пришла, а в пункт А не вернулась…
Хорошо, что Василий был семейный. Тосковать и бедовать компанией всегда веселей. Жена Наталья, сын Коля – в армии, дочь Галя – шестой год.
В общем, все терпимо. Можно даже сказать хорошо. Мелкие хлопоты, возня на участке, приработки «принеси-подай», скоро у сына дембель и переезд в новый дом.
В декабре 1995-го пришло от сына письмо. Коля писал: «Мам, пап, я в Ставрополье. Но вы не волнуйтесь. Я связист. Не стоит переживать. Сижу в бункере, что там снаружи – мне нет до того дела…»
Но мать все поняла. Про армию она знала меньше сына, но о России представление имела самое полное и непосредственное. В доме на секунду стало очень тихо, а потом на несколько дней очень громко. И она не ошиблась. Потому что матери редко ошибаются, и тем более – в свою пользу.
31 декабря всех погнали на штурм Грозного. Коля-связист обнаружил себя внутри БТР. А где-то совсем близко – он чувствовал это спиной – уже заготовлен ему маленький кусочек металла, и поделать ничего нельзя.
Хоронили его, не вскрывая цинковый гроб, покрытый российским флагом. Промерзшую землю долбили два часа. Солдатики, неловко балансируя между поспешностью и торжественностью, дали тройной винтовочный залп. Василий очнулся и побрел домой.
Месяц он молчал и никого не видел. Потом он огляделся и сказал: «Вот так вот, значит». Дом был пуст. На столе лежал черствый рыбник и прошлогодний журнал «Сельская новь».
Василий пошел по деревне искать жену. Он нашел ее в новом доме. Точнее: а) в их новом доме, б) в непотребном виде, в) вместе с местным фельдшером Гия Ахвеледиани в не менее непотребном виде. Ротшильд показал им сценку «Очень расстроенный муж», совместив ее с битьем стекол и нанесением легкого вреда здоровью, не повлекшего за собой увечий.
Потом он запил – и пил два месяца. Ему было плохо и хорошо одновременно, в степени до изумления равной. Продолжать было проще, чем не продолжать, и он продолжал этот бессмысленный бег с препятствиями на месте спиной вперед. А потом он перестал. Сам. Сказал: «Ага!» – и пошел мириться с женой.
Сбиваясь на ласковый матерок, он плел ей что-то про бабку, что живет под Красноборском. Бабка проведет обряд, и у них все будет хорошо, они помирятся, заживут как раньше, дочь пойдет в первый класс, а стекла он уже вставил. Для обряда он выпросил платок с двумя капельками крови на нем – жены и дочери.
Дома он добавил третью капельку – свою – и отправил платок через старых милицейских знакомых в райцентре на экспертизу в Архангельск.
И пришел ответ: дочь – не его.
Вот так у Василия Ротшильда не осталось вообще ничего, кроме фамилии.
Буквы пляшут перед глазами. Буквы беснуются, мельтешат, мельтешат, мельтешат. И складываются в грузное, как дирижабль, и неумолимое, как сталь трехгранного штыка, приставленного к животу, – «доживать».
Ротшильд дожил бы. Такие обычно доживают, они тянут верно, убежденно и до конца. Жизни в нем еще недавно плескалось лет на тридцать, после всего – осталось от силы верных пять.
В хорошей песне на голубом вертолете прилетает волшебник. В плохой жизни на грязном автобусе в Левоплосское приехал поляк. Звали его Януш Голодюк. В начале сороковых он родился здесь в семье ссыльных поляков – и вот приехал впервые навестить ненароком случившуюся родину.
Поляк в белом костюме и в шляпе с пером зашел наугад в гости не к кому-то там, а именно что к Василию Ротшильду – обладателю худших новостей дня к северу от Москвы. Такое не бывает в книгах. Такое бывает только в жизни.
Они болтали о ерунде с полчаса и пили пустой чай. Василий рассеянно отвечал, а потом возьми и спроси поляка: как отличить еврея от нееврея?
Януш не знал, но вспомнил старую притчу. Собери от каждой нации по одному человеку и задай им вопрос: если им можно было бы оставить только одно из двух слов себе – «да» или «нет», то что они оставят? Все ответят: «да», и только еврей оставит себе «нет»…
Такую притчу вспомнил поляк.
Что было дальше, никто не знает. Но рассказывают так.
Ротшильд снял с гвоздика на стене огромные портновские ножницы и обстриг ногти. Потом он достал из шкафа свой единственный костюм-тройку, рубашку и галстук. Оделся и причесался, глядя в засиженное мухами зеркало.
Спустил с цепи пса, раскрыл настежь двери и направился на берег реки. Там покурил, скинул сапоги, вошел в воду и, не суетясь, направился поперек течения. Скоро вода сомкнулась над ним.
Что же он ответил? «Да» или «нет»? Что бы он оставил себе?
Об этом никто не думал, потому что думать об этом в Левоплосской некому и вроде как незачем.
Толя Боша
Походка спешащего человека, боящегося не успеть, но своей же спешкой опасающегося сделать спешку бессмысленной.
Классический, хрестоматийный случай: каждой деревне положен дурачок.
Может статься, что жизнью нашей управляет статистика, а вовсе не наоборот; отсюда и топорность, и безыскусность, и самоповтор: за окном отец завел трактор с пускача и от испуга трехлетний Толя упал с печки, сделавшись дурачком.
А русская печь вполхаты, огромное сияющее белизной чудовище с пастью-зевом, прикрытой закопченной железкой с блестящей – от хватания – ручкой, с полукруглыми нишами по форме банки и выступами вполкирпича, с толстенным приступком, выкрашенным желто-коричнево-красным во множество слоев, с подпечьем, в котором можно спрятать десятерых, – этот монумент и дольмен, вокруг которого все остальное строится, вращается и живет, а в общем-то – в общем-то – обычная во всех отношениях русская печь сыграет еще свою роль.
Но это потом, потом. А пока понесли Толю к знахарю-бродяжке Романко. Родился Романко без пяток и ходил всю жизнь на цыпочках. Земля Романко не носит – так говорили, и так было.
Сам Романко из Заберезово, а нашли его у Черняевых в Левоплосской, на постое. Ночь он у них одну провел; отказать не смей – прими, накорми да спать уложи, а за вторую уж отработай посильно или заплати.
Денег у Романко не было, и родители Толькины застали его за трепкой льняной кудели. Сидит – куксится да глаза трет.
Бухнулась тут мать Толькина как была на колени и вопит:
– Помоги, Романко! Бают люди – ты с бесами знаешься, ты порчу снимаешь, и кила на кол скачет, так и кол в щепки.
Молчит Романко.
– Помоги, Романко! Мы дорогой воды речной зачерпнули, ты нашепчи на нее да скажи три раза: «Слово святое аминь!», на мальца прысни.
Молчит.
– Помоги, еретик! Видно, сглазили его и на круг поставили. Хлеба возьми или картофь сырой, да об язык потри. Мы на лоб ему положим, небось наладится парничнок.
– Уходи, – отвечает ей еретик и дергается весь, – тут Божье дело, не нашенское…
Не за себя мать просит, за дитя; тут меры нет – и ревет, и шепчет, и по полу катится, и на стены лезет, и ступни знахарские черные уродские трогает и к лицу прижимает.
– Уходи, – говорит, – сдела нету.
Ушли и ушли – толка нет. К вечеру день, вечер к ночи, а ночь ко сну. Где год первый – там и двадцатый, а где двадцатый – там и сороковой.
Это – быстро и, не к месту будет сказано, вроде как невзначай.
Остался Толя один. Кто уехал, кто в землю ушел. Ходит Толя по деревне и щепочки за пазуху складывает да раз в году на Прокопия карусель крутит.
«Всё – как на первый снег ссыт» – так говорят.
Дел у Толи нет, а скучать некогда.
Во-первых, щепочки собрать, тут места надо знать. Во-вторых, щепочки по размеру разобрать и тесемкой перевязать. В-третьих, у соседа вчерашнюю газету «Устьянский край» взять, вырезать слова на букву «м» и на картонку наклеить. Чаще всё «молоко» попадется из таблиц надоев по району, но бывает и поинтересней.
Шло как шло – и слава богу, а в прошлом году зимней ночью случилось: спал Толя на печи, а в дом – он на повороте стоит – возьми и въедь лесовоз аж до самой середины.
– Садись, – водитель смеется, – вывезу. Не тут тебе смерть писана.
И правда – не тут.
Залатали дом миром, можно жить. А в июне в грозу загорелся дом. Может, молния, а может, и совпало.
А в доме – четырнадцать баллонов с газом, один у плитки и тринадцать про запас. Тут уж не до шуток, шарахнуло будьте любезны – прощай картонки и щепочки, разметало клочки по закоулочкам.
– Толь, тебе зачем четырнадцать баллонов-то было?
– А буква «м» четырнадцатая в алфавите.
…Крутит Толя карусель, весь Прокопьев день крутит без передыху, а стемнеет – идет к реке и валится в хрусткую осоку.
Мошка вьется, облака стоят, ветер дышит.
Легко внутри, пусто, и кажется: еще чуть-чуть и можно очень важное понять.
Сквозь плотное небо мигает Толе первая звезда, и вторая, и третья.
На это можно смотреть бесконечно.
На это можно смотреть бесконечно долго.
И Толя Боша смотрел.
Дмитрий Бобин
Действующие лица:
Бобин – мужчина лет 45-ти в рабочей одежде.
Слушатель – молодой человек лет 30-ти, городской житель.
Лесопилка на краю деревни. Взрытая земля – колея через колею, холмы опилок. У свежего сруба с неторопливой деловитостью копошатся мужики. Бобин и Слушатель сидят на бревне. Бобин наливает в щербатую кружку дымящийся чай из термоса.
Бобин (отхлебывает из кружки, морщится). Чай-то сегодня и Сенюгу, и Верюгу, и Устью перебрел.
Пауза. Оба закуривают.
У нас же тут оффшорная зона, ты в курсе? На прошлой неделе налоговые инспекторы приезжали, в сельсовет меня вызвали. «Дмитрий Валентинович, – говорят, – вы почему с лесопилок налог не платите?» А я отвечаю: «Каких еще?» – «А вот же». «А-а-а… так это не мои», – говорю. «А чьи же?» – «А не знаю». Так и уехали.
Пауза.
Хорошо иметь домик в деревне, но и робить надо. Это мне бабушка еще говорила: «Надо робить, надо робить, надо худо не зажить». Мелкий был, бывало, сплю, подойдет… она ослепла в шестьдесят, день с ночью путала… подойдет, за ступню меня возьмет, «Широкая нога, счастливая», говорит. Все мать просила гармонь мне купить с пенсии. Да какая гармонь, что ты. Мы уж пластинки вовсю слушали. Помню, с Архангельска с проводником новый альбом «Битлз» передали. Я на велик – и поехал. Считай, девяносто кэмэ в одну сторону до станции. Как раз к поезду успел, забрал. А обратно как ехать? Она ж, пластинка, квадратная, большая. Ни в карман, ни за пазуху, ни в подмышку. Так я в зубах ее привез, за уголок взял и привез.
Мимо проезжает трактор. Бобин показывает водителю кулак.
Главное – пить нельзя. И не пить нельзя. Это такой местный парадокс. Я, считай, пять лет в завязке. Во-о-он домик видишь желтый?
Слушатель. Это с верандой который?
Бобин. Да не, дальше и правее, у магазина. Ну?
Слушатель (врет). Вижу.
Бобин. Там проходить будешь, обрати внимание, в окне картонка, а на ней цифра сорок. Это Надька бизнесует. Днем в магазине водку берет по тридцать девять, а ночью по сорок продает. На рубль – живет.
Пауза.
Так и вот. Отмечали мы что-то… А, нет, вру, ничего не отмечали. На берегу, там, пониже часовни. И хорошо так… В общем – в дрова. Пополз я домой, да дернул черт через сосновый бор срезать, за больницей который.
Слушатель. Далеко идти?
Бобин. Хожено-перехожено, леший мерил, да веревку урвал – так говорят. Не знаю. До середины дополз – нет, ног не чувствую. Думаю, гори огнем, здесь заночую. А темно – глаз коли, и дождик закрапал. Дальше иду, от дерева до дерева, от сосны до сосны. Забор перелез, иду. Опять забор, переползти сил нет, так вдоль пошел, должен же кончиться. Пять минут иду, десять, полчаса – не кончается… Я часа три ходил. Плюнул, завалился спать. Утром просыпаюсь, а это я вокруг трансформатора, оказывается, ходил, в загородочке. С того дня больше не пью. Из принципа.
Пауза.
Ну а там – пошло-поехало. Лес мне выписали на новый дом, а мне вроде как и не надо, крепкий дом-то у меня. Ну вырубил, привез, продал. Соседу помог выписать, половина мне – продал. Выписывают всем, людей много. Живые кончились – так мертвые есть. Почему нет, если человек хороший был?.. С кого убудет? Ни с кого… Племянника в лес загнал, сучкорубом. Он с института вылетел, с первого курса. Не хочу, говорит, учиться, хочу работать. Хочешь? Вперед. Год поработал, сейчас на красный диплом идет… А с нашими не так. Тут понять надо ритм: две недели до аванса работает, месяц отдыхает – хоть что делай, хоть грози, хоть бей.
Пауза.
Магазин новый знаешь как ставили? Сроку было – две недели, в самый раз. А дело в ноябре, дальше работы никакой, все равно распускать всех. Так я сказал: мужики, за три дня сделаете – по ящику водки каждому сверху. Вечером иду – они уж рубероид на крыше стелют и ручку дверную прикручивают… Заноси – торгуй. Вот тебе и весь мотив, и талант управления. Случай тоже был… Ерунда. Год-два поворочаемся, лес есть, работа есть. Мост вот сдали… Ну как сдали… На бумаге сдали, а так-то еще и дорогу не отсыпали… Главе ведь наверх отчитаться надо – сдали. А на меня ножкой топает. Ты, говорю, не топай. Давай, говорю, как звери, драться, давай рвать друг друга… Ты если власть, так ты властвуй. А не хошь – добро пожаловать, сучкорубы завсегда нужны…
Гена Кашин
Дневниковые записи
21 июля
Прокопьев день. Был на чтениях. Тошно. Усыхаем на глазах. Делом не получается, словом пробуем. Словом тут не взять, тонет все. От такой жизни кто в веру, кто в безверие.
Я думаю – природа. Мы как плесень тут, от сырости завелись, не более.
Были и были, не стало – и ладно, вроде как и чище стало. Обидно.
22 июля
А подумать – чего обидно-то? Значит, надо так. Может, и в самом деле неэффективные мы, неперспективные? Твари бестолковые, дрожащие.
Не спасет никого деревня, нас самих бы спас кто. Скучные мы, без выдумки.
А стучит в голове, свербит: жить, жить! Где-то там кипит, проходит жизнь, и даже уже не проходит, а уже прошла.
Мы ж со спутниковым телевидением теперь, насмотрелись красот. А по такой жизни, ребята, за радость посмотреть, потом глаза прикрыть и представлять, представлять, представлять.
23 июля
Допустим так: море. Обязательно море. Пусть. Хотя бы недалеко. Кафе под открытым небом. Испанская речь. Кальвадос. Кофе. Белая посуда на синем. Белая ткань трепещет и рвется на ветру. И тем четче, контрастней – смуглая кожа руки. Ее руки. И цвет глаз, и свет глаз, и свет изнутри. Разрешите представиться – разрешаю. Озон и электричество в воздухе прямо здесь и кругом. Автомобиль с открытым верхом. Лететь. Вдоль берега, по кромке бежать. И, чувствуя встречный ветер, бежать быстрей.
Жить, жить, жить.
Восход в горах и закат в пустыне, и табло аэропорта и твой рейс, и прекрасное уже не далёко, а под ногами. И цветные открытки, и открыточные виды. Проиграться в казино, ночевать под мостом. И пусть даже война: ползком по земле в грязи по нижнюю губу, снаряд слева, снаряд справа, ползти, сзади свои, и впереди чужие, и все ясно как день. И по глупости попасть в плен, заделаться предателем – все лучше, чем никем, – и дождаться кары, и уже поставленным к стенке что-то крикнуть этакое.
Дрожать, как собака, поймавшая след.
Или Нью-Йорк: крохотная квартира с узкими оконцами и круглосуточный шум-гам за окном, и китайская еда в коробочках и вообще – Америка и обе Америки, по широкой дороге, и по узкой дороге, и не по дороге вовсе – автостопом в джунгли, ловить дождь пересохшими губами, и есть все, что шевелится, и, прорубаясь мачете, выйти к водопаду, и за завесой воды найти вход в пещеру, а там…
Налегке идти и не иметь ничего.
Сидеть на пешеходной улице, играть на шарманке и только этим разбавлять окружающую тишину, всех знать и быть знакомым – всем, стать по хорошему поводу местной достопримечательностью, стать завсегдатаем ресторана или хотя бы чего-нибудь, знать миллион историй и пять языков, и вид иметь, и иметь всех в виду, и видеть насквозь, и самому прозрачным быть, звонким и пружинистым.
Как же, ребята, хочется жить.
24 июля
Мы с Бобиным это придумали – школу подпалить. Решились.
Сейчас же как: если нет работы, ее надо придумать. Мы рассчитали всё: новую строить – область денег даст, обязательно даст, а деревне – работа, и можно жить, год и два. Мы ведь всё по привычке непонятной считаем, что нам тут только ночь простоять да день продержаться, а там лучше станет.
Время выбрали – майские выходные. И чтоб без жертв, и чтоб занялось получше, пока заметят, и дорога размыта, не подъехать.
Траву подсветили, на углы бензина плеснули и дёру.
Кто ж знал, что в кочергарке Коля Розочка отсыпается. Впрочем, вышло бы даже и убедительней, хоть на него спиши, хоть на траву.
А тут Петя. Он единственный у нас с привычкой гулять просто так, без цели. Бросился он, лопату схватил, давай землей забрасывать. Поздно, не забросаешь. Он к колодцу – а высох колодец, ушла вода.
И видит он тут во дворе машину ассенизаторскую. Говнокачку то есть. Ребята-школьники на ней ездить учатся.
Тут уже и народ сбежался, ключи нашли. Завел машину, к реке надо ехать за водой. А как поедешь? Вниз-то – да, а наверх, да еще и полный, не въехать никак.
Тут мы с Бобиным, рожи подлые, переглянулись.
Сделали дело, будем жить.
Стоим, любуемся, расстройство изображаем.
А вот и нет. Догадался Петя. Подгоняет он машину к школьному сортиру, накачивает полную цистерну, да ка-а-ак обкатит всю школу. Аж зашкворчало…
Вылезает герой из кабины и на нас с Бобиным смотрит. А мы на него. А он на нас.
И он понял тогда все. Я увидел, бывает такое, у него рябь по лицу пробежала. Зряшно мы, что ли, с Бобиным чуть не за ручку по деревне ходили и шушукались? Не бывает зряшно.
Ну, думаю, вот сейчас точно что-то по Уголовному кодексу произойдет, впервые за два года-то.
Либо мы его, либо он нас.
Так я рад был, что он назавтра пропал и история вся эта с волками. Сначала, конечно, думал – в район поехал, сдавать нас. Почему не сдать? Ведь он правильный такой был, Петя. Вот так же я, как сейчас, здесь сидел за столом, курил одну от одной и думал: сдаст, сдаст, сдаст.
А потом думаю: нет, не сдаст. Мы же кровь одна, у нас сердце на всех одно, мы как один здесь. Он – я, и я – он, и мы все – целое. Вместе мы, с пеленок, сызмальства и так далее. Нам жить, и нам друг друга в землю складывать.
Бобин только не в счет.
Так я думал.
…А тогда – хорошо, Коля Розочка из кочегарки вылез на шум, отвлеклись все. Всё в дыму, бабы визжат, мужики матерятся, ребятня носится, школа по крышу в говне.
И человек при пустой кобуре стоит – рот раскрыл, чуть не плачет.
Человек при пустой кобуре – это я.
Правоплоссковские
Федор Кальмарик
Главе администрации Устьянского района Архангельской области Кострикову А. В. от главы администрации МО «Плосское» Тарбаева Ф. Э. и неравнодушных жителей, с трудом населяющих то же самое
Заявление
Как я есть на деревне первейший иностранец, а проще говоря нерусский, и через это самое по причине национальности лицо пострадавшее, а также среди прочих уполномоченное и выбранное, хочу заявить нижеследующее.
Народ у нас простой.
Жег я вчера листву в огородце, а проходит тут мимо Зыбиха – милая старушка, но придурошная малость. Посмотрела она и говорит:
– Вот, был грех, в кой-то год искра от костра семь километров пролетела, и в Карповской сеновал сгорел.
Народ у нас простой как стружка, как опилок, как гвоздь, как трава. Так и я, примеряясь, а по науке говоря мимикрируя, и за чужие спины не привыкши скрываться и оттуда в сторону бормотать, сообщаю:
Отец мой, Эльмар Джабраилович Тарбаев, служил по месту рождения. То есть в пустыне, где в дозор по двое ходят, и один стоит, а второй в его тени отдыхает, чтоб потом наоборот. Солнце там в небе круглосуточно висит, пыль сухая, и птицы большие облетают дикие земли.
Здесь, в Право-Плосской, ветер чугунки в печи ворочает, а там ничего не ворочает, потому что нечего там пошевелить и потому что нет его вовсе по полгода и более.
Отец мой вырос в ауле и до работы завистливый всегда был. Также в предках он имел замечательных людей, и в строю потому он первый стоял, хоть по высоте смотри, хоть по ширине, хоть как.
Отрядили его тогда походную ленинскую комнату за ротой таскать. А походная ленинская комната – это два листа фанерных на петлях мебельных и с ручкой самой ни на что есть дверной. Килограммов, врать не буду, тридцать и сверху пять. Фотографии внутри, вырезки журнальные и вымпелы, все как полагается. Марш-бросок – несет, ученья – тащит, туда и сюда волокет.
И, значит, отслужил он и оставил здоровье свое в казахской пустыне. Кому такой великан в хозяйстве надобен? Вида много, толку чуть: никому. Отучился он на агронома в душанбинском техникуме, да и поехал куда подале.
Подале – это, значит, сюда.
Приехал. По деревне идет, а у самого шары на воробах, ведь в новинку всё. И встречается ему тут Аннушка, Анна Тяпта то есть, которая уже тогда по языковой части давала всем сдачи и прикурить.
– Это чей парничок-то? – спрашивает.
– Да ничейный.
– Здравствуйте.
– И вам. Эльмар я, работать приехал вот.
Посмотрела тут Тяпта на него, на круглые его глаза да на ручищи его огромные, и говорит:
– Какой же ты Эльмар. Кальмар ты.
Огорчительно отцу было такое услышать, у него отметина черная по спине наискось от комнаты ленинской.
– Да как вы смеете, – говорит, – это ж от фамилий Энгельс, Ленин и Маркс.
Посмеялась ему тогда Аннушка в лицо.
– Мне, – говорит, – без интереса…
Так и пошло – Кальмар.
Время зайцем бежит, время цаплей идет – встретил отец мать мою будущую. Все у него в один секунд оборвалось внутри и покатилось прочь. Дело молодое, кипучее, искристое. Так он к ней и эдак, сбоку, и напрямки, месяц за ней как на веревочке ходил, молчал как камень и рыба об лед.
Разглядела наконец она его среди прочих, вроде как впервые, обернулась и очень серьезно говорит:
– Всем вам одно надо, и тебе одно. А у меня надобность женская.
Взял ее тогда отец за руки, а руки у ней тонкие и шершавые, и говорит, а сам дрожит весь:
– Знаю, Машенька. Женская надобность – она круглая, гладкая. То надо, это надо, и третье, и вместе. За край ее не возьмешь и по кусочку не отхватишь. Гладкая она и трехэтажная, надобность твоя женская. Я готовый.
И вот таким образом объяснившись и обнаружив друг в дружке всё, что надо обнаружить, спустя неделю они расписались. Ускользила зима, отгремела весна, прошумело лето – пожелтел лист да облысела земля, тут и моя остановка, пора выходить.
Назвали меня Федором, а люди прозвали Кальмариком, потому что прозвище у нас впереди человека бежит и правду-матку докладывает.
И жил я себе спокойно сорок годов и два месяца до известного момента, пока не пришли ко мне люди и не сказали, что времена пошли совсем азиатские.
– Времена, Кальмарик, пошли совсем азиатские, – сказали люди, – а ты среди нас самый азиат, и мы тебя главой выбираем. Мы сроду никому взяток не давамши, а нынче, видно, без бакшиша и дела не сробишь.
И стал я главой, двенадцатый год с честью несу возложенное, и делаю вот какой вывод с высоты самого личного опыта и момента: Устья, что Плосское на две части делит, – это вполне себе граница, на манер государственной.
Работать я бегаю на тот берег и вижу в этом несправедливость и упущение. Наш берег, правый, он первый был. Дорога здесь была, и храм, и погост, и что приличному человеку угодно. А левоплоссковские что? То они школу дерьмом ученическим тушат, то человека на дереве теряют, то гроб с ним же в реку упустят.
Отдал я по весне распоряжение: обкосить всем дома, чтоб не дай бог. А на левой стороне что? Школа занялась! Прибегаю, глядь – а там обкошено меньше половины. Спрашиваю я людей:
– Как же так, люди?
– А это, – смеются, – Христу на бородёнку.
Всё им нипочем, всё шутка, всё забава.
Часовню вот тоже ремонтировали. Как сарай я ее принимал, как дрова, амбар был совхозный. Дыры там в полу – и козы внутрь забирались от дождя муку с пола, стен слизывать. Дурное легче легкого, а как полезное сделать – мозоль набьешь на мозгу. Ладно, придумал я: всё достал, всем обеспечил, делайте. Весь дом у меня утварью и убранством завален, с Архангельской епархии прислали. Позолота по всем углам блестит, на цыпочках хожу и боком, ни-ни, терплю.
Месяц делают, второй, третий. Уговор был к 1 апреля. А мне с окна хорошо через реку видать: вроде и готово. До обеда я порхался, уложил всё в прицеп аккуратнейше, через тряпочки и газетки, да поехал через Студенец. Приезжаю – никого. Сорвал замок, захожу, а там муки по щиколотку.
Повез я все обратно и домой опять занес. Новый срок поставили 1 июня. И опять я через тряпочки, газетки, Студенец – приезжаю. А Валька Рачок, бригадир, увидал меня и орет совсем некультурное с крыши на всю округу, прямо с маковки.
– Ты зачем, – спрашиваю, – рявкаешь на меня?
– Зря, – отвечает Валька, – приехал ты. Не готово еще.
Тут уж я не выдержал, взял с земли что под руку попалось, а попался мне хороший камешек граммов на пятьсот, да и запустил в него.
– Ах ты, – Валька говорит, и ушибленное место гладит, – гнида нерусская и тому подобное оскорбление личности.
И вот я спросить хочу, нам с отцом допытаться до вас интересно, до русских: долго мы за вами предметы культа таскать будем?
Вопрос этот – безответный.
Теперь вот еще Прокопьевский камень, который Владимир Рыпаков, самая наша умница, на берегу выкопал.
Александр Валентинович, зная вас как человека практикующего, а не любителя рожу лица продавать, перейду к сути.
Прошу:
1. Рассмотреть возможность выведения д. Право-Плосская, д. Михалевская и д. Правая Горка из МО «Плосское» и присоединения их к МО «Строевское» или МО «Бестужевское».
2. Выделить средства и технику на выкоп, подъем и установку на постамент Прокопьевского камня.
Приложения
1. Копия заметки «Главный Камень района» в газете «Устьянский край» от 14 июня.
2. Смета на подъем Прокопьевского камня.
3. Поименный подписной лист (34 подписи).
Дата, подпись.Вова Сраль
Малиновые реки его вранья вытесняли Устью из берегов. Вихри ошеломляющих нелепиц и искусное кружево брехни складывались в самую высокохудожественную небывальщину в мире, от которой перехватывало дух.
Сраль – по-местному, по-устьянски – Враль.
Но не просто враль, или врун, или лжец, – нет, – но врущий не от скуки, незнания, стыда, корысти и миллиона других мелких человечьих причин, а творящий, юродствующий – вопреки.
Архитектор Лжи. Творец Обмана. Художник Вымысла.
Прижимистый, коротко стриженный, седой и коричневолицый Сраль не врал только дома, жене, которую знали-звали-прозвали не иначе как Сралёвной. Ей, знавшей всё и допущенной за кулисы, хода не было только на чердак, где под крышей Сраль выгородил себе обшитый вагонкой параллелепипед под кабинет.
Семейную – и вообще жизнь – Вова Рыпаков трактовал как умел, а уметь он умел: когда из Вологды им позвонил следователь и сказал, что сыну по совокупности, путем частичного сложения сроков и, беря в расчет непогашенное, отмерят двузначное число лет, он сказал:
– Ладно, давай-ка. Не руками и делал.
Таков был Вова Сраль.
* * *
– Сраль, а ты на Марсе был?
– Был.
– Давно ли?
– Да вот… дай-ка… Второй год. В июле было. Сенокосил я у старой мельницы тогда. За день подсохло, так сгребсти пришел. Смотрю, а у меня по пожне три мужика шарятся, и один вроде как с топором. Мальчишки, говорю, вы зачем безобраничаете? Подходят они ко мне, и один говорит: мы с планеты далекой мимо пролетали, да вот промашка вышла, транспорт сломался.
– Прямо по-русски сказали?
– Ну. По-русски. И грамотно так, не переслушать. Нам, говорят, для починки сосуд нужен, прозрачный, но чтоб непременно крепкий. Тю, отвечаю, у меня дома прозрачного и крепкого – ящика два… Побегли ко мне. Достал я тут самогона горохового, свежего. Ребятишки, говорю, за знакомство и приезд? Праздник, опять же, на носу. Переглянулись они, по-своему, по-птичьи почирикали: хорошо, говорят, можно, только быстро. Разлил я на четверых, смотрю, а закусить-то нечем… Не беда, говорят, у нас с собой. И тюбик достают, на вид – зубная паста, а на вкус так и ничего…
– Может, городские или с района?
– Говорю тебе: инопланетяне. Дал я им стеклотару, а сам и говорю: уважите старика на старости лет? Я человек пожилой, но серёдка полна – концы играют… Проси, отвечают, что хочешь. Я и брякнул – хочу все планеты родной Солнечной системы посетить. Все, отвечают с расстройством, нельзя, это вроде как абонемент получается, выбирай одну… Вот и выбрал. Но самое главное они мне на прощание сказали.
– Что?
– Сказали: передай Мишке Сухареву, чтоб не пил больше, а то не похвалим мы его, наголо ведь пьет, через это и крякнуть можно.
– Ну вот это уж врешь, я в то лето кодированный еще ходил.
– Ладно, вру. Молча меня к дому скинули, жопой на грабли…
…с лицом не каменным и ничуть не окостеневшим, а именно что ожившим и спокойным, и без выдающих бесталанных врунишек жестов навроде хватания себя за нос и подергивания плечом, умышленно добавляя каплю заведомой и легко угадываемой ерунды, на фоне которой все остальное идет уж не иначе как за чистую монету, не забываясь и не забывая, обставляя (не в смысле – обмануть, а – окружить деталями) бесспорным и непререкаемым, чтоб – камня на камне и только один путь: сдаться и верить как самому себе в это чудовищное – но! – такое убедительное, такое нужное и нежное терапевтическое бормотание, бурчание и бубнёж.
* * *
Умер Сраль от пустячной простуды.
Три дня до этого с утра до вечера он копал яму на берегу реки. Дело бесхитростное, дурацкое: выкидывать землю быстрее, чем прибывает холодная вода.
Сралёвна уехала в Архангельск на обследование, и Вову никто не отвлекал от дикого этого занятия. Зыбиха только старой подбитой птицей приковыляла однажды:
– Труд на пользу. Чего и робишь-то?
– Клад ищу.
– Ну-ну.
Опись его имущества составила 12 листов. Среди прочего там было:
• тонкая тетрадь в клетку с надписью на обложке «Доказательство теоремы Ферма»: листы внутри криво вырваны, часть текста смыта;
• 317 книг, в том числе полные собрания сочинений классиков русской литературы, репринтное издание «Архив русской революции» в 3-х томах и 52 энциклопедии – от «Юного химика» до «Стрелкового оружия»;
• фанерный сундучок с фотографиями, преимущественно семейными;
• пустой чемодан без ручки;
• кортик с погнутым клинком и ножны к нему;
• подзорная труба «Турист-14» на штативе;
• тубус с географическими картами;
• чертеж пирамиды высотой 29 метров из стальных балок, формат А1.
Опись проводил участковый Гена Кашин при понятом Коле Розочке.
Умысел Розочка имел простой и беспощадный.
– Часов не придумано волшебных, Гена, – говорит Коля. – Вот тебе незадача. Бабка моя и бает: Косоротик за гроб две тысячи просит, а ты что? В голове-то у тебя – кых, а руки-ноги фунциклируют. Сделай бабке подарок и последнее облегчение, справь нам по ящичку.
– Хорошее дело, – отвечает Гена, не отрываясь от бумаг.
– А потом думаю: жизнь моя – она как скатерть, плоская вся и в пятнах. Профукал я царствие небесное и прием по высшей категории. Так я сказал ей: минута моя прозвенит – в Устью меня скинь, рыбам на потеху… А гробишко продам свой, вдову только дождаться.
Тянется день, заполняются строки, и бросил уже Розочка затею вырвать из окоченевших пальцев Сраля грязную лопату.
– Скука, – констатирует Розочка и смотрит в оконце. – Тоска. Эко дело – солнце село, завтра новое взойдет… Гена, дай полтинник, чтоб взошло.
Они выходят из дома вместе, купюра жжет Розочке карман и уносит за недалекий горизонт. Гена закуривает и не спешит пломбировать дверь. Он думает о лопате, о кирпичах книг, о тысяче небылиц и о том, как они все ошибались.
Картина не складывается: в витраже не хватает последнего стеклышка и зубчик не встает в заготовленный паз.
Обходя дом, Гена выходит на тропинку. Видная – едва, ровно настолько, чтоб заметить, – она уходит в ближний лесок. На первом же тополе белеет нитка, после витка уходящая вверх; он бездумно тянет за нее – и к ногам падает пластиковая бутылка с бумажкой внутри.
На бумажке написано: «Молодец, Генка! Не зря хлеб ешь», а сбоку нарисован прямоугольник, разделенный вертикальной перекладинкой надвое; по центру в каждой половинке – по точке.
«Окно, – догадывается Гена. – Ну Сраль, ну старик, ведь все предугадал». В доме Гена обходит все окна и ничего не находит. Остается только одно окно, давно заколоченное, зашитое с двух сторон. Нижняя доска легко поддается, из нехитрого тайника Гена достает перевязанный тесемкой лист – это фотография иконы «Святой Пропокий Устьянский», на обратной стороне написано:
«…Лета 7200-го, июля в 25 день, по приказу … приехав в Верюшскую волость, с мирскими выборными людми … в деревнях часовни и в них иконное строение и всякую утварь… В Введенском приходе в деревне Плосской, а Средняя Бохтема тоже, стоит часовня во имя святаго отца Николая чюдотворца. Часовенский приказщик Сергий Еулферьев Рыпаков. … Четыре двора».
– Покойничек-то у нас с хитрой родословной, – улыбается Гена.
Дед Сраля был первый парторг в деревне, и именно он руководил сносом храма в 1924 году.
Становится ясно: ничего здесь нет случайного, и ничего Сраль не делал просто так, и не зря он не расстался с лопатой.
– Яму – завтра же проверить, – дает себе зарок Гена.
Проходит два часа, а он никак не может уйти. Темнота заволакивает углы, и осмелевшая мышь шебуршит за печью. Всё не может быть так просто. Почему нитка была белая? Почему тополь? Почему пластиковая бутылка, а не стеклянная? Гена мнет бумажку, пересматривает и понимает: таких окон в доме Сраля нет, все рамы у него нераспашные, ручек-точек на них нет.
Гена подскакивает к двухстворчатому шкафу и распахивает его, ожидая увидеть что угодно. Он видит стопки постельного белья – и больше нечего. Перебирает, прощупывает, комкает, простукивает стенки, ищет второе дно, шарит сверху. Наконец, он переворачивает шкаф.
Крупными и тонкими буквами на дне шкафа выведено: «Не хочу разочаровывать».
И улыбающаяся рожица.
Надя Синеглазка
Такие глаза бывают по одной из причин: от природы, по старости или из-за слез.
И вовсе они не синие, и не голубые, и не васильковые, и не водянистые; и вполне может статься – не придумано еще названия для этого неяркого, беспомощного цвета. Прозрачный он, ровный и холодный, и есть в нем что-то от незатейливого северного неба, и от снега – ночного снега, подсвеченного луной.
И всё ж – Синеглазка. По всеобщему мнению, Надя – девушка смешливая.
Работает Надя Синеглазка через день почтальоном – до обеда, а после – библиотекарем в клубе.
О почте надо сказать особо. Если кто задумает захватить Плосское, ему всего-то и придется, что взять этот смешной домик в два окна; домик с трубой – каким обыкновенно его рисуют дети: весь квадратный, плоский и простой.
Почта – пульсирующий сосудик Города.
Сюда привозят пенсии, сюда – какую-никакую – прессу. Руководит почтой или, как пишут на конвертах, п/о «Плосское», Анна Притчина по прозвищу Тяпта. Она сидит за помутневшим оргстеклом перегородки, за исчирканным столом, заляпанным окаменевшим сургучом, и смотрит вперед, насквозь. Тяпта тиха, строга, цинична и славится аккуратностью – отчасти старушечьей, отчасти должностной.
Синеглазка приходит в 8 утра. Собранная сумка уже ждет ее.
Хорошо утром выйти с полной сумкой, сбивающей шаг, а обратно идти – чтоб от ветра парусом, акульим плавником, полная сплетен и новостей, стояла она за спиной.
Да: тридцать пятый год Синеглазке, и эти радости ей пока доступны.
* * *
Анна Черняева, газета
– Надь, мой-то как машину наладил, так к дому не притыкается. Куды-нибудь да поехал, куды-нибудь да поехал… Какой день в огородце порхалась, чего и робила – не помню… Чую: двери на крыльце схлопали. Думала срать ушел, а он уж в районе.
Коля Розочка, письмо
– У нас-то бают, Витька Филимон опять запил. Ковды… Вчера ли, позавчера – бают, сидит за столом да порато ревит, слезы с кулак, вот такенные.
– А чего ревит-то?
– А напейся вина досыту, дак заревишь.
Полька Харитонова, газета
– Всё бегаешь, Надя.
– Бегаю, тетя Поля.
– А Ванька-то невесту нашел.
– Да какова и невеста-то по Ваньке?
– Как у коня в глазу. Смотреть не на что, мелкая и кривая.
Шура Пятка, пенсия
– Холодно нынче, баб Шур.
– Ой, девка, холодно. Ходила на реку сполоснуть тряпье, так до чего вода студёна.
– А Коля Розочка все еще купаться бегает.
– Ну дак это уж закалка.
– Да это уж не закалка, это уж в голове кых.
Настя Шерягина, пенсия
– Девка, мой-то шулыкан с района вчера приехал, полохало – полохолом, всё на свете забыл, завара, даже катанцы. Тойды прошел как куимко, а паре шибко яро бранился на меня, красён, я ужо селянку сготовила. Дак нет, белую ставь. Ну, мол, жодай, так он так ободался – из избы в горницу с палкой мотался, а после на повить уполз в клеть. Утром в сенцах нашла… Ой, Надя, и не бай, пошто только, когда аборапками были, ременницу не перешибли, мочи моей нет.
– Давай, баба Настя, я за ночь порой раза четыре и сбегаю.
Саша Новоселов, газета
– Надь, умора у нас, с ночи животики рвём. Повадился к Светке, старшей моей, Ванька Сухарев бегать. И ну приставать: давай потыркаемся да давай потыркаемся. По двадцать лет робятам, ну. Надоел! Так Светка чего удумала?.. Говорит: «Приходи, Ванька, ночью к нам в избу, я на печи спать буду». А мы намедни свинью зарезали, так Светка взяла свишкино ухо, да между ног заложила и ждёт на печи. Ночью Ванька в избу к нам, на печь, да на Светку. Сноровился, шоркает. Тут скрипнуло что-то, половица, ли что. Светка: «Отец убьет!» Ванька – бегом на улицу, а ухо-то висит. Он и кричит со двора: «Светка, ссать пойдешь, так ***** на поленнице лежит!»
* * *
Бабий век вёрткий, назад не отыграешь – успевай. В Плосской нет мужчин, способных забыть про бабий век. В Плосской нет мужчин, способных оценить глаза не придуманного еще цвета. Тридцать пятый год Синеглазке, один к одному.
Сегодня суббота, будет дискотека, и будет много приезжих. Это надо иметь в виду, и Надя имеет. Вечером она надевает платье, лучшее своё оранжевое платье, и белые босоножки.
Проходит дискотека в клубе, в фойе перед заколоченным входом в кинозал. В табачном дыму шевелятся люди, мелькают белые локти и мокрые лбы. Особо в толпе выделяется Валька Рачок. Танцует ли он? Нельзя сказать точно. Он управляет неведомыми механизмами, выворачивает рычаги, корчится и втаптывает только ему видные педали.
С месяц тому Синеглазка приглашала его к себе посмотреть проводку. Он починил всё минут за десять, потому что проводка, перерезанная в самом видном месте, чинится минут за десять, и обнаружил себя за накрытым столом.
Потом они ужинали, выпивали, и Надя, смеясь, рассказывала миллион историй. Потом она встала и молча пошла на Вальку Рачка, маня пальцем – неловко, но искренне. Что сделал Валька Рачок? Валька Рачок вскочил и побежал вокруг стола.
У Синеглазки дома большой круглый стол, а вокруг большого круглого стола удобно бегать; и они бегали, пока Надя не запнулась. Рачок выскочил в дверь, а она всё лежала под столом и хохотала, закрыв лицо руками.
Всё это было месяц назад, но сегодня в клубе всё не так. Синеглазка кружит в танце вокруг Рачка, а тот не сдается и всё усердней крутит рычаги и втаптывает невидимые педали. Это поединок, дуэль, война с общей победой и общим поражением. Между ними происходит то, что никто еще не сумел описать не дурацкими словами.
…Проходит час, второй и третий. Состоялось уже пару драк, и свалился уже кто-то с крыльца в крапиву, и тянет с угла кислой рвотой какого-то неумёхи выпить.
Надя открывает ключом дверь библиотеки и скользит внутрь, в темноту. Спустя минуту вваливается Рачок. Он натыкается на стол, на стопы книг, на Надю, и случайно кладет руки туда, куда обычно кладут неслучайно.
– Взрослые люди, – с укором говорит Рачок.
В темноте происходит минутный сумбур.
– Подожди, – вспоминает что-то Рачок и выходит.
Она ждёт.
Она ждёт пятнадцать минут, потом еще пятнадцать, потом ничто не мешает ей подождать еще полчаса.
Наука ждать – сложнейшая из наук, которой она овладела.
Острый писк комара режет сырую и затхлую тишину: в библиотеке сухо и светло не более чем в могиле.
Здесь, в углу за стеллажами, Синеглазка по часу и по два плачет каждый день.
Марья Зыбиха
Жара стоит – земля полопалась, трещинами пошла. В земляных щелях в поле мыши прячутся: спинки черные, усики обвислые, животики от пота блестят.
Небо пустое да полукруглое, изнывает в сухоте и на месте дрожит. Трава влагой вышла, стала цветом исходить: жёлтая всё и прозрачная. Ветер две недели как утащил облака, через пятые руки приветы передаёт. Сжалась река, испрела, в помутнелой воде ребятня дерётся и брызгается.
Молчит птица, утих зверь, псы по дальним сырым углам забились, бока языками дерут.
Июль.
Кажется, бесконечный, кажется, смертельный, никогда никому не привычный, раз в тринадцать лет нестерпимо жаркий северный июль.
Лопнула земля, изнывает небо, и птица молчит, но только бабка Зыбиха не может молчать. Сжавшись, она сидит на лавке в своем дворе. Солнце играет цветом ее глаз, куры бегают по её ногам, и котёнок повис на подоле.
– Прокопий к нам на камне приплыл.
Зыбиха умеет начать рассказ. Толпы отмахнувшихся и перебивших выковали её умение.
– Прокопий наш – он Устьянский, не Устюжский. Есть Устюжский, тот не наш. Наш Устьянский. Всё про него знаю. Чего не знаю – шкурой чую, кишочками.
На Покров его мать родила. Весь день мухи белые кружились, только к вечеру улеглось. И сразу разродилась. Сказали люди роженице тогда: вишь, утихло всё, вишь, светлей стало и покойно кругом? Так и сын твой то же самое в мир несёт.
Не поверила мать.
– Вам звезда, что ль, зажглась, – из последних силов смеётся. – А из меня чумазенький вылез, и в крови.
– Крута гора, – отвечают люди, – да быстро забывается. А ребёнка помыть можно.
Истопили тогда баню, и пошла она ребёночка мыть. Хороша банька, по-чёрному. По-белому тогда уж не делали. Полощется она, значит, сверху вниз, снизу вверх и всяко и младенца полощет, а вдруг огромная баба какая возьми к ней и зайди.
– Ты зачем?
– А вот, ребёночка тоже обмыть, – отвечает баба. – Ходила на войну, так ребёночка родила.
– А чья ты?
– А я лешачиха.
Так вóт – такие дела. Лешачиха пожаловала. В те времена это запросто было.
– Что, разве у вас и бабы на войну ходят?
– Ходят. Мы всем народом ходим.
– А что там делаете?
– А вихорём пыль да песок на басурманов наносим, глаза им слепим. В котлы плюём, чтоб им солоно было пуще можного.
– Ну, мойся себе.
Дала она кадушку лешачихе, а сама и не смотрит, самым краешком только. Уж до чего страшна лешачиха! Хрящеватая, руки длиннющие, волосья путаные до полу висят.
– Не смотри на меня, – лешачиха и говорит, – я грех сделать могу. А так-то бы и неохота, в воскресенье. Мы хоть и лешие, а понятие имеем… Сына береги, не просто он так – человечишко средь вас. Он с нечистью великий воин будет. И с нами, лешаками, вот тоже. Удавила бы вас, да ведь он не удавится. Огроменная силища в нём…
– И ты то же самое, – рассердилась тогда мать Пропокьевская. – Не нужно мне ничего, ни большого, ни малого. От великой силы и немощь великая. Человеческого мне подай, простяцкого… Ходи, давай, с Богом, и слово святое аминь.
Глядь – пропала лешачиха, только запах кислый в бане висит и следы шестипалые мокрые наляпаны.
Про лешаков-то что скажу про наших, устьянских. Родятся они от лешаков, как и мы то же самое от людей. А женятся уж не только на лешачихах. Попадёт какая девка русская, так и добро. Может и для любови леший к бабе бегать, только бабе такой нежить потом, в болоте они их топят.
У псаломщицы одной мужик помер, так леший и стал ходить под его личиной. Горе бабское – оно дурное, ослеплое. Только не поддалась она.
– Сотвори, – говорит, – воскресну молитву.
– А не умею.
– Как не умеешь? Ведь ты псаломщиком был.
– Забыл.
– Ну так я сама сотворю.
Начала читать, так он и пропал совсем, и ходить перестал.
Живут лешие в лесах, да на полянках, да на болотах. Дома у них – не хуже людских, только невидимые. И скот невидимый. Сидел кой-то раз дедко мой Харитон у озера, рыбу удил, и пошло из озера скота, да много, не пересчитать. Голов сто, да сто, да полтораста, и комолый всё, с лысинами на мордах.
Уводят они ребятишек малых, а бывает порой и больших парней да девок. В Студенце у Васятки Ергина парничка увели лет десяти. Как было: понес парничок батьке хлеб, а батька-то за полем дрова рубил. Да что и долго порхался, мать и наругнула:
– Понеси, – говорит, – тебя леший. Скоро ли ты и срядишься?
Ушёл и ушёл, и у Васятки не бывал, и домой не вернулся. По снегу искать ходили. Следы-то шли лапотные, а потом уж босиком, голой ступнёй. На широком горильце, где снегу не было, след и потеряли. Ворожила ворожиха, так сказала: в живности и сытости парень, а где в живности и сытости – не разобрать…
А могли и подменить. Принесёт леший чурочку и оставит. Ну, чурка и растёт заместо ребенка, только ума в ней нет, и дурости нет, ничего.
Теперь уж лешие отошли от людей, веры в них нет. Веры в них нет, а только я сама видала. Девкой была, ходили мы на сенокос. В первый день и уробились до устатка. В шалаш полезли спать, так ноги руками переставляли. Один парень порато весёлый и говорит:
– Приди к нам теперь леший, так уж и не страшён.
И только проговорил – схохотало за рекой. За рекой, а будто и рядом, вот как. Мы на месте и застыли. Слышим, по броду ктось идет. Подходит большой-большой мужик, я и не видала эких. Весь в черном, и волос черный, и зубы, и глаза. Стоит, смотрит на нас. Мы ни слова, и он ни слова. А у нас собаки были, так и те испужались.
Схватил мужик одну нашу собаку, да как фурнёт в костер! Да как захохочет во все горло! Потом развернулся и назад бродом за реку ушёл. А после – долго ещё за рекой гойкало да свистало…
Так вот и не верь.
А Прокопий наш, Устьянский, сызмальства чего и не видывал. Пышкальцо первым был. Как дело-то было: пошла девушка одна в лес по грибы да по ягоды и заблудилась.
А за озером жил Пышкальцо. От нечисти тоже мужик, хромой, всё ходит и пышкает. Взял он девушку за руку и привёл в избушку к себе. Отобедала она, отдохнула, дождь переждала, да и засобиралась домой.
– Иди, – Пышкальцо говорит, а сам в усы и похохатывает.
Девушка и пошла. И как ни идёт, всё обратно к избушке выходит. А тут уж и вечер, осталась она сночевать. Залез Пышкальцо на печь, а девке овчину вонькую на пол скинул.
– Завтра снова пойдёшь? – спрашивает.
– Пойду, – девушка отвечает.
– Ну-ну.
Пять дён ходила она, да так с круга и не выскочила.
Стали они жить. Год прожили, ребёнка родили… А один раз пошла девушка на берег и видит: по озеру лодка плывет. То Прокопий рыбачил.
Давай девка его звать, руками махать. Подплыл Прокопий, она и говорит:
– Спаси меня, человек добрый. Спаси, если не кажешься мне, потому что ни в чём я уже девушка не уверенная.
А Пышкальцо, видать, почуял. Выбежал на берег и вопит:
– Не плавай! Не плавай!
Видит Прокопий – дурное дело, нешуточное. Забрал девку, и ну гребсти без огляду, как первый раз в жизни.
Побежал тогда Пышкальцо в избушку, ребёнка из люльки выхватил и на берег принёс. На одну ножку наступил, да за другую дёрнул, ребёночка и разорвал.
– Вот и грех пополам! – на всё озеро кричит.
Тут Прокопию и задумалось: пошто в миру неправды, зла, напраслины всяческой – много, а добра и правды – такая недостача?.. Крепко ему задумалось!
Роду Прокопий пастушеского, и сам пастушонок. Утром скот выведет, сам под дерево сядет, и давай думать: пошто? Большая мысль, пять лет можно думать. Пять лет без недели ему и думалось.
А потом пришёл он домой, родителям в пояс поклонился и говорит:
– Так и так, уважаемые родители. Ухожу я в мир, правду искать.
– Нищенствовать, что ли? – это мать спрашивает.
– Нет, – отвечает Прокопий, – и не говорите так, драгоценная моя матушка, если вы меня любите. Правду искать ухожу в мир, потому что неможно жить без правды.
– Точно, нищенствовать…
И пошёл Прокопий по белу свету, ответы искать. По деревням ходил, по городам, везде был.
Просить-то у людей легко. Люди наши как говорят: не дай Бог просить, а дай подать. Вот и подают.
Бывало, опросил Прокопий одну деревню, а на ночлег еще рано.
Собрался в другую и спрашивает у людей:
– Далёко ли до ближней деревни?
– Да недалёко бы и деревня-то, и кормят там, и подают, да только после вицей стегают.
– Ну, постегают да перестанут.
Пошёл. И встречает дорогой дедушку. Тот и говорит:
– Бойся людей, злые они. Люди – грязь мира, беги от них.
Смешной дедушка, седяной, старый-старый.
– Неправда и зря, – ответил ему Прокопий, – ничего добрей человека на свете белом пока что не придумано.
Пришёл Прокопий в ту деревню и на ночлег выпросился. Сели хозяева ужинать и его зовут: не откажите в любезности и то попробуйте, и это. Наелся Прокопий, вышел из-за стола. Ему и говорят:
– Сиди, сейчас рыбник принесём.
– Нет, спасибо, досыта я.
Отужинали, лёг он спать, и захотелось ему пить. Пошёл к ведру, смотрит, а полно ведро гадин, змей и пауков. Пошёл в другой дом, в нём спят мужик да баба, а меж них змея пригрелась. Он и тут не напился. Пошёл в третий дом, а в том доме спит мужик, а у него из роту собака злая выглядывает и подрыкивает. Пошёл в четвертый дом, а там мужик спит, в рёбра топор воткнут.
Так по всей деревне сходил, а не напился.
Утром встал, собрался, вицы ждет. Да никто и не спешит. Прокопий и говорит:
– А в той деревне сказали, что у вас вицей стегают.
– Кабы пирог съел, так и тебя настежили бы.
В чем тут причина? Забава, прихоть ли что – не разберёшь. Прокопий и спрашивает:
– А пошто у вас в ведре гадин много?
– А неправдой живем.
– А в другом доме спят мужик да баба, а меж них змея.
– А баба блядует.
– А в третьем доме у мужика в роту собака.
– А матюкается.
– А в четвёртом доме мужик спит, в ребра топор воткнут.
– А родителей не почитает.
Так вóт – такие дела. Вся деревня, считай, во грехе живет.
Убёг оттуда Прокопий не отстёганный, а на душе столь и погано, будто и взаправду берёзовой кашей позавтракал. За деревню вышел, а тут опять дедушка вчерашний, седяной, старый-старый.
Кинулся к нему Прокопий:
– Прав ты, дедко!
Смеётся тот:
– То-то же. Говорил я тебе вчера: бойся людей. А теперь скажу: люби их.
– Да как же?
– А я тебя научу.
И ну рассказывать ему про Бога, про Христа, про веру исконную и самонастоящую, и как про то людям сказывать, чтоб не скучно выходило, а задористо.
Долго рассказывал. А потом говорит:
– Теперь уж ты по-старому не будешь жить. Закрой глаза, сосчитай до пяти, и по-новому всё станет.
Сделал Прокопий, как дедушка сказал. Глядь: пропал тот, как и не было.
А и сам Прокопий не там, где был, а на берегу, а берег на острове, а остров в реке. Голый остров, ни деревца, трава одна и каменья.
Пал Прокопий на колени, в самую тину да грязь, и говорит:
– Великий Боже! Верую в Тебя, и такая вера моя сильная, что я на камне отсюда поплыву.
Выбрал камень побольше, в воду скатил, сел верхом да и поплыл себе.
Видит – деревня. А река прямая, не пристать никак. Вопил-вопил – никто и не вышел.
Вот уж у Карповской, на повороте, стало его к берегу относить. А мужики местные увидали его, и баграми от берега оттолкнули. И слушать не захотели. Теперь уж не любят о том вспоминать, как святого не пустили.
Ну, а дальше уж Плосская наша. Вся деревня на берег высыпала, смотрят. Сошел Прокопий на берег, поклонился в землю, руки простёр и говорит:
– Что, мир, страдаете от нечисти?
– Страдаем, – отвечают.
– Что, хотите по правде жить?
– Хотим, только мы не наученные.
– Научу я вас, с самого изначала.
Выкатил Прокопий камень из реки, сел на него и давай рассказывать:
– Жили-были два брата в одной избе, Бог да Сотона. Вздумали они один раз от скуки мир творить. И что Бог сотворит – Сотона назло ему придумывает. Сотворил Бог скот, а Сотона паутов, да комаров, да мух придумал, чтобы скот терзали, и волков да медведей, чтоб скот тащили. Сотворил Бог птиц, чтоб они паутов да мух ели, а Сотона змей придумал и коршунов против птиц.
Так они по очереди и творили – назло. Вот надошла очередь Богу. Думал-думал Бог, кого и сотворить, чтоб испортить некак. И сотворил людей из глины. Лёг спать, а людям наказал на улицу не ходить.
Спит Бог, а Сотона подкрался, отворил двери, да и шепчет потихоньку:
– Люди-люденьки, а побегайте на улицу, коль здесь хорошо-то!
Ну, кои люди подурнее, так те и побежали. А до этого, вишь, не было ни мужиков, ни баб, все были одинакие. Только и разница была, кто поглупей, а кто поумней. Вот побежали глупые на улицу, а Сотона встал за дверку с топором, и как побежит мимо его кто, тюк да тюк его – в промежноги.
А после им и говорит:
– Будьте вы бабами, делайте все наперекор мужикам.
Проснулся Бог, поохал, похныкал, да делать нечего: прилепил остальным людям по шишке и наказал:
– Затыкайте теперь бабам дыры, умножайте добро…
Валька Рачок
Дело № 2-633
Решение
Именем Российской Федерации
23 сентября 20… года п. Октябрьский
Октябрьский районный суд Устьянского района Архангельской области в составе председательствующего судьи Драчевой О. В., при секретаре Шпартук Е. П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тарбаева Федора Эльмаровича к Новоселову Валентину Ивановичу о взыскании морального вреда за нанесение оскорбления личности в общественном месте,
УСТАНОВИЛ:
Тарбаев Федор Эльмарович обратился в суд с иском к Новоселову Валентину Ивановичу с требованием компенсации морального вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, указав в обоснование иска, что 01.07.20… в ходе обсуждения работ по реконструкции часовни в д. Левоплосская, а также прочих вопросов, связанных с ней, Новоселов Валентин Иванович в присутствии Владимира Алексеевича Рыпакова и Черняева Николая Степановича нанес оскорбление, попирающее его честь и достоинство.
В данном обсуждении он принимал участие как глава администрации МО «Плосское» и как гражданское лицо, на добровольных и бескорыстных началах озабоченное религиозным воспитанием и моральным обликом жителей МО «Плосское».
Во время разговора Новоселов В. И. обозвал его «гнидой». Как следует из толкового словаря Ожегова, толкового словаря Ефремова, толкового словаря Даля, а также толкового словаря современного русского языка, вышеуказанное слово считается как бранное.
Таким образом, ему было нанесено унижение чести и достоинства в присутствии посторонних лиц.
Просит в порядке частного обвинения взыскать с Новоселова В. И. за нанесенный моральный вред компенсацию в размере 100 000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 200 руб. и понесенные расходы на ксерокопирование в размере 2,50 руб.
Ответчик Новоселов В. И. иск не признал, суду показал, что 01.07.20… примерно в обеденное время, находясь на рабочем месте, не обедал, а работал, так как за работу у него болит душа и весь организм. Пояснил суду, что оскорбление ответчику нанес только после того, как тот бросил в него камень булыжникового вида и попал в мягкие ткани тела. За медицинской помощью не обращался. Подтвердить факт увечья или телесных повреждений не может ввиду отсутствия таковых по естественным причинам заживления.
Пояснил суду, что с истцом его связывают давние неприязненные отношения, состоящие из нескольких эпизодов. Самый запомнившийся ответчику эпизод произошел несколько лет назад, точную дату и время ответчик не помнит, свидетелей указать не может. Истец частным образом нанял его произвести ремонт забора вокруг дома в количестве 90 метров длины и полутора метров высоты. Работы были произведены в полном объеме и в оговоренный срок. Во время сдачи-приемки выполненных работ истец остался недоволен количеством израсходованного материала, хотя тот был несортовой и совсем не подходящий для выполнения вышеуказанных и, в частности, любых работ. В ходе устных препирательств Тарбаев Ф. Э. сказал, что с таким подходом к работе, как у ответчика, ему стоит обратить внимание на Ергину Надежду Константиновну, потому что она девушка не испорченная почем зря и от этого страдает, а от порчи здесь была бы только всеобщая польза и индивидуальные удовольствия. Также он сказал, что им стоит сойтись на почве общей глупости в голове и в личных делах. Тем самым Тарбаев Ф. Э., пользуясь служебным положением и авторитетом среди населения, оскорбил мужские и рабочие чувства ответчика.
В содеянном ответчик не раскаивается, сожалеет о своей несдержанности. Свой поступок по нанесению оскорбления объясняет низким уровнем собственной культуры, не позволяющей ему выражать эмоции и чувства в рамках законности.
Просит суд в иске отказать в полном объёме.
По ходатайству сторон в судебном заседании были допрошены свидетели.
Свидетель Рыпаков Владимир Алексеевич в судебном заседании не участвовал ввиду собственной смерти. В материалах дела имеются его показания, из которых суд установил, что 01.07.20… свидетель производил земляные работы на берегу реки Устья в д. Левоплосская рядом с часовней в 100 метрах от места события. Свидетель слышал, как ответчик нанес оскорбление истцу. Прочие показания свидетеля о том, что истец Тарбаев Ф. Э. по отцу является прямым потомком Худояра, последнего хана Кокандского ханства, о чем у свидетеля есть документальное подтверждение, суд считает сомнительными и не относящимися к делу.
Свидетель Черняев Николай Степанович в судебном заседании пояснил, что с 27.03.20… и по настоящее время находится в систематическом алкогольном опьянении разной степени тяжести ввиду праздников и других причин. В связи с этим свидетель высказал сомнение в своих первоначальных показаниях, имеющихся в материалах дела, а также непосредственно в факте события. Основываясь на обрывочных воспоминаниях и субъективных оценочных суждениях, пояснил суду, что к истцу и ответчику испытывает приязненные чувства и обоих характеризует положительно со всех возможных сторон. Просит суд проявить снисхождение к участникам судебного процесса и разойтись полюбовно.
Свидетель Зыбова Мария Алексеевна в судебном заседании пояснила, что перед лицом конца света, о котором ей достоверно известно из книгопечатной продукции и собственных ощущений, считает исковые требования истца ничтожными. Показала суду, что состоит в дальних родственных отношениях с обеими сторонами судебного разбирательства. Просит суд в иске отказать, поскольку удовлетворение схожих потенциально вероятных исков приведет к тому, что в д. Левоплосская и д. Правоплосская по решениям судов все будут должны друг другу огромные суммы денег, что, в свою очередь, парализует жизнь села, и без того парализованную.
Свидетель Ергина Надежда Константиновна в судебном заседании пояснила, что 01.07.20… она до обеда работала почтальоном, а после библиотекарем. О произошедшем инциденте узнала во время работы от местных жителей. Истца и ответчика характеризует как добрых и порядочных людей. С истцом свидетеля связывают рабочие отношения. Статус отношений с ответчиком пояснить суду затруднилась. Сообщила суду, что готова взять ответчика на поруки и разделить с ним любое решение суда.
Суд, заслушав пояснения сторон, показания свидетелей, изучив материалы дела,
Решил:
исковые требования Тарбаева Ф. Э. удовлетворить частично.
Взыскать с Новоселова В. И. в пользу Тарбаева Ф. Э. компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 рублей и расходы по ксерокопированию в сумме 2,50 руб., а всего взыскать 1202 (одна тысяча двести два) рубля 50 копеек.
В остальной части иска отказать.
Юбилей
Тяпта празднует юбилей.
Приходит Света Селедка, щурится на накрытый стол, предвкушает.
Приходит Шура Пятка, поздравляет, сбивается на песню, обрывает, садится.
Приходит Надя Синеглазка, садится с краю, по привычке ждет распоряжений, молчит.
Приходит Коля Розочка, бормочет, садится на приступок, закуривает, спит.
Приходит Зыбиха, говорит плачущим голосом, жалуется на давление, мелко крестит вокруг.
Приходит Гена Кашин при пустой кобуре, просит, чтоб не как в прошлый раз, присаживается к столу для профилактики правонарушений.
Приходит Иван Косоротик со своим табуретом, берется за бутылку и предлагает не терять времени зря.
Сдвигаются стопки, булькает жидкое, просыпается Коля Розочка.
Выпивают.
Тяпта предлагает закусить.
Розочка предлагает замысловатую ерунду.
Зыбиха предлагает покаяться в порядке живой очереди.
Синеглазка предлагает сначала вволю нагрешиться, чтобы было в чём.
Кашин предлагает обойтись без уголовщины, чтоб не как в прошлый раз.
Косоротик предлагает не терять времени зря и берется за бутылку.
Выпивают.
Тяпта включает телевизор.
Телевизор показывает серое, черное и желтое вперехлест.
Виновным назначается кабель, тайно окислившийся.
Розочка берётся зачистить и хватается за топор.
Кабель стремительно теряет в длине, толщине и рабочих свойствах.
Тяпта решает пресечь вредительский ремонт и вспоминает про новый телевизионный усилитель.
Коробка с усилителем, вся цветная и лакированная, ставится на стол и становится его украшением.
Косоротик предлагает не терять времени зря и берется за бутылку.
Выпивают.
Все ощущают тепло и тесноту внутри, снаружи и везде.
Все лезут на крышу чинить антенну.
Кто-то роняет важную деталь в траву.
Все ползут в траву и ищут, натыкаясь на рыбьи кости, скисшие окурки и козьи горошины.
Вечереет, темнеет, холодает, мокреет.
Становится популярным мнение, что деталь была не такая и важная.
Косоротик предлагает не терять времени зря и берется за бутылку сквозь закрытое окно.
Выпивают.
Коллективно прыскают водкой в направлении пораженной косоротиковской руки.
Вспоминают Петю Радио, которому все эти детали были раз плюнуть.
Пьют за упокой петирадиовской души.
Вспоминают Васю Ротшильда, который тоже был хороший мужик, хоть и Ротшильд.
Пьют за упокой васиротшильдовской души.
Вспоминают Вову Сраля, который сраль.
Пьют за упокой вовысралевской души.
Кашин просит прекратить поминки и дать веселье здесь, немедленно и сейчас.
Косоротик предлагает не терять времени зря и начинает петь «Эко сердчико»[1].
Шура Пятка и Анна Тяпта подхватывают, как в последний раз в жизни, до дребезжания стекол и испуга птиц.
Кашин говорит, что от таких песен он сейчас устроит пьесу со стрельбой.
Ему указывают на непреодолимое обстоятельство пустой кобуры, и он сникает.
На шум приходят люди и растворяются где-то тут, увеличивая общую громкость мероприятия.
Прибегает некто плохо различимый в дымящейся фуфайке и говорит, что уснул у костра.
Его тушат с усердием, грозящим множественными переломами.
Некто оказывается Толей Бошей, местным дурачком.
Боша говорит, что видел сразу за деревней в поле медведя.
Ему никто не верит.
Тогда Толя Боша изображает медведя, и ему верят.
Все решают идти на медведя и идут, похватав что попало вплоть до удочек.
Двор пустеет, только Косоротик и Синеглазка сидят на лавке.
Звук толпы затихает.
Дальние собаки, учуяв, скулят и рвут цепи. Прикрываясь облаком, луна-кокетка показывает голый бочок.
Медведь бродит по полю, не зная о своей незавидной судьбе.
Синеглазка неясно вздыхает на предмет мужского расцвета и бабьего рассвета.
Косоротик предлагает не терять времени зря и паучьим движением берет Синеглазку за ближайшую часть тела.
Сверху раздается: «Должна она робить! Должна!»
Коля Розочка сидит на крыше, обнимает антенну и плачет.
Анна Тяпта
Рассказ о том, как померла Анна Притчина по прозвищу Тяпта, которая была тиха, строга, цинична и славилась аккуратностью – отчасти старушечьей, отчасти должностной, и ровно так же – тихо, строго, аккуратно и цинично – вскрывала все письма односельчанам, о чем довольно скоро узнали без малого все, и что же стало, нет, не причиной осуждения, вовсе нет, но предметом забавы: отныне в конце письма кому-то там отдельной строкой Тяпту без обиняков можно было поздравить с 8 марта, 1 мая или чем-то иным, что было на носу, а было всегда, поелику календарь издавна кроился на манер хорошо сшитой перчатки, только и ждущей наполнения существованием, жизнью, бытом: праздник – лакомством на хорее – краешком или во весь рост виднелся перманентно, а хоть и День железнодорожных войск, а хоть и День строителя – не совсем и они посторонни, а то и Прокопьев день, почти совпавший с Тяптиным днем рождения, и слава Богу, что – не, ведь отмечание второго не обходилось без непредсказуемых и непредумышленных приключений, в отличие от заранее известных и традиционных первого, и никто не мог объяснить – почему, ну почему он притягивал их без усилий и естественно, как и виновница торжества, можно подумать, притягивала к себе из области, страны, республик и далеких зарубежий прямоугольнички конвертов, на самом же деле оставаясь недвижимой за исчирканным своим столом в скучном периметре почтового отделения и окружённой ворохами незаполненных бланков, невостребованных открыток и прочих бумажек, бумаг, бумажищ, желтеющих прежде, чем отправиться в свет, а скорее на растопку в печь – маленькую голландку, – на которой умещался зеленый чайник, привезенный с войны Тяптиным отцом по прозвищу Ледяха, что работал на сплаве, когда в половодье на лесной речушке, впадающей в Устью, преграждающий бон, называемый также снастью, под напором лопнул, единственным свидетелем чего Ледяха и стал, а после прибежал в деревню и закричал, оговорившись от волнения: «Власть лопнула!», о чем донесли, и вернулся Ледяха спустя десять лет, высушенный морозами и ветрами – туго обтянутый скелет, – залез на полати и помер к утру, – а как она его ждала! как она его ждала! – и всю жизнь Тяпта чего-то ждала, то родителей с работы, то отца из лагеря, то школьных перемен, то каникул, то конца сенокосной поры, то большой любви, то детей, то новый холодильник, то чего-то непо– и недостижимого, называемого иначе простым человеческим счастьем, то начала работы, то ее конца, то выхода на пенсию, то прибавки к оной, ждала, ждала, ждала и иногда дожидалась, а хоть бы и по закону больших чисел, не в силах остановиться и осмыслить простую, в общем-то, алгебру жизни со всем её мелким плюсоискательством, минусоумалчиванием и корнем как неизвестное: да, да, да, обо всём у Тяпты нашлось время подумать в последние два её дня – 1 января и 2 января, в самые глупые и пустые из возможных дней года, и всё глядела Тяпта в окно на засмотренный пейзаж и дивилась, глядела и дивилась, глядела и дивилась: вот, оказывается, и длинная траектория, замыкаясь, даёт в остатке путь, равный нулю.
На Новый год Тяпте поднесли рюмочку водки. – Ой, не хочу, девки. Видно, умру скоро. Через два дня померла.
Шура Пятка
«Родилась в 1937 году в селе Почуйки Попельнянского района Житомирской области Украинской ССР, откуда была эвакуирована в 1941 году в деревню Право-Плосская Устьянского района Архангельской области РСФСР, где и проживаю до настоящих пор…»
Из автобиографииУ ручья стоит дом Шуры Пятки. От леса до реки Устьи бежит ручей в низинке. Названия, имени у ручья нет, а только неприличное прозвище. Три уборных на его берегу тому виной – Шуры Пятки, Анны Тяпты и Миши Блина. Трижды оскверняется вода, и считается, что трижды – слишком даже для ручья.
Зимой по замерзшему руслу в деревню ходят волки, сдергивать цепных псов. Первым пострадал Амкар Миши Блина. Понес Миша утром миску, а у будки снег примят – белый-белый, – не то волоком утащили, не то так увели.
Тяптинскую Найду сдернули утром, с веранды.
Но сначала в деревне стали пропадать коты. То баловались пугливые прежде лисы, оголодавшие в зимнем лесу. Теперь же, завидев людей чрез поле, они лишь водили носами-точками, чуть пригибая обтерханные тела.
А потом уж пришли волки. Искусная лисья забава уступила волчьему напору. Собак теперь на ночь уводят в хлев.
У Шуры Пятки нет собаки. Нечего охранять и нечего бояться. Три иконки, бестолковый хлам, разномастная рухлядь, саван и белые тапки с картонными подошвами – всё, нажитое Шурой.
На треть, на половину, на три пятых ее уже нет здесь. И тем интересней наблюдать её, видеть, слышать.
– Пей, – говорит Пятка и наливает чай.
– Ешь, – рвет пухлую шаньгу.
– Макай, – ставит блюдце со сгущенным молоком.
Я пью, макаю и ем.
– Корреспондент?
– Да, – вру я.
– С Октябрьского?
– Да.
– Ну, ешь.
Шура Пятка начинает свой рассказ.
– Войну в том селе и не нюхали, обносило стороной. Придет, бывало, какая война, заберет пару мужиков, да отскочит. Пошумит в далине, погрохочет, землю с небом перемешат. Долгонько пыль под облаками висит, спокою нет. Постреляют мужики нашенски в мужиков ненашенских вволюшку, сабельками ручки-ножки друг дружке поотрубают, и ну давай мириться.
Ведь никогда такого не было, чтоб не мирились потом.
А не повезет кому, привезут в ящичке. Хоронить-то ходили всем селом. Плывет гроб над толпой, весь цветами и лентами убран. До чего баско, пирог праздничный, а не гроб.
И тут сказывают: опять война катится. Да такая, что парой мужиков не умаслишь ее. Знать-познать, бежать ноги просят. А куда, если кругом свои?
Веревкой отец подпоясался, сел на лавку и молчит. Слова-то, видно, на ум всё дурацкие идут, неподходящие.
– Государско, – говорит, – дело. Шуточки… Под ружье иттить.
И – в дверь. Остались мы с мамкой двоимя.
А умишко-то у меня махонький, я и спрашиваю:
– Матушка, а раз война катится, так она, значит, круглая?
Матушка отвечает:
– Как колесо война круглая. Огненное колесо, железом рваным да острым подбитое. Дома давит, людей, и жар от него такой, какой в аду еще не придумали. Волосья плавит и кожу лопает. Вскипает жир людской, по обочинкам реками течет. Только пепел и зола остается. Да такенная и зола, что не растет ничего на той земле. Как порчена она считается семь лет по десять разов.
Залезла я под стол и ну реветь…
Три дня – пришли немцы. Те еще ничего, постояли да ушли. Вот за ними похуже приволокло. Первым делом что? Полицаев назначили. Вторым делом что? Собрали всех жидов и в два дома заперли. Старух и баб с детьми в один, мужиков с робятами в другой. Утром их, значит, гнать куда или что.
А женщина одна нож спрятала. И давай они всем бабским домом ночью засов пилить, по очереди. Подпилили к утру, навалились, вынесли дверь. Отперли мужиков – и врассыпную.
А парничок один с дедом был. Побежали они по дороге. Видят – едет кто. Спрыгнули они тогда с дороги в болотце с головой, и через камышинки дышат.
Понабегли немцы. Собаки кругом болотца рыщут. Ясно: тут сидят, да достать некак, только и ждать. Те сидят, и те сидят. Надоело немцам, стрельнули они разок со злости по воде, да ушли.
Стрельнули, а попали-то, вишь, в дедушку. Глаза тот выпучил, внука за руку схватил и на дно тянет. Насилу отцепился парничок, побёг в лес.
И, значит, прошла неделя, приходит к нам с мамкой в дом. Грязной, в чирьях сверху донизу и голодный насквозь.
– Пожалейте, – говорит, – люди добрые.
Ну, давай мы его жалеть. День жалеем, второй. А на третий донесли. Вытащили парничка с подпола и увели.
– А по нам распоряжение каковское будет? – спрашивает мамка у полицая.
– А по вам особое распоряжение плачет, – отвечает полицай, – за жидовское сокрытие – расстрел.
А полицай-то Гришка был такой, из местных, кулаковской сын.
– Неужели, Гришенька, ты нас убивать будешь? – мамка спрашивает.
– Буду, – говорит.
– Неужели, Гришенька, ты и дитя не пожалеешь?
– И дитя не пожалею, – говорит, – выходь во двор. Буду вас немедленно убивать.
– Неужели, Гришенька, ты нам поесть не дашь в последний раз?
Подумал Гриша.
– Ешьте, – говорит, – а я обожду.
– Слово даешь?
– Даю.
Сели мы с мамкой за стол, и ну-ка есть что попало. Час едим, второй, третий… Плюнул Гриша ждать, ушел.
Назавтра смотрим в окно – идёт. Мы – за стол, и давай опять есть.
– Едите?
– Едим, батюшка.
– Ну, ешьте, – смеется, – завтра зайду убивать.
И решили мы с мамкой: хоть у нас, кроме слова полицайского, ничего и нет, мы до конца ворочаться будем. Собрали всего съестного дома и на десять частей разделили.
Но надолго не хватило, а только на десять дней.
Натащили мы тогда домой травы да листьев, веток и кореньев, земли и глины.
– Едите?
– Едим, батюшка, едим…
Мух ели, пауков, червей. Камни грызли и щепки.
– Едите?
– Едим, батюшка, едим…
[…]
… … …!
– …?
[…]
А отец, вишь, по лесу плутал. Разбили их под Коростенем. Днем спит, ночью по звездам идет. К селу знакомыми тропками и вышел.
И заходит папка в дом. Видит: сидят за столом два мертвеца, по столу пальцами черными скребут.
Да скулят, да воют!
Смотрит отец на мертвецов тех и узнать не может.
Это мы с мамкой были.
Миша Блин
Прозвище можно получить не тысячей способов[2].
Семилетнего Мишу собирали в школу. На него надели школьную форму и заставили крутиться.
– Хороший гарнитурчик, – сказала старая Харитониха, Мишина прабабка, – да надолго ли собаке блин на ворот?
Чудно́е это выражение засело в мальчишеской голове. Оставалось лишь ждать блинов. Собака[3] имелась, а как сделать воротник, Миша сразу придумал.
И спустя три дня Харитониха напекла блинов[4].
Стопа блинов обтекала маслом и курилась в пару. Миша заерзал на лавке. Миша переживал за чистоту эксперимента.
– Сопи шчо наподавано, – закричала тогда Харитониха, – а не то зраз батогом застегну![5]
Миша ел и ждал момент. Он настал, когда бабка отвлеклась на отрывной календарь[6].
Обжигающий блин пришлось спрятать за пазуху.
Миша вышел во двор, спустил собаку с цепи и увел за хлев. Потом он сложил блин вчетверо, старательно выел серединку и набросил на собачью шею. Получился достаточно изящный воротник фасона «Берта».
Собака съела его за три секунды.
Так Миша впервые[7] поверил алгеброй гармонию.
И так Миша стал Мишей Блином.
Прокопьевский камень
ИП Бобину Д. В. от Новоселова В.
Объяснительная
Бывало, к матери моей, учителке, директор школы придет, царствие ему небесное. Так и так, Федоровна, надо на личность с твоего класса характеристику написать. Вот, мать спрашивает сразу: бумагу за здравие пишем или, обратным порядком, за упокой?
Я заявить хочу, чтоб кругаля не давать. Бумага эта будет за прогул объясняющая, а за здравие или за упокой – решай самодержавно.
Выкапывали мы вчера Прокопьевский камень.
День был баской, теплый. Скосили траву на лугу, поставили лавки, столы. Народу собралось людно. Все пришли, даже дачники. Экскаватор с района пригнали, тягач с краником.
Вышла Зыбиха пред людьми и давай про Прокопия задвигать.
– Прокопий, – говорит, – это наш светоч и указательный палец с небес. Забросила его судьба на голый остров посреди большой реки. И тут бы ему отчаяться, тут бы ему злость возыметь. Но такая вера у Прокопия была сильная, что он на камне к нам приплыл. Слёзы – вода, и дождь – вода, и вода – вода. На дороге камень валяется, и в небе камень висит, жаром пышет – солнышко, и в земле камень обретается. Вода есть вода, и камень есть камень. Так не обманем же свои сердца, ибо неугодно это Господу нашему. Не обманем, друзья, сердец своих, как когда-то чудь обманули, и промашка вышла…
Народ приуныл. А она уже про чудь пошла:
– Чудь, – говорит, – была белоглазая, и чудь была краснокожая, а еще, – вот прямо так и говорит, – была заволочская чудь. Ей-то мы, значит, клятву и не сдержали по слабости характера. Клятву мы, русские, давали старинные их названия не менять. Такой был уговор, чтоб им со своих земель не обидно уходить было. А вышло?..
– Ну?! – с толпы кричат. – Не томи.
– Жили-были три брата. И решили они хутором жить. Выставили братья три дома. Пригласили попа, освятить и название хутору дать…
Кто ж Зыбиху остановит? Поймала колею.
– И было, – говорит, – накануне старшему брату видение… Зима. Стал он на зайца ходить. И никогда не может хоть одного поймать. А у другого мужика с соседней деревни сколь петель наставлено – и ведь в кажную заяц попадет. Он и попросил его:
– Научи, как зайцев ловить.
– Что учить? Завтра пойдешь, так сколько надо принесешь. Только пока в лес ходишь, назад не оглядывайся.
Вот поставил он петли. Пошел назавтрие. Во всех петлях по зайцу. Вот он и думает:
– Что такое? Что бы оглянуться? Зайцев-то мне хватит. Больше не надо.
Оглянулся. Видит, идет за ним по снегу чудская девушка, голая-голая. И бает она ему:
– Говорено тебе, чтоб не оглядывался. Теперь сам виноват.
Налетел вдруг вихорь, подхватил его и понес. А потом оказалось – не вихорь, а мужик большой, выше лесу. Принес к дому, а у дома дверей нет, только нора под закладное бревно.
– Ползи, – говорит мужик, который его принес.
Залез, смотрит – большая изба, хорошая изба, чистая. А в ней чудская семья живет. Ребятки маленькие в избе на полу играют. Старик на печи лежит. За заборкой молодая баба обряжается.
Вот сел он на кончик лавки. Баба эта прошла мимо его, да и шепчет:
– Не ешь ничего – так домой воротишься, а поешь – здесь останешься. Я тоже была русская, да мать на сенокосе не сглядела, утащила чудь.
Собрали обедать. Всего на стол наставили, как на большой пировой праздник. Садят его, угощают, а он не ест. Старик говорит:
– Он до парницы охоч.
Принесли парницы. Он и парницы не ест. Схохотал старик:
– Ну, догадлив ты, паре. Чудь обманул, а сам чуди не обманываешься.
– Да где же?
– С вами, русскими, у нас уговор был: названия наши чудские не менять. Где река Сенюга – пусть Сенюга течет. Где ручей Шатенгерь – пусть Шатенгерь бежит. Где гора Шалимова стоит – пусть гора Шалимова.
– Так и есть.
– Так и есть, а ты обмануть чудь хочешь, хутор на новом месте придумал и попа зазываешь имя дать. Так знай: чуди то в неприять. А когда чуди в неприять, всячина нет-нет и выйдет, нет-нет ерундовинка да и выскочит. Такие тебе от нас слова, а думай сам.
И говорит мужику, который принес:
– Унеси его обратно, да не ушиби.
Ночью брат просыпается, пить хочет. Хочет встать, а ноги до полу не достают. Попробовал с одной сторонки – не получается, с другой – никак. И привиделось ему, что он на утесе, один на всём свете одинешенек. Стал он молиться тогда и каяться, пока не рассвело. Потекла в окна муть серая, белоношная, и увидел он, что на столе спал в новом своём доме.
Не сказал он ничего братьям и сенокосить с ними ушел.
А у младшего брата жена с дитем дома осталися. С утра жена порхалась, пироги творила, рыбников одних загнула три штуки. День уж к серёдке катится, глядь в окно: поп идет! Положила хозяйка дитя на стол и давай снеди наготовленной тащить – вина четверть, пироги с брусникой, да рыбники, соленья с подпола, да жарницу с печи, и гороховые пряжёнки, и толоконники, и вареньев, и шанежек пустых к чаю. Всё на стол! Поп-то был не дурак закусить.
А дитя, даром ему года нет и оно без посторонних мыслей, взяло и на стол-то нагадило, аккурат посередке. Что поделать? Лысина поповская уж за самым окном светится! Схватила молодуха блюдо большое, да и накрыла.
Заходит поп в избу. Огляделся, углы перекрестил.
– Хороший дом, – говорит, – и хутор крепкий. Но без названия никак нельзя, никак.
Видит поп стол с угощеньем: тут тебе и четверть подпотевшая, и рыбник с паром, и мухи в вареньице копошатся. А посреди – самым большим блюдом накрыто. Видать, главное угощение для попа заготовлено.
– А чем у нас дом богат? – поп спрашивает и блюдо-то поднимает.
Удивился поп, чем дом богат. Но виду не выказал. И припечатал:
– Так и быть по сему: Засерихино.
И не было с той поры в Засерихино хорошей жизни, а была только худая. Старшего брата шатун задрал, средний заслонку рано закрыл – дома угорел, а младший ослеп нестарым еще мужиком. Ходил бельмоватый и всё сказывал про чудь, про мужика выше лесу, про нору под закладное бревно, – да не верили ему ничегошеньки.
Вот такую штуку Зыбиха рассказала, я раньше не слыхал.
Посмеялись люди, а Зыбиха – знай свое:
– Вода есть вода, и камень есть камень. Святости и спасения в них нет. Не проведём же на мякине наши сердца, друзья, как когда-то чудь провели… Чудь была белоглазая, и чудь была краснокожая. И была заволочская чудь – наша…
Выходит следом Федя Кальмарик и говорит:
– Спасибо, Марья Алексеевна, за ваши мнения, пусть они и казус, и не более чем. Кто еще имеет сказать?
А я имел. Я ж ему по суду одна тысяча двести два рубля должен и 50 копеек. Так я что сделал: тысячу бумажкой взял, а двести этих два рубля и 50 копеек мелочью, вразнобойчески.
Выхожу в круг перед всем честным народом, вкладываю ему тысячу рублей в лапку, а мелочь бросаю в морду лица.
Некто из толпы говорит:
– Дай ему, Кальмарик, справа.
Покраснел Федя, сопит.
– Дал бы, да не той стороной стоит.
Коля Розочка тогда из толпы кричит:
– Брэк! Эпизод заигран.
Хотел я еще Феде затрещину одолжить, да выскочила тут Надя Синеглазка, схватила меня за руку и давай на ней болтаться и кричать ерунду, которую обычно бабы кричат в таком случае.
– Тварь, – кричит, – бесстыдная, – и так далее, – хруль коростоватый. Я за тобой по этапу не пойду, чтоб тебе повылазило. Навеку мне надо, в разуму…
Мне – что? Ничего.
– Давайте, – говорю, – камень выкапывать. Устроили представление… Делов-то на пять минут.
Так и вышло, не больше. Подкопали, тросы завели, да и вытянули. А он такой ничего себе, килограммов триста. А в общем камень и камень. Стоим, пялимся. Осознаём.
Подошел Миша Блин к камню, на колени встал, обнял, пошептал что. Поворачивается к народу и говорит:
– Слово хочу сказать.
А слова из него завсегда так лезут, я извиняюсь, как он вчера первое слово сказал – это известно.
И щека дергается.
– Давай, – люди гудят, – только быстро.
Оно можно понять, все-таки суббота у людей.
И вот Миша Блин говорит:
– Я человек перед вами облупленный. Могу копать, могу не копать. Считай, уже две специальности. Простой человек…
– Только ты с придурью, Миша, – кто-то с толпы говорит.
– С придурью, – соглашается, – но не со зла. Чтоб со зла мы, плоссковские, не наученные… Я, щепка безотцовская, помню, Анфейко Соломатин к нам похаживал с левого берега. Жене-то его не набегаться за мужиком кажный раз. Но как застанет – берет за шкирку и ведет домой. Раз встретил ее в магазине, она и говорит мне: «Миша, мать капусту тебе даст, так ты не ешь. Пошла я вчера к вам за Анфейком, а в сенях ушат с капустой стоит, дак я в него насцала».
– Миша, ты мне мероприятие комкаешь, – Кальмарик говорит.
– Комкаю, – кивает, – гори оно огнем. И во всём у нас, плоссковских, так, без различий на право и лево, одним гуртом… Но слух тут прошел, что нас разделить хотят. Чтоб, значит, отдельно Левоплосское и Правоплосское. Чтоб, значит, разойтись по углам… Не будем пальцем показывать, но как же этот постыдный саботаж вышел, Федор Эльмарович, после которого неизвестно, как в глаза людям смотреть?
– Собака на мосту издохла, – отвечает Кальмарик, – вы три дня решить не могли, кому убирать.
– То псина, а я про людей. У людей душа глубоко сидит, снаружи только кутька болтается. Не разделяться нам надо, а наоборот. Предлагаю бессрочную забастовку и недоверие администрации…
Народ шумит:
– Повестка дня… досрочные… голосовать…
– И на этом камне, – Миша поверх голов кричит, – перед всеми клянусь не посрамить родного села. Чтоб оно, значит, вопреки и навсегда. Подходи клясться, у кого совести хоть маленько завалялось.
И я первым в очереди пошел.
Одну руку на камень положил, а вторую на сердце.
– Клянешься ли на чём свет стоит и на веки веков?
И я ответил:
– Клянусь.
Дата, подпись.Улица Советская
Мои семнадцать рассказ-айсберг
Дворовые пацаны, мы дружили истово, люто и яростно. Полутона в нашей палитре не держались. Мы знали белое, мы знали черное, мы знали кто чего стоит, мы знали – что почём.
В тот влажный осенний вечер впятером сидели во дворе дотемна. Острые крыши домов рвали на клочья набухшее, мечущееся вымя неба. Солнце, бледное наше северное солнце, запуталось скоро в них и задохлось. Скука выгнала нас из теплых квартир, вымела из-за сытных столов и – сейчас – настигала. Возвращаться в унылые кельи не хотелось.
Веня достал коробок и показал простой фокус: чиркнул спичкой, сунул в рот и достал уже потухшей, тянущей тонкий дымок. Я тоже достал коробок и повторил фокус, но с двумя спичками1.
Веня вынул три спички, чиркнул, сунул. Я – четыре. Он пять, я шесть. Он семь, я восемь. Так мы дошли до одиннадцати. Веня резко зажег плотный пучок, но в последний момент отдернул руку ото рта: испугался. Он уронил слипшиеся спички, качнул головой и досадливо сплюнул. Длинная его слюна затрепетала, свистя и изгибаясь.
Пацанва2 гоготала. Я выиграл3.
Я посчитал оставшиеся спички, кладя в ряд на скамью: семнадцать. Пацаны отговаривали, шутя и подзуживая.
Взмокшие от пота спички выскальзывали из щепоти – надо решаться. Надо решаться и перестать гадать и бояться.
С десяток спичек вспыхнуло сразу, остальные огненно взрывались уже внутри. Я сразу ощутил, как по правой стороне горла расползается, вскипая, ожог.
Следующую неделю во дворе говорили обо мне в степенях исключительно превосходных.
Так я познал счастье, простое мальчишеское счастье.
1 Девочкам не понять: глупости. Но мы уже читали про Муция Сцеволу. Мы читали про спартанского мальчика и лису. Я смотрел на Веню и думал, думал громко и явственно:
– Давай. Давай-давай. Ну же. Ведь это так просто: ты и я. Только ты и только я. Один на один. Правила просты – покажи, что ты можешь.
Мы уже догадывались: дальше так не будет. Не будет этой простоты, ясности, черно-белости. Живой пример – дядя Толя – стоял перед нашими глазами. Однажды дядя Толя перечислил свои профессии и нам, четверым, едва хватило пальцев на них всех. Еще дядя Толя умел делать множество вещей, от которых сердце мальчика заходится, воспаленное. Дядя Толя обычным перочинным ножичком вырезал деревянные кораблики – простоватые, но изящные, гладкие и обтекаемые, как пуля. Еще он умел делать петарды-ракетки, что, взмывая с шипением, оставляли за собой широкий цветной хвост. А еще дядя Толя знал всё, что могло нас интересовать: чем отличается шпага от рапиры, как в одиночку убить медведя, кто придумал танк.
Но все это не помогло дяде Толе. Как и для всех простых рабочих людей, для него в середине 90-х настали тяжелые времена. Зарплату тянули четвертый месяц, начальники разводили руками и избегали встреч. Дядя Толя затосковал и запил. Запил крепко, начисто отказавшись от еды, да и не оставалось на нее денег. Он поднимался к себе, на второй этаж, и тихо пил. Толина соседка, Люда, давнишняя «разведенка», заводская уборщица, приходила домой на час раньше. Дома ее ждали двое детей; они не научились еще, не захотели еще научиться не требовать от матери невозможного, и голодный, злой блеск их глаз освещал мертвую комнату. Но безошибочным, бабьим своим чутьем Люда все поняла; и дядя Толя шел домой, бережно неся бутылку под пальто, как раненый несет в себе пулю, как несут оторванную руку: доктор пришьет; а на площадке его ждала она, с тарелкой в руках. На тарелке остывал бледный шлепок картофельного пюре, с краю лежала худая, скучная котлета.
– Толя, – говорила Люда.
– Люда, – отвечал Толя. – Я чайку, нормально.
Он не брал еды, проскальзывал мимо, стараясь не скрипеть ступенями. Люда терла лицо фартуком и уходила. И дядя Толя все-таки умрет на пятой неделе водочной диеты. Но это – потом, потом; а пока – живой еще пример стоял перед нами, и множество его отражений танцевало, вилось, гнулось в наших немигающих, восторженных глазах.
2 Пройдет время, лет десять, центробежные силы раскидают нас щедро и широко. С Веней мы встретимся в десятом классе, в школе, не родной ни мне, ни ему, и сядем за одну парту. На большой перемене будем бегать на рынок, перекусить. В ларьке продавали пирожки, и мы дружно предпочтем жареные, с картошкой. В один из дней у Вени не оказалось денег, я угостил – купил по пирожку. На следующий день Веня угостил в ответ меня, двумя пирожками. Остро пахнуло матчем-реваншем, и обозначила себя колея новой борьбы. На следующий день я купил по три пирожка. Мы соревновались в щедрости, и мы преуспели. Мы дошли до восьми пирожков зараз на брата, на двадцать минут перемены, и я помню, как сдался.
…Сидели на лавочке в ближнем дворе, пакеты на коленях, бутылка лимонада у ног. Двигали челюстями, не шевеля языком: очень важно было съесть побольше, не насытившись, не разобрав. Я принялся пропихивать в себя пятый пирожок и понял: не идет, нет во мне больше места, и нет такой силы, не придумано такой еще, чтобы я смог.
– Послушай, – просипел я сбитым, сжатым голосом, – я сдаюсь, не могу больше, тошнит.
Мы бросили пухлые ошметки диким собакам и заспешили на урок.
Прозрачный пресный жир на наших пальцах и губах скоро высох.
3 Но и ничья – тоже будет. Дворовая наша компания8 к тому времени станет мифом, сказом, былью-небылью. Веня крутился недалече своего отца, тот работал в собственной макетной мастерской, делал модели подводных лодок и кораблей. Веня пытался наладить сбыт. С этим он и пришел ко мне и предложил поставить одну модель на продажу в антикварной лавке моего отца. Я скептично кривил лицо и мычал, Веня аргументировал.
– Ну что тебе стоит? – спросил Веня.
Мне не стоило ничего, и мы поставили. И как-то быстро она продалась, и я получил на руки свою долю. Долю я пересчитал на немытые бутылки7 и получил в итоге цифру стыдную и кричащую, кричащую на весь мир о моей никчемности. Я решил не мыть больше бутылок, а заняться продажей моделей. И мне повезло, многое сложилось удачно, и я перепродал их уже с полсотни, когда мне позвонили из крупной проектной организации. Разговор был короткий: не телефонное, и меня доставили, довели, усадили и плеснули кофе.
Организация хотела заказать несколько макетов мобильного цеха. Я неаккуратно сиял и пел размывчатые песни. Мне дали пачку чертежей на изучение, вывести стоимость, и пожали руку.
Я выпал на улицу: зимний выходной день, мне весело и жарко, и кругом такие приятные, добрые люди. Я несся по проспекту и думал.
– Будь я проклят, если я не добьюсь успеха, – думал я.
– Пусть меня приподнимет и ударит об землю, если я не открою свою макетную мастерскую, – думал я.
Веня посмотрел чертежи и сказал сумму, и сумма затмила солнце. Я передал, и там согласились. Но: сроки, сроки. Месяц из отпущенных трех прошел в уточнениях и пустых разговорах, Веня тянул с окончательным решением. А однажды…
– Понимаешь, – сказал он.
И я – все понял. Слушать не хотелось: бездумно смотрел сквозь блики очковых линз в пробоины его зрачков. Сквозь свои минус три4 и его плюс четыре: может, мы видим мир по-разному?
Я достал коробок и сжег спички по одной. Их было семнадцать, не могло быть не семнадцать. Квиты?
Уставший за день ветер несмело трогал наши лица; по нарядной, шелковой скатерти неба заскользила вниз звезда.
Я проводил ее взглядом, тускнея и горбясь, – звезду моего коммерческого успеха.
4 6 апреля 1992 года умер Айзек Азимов. В тот же самый момент врач-хирург Дубовиченко ввел тончайшую иглу шприца в мой правый глаз.
Все началось с кабинета охраны зрения детской поликлиники. Меня осмотрели, поясняя длинно и непонятно. Тогда же выяснился и мой дальтонизм: на цветной аппликации я верно показал красные и зеленые части с поправкой «наоборот».
– У тебя есть все, – сказала мама, когда мы вышли. – У тебя есть все, кроме косоглазия.
В детской больнице нужных операций против прогрессирующей близорукости не проводили. Так я оказался во взрослой. Мне исполнилось десять лет, и я был взрослый человек. В операционный блок я пришел сам и встал в тупик коридора5, напротив прозрачных дверей операционной. В те минуты тело мое, как никогда, состояло из частей. Части тряслись самозабвенно и убежденно. В животе вращалась воронка черной дыры.
Двери распахнулись, и меня поманили пальцем. Я сделал усилие, кренясь, и пошел, ежешажно падая, но успевая выкинуть вперед ногу. Дошел и лег на стол. Многоглазая лампа светила на удивление неярко, желто. Меня стали накрывать тканью, слоями, пока не накрыли полностью, кроме правого глаза. Глаз вращался и выражал. Подошла медсестра и начала лить на него капли. Я хотел сказать, что капли – капают, но промолчал. Жидкости, сменяясь, обильно текли по виску, щеке, заполняя весь мир, и наверх, и вниз, и вбок, и к носу, а далее по дрожащей губе, скатываясь в рот: горькие, сладкие, кислые, безвкусные.
Анестезия подействовала, глаз обленился, одеревенел. Сладко хрустнуло тонкое стекло ампулы. Навис хирург со шприцем в белой руке. Он ткнул меня пальцем в ключицу и сказал:
– Делаю укол. Смотри сюда и не дергай.
Я представил, что будет, если дерну глазом во время укола, и замер. В тишине произошло что-то едва различимое. Хирург отступил. Звякнул в эмалированной ванночке ненужный более шприц.
– Закрой, – сказали мне. Я закрыл.
– Сядь, – сказали мне. Я сел.
Голову перемотали наискось широкой повязкой.
– До палаты дойдешь?
– Дойду, – соврал я, нашаривая ногами зыбкий пол.
5 Спустя пятнадцать лет я лихо пробегу по знакомым лестничным пролетам. Но не на шестой этаж, в «глазное», а на третий – в «травму». Я пройду, шелестя сандалиями, по коридору отделения, застеленному волнами вытертого линолеума, и без стука ступлю за порог палаты номер шесть. Мужская палата, тяжелые пациенты, осязаемый воздух. Три койки направо, три койки налево. Где-то тут лежит мой отец.
Накануне мы договорились, что он заедет ко мне в 9 утра. Для меня 9 утра – это не просто утро, и даже не раннее утро, а скорее еще ночь. Но я встал, умыл холодной водой лицо как совершенно посторонний мне предмет и сел на стул. С недосыпа глаза слезились. Я сидел, время шло, отец не приезжал. Опоздать для него – случай небывалый. Позвонил на мобильный: выключен. Позвонил домой, трубку взял Игорь6.
– Привет! Не знаешь, куда Федорыч пропал?
– В больнице он.
Я сразу позвонил во вторую городскую, ту самую.
– Шанин? Да, поступил утром в реанимацию. Травматологическое отделение, шестая палата.
– А… как он?
– Что вас интересует?
– Состояние. Состояние меня интересует.
– А вы, собственно, кто?
– Сын. Родной сын, – хотелось добавить – «единственный».
– Так… Секунду… Состояние средней тяжести.
– А… диагноз там… прогноз? Что вообще случилось-то?
– Этого я вам сказать не могу, врачебная тайна. Приемные часы с 17 до 19.
На часах было 11. Я не знал, что предпринять. И тут он позвонил сам.
– Миш, я в больнице, машина сбила на Онежском тракте. Принеси чего-нибудь жидкого покушать, а то у меня зубов почти не осталось.
Он сказал это таким тоном, каким просят о никчемной ерунде в никчемных же обстоятельствах.
…И вот: стою соляным столбом в центре палаты, озираюсь и думаю: какая из этих перебинтованных полумумий – мой отец? Прошло несколько секунд-минут-тысячелетий, пока я не узнал его по наручным часам. Дабы удостовериться, мне пришлось подойти и склониться над ним до неприличия низко, как если бы я пытался услышать едва различимый шепот.
– Миша, это ты?
– Да, я.
– Возьми стул, сядь тут.
На тумбочке стояла специальная приспособа для жидкой еды – пластиковый стакан с носиком. Я опрокинул в нее две баночки яблочного пюре и вложил в ладонь отца. Он нашел носик перебитыми губами и стал пить, чмокая, как младенец. За пять тысяч километров отсюда точно так чмокает губами малышка Яна. Он недавно стал дедом, мой отец.
А я смотрел, как он пьет, и повторял про себя: «Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить. Кто бы мог подумать. Кто бы. Мог. Предположить».
6 Когда-то мы жили вместе, в одной четырехкомнатной квартире: я, отец, студенты Эля и Игорь. Немногим позже студенты уступили место двум лесбиянкам, Тане и Маше. Национальности, социальные группы, роды занятий, половые ориентации – все в квартире смешалось.
Одним утром я вышел на кухню и застал Игоря и Элю за завтраком. Они питали странный пиетет к еде, чуждый мне и неясный: не окончив еще завтрака, они обсуждали будущий обед, за обедом – ужин, за ужином – завтрак.
Накануне я простыл, и мою привычную засаленную тельняшку и широкие штаны матрасной расцветки дополнял грязнобелый шарф. Рассыпая порошок, я стал наливать себе кофе, одновременно пытаясь ладонью примять вихор немыслимой кривизны и стойкости. Я был великолепен в своей ужасности, наивно полагая обратное.
Встал у подоконника, поправил шарф, закурил. Студенты брякали ложками: гречка, котлеты, соленые огурцы. Мы поглядывали друг на друга и посмеивались зло и беспричинно, без слов, как особенно легко получается только с утра.
– Вы съедаете за завтраком столько, сколько я – за два ужина, – сказал я.
– Завтрак – заряд бодрости на весь день, – ответила Эля.
– Вкусно ведь, – добавил Игорь.
Дыхание нового дня зашевелилось во мне, как щенок в мешке. Камертон выдал чистейшую ноту; метроном качнулся, теплая сонная кровь поймала ритм.
– Ай… Вкус! Да что вы знаете о вкусе?.. Возьмем, к примеру, борщ. Вы не знаете, что это такое. Мой дед делает чудный борщ. Вся семья уговаривает его трое суток, заискивает, умоляет, просит: день и ночь, день и ночь, день и ночь, – и он берется. Двадцать три компонента! Загибайте пальцы…
Смакуя детали, я воспарил в кулинарные высоты.
– …корица, ложка яблочного пюре, цедра. Двадцать три! Это алхимия, колдовство, таинство! Класть в него сметану – кощунство… Полдня делается такой борщ. В нем ложке приятно находиться, как мужчине приятно находиться в женщине… Что вы можете понять в этом, гречкоеды?
Я перевел дыхание.
– Или, допустим, струдель. В восемь рук мы делали струдель четыре часа. Мед, орехи, изюм, кунжут… Мы вымотались, как шахтеры. А потом пчелы, пролетая мимо, теряли сознание и падали на скатерть, как спелые плоды. Для них, вскормленных нектаром, – это слишком сладко, слишком ароматно…
– Ладно, – сказала Эля. – Обед пора делать.
Из холодильника на стол она поставила банку домашней заготовки, набитую склизким жирным мясом. Крупными и ясными буквами на крышке было выведено «козел». Я прочитал надпись и затрясся, как дурной механизм.
Хохотал, вытирал глаза шарфом, охал и завывал, ронял пепел и никак не мог успокоиться.
Они не могли понять, чему я смеюсь.
Я тоже не мог.
7 В подвале одной из новостроек на краю города парами стояло шесть обычных чугунных ванн. Пластмассовые ящики с бутылками привозили со всего города. В одну ванну влезало по пять ящиков зараз, горячую воду брали из отопительной трубы. Пока отмокало в одной, можно было мыть в другой. Над свежезалитой ванной поднимался душный спиртной пар, из бутылок выбулькивались окурки, огрызки, тараканы, клоки волос… Мыть надо голыми руками, только так пальцы могут понять, смылся ли клей.
Есть приятный момент в том, если ты моешь бутылки: голова свободна. Я решал задачу с математической олимпиады: «Какое время показывают часы, если угол между часовой и минутной стрелкой составляет ровно один градус?» Я не решил ее тогда, на олимпиаде, и, перманентно, фоново, обдумывал уже несколько лет. 8:44? 9:50? 10:56?
Старатель, я всегда намывал ровно до круглой суммы; расчет на месте. Приемщик сидел у входа, вяло шевеля вилкой во вскрытом трупе консервной банки. Живот, выпавший из-под майки, лоснился. Он помечал выработку в тетради и протягивал мне огромную цветную купюру, потертую на сгибах, как скатерть.
Распаренный, я выхожу в зимнюю темень. Задача устало плещется в голове, как молоко в пакете.
Белый язык тесной дороги тянется вперед. Полчаса пути.
Внеподвальный мир ярок, динамичен, пунктирен.
Мальчишки сыплют из школы, за забор, кидаются на мокрый сугроб.
Внук тычет прутиком мертвую кошку. Дедушка: «Не трогай кошечку, она спит, она устала».
В витрине, на экране ТВ, негр вгрызается в мякоть арбуза. Косточки брызжут по сторонам: черные, юркие, как тараканы.
Пьяная девушка садится на землю, мнет букет. Спутник озадачен.
Трое смотрят в небо: сполохи.
Старуха-мороженщица зевает, показывая неопрятный рот.
Последние метры. Ветер вышибает слезу. Ненужная торопливость.
За спиной – стон-всхлип-щелчок квартирной двери.
Я решаю задачу: 19:38. Список «Вещи, Ради Которых Стоит Жить» лишается позиции – ключевой; и становится слышно: за тонкой стеной, в подъезде, скачет по ступеням опрокинутая кем-то пустая склянка, дабы там – внизу – разбитьс-с-с-с-ссссссссссс…
8 Они говорят мне:
– Что ты пишешь всякую ерунду?
Я заглядываю в себя и обнаруживаю предательские девять граммов, девять граммов толерантности.
– А что писать?
– Ты напиши про нас. Вот как мы на зимнюю рыбалку ездили. По дороге еще так набрались…
– Избито.
– Ты не понял. Мы где вышли – там и начали лунки бурить.
– Предсказуемо.
– Или на даче вот, сидим выпиваем на втором этаже, все культурно. Клим говорит: пойду покурю на балкон. Вышел, и все нету и нету, нету и нету. Хозяин вдруг себя по лбу бьет: мы ж, говорит, балкон-то еще не построили…
– Чересчур анекдотично.
– А как обратно в автобусе голыми ехали? Кондукторша подползает: за проезд будьте добры. А я ей: ты что, говорю, не видишь, сука сутулая? Я – Фантомас.
– Грубо.
– Потом еще мелочью в нее кидались.
– Надуманный абсурдизм.
– А помнишь, Леха права в день рождения получил? Ночью кататься поехал, утром вернулся с фарой и магнитолой, остальное ремонту не подлежит.
– Банально.
– Или вот Серега по пьяни постоянно в шкаф ссыт. Представляешь? В шкаф одежный. Катастрофа. Ссыт и ссыт. Скажи, Серега?
– Пошло.
– А как мы Ленку втроем?
– Фактонаж, – придумываю я новое слово, – фактонаж маловат.
– Тьфу, твою же мать… Втроем отфактонажили, а ему «маловат»…
Так, в общем, ничего и не написал.
Вася Киса
В каждом уважающем себя городке, а то и поселке, есть такое место, где с утра толкутся бабушки-пенсионерки и страдающие мужички. На зашорканные, стертые клеенки выкладывают они привычным порядком чудные свои товары. Бабушки приносят толстые стельки, шерстяные носки, копны веников и пухлые мешки рассыпчатой, никуда не годной, но ни разу не надёванной одёжи. Мужички все больше приносят обломки неведомых механизмов, побитый слесарный инструмент, а зимой еще – свежую рыбу, да летом – ягоды-грибы.
Есть такое место и в нашем городке, на Советской улице, у рынка. Место удачное, узкое, бойкое. Последние года два и почти до недавних пор там каждый день среди прочих можно было видеть Васю по прозвищу Киса, сорокалетнего холостяка без особых занятий и забот.
Он стоит у края дороги, руки в карманы; у ног привален набитый неплотно мешок из грубой мешковины. Два года Вася Киса продает на развес лавровый лист.
Живет Вася один, если не считать кота – тоже Васю, Ваську. Сожительствуют они давно, и во многом научились друг друга понимать, и вообще – как-то прикипели. Они и до лаврового листа вместе додумались.
Вот как получилось.
Однажды вечером Вася пришел с работы расстроенный, согбенный и почерневший. На заводской вахте из его правой штанины выпал титановый брусок, чего с ним никогда ранее не случалось.
– Что, Васька, не сахар житуха-то пошла, а? – сказал он коту с порога.
Васька почуял перемену, и пока хозяин готовил нехитрый ужин, смирно сидел на табурете у стола.
Ужинали молча.
– Мотай теперь чалму, Васька, – наконец, сказал Вася, облизывая вилку. – Выговор с занесением, минус премия, прощай – тринадцатая, и в отпуск зимой… Имел я это все в виду с высокой колокольни, высокой-высокой… Может, ну его нахер все, а? Давай коммерцией заниматься. Что мы, хуже других?
Васька щурился и урчал, мелко тряся усами.
– Давай думать, – продолжал Вася. – Самое простое – что-то купить и перепродать. Вопрос – что? Мыслим логически. Что-то ходовое, маленькое и дорогое. Что у нас ходовое? Например, еда. Ходовее некуда.
Вася стал размышлять, меряя шагами квартиру от кухни до комнаты и обратно.
– Еда. Маленькая еда. Маленькая, дорогая еда… Может, экзотику какую-нибудь? Я не знаю… черепахи там, тушканчики, богомолы какие-то… А, Васька? Нет, не то. Сгниет еще в пути, надо, чтобы не портилось. Маленькая, дорогая еда и чтоб не портилась. Ну?
Закончивши умываться, Васька поставил ровно лапки и чихнул. И тут ток пробежал по тонким ассоциативным связям в Васиной голове, цепь замкнулась, приз со стуком и звоном выпал в окошко, и Вася восторженно вскрикнул:
– Специи!
…Спустя две недели Вася получил на заводе полный расчет. Маховик крутанулся, и Васе оставалось только и самому удивляться полученному ускорению: за один всего-то день он позвонил однокашнику, на юга, выведал все про специи и цены на них, договорился в оптовой конторе о поставке, подрядил грузовичок и исписал расчетами не один тетрадный лист. Барыш вырисовывался солидный.
Оставалось только одно – найти деньги.
– Дачу продам, – сказал Вася вечером коту. – Что я там не видел? Лысая, голая, грязная земля. Север. Север – здесь жить нельзя, Васька. На север от столицы – приличному человеку – делать нечего. Жизни нет, природы нет, ничего нет. Черемуха – единственный фрукт. На участке помидоры посадил, так выросла какая-то пресная чепуха не крупнее клубники. Наличку стоганём – уедем отсюда, уедем, Василий, на юг, в прекрасное далеко. Нам бы день простоять да ночь продержаться! Будешь козье молоко лакать, на лугу прыгать дни напролет да бабочек жрать… А мне – молодое вино и прозрачное небо, буйство красок и женщины в ярких сарафанах…
Вдруг Вася ощутил забытое юношеское ощущение дразнящих, манящих его великих свершений и возможность полета, легкость парения, многовариативность бытия; и поплыл, поплыл в душном мареве полужеланий, сладостно-приторных предвкушений, и не мог, не хотел, не мог хотеть остановиться…
* * *
– Ты совсем дурак или нет?
Знал ли кто, что после увольнения с нелюбимой, но привычной работы, после всей организационной суеты, после продажи собственноручно построенной дачи, после всех переживаний в ожидании товара с юга и, наконец, его прибытия, самое первое, о чем Васю спросят в оптовой конторе, будет:
– Ты совсем дурак или нет?
– Нет, – ответил Вася честно, как еще в школе учили. – А что?
– Мы у тебя что заказывали?
– Ну… Согласно ассортименту…
– «Ассортиме-е-енту», балда… Мы у тебя заказывали двадцать позиций по пятнадцать кило. Так?
– Так.
– Триста кило в сумме. Так?
– Верно…
– А ты что привез?
– Ну и что, что я привез?
– А ты привез четыре с гаком тонны лаврового листа, вот что ты привез.
Тут Вася высказал всё, что он об этом думает, а думал он в тот момент в основном короткими, хлысткими и перекрученными внутренним жаром словами, чему в школе не учили, а даже скорее наоборот.
Найти виноватого не удалось, случайность произошла по классическому рецепту глупости: кто-то недопонял, кто-то понял, но неправильно и передал дальше, кто-то сынициативничал и взял на себя, – так сумма сколь угодно больших векторов иногда равняется нулю.
Вот так Вася и оказался на рынке в роли продавца, имея дома запас лаврового листа для всей области на несколько лет.
Довольно скоро Вася стал на рынке популярен как рассказчик интересных историй, и рядом с ним, поворотясь, обыкновенно стояло несколько слушателей. Заходит, допустим, разговор про пьянство, Вася и говорит:
– Ох, помню, в продмаг как-то портвейн завезли, плодово-ягодный. Мы его набрали – ну бутылки по четыре, всей бригадой. А он фиолетовый какой-то, и отблеск такой тяжелый, ртутный. Бутылки – как бомбы. Пьем – ну чистые чернила. Осилили кое-как. И друг на друга смотрим – рожи начали синеть! У нас паника. Что делать? Мне мужики говорят – беги, покупай белое, будем рожи осветлять. Я сбегал, принес, а они смеются: «Ты зачем красное купил?» Я говорю: «Как красное? Белое же». – И этикетку показываю. «Дуралей, белое вино – это водка. А все остальное – красное». А ничего, осветлили…
Слушатели смеются и восторженно крякают.
– А в цеху у нас стропальщик был, Сергеич, – продолжает Вася. – Матерый человечище, и пил люто, каждый день – как последний. На завод и то спирт проносил. Как дело к обеду – он бутылек достанет, разбадяжит, выпьет, а потом в угол куда-нибудь ветошь натащит, скинет в кучу и спит. И так каждый день. Так до такой степени заспиртовался, что однажды спичку ему поднесли подкуриться, а у него лицо загорелось. Ну, не то чтобы прямо полыхает как факел – нет, врать не буду, а вот таким тонким, зыбким пламенем, что дунешь чуть – и нету его.
Он и послушать умеет, но последнее слово, вердикт всегда за ним:
– Я согласен, вопрос неоднозначный со всем этим пьянством. Мужик один в кузове грузовика пьяный ехал, песни пел. Тряхнуло крепко, пол-языка – в кювет. И это теперь каждый знает и смакует. А то, что он этим языком только и умел, что материться, – никто и не вспомнит. Счет, он всегда и за все приходит… Или расскажут, как мужикам в деревне по ящику водки сверх оклада пообещали, так они магазин новый за день срубили против плановых трех недель. Никто ведь не расскажет, что они еще месяц потом гудели как пчелы, как улей…
Кто со стороны смотрел, мог подумать: смирился Вася. Ничего, мол, не первый и не последний, и не таких ломало. Васе и самому стало казаться: ерунда всё, жить можно везде, и нет никакого молодого вина, прозрачного неба и женщин в ярких сарафанах, – вранье это всё, миф, блажь, провокация и мираж.
Но нет-нет, представит, как не одну тысячу дней ему предстоит ровно то, что было вчера и позавчера, так и скажет горько коту:
– Мою жизнь видеть неинтересно, Васька. От моей жизни во Всевидящем глазу даже сосудик не лопнет. Жизнь моя – копейка…
* * *
Тех двоих на рынке сразу приметили. Больше по одежде: один в кожаном пальто, второй в замшевом. Они медленно шли по торговому ряду и, казалось, вглядывались в продавцов, о чем-то переговариваясь.
Вася тоже их видел и почему-то совсем не удивился, когда они поманили его пальцем и кивками в сторону.
– О чем базар, мужики? – взял панибратскую ноту Вася.
– Как торговля? – встречно спросил Кожаный.
– Как на псовой охоте: рубль бежит – сто догоняют, пятьсот споткнется – бесценный убьется.
– То есть?
– Пока на рубль наторгуешь – намерзнешься на десять. А в чем, собственно, дело?
– Спор у нас тут вышел с товарищем, – вступил Замшевый, – Принципиальный, о возможностях кое-каких человеческих.
– Это каких?
– Ну вот всё ли человек сделать может? Или всё может, особенно если за деньги?
– Ребят, вам чего, убить кого-то надо?
– В некотором роде… Это, в общем-то, не проблема…
– Так вы не по адресу немного, тут я пас.
– Да говори уже ему, как есть, – сказал Кожаный. – Чего тянуть.
– Кошку человек может съесть? – решился Замшевый.
– Может, конечно. Почему не может. Я однажды на рыбалке выдру съел – ничего.
– А ты?
– Ну, смотря за сколько…
– Пять.
– Чего – пять?
– Тысяч.
– П-ф-ф-у-уй… Рублей?
– Обижаешь, долларов.
– Ха! Да хоть слона.
– А живьем?
– Как – живьем?
– Ну живьем, живую кошку.
– Вы чего, мужики, совсем обалдели?!
– Ты не горячись, ты подумай, – успокоил Кожаный. – Время есть.
Вася думал, шаря взглядом по дальним деревьям. По вискам колотило: «Не думай! Не думай! Не думай!» Пульсирующая желтизна кругами накатывала на глаза.
– Сделаемся, – сказал Вася. – Только это не кошка будет, а кот, мой кот. А то притащите какую-то шваль, а у меня чистый, домашний…
Вася сбегал домой, освободил мешок и запихал туда сонного кота. Со спорщиками встретился как договорились – на пустыре за гаражным кооперативом.
– Ну, чего? – сказал Вася и достал кота.
Те дали отмашку: давай.
Вася приступил. Спустя полчаса все было решено.
Он получил деньги, быстро собрался и сгинул.
Поговаривают, что живет он теперь в Крыму, а еще – что вроде бы приезжал он на малую родину инкогнито пару раз, а кто говорит, что ограбили его в столице прямо на вокзале и это известно, – но это, уж конечно, россказни и ерунда.
Ягода-малина
Маша, примерная жена и мать пятерых детей, делала самое страшное из того, что она могла делать: она молчала.
Сегодня ее муж, Боря по прозвищу Тетива, химик-технолог мясокомбината, уволился по собственному желанию.
– Маша, – убеждал Боря, – Маша, я химик-технолог… Я не шарлатан, я не фокусник. Сокращение издержек, изыскание внутренних резервов – это все старая песня, я слышал таких двести тысяч и сам когда-то исполнял. Но подумай сама: мне дают кило мяса. Что это за мясо? Кенгурятина первого сорта. Ее полгода пёрли через три океана, и так получается дешевле, чем купить свинины у местных. Я тебя спрашиваю: это – мясо?.. И вот мне дают кило этой ерунды и говорят: Боря, с этого кило мы желаем получить семь кило говяжьей колбасы. Маша… Моя фамилия Пасторожков, моя фамилия не Христос…
Боря достает трепаный паспорт и трясет им над столом, рассыпая плоские и лоснящиеся бумажки.
– Я делал четыре, пришло время – делал пять. Я знаю дело. Но семь? Я сказал им про ГОСТ, про техпроцесс и много чего еще, а мне дали по шее. И я сказал: хорошо. Хорошо, ребята, вот вы бьете меня по шее, и пусть она отвалится: шесть ртов сидит на ней и хочет есть каждый день, двенадцать ног свисает с моей шеи – их надо обуть…
На следующий день Боря получил расчет и пропал.
* * *
Спустя неделю за входной дверью послышались шорох и слабое царапанье. Маша открыла.
Боря стоял на коленях, заплаканный и несуразный. В нечистых его руках позвякивали ключи.
– Открыть не могу никак… Не попадаю.
Сожаление и разочарование в его голосе было огромным.
Он разулся, вывалив белые сварившиеся пальцы, и зашагал, опершись, вдоль стены коридора, по выложенным на просушку ягодам, не в силах идти иначе. Маша и дети молча следили его варварский путь.
На кухне Боря встал у плиты и начал есть холодные щи из кастрюли, черпая половником и отплевываясь.
– Где деньги?
Боря готовился к такому вопросу. Когда он шел домой, этот вопрос заслонял горизонт.
– Отдал в хорошие руки, – ответил он, цепляя гущу со дна кастрюли.
Японский иероглиф «терпение» состоит из двух частей: «сердце» и «обнаженный меч». У Маши не было меча, но у Маши было сердце, большое женское сердце. Она ударила мужа по уху, и оно, пульсируя, непроваренным пельменем выбилось из-под кепки.
– Ах ты, ягода-малина, – сказал Боря, – что же это делается?
Потом она вытолкнула его в подъезд и вынесла следом ящик с инструментами. Никто не ждал пояснений. Их не требовалось.
– Соплей не терплю.
– Не терпи, сделай милость, – ответил Боря, вытирая жирный рот.
Он вышел на улицу и блаженно закурил плоскую папиросу.
* * *
Вероятность такой встречи – один к трем миллиардам: спустя минуту из его же подъезда вывалился Петр Игнатьевич, начальник цеха мясокомбината.
Похожий на потертого шахматного коня, не лишенного все же некой изящности, Петр Игнатьевич был пьян почище Бори, до степени полной безобидности.
Что получается от такой встречи? Получается история; одна из тысяч историй, ходящих меж людей, как попрошайка среди базарной толпы.
Боря свистнул, и с ближних тополей сдуло воробьев.
…Великие волны сходились на улице Советской, режущей город пополам; дикие волны. Третья школа на седьмую – человек по сорок с каждой, и первая с третьей на четырнадцатую, и ПТУ № 1 на ПТУ № 38, и двор на двор, и квартал на квартал. Старожилы помнят: в дотелевизионную еще, наивную эпоху кто-то нарушил негласное правило воскресных гуляний – женатым гулять по четной стороне, а холостым по нечетной; знатное получилось побоище, и утром дворники мели по тротуару зубное крошево и обрывки рукавов в сгустках застывшей крови…
Но такого не видела еще Советская.
– Петля тебе, Петруха, щемись, – качнул головой Боря, – щемись, босота. До края довел. Я рук марать не буду…
Он пнул ящик, и тот раскрылся как сказочный ларец. Нашарив, не глядя, он достал пилу, а затем взял кожаную папку Петра Игнатьевича и нарезал ее ломтями. Потом он сбил ему шляпу, и та покатилась в дорожной пыли по окаменевшим нечистотам. Оборванные рукава пиджака полетели туда же.
Бывший начальник безропотно переносил вынужденное обнажение, опустив руки и по-отечески улыбаясь.
Тем временем Боря достал уже молоток с гвоздями, намереваясь приколотить ботинки к деревянному крыльцу.
– А мы ж приказ еще не подписали, – сказал Петр Игнатьевич.
Боря сменился в лице и выронил молоток.
Он огляделся и побежал прочь, смешным и глупым приставным шагом, кособочась и извинительно выгибая спину.
…Солнце бурлило в небе; мутный его отблеск плясал на голой и мокрой лысине Бори, истонченные пузыри его штанов трепетали как стяги.
Боря знает: дальше все будет хорошо.
Податель сего
А вот казалось бы: ну какая же ерунда, какая же, в сущности, нелепейшая малость – коробочка с акварельными красками. И вот такие малости, такие – внешне – ерундовинки, подчас заставляют человека ступать в непонятное без абсолютного на то желания.
В коробочке с акварельными красками Алек хранил свои сбережения. Сберегались они ни на что, просто так, для уверенности. Денег там было вроде бы и немало, а вроде и не так много – как посмотреть. Меж тем Алеку минул двадцать седьмой год. А когда тебе двадцать семь, мир лежит перед тобой покорно, как добрая и сытая собака. Мир лежит перед тобой зовуще, садом расходящихся тропок: выбирай по душе. Алек же тропок не выбирал и вообще старался не думать. Работать он особо и не работал: решал контрольные по химии студентам; что года через два свелось к комплексу действий сугубо механистических, без выдумки.
По будням Алек приходил в институт, поднимался на второй этаж и вставал на привычное место. Здесь его все знали, да и он сам знал почти всех, и всё ему было привычно и знакомо. Шумность сменялась патриархальной тишиной и нечаянной гулкостью сводов; большая перемена оглашалась рокотом дальней безвекторной силы. Ширясь и набирая вес, кипучий белозубый поток плавно огибал углы. Иногда от потока кто-то отделялся и шагал вбок, на ходу доставая тетрадь и мятые деньги. Тогда Алек получал работу. Много чаще этого не происходило.
И вот в один из таких дней Алек пришел домой и захотелось ему пересчитать свои сбережения. Чего греха таить, любил он это дело. Он приставил колченогий табурет, залез на него, придерживаясь за стену; открыл антресоль. Встал на цыпочки, потянулся к коробке с елочными игрушками и гирляндами. Начал нашаривать, потея и отдуваясь от пыли, летевшей в лицо. Коробочки не было.
Алек выгреб антресоль допуста. Перетряс все коробки, разложив содержимое на полу коридора. Заводясь, стал перебирать все заново, сначала откладывая, а потом отбрасывая в сторону. Коробочки не было. Черное удушье подступило вплотную.
Алек подошел к окну, прислонился лбом к холодному стеклу. На стекле трепетали линзочки капель. За ним, сквозь негустую листву тополей, белел опустевший двор. Дождь прочеркивал угол неба наискось. Ветер бренчал гнилой жестью карнизов и водосточных труб, рябил верхнюю воду луж. Под провисшим навесом, запрокинув лицо и утопая в маслянисто-черном руками по плечи, сосед Коля копошился под капотом автомобиля.
И вот тогда Алек все вспомнил. И вот тогда Алек все вспомнил и издал ртом горестный фотоаппаратный звук.
Он оделся и вышел на улицу, чересчур аккуратно неся тело. Коля все возился под навесом.
– Сосед, – сказал Алек и сделал шаг вперед. – Сосед. Отдай деньги.
– Какие еще? – ответил тот, скосив набок лицо и насильно корчась.
– Я тебе дрель давал. Дрель давал с коробкой. Там были, внутри.
– Не было там ничего.
Алек мочал, опустошенный. Дождь спал. Подрагивая, поднималась примятая трава. Набухшая земля парила. Мир, огромный дружелюбный мир, проваливался в затянутость паузы.
– Не отдашь?
Коля разогнулся, вытер лицо нечистой серой ветошью.
– Не было никаких денег.
– Ты машину купил, – аргументировал Алек.
– Купил и купил.
– На какие шиши?
– Скопил. Скопил и купил. Тесть добавил.
Помолчали.
– Значит, не отдашь? – утвердил Алек. – Хуже будет.
Коля шевельнул пятнистыми пальцами, тронул бугристую шею.
– Смотри, сосед. Не по-людски…
Коля молчал, сопя и надувая щеки. Тогда Алек развернулся и вышел со двора.
Он двигался, подняв плечи и поводя руками как кукла. Отповедные и проповедные слова без усилий ворочались на языке, в массе своей формируясь до убойности. Алек шел, продолжая разговор. Случайный свидетель мог услышать обрывки фраз: «всю жизнь дверями в аптеке хлопать», «Христом Богом прошу», «два часа драки» и многие другие интересные словосочетания.
В полузабытьи, не прекращая сеятелем усыпать обочину проклятиями и увещеваниями, Алек забрался довольно далеко и забрался бы и дальше, не повстречайся ему трое. То было классическое здешнее уравнение с тремя неизвестными, не имеющее ни решения, ни корней. И у Алека спросили закурить, и у него спросили прикурить, и у него спросили, почем куры в Кабарде, и у него поинтересовались, имеет ли он что-то против пацанов. Алек не имел и имел одновременно, но внешне обозначил первое и, в общем, как-то все обошлось.
Отделавшись от троицы, Алек позволил себе оглянуться и обнаружить себя в районе, известном своей неблагополучностью. Кругом кособочились низкие полусгнившие дома. Кисло пахло нищетой и неустроенностью. Опускался вечер, придавливая неспешных прохожих и косые клубы малиновой закатной пыли. Мухи чертили ленивые дуги в широкой полосе низкого света. С тенистой стороны улицы, из открытых окон первого этажа, слышался неясный гомон. Над крылечком с обломанными перильцами висела побитая вывеска «Пивбар Сакунтал». На вытертом порожке, закрыв один глаз и обернувшись хвостом, дремала грязная кошка.
– Достойный финал дня, – сказал Алек и шагнул в сыроватый полумрак помещения.
Внутри стояло с десяток столов с металлическими ножками. За ними, держась за кружки, как за штурвалы, выпивало разномастное мужичье. Под ногами шуршал нанесенный песок. Кругом валялись рыбные кости и жирные обрывки газет. За барной стойкой, склонив по-бычьи голову, смотрел исподлобья бармен.
– Сделай две, – сказал ему Алек.
Свободных столов не было. Только у дальней стены сидела одна за столом женщина лет тридцати. Стол перед ней был пуст. Она сидела, застыв, как птица, спящая на ветви. Руки лежали прямо и скорбно. С безразличным отвращением женщина смотрела вперед. Алек подсел и, оставляя дном влажный след, пододвинул ей кружку. Легкое движение прошло по широкому круглому лицу. Разгибаясь, дрогнули вялые пальцы.
– Вот житуха, – сказала женщина и медленно выпила кружку, не отрываясь.
Алек пил молча, втягивая холодное пресное пиво и ощущая его течение за ребрами.
Широко расставляя ноги, подошел один из мужиков.
– Пойдешь со мной, Оля?
– Нет такой причины, – ответила та, не поворачивая головы, и сморкнулась в угол двумя пальцами.
Мужик повернулся и вышел, ступая, как уставший конь.
– Я с отцом разругалась, уехала – сразу замуж вышла, зимой, – вдруг заговорила Ольга, утвердив взгляд на стене за Алеком. – Зимой приехала, а в августе уже жить с ним стала. Мне еще пятнадцати не было. А он на восемь лет меня старше. Так у меня мамка потом приехала туда, хотела его посадить…
Ну так я-то – при формах уже, кровь с молоком. Бабушка мне все говорила, плакала: «Ольга! Еще цветок не успел расцвести, как ты уже с мужиком живешь». Молчи, говорю, бабулька. Бабушка у меня самый замечательный человек на свете.
Алек молчал.
– В пятнадцать первую родила. Вот, считай, мне тридцать сейчас будет, четырнадцать – дочке. Младшую потом через год. Погодки они… Нас вообще посадили из-за его отца. Убили мы его. Он выделывался-выделывался – и довыделывался. Приходим с дискотеки, мамка ревет – ну это свекровь моя. Я говорю: чего плачешь? А она: он меня, сволочь, довел. Я к нему прихожу в комнату и говорю: слушай, может, хватит издеваться над мамой? И так всю жизнь издеваешься… А он выделывается. Я говорю: задушу тебя. А он: бери и души. И пришлось задушить. Вот если бы он мне не сказал. И не надо тут силы, он не сопротивлялся даже. Сказал – души, ну я и задушила, и все. Муж только рядом посидел, видел. А потом мы его взяли, унесли на чердак… Мамка нам помогла, свекруха моя, царствие ей небесное… Подвесили его. И я утром с понтом иду белье весить, и он – висит якобы. Побежала на телефон сразу. Участковый приехал, «скорая» приехала. Срезали его, все сделали… Уехали. Всё…
Алек достал сигареты, закурили.
– А об этом только мы трое знали. Я, муж, свекруха. И она взяла, дура, рассказала своей сестре, она в Архангельске живет. А та взяла и трепанула кому-то в деревне. И вот тебе – через семь лет – менты приезжают… Я тебе говорю: через семь лет. Поехали раскапывать, с экспертом. Купили шила пацанам нашим местным… А мороз, земля промерзла… Они копают там, выкапывают. Я дома сидела, с экспертом. Иду в отказную, мол, ничего не знаю. Приезжают – и сами-то пьяные. И тех напоили, и сами пьяные. Не могли, говорят, выкопать. Ну, меня за шкварник – и в ментовку. По деревне меня ведут – вот так, а не могу идти, тяжело, кошачьи тропки. Сейчас, говорят, выкинем тебя с моста. Кидайте, говорю… Дали шесть с половиной, мужу семь с половиной. Они потом второй раз ездили, кости там брали, не знаю. Семь лет давности, на момент совершения преступления несовершеннолетняя – я и отсидела только три года. Четырнадцать лет мне было. Сам выделывался. Молчал бы – было бы все нормально… Муж освободился… Приехал сюда, за мной. Мы встречались у моей тети. Ну, встретились, я говорю: пошли к моей тете. Приходим к ней, моя сестра ушла сразу же, даже разговаривать не стала. Его не любит никто. У меня же четыре ножевых ранения от него.
Ольга откинула тугой сноп русых волос, показала белый рубец на шее.
– Помню, я пришла к сестре, заревевшаяся вся, дочке месяца три было… А он как раз лося убил. Прихожу, говорю: Лида, проводи меня, пожалуйста, на автобус. Он у нас в восемь утра идет, на Березник. В город хотела, у меня тут мама жила, и бабушка была. Не могу, говорю. А ребенок – знаешь же, он в чужом доме не может. Ладно, говорю, Лида, пошла я. Сумки оставила все, я же там мясо еще хотела в город привезти… Пошла к нему домой. Муж у меня деньги отбирает – и Лидка приходит. Ну Лидка ему тут сказала, он на колени встал, все, больше обижать ее не буду, и ничего. Короче, я обратно сумки все домой, с пеленками со всеми. Вот. Он говорит: больше пить не буду. Только Лида ушла – он мне по морде, деньги забирает и идет за «шилом»…
В черном проеме двери возник прежний мужик.
– Я в последний раз интересуюсь, – сказал он, клонясь белым непропеченным лицом. – Я в последний раз интересуюсь: пойдешь со мной, Ольга?
– Есть причина, – ответила Ольга и вышла, смотря насквозь.
Мужик безынтересно потянулся следом.
В одиночестве Алек сидел недолго. Вертлявый и суетливый старик, похожий на гнома, опустился напротив. Шапка его седых волос смотрелась инородно и неправдиво, пухло. В неровной поросли щек, колеблясь, желтели табачные крошки.
– Я вот думаю, человечество когда-нибудь через пьянство кончится, – сказал старик, подмигнув.
Вопросительный знак в конце фразы хоть и был в треть обычного, но слышался явно и приглашающе.
– Чего вдруг через пьянство? – возразил Алек.
– Так ведь нельзя же столько пить. Возьмем, к примеру, русского человека…
– За что возьмем?
– Так вот в том-то и дело, что брать русского человека уже практически не за что, истончился русский человек, обтрепался, обветшал… Или вот можно еще как в школьной задачке взять, за «икс». Берем русского человека за «икс», хорошо звучит?
– Хорошо. Ведь это же действительно «икс», только географически определенный.
– То есть?
– Я имею в виду, что кто здесь живет – тот и русский, будь он хоть китаец. Следовательно…
Разговор прервался шумом бессильной драки. Двое покатились по полу меж столов, матерясь. Один лез другому в рот кривыми пальцами, словно пытаясь что-то достать.
– Во дают, – сказал Алек.
– Дела, – ответил старик.
Драчунов со смехом вынесли, не разнимая.
Алек рассказал старику историю своих злоключений.
– А ты его убей, – сказал старик и бросил щепоть соли в кружку. – Где, говоришь, он работает?
– Водитель он, на бензовозе ездит.
– Тю-ю-ю… Так тут случай чистый… На каждом бензовозе цепь до земли висит, статику снимать. Видел? Берешь провод, метров тридцать. Идешь на объездную дорогу, они все там ездят. Бросаешь «соплю» на ЛЭП… Сообразишь?
– Соображу.
– Ну и вот. Провод под напрягой поперек дороги прокидываешь. И сиди, поджидай.
Старик поднялся, крутанул кепку:
– Ну, бывай.
Немного спустя поднялся и Алек. Спускаясь с крыльца, прикинул: «А и в самом деле, убить бы его. Баба с возу – кобыле легче».
Путь стоял неблизкий. В сумерках остывали пустынные улицы. Тишину нарушал лишь игольчатый комариный писк да перестук колес дальнего поезда.
«А все-таки человек – занятное существо, – подумал Алек, пройдя пару кварталов. – Не буду я его убивать. Поговорю с ним. Найду слова. Неужели не поймет?»
Жадно скурив у подъезда последнюю сигарету, Алек поднялся к себе, разделся и лег.
«Нет, даже говорить я с ним не буду, а напишу письмо. Так верней».
Засыпая, Алек подбирал первые слова для письма. В голове почему-то вертелось «Податель сего,»; именно так – с запятой – и вертелось, и Алек хотел уже было тому раздражиться, но не успел, потому что заснул.
Помериться пи
Женщины здесь не бывают и не живут. Последних видели с полгода назад: из подъезда, медленно ступая по выгибающимся доскам мостков, вышла Валя по прозвищу Камбала. На лице ее, перетянутом крест-накрест путами сбившихся волос, засыхали змейки кровяных струек. Под локоть ее поддерживала мать.
– Вот и выходи замуж так, – повторяла она с успокаивающей скорее самое себя, чем дочь, интонацией, дергая в разные стороны полу вытертого халата. – Вот и выходи замуж так.
Вслед им из окна третьего этажа летели скомканные газеты, сувенирные блюдца и не поддающийся определению мелкий мусор. Метанием занимался Вова по прозвищу Клепа, с неделю как – Валин муж. Он был неаккуратно подшофе и силился что-то сказать, но лишь вывешивался по пояс из окна и болтался, как собачий язык на жаре, рискуя упасть вниз, в самое глубокое место огромной черной лужи. От падения спасал Сергей, Вовин брат-близнец, одной рукой державший того за майку, а второй – двигавший сигарету во рту, не меняя выражения лица.
Лужа эта была местной достопримечательностью. Она не высыхала летом и не замерзала зимой. Появилась она незаметно, в одну из ночей, и с той поры не отдала ни пяди земли. По ее поверхности от центра к краям ходили, пузырясь, тяжелые волны, разгоняя и крутя бутылки, щепки и желто-серые комки слизи. Однажды дворники высыпали в лужу две тонны песка, но там, внутри, только чавкнуло, как чавкает бездонный кисель Востока на все попытки Запада что-то в этом плане предпринять.
А потом и дворники перестали здесь бывать. Город устал пугаться дому-развалюхе, и чувство это стало взаимным. И, как часто бывает с уставшими ужасаться, сталкиваясь ежедневно нос к носу, они перестали замечать друг друга, скинули со счетов и вычеркнули из поля зрения. Дом внесли в план на снос, но сносить не спешили, рассудив крепко, по-хозяйски: чего суетиться, сам упадет. А между прочим, домов таких больше во всей области не найти: трехэтажный, по квартире на этаже, с одним подъездом. Нет таких больше.
Когда-то здесь жила не одна семья, человек двадцать. Но кто-то умер, кто-то уехал навсегда, а кто успел и вовремя переселиться, устроиться, почуяв, к чему все идет. Так крысы бегут с тонущего корабля, так из треснутого ореха выпадет-то одна пустая труха да дрянь, а останется – само ядро.
Ядро составляют близнецы – третий этаж, Максим Петрович – второй и Алек – первый. Нельзя сказать, что многое их объединяет. Разве что вот сквозная дыра метр на метр в ванной – по всем этажам – дала им повод для общения.
Первый их разговор посредством дыры был короток.
– Господа, – сказал Вова в дыру, стоя в своей ванной на коленях. – Господа, а не завести ли нам жирафа?
Похохотали да разошлись.
Близнецовость братьев все воспринимают номинально, столь они непохожи. Вова – стройный, как тень от ноги цапли на закате солнца, а Сергей – основателен, устойчив и пирамидален. Вова – порывист и несдержан, жестикулируя, частенько рвет карманы и рукава, а Сергей – в сложные минуты лишь сереет лицом да быстрее на четверть такта водит рукой, куря.
Жить друг без друга, однако, они не могут. Пришла однажды весна, и била весна ключом, и ключ тот был, по эффекту судя, разводной, и захотелось Вове немедленно жениться. И стал Вова делать предложения руки и сердца первым, вторым, третьим и далее всем попавшимся на пути барышням.
– Экий, вы, молодой человек, на колено падучий, – отвечали барышни, безусловно оценивая происходящее и – вдруг – вспоминая о срочных делах, приболевших бабушках и невыключенных утюгах.
А потом появилась Валя. Валя была доброй, отзывчивой девушкой, что и привело отчасти к бросанию мелким мусором из окна и легким телесным повреждениям. Природа явила братьев на свет вместе и видеть, очевидно, хотела вместе, всегда. Так отдельны друг от друга небо и вода, но на далекой линии морского горизонта они сливаются в одно, нераздельное.
Наверное, по плану то был – один человек, гармоничный и самодостаточный, да спутались карты. А ведь забавно понаблюдать за ними, понимают они все не с полуслова даже, а с четверти. Читают они, например, свежие газеты, а Сергей и говорит Вове, не отрываясь от чтения:
– Я тут подумал…
– Не стоит, – отвечает Вова.
– Почему?
– Как сказать…
– Не к лицу?
– Да.
И они вновь склоняются над газетами.
Тем временем, этажом ниже, Максим Петрович, интеллектуал, умница, мошенник, вор, а ныне – никто, смотрит в затянутый паутиной угол. Пять раз переливчато отбивают часы: пора пить чай. По заведенному обычаю, и даже скорее ритуалу, Максим Петрович со вздохом встает из глубокого кресла с гнутыми ножками, идет к часам, достает ключик из кармана жилетки и заводит, считая обороты:
– Девять, десять…
Бронзовые старинные часы стоят на каминной полке. Форма их – сюжетна: ангел, сжигающий бабочку в жертвенном огне. Благородная патина темнеет в углублениях; прекрасные часы. Циферблат чист и не расколот, стрелки родные, идут – точно.
А вот с камином неприятность случилась. Сосед сверху сначала дал добро трубу провести, а потом вдруг заартачился. Долго торговались. Упрямец требовал фантастические суммы. А в довершение опрокинул в трубу мусорное ведерко. Пришлось ее разобрать. Так и стоит сложенный камин, тяготясь декоративной ролью. Сосед тот потом съехал, уступив место близнецам, вполне себе вменяемым молодым людям, но заново начинать дело «труба» Максим Петрович уже не стал, посмеявшись, однако, над невольным каламбуром.
Любовно оглядывает Максим Петрович обстановку комнаты: раздвижной стол красного дерева, немецкий кабинетный рояль, тесно сгрудившиеся на стенах иконы, продавленные кресла в английском стиле, ряд самоваров на полке вдоль стены. Коллекция самоваров – особая его гордость, все они разные: репкой, луковкой, тыковкой, рюмкой, цилиндром. Рядом с каждым предметом в комнате парят невидимые ценники, которые, впрочем, Максим Петрович видит прекрасно, получая в сумме их бесконечно приятную величину. Меж тем это довольно странно – жить в квартире, что стоит в несколько раз меньше ее содержимого.
Максим Петрович подходит к стеклянной горке и, открыв створку, удовлетворенно отмечая отсутствие скрипа, выбирает чайные приборы. Сегодня выбор падает на незамысловатую кузнецовскую пару. Уже три часа Максим Петрович распивает разные чаи и бьется над конструированием новой схемы: лучшей своей схемы, неслыханной, чистый бриллиант в оправе. Он ждет, пока она сложится в его голове полностью, четко и стройно, и она сложится – так было всегда; а пока Максим Петрович истово стучит серебряной ложечкой с вензелем «А.В.», расплескивая чай, и даже вибрирует весь в ожидании озарения.
Вспоминая свои прошлые комбинации, он тоненько хихикает, а иногда и хохочет во весь голос. Особенно ему памятен старинный гарнитур, сделанный из одного стула знакомым мебельщиком-умельцем, дай ему Бог здоровья: куда – ножку, куда – спинку, куда – перекладинку, и вот тебе и цельный гарнитур. Вспоминается также и швейцарский хронометр, долго-долго ходивший по рукам местных антикваров, увеличиваясь в цене. Только через ловкие руки Максима Петровича хронометр проскочил четыре раза, оставляя в пальцах крупицы золотого песка. На пятый раз Максим Петрович вывел хронометр на орбиту высшего порядка, на аукцион в Москву, и получил в несколько раз больше, чем все – до того.
– Но на этот раз все будет по-другому, – говорит Максим Петрович и гладит себя по колену.
Взгляд его падает на латунный канделябр первой половины девятнадцатого века, и вот тут-то все и становится ясно, от начала и до самого конца, во всех мелочах, до самого финала.
– Так! Так! Так! – вскрикивает он и роняет кресло.
Расстилает на столе лист ватмана, выписывает имена, обводит, соединяет стрелочками, прикидывает – получится ли? Спустя час на обратной стороне схема отрисована набело, в виде замкнутого кольца.
– Итак, – размышляет Максим Петрович, грызя колпачок маркера, – я звоню Гришке-Наркоману: Гришаня, есть у меня канделябр, нужна пара к нему, денег дают хорошо за пару, не обижу. Даю ему фото. Он, конечно, пойдет к Ване-Китайцу. Ваня-Китаец – к Проскову, Просков – к Валкину, Валкин – к Шуре-Ложечке…
Так перечисляются имена, фамилии и прозвища, складываясь в причудливое кружево, в ловкую паучью сеть.
– …ну а Матвеев канделябрик сей у меня видел, прибежит покупать. А я-то продам, конечно. Почему не продать, если тройную цену дают? И пойдет канделябр обратно, опять ко мне. Третьего дня у меня будет, зуб даю. А я руками только разведу: слился заказ, Гриша, спекся клиент, скуксился…
Не откладывая, Максим Петрович звонит Грише и приглашает почаевничать. Затем кладет трубку, хлопает громко, до эха, в ладоши, заворачивает канделябр в чистую тряпку и идет прятать. Вернувшись и поразмыслив, заворачивает в тряпицу часы с каминной полки и несет прятать тоже.
А на первом этаже, услышав сверху мелодичный перезвон сквозь треск и поскрипывание пружин, Алек плюнул в потолок изящной торпедой. Потолок достойно принял удар, а затем, призвав в союзники закон тяготения, ответил симметрично, буквально тем же, метя в глаза.
– А мы утремся, не впервой, – сказал Алек и действительно утерся краем полотенца.
Алек лежал в ванной. В ванной лежала вода. На воде лежала пена. Каждые семнадцать секунд из захватанного длинного крана на пену беззвучно падала капля воды. Щурясь, Алек смотрел на большой палец ноги, торчащий из воды, и представлял себе то всплытие-погружение подводной лодки, то морское чудище, на манер лохнесского. Алек обладал тем самым зрением, что будит фантазию и заставляет получать информацию от внешнего мира через другие источники. То самое зрение, при котором постричь ногти на ногах и не покалечиться возможно, лишь надев очки и вытянув в напряжении шею. То самое зрение, при котором на женщину бессмысленно смотреть: надо щупать, как щупают отрез ткани при покупке.
– Алек! – крикнули с третьего этажа.
В сквозной дыре торчала Вовина голова. Очевидно, он хотел поделиться очередным своим открытием в познании мира, так часто бывало.
– Оу? – отозвался Алек, садясь в корыте.
– Я вчера узнал, как ток идет по проводам.
– Так, – сказал Алек и приготовился запоминать дословно. Он любил запоминать Вовины интерпретации дословно.
– По первому проводу идет потенциал, а по второму фаза острым углом вперед.
– Почему же непременно острым вперед? – спросил Алек после паузы.
– Ну а как она тупым-то пойдет? Как?
Вова сделал ладонь «уточкой» и показал, что тупым углом вперед – решительно невозможно. И тут же предложил:
– Померяемся пи?
То была обычная их забава.
– Три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два, шестьсот пятьдесят три, пятьдесят восемь…
– Девяносто семь, девяносто три, двадцать три! – торжествующе продолжил Вова, подмигнул и исчез.
Алек вздохнул и откинулся назад, погружаясь в коричневатую теплую воду. Сегодня Алек искал здесь успокоения, он с утра находился в расстроенных чувствах. Намедни он нашел на антресолях пластинку камерного оркестра Хайфы и слушал ее целый день, все прибавляя и прибавляя громкость. Особенно ему понравилась композиция «Мазл тов!», на ней он выкрутил громкость на максимум.
И в тот самый момент, когда звуки скрипки заставили сердце сжиматься и трепетать, как птичку; когда по щекам, как лыжники с горы, готовы соскользнуть жемчужины слез; когда в горле щекочет и свербит; когда из груди готов вырваться к небесам подвлажненный мучительный стон, – в тот самый и никакой другой момент в окно ему влетела, трактуя как пустую никчемность все на своем пути, крышка канализационного люка. И в этом, положим, не было ничего удивительного: несдержан местный народ в изъявлениях.
Удивительное настигло наутро: пришел участковый, прошел на кухню, сел боком к столу, крутанул золотую печатку на пальце и потребовал вернуть на место похищенное городское имущество. Алек провел его в комнату. В комнате президентствовал хаос. Окно было заткнуто подушкой. Наволочка на ней была несвежа и протерта. Под ногами поскрипывали стекла. На стенах шевелились истлевшие запятнанные газетные вырезки.
– Да уж, – сказал участковый, подхватил, крякнув, крышку и ушел, изрядно наследив в коридоре.
Алек оглядел комнату, махнул досадливо рукой и задумался: почему мы не слышим других, когда надо, а когда не надо, очень даже слышим? Он привычно поставил таймер и уделил этой мысли двадцать минут, но до четкого ответа не додумался. Так он и оказался в ванной, полной воды, с головой, полной мыслей.
«А вот качество акустической системы проверяют на низкой громкости – в этом-то все и дело, – думал Алек. – Вот так и можно проверить себя: не кричать о помощи, нет, но – прошептать. Прошептать…»
Повод прошептать о помощи появился незамедлительно. Из-под прогнивших труб вылезла крыса и уставилась на Алека, склонив мордочку. Алек боялся крыс.
– Помогите, – прошептал Алек.
Что-то объемное и тяжелое просвистело в густом воздухе и крысы под этим видно не стало, и не стало вообще. Сверху свесилось искаженное лицо Максима Петровича.
– Что это? – спросил Алек.
– Часы, – сокрушенно выдохнул Максим Петрович.
– С ангелочком?
– Да.
– А я думал время – лечит, – сказал Алек.
– Когда как, – через силу улыбнулся Максим Петрович. – По-разному бывает.
Повисла пауза, долгая и непонятная. И тут Максим Петрович, интеллектуал, умница, мошенник, вор, а ныне – никто, спросил:
– Что ж, померяемся пи?
Они померялись, и Алек впервые выиграл.
Это повод
Олег женился на собственной сестре. И с этого, пожалуй, все и началось.
Вырос-то Олег в деревне. В город хотелось – хоть плачь. Бегать по прямым улицам, мороженое есть, костюм носить.
Но не получалось. Да и не могло: родители всю жизнь в колхозе, дальше райцентра носу не казали.
После армии окончил в райцентре курсы машинистов-трактористов. Вернулся домой – работать, с радостью взяли.
Женился. Дети. Рутина. Быт… Вовремя почуял: корнями врастает. Взял за свой счет, поехал к сестре, в город. В ожиданиях не обманулся: так и представлял.
Только вот на работу не брали без прописки, а прописку не давали – без работы. Олег ходил в отдел кадров завода, а от них в ЖЭК и снова на завод, где его опять устно посылали в ЖЭК, а мысленно – уже совсем в иное место, где ему едва ли могли помочь. Олег ходил и убеждался: никто, в общем-то, не против, все только за, милейшие люди, как на подбор, как с куста; но какого черта ничего не выходит?
Нахоженный километраж меж тем все рос, приближаясь к сорокам двум километрам. К марафонской дистанции, стало быть. В рамках традиции Олег должен был пасть замертво, вяло шевеля бледными губами, но это не входило в его задачи.
И вот тогда Олег женился на сестре. А буднично вышло: подали сначала на развод, он и она (она – с сохранением мужниной фамилии), написали заявление, выждали месяц и расписались. Теперь сестра могла прописать его у себя на законных основаниях, что и сделала. А после они развелись и переженились обратно. В ЗАГСе видали фокусы и похитрее, не удивились.
Олег уверовал, что все в мире решается очень просто. А раз нужда закон переменяет, так плохи законы, значит.
На заводе Олег быстро влился в коллектив. Трактористы-машинисты на судостроительном заводе едва ли могли надеяться на работу по специальности, и Олег окончил интенсивные курсы сварщика.
В первый же рабочий день начальник цеха, принимая свежую бригаду сварщиков, сказал:
– В тридцать пять вы, слепые, глухие, с подорванным здоровьем, уйдете на пенсию.
– Ура-а-а… – нестройно протянула бригада.
Ритм жизни спал, да он особенно и не бил никогда ключом: подъем – работа – домой, подъем – работа – домой. Выходной – отдушина.
А ведь естественным считается, достигнув цели, оглянуться, осмотреться. Олег осмотрелся и увидел мало утешительного: надоевшая работа, с которой он идет домой к рано постаревшей жене и повзрослевшим детям, от которых знай сиди и жди какую-то пакость; и ничего-то в жизни особенно не сделано; а как сделаешь, ежели делаешь одно – а получается совсем иное?
И он зачастил в заводскую библиотеку, начал искать ответ в книгах, но нашел в них лишь одни вопросы: от общемировых вечных, до сугубо российских и не менее вечных. Тесные ряды вопросительных знаков вставали из книг, выстраивались «свиньей» и маршировали по страдающему бессонницей Олегу.
– Прочь! – отмахивался Олег, путаясь ногами в одеяле. – Прочь, никчемушники!
«Но во что-то это все должно-таки вылиться», – думал наутро Олег, дочитывая третий том истории Рима за завтраком.
И вот однажды, пребольно ударившись в суете с одеялом коленкой о стену, Олег сделал изобретение: металлический амортизатор из гнутой тонкой проволоки, на манер китайской лапши из пакетика. Такие как раз нужны на судах: несохнущие, безотказные, дешевые. Себестоимость – тьфу: что, у нас проволоки не найдется, пресса и женщины к нему – кнопку нажимать восемь часов подряд? Найдется, конечно.
Побрившись двумя движениями сверху вниз и сбрызнув лицо щепотью воды, Олег стартует в еще сумеречное утро и спешит на завод, первым встретить мастера, у вахты.
И мастер отзывается резко положительно и столь эмоционально-непечатно, что страшно становится за будущее выразительных средств русского языка. Мигом находится проволока, пресс, женщина и кнопка, на которую надо жать. Пробный образец превосходит все ожидания, Олега хлопают по плечу и жмут руку разные люди, и 25-го числа он получает премию сто сорок рублей, кою и тратит на покупку пальто с меховым воротником.
На этом изобретательская карьера завершилась. Совсем уж недалече замаячил выход на пенсию, и вот уж, казалось бы, можно и пожить в свое удовольствие. Для начала Олег развелся с женой и съехал на съемную квартиру. Какое-то время заняли хлопоты по обустройству, а потом вновь воспрезидентствовал вакуум.
Олег стал приглядываться к пенсионерам. Получалось четыре категории: пьяницы, дачники, коллекционеры, рыбаки.
Пьянство Олег оставил на крайний случай – не убежит; ковыряться в земле и латать хибарку привезенным на себе строительным мусором – не хотелось; часами сиднем сидеть на жестком металлическом коробе, на льду залива, подергивая короткой удочкой, – тем более. Оставалось податься в коллекционеры.
Выбрал нумизматику. Краеугольным камнем коллекции легли три юбилейных рубля и квадратная сингапурская монетка.
По воскресеньям Олег ходил на собрания местного общества коллекционеров. Быстро выяснилось, как жалок он и смешон со своими рублями, и даже сингапурская квадратная монетка шла здесь не более чем за, как говорится, шелупонь. Популярностью же пользовались старинные монеты, достать которых Олегу было решительно негде: обдуманы уже варианты от авантюрного кладоискательства и до менее изящного вскрытия могил. Выбирая между эффектностью и эффективностью, Олег вспомнил один обычай и сделал выбор в пользу третьего варианта, совмещавшего в себе элементы первого и второго.
Как изначально деревенский, Олег знал: при закладке дома под него кладут несколько монет, обязательно, – сколь ни была бы бедна семья, хоть пару медяков.
Олег рассказал про обычай на собрании. Вздохнули:
– Эх, были времена… А сейчас, наверное, строители под дома просто кладут: дикий век, дикое время… Как еще объяснить, падают и падают дома, ничто их не держит. Вот послушай-ка…
Дальше дискуссия пошла по теме современного строительства, современных же нравов, цен; неуклонно и неотвратимо стремясь к общему знаменателю всех здешних дискуссий: огромности цен и ничтожности, словно в противовес, пенсий.
Не выслушав и половины, Олег ускользнул и направился на вокзал.
* * *
Несколько лет дом стоял нежилой, с заколоченными крест-накрест окнами.
Давно уже умерли родители, до конца дней переживавшие на разные лады кульбит с женитьбой их детей друг на друге.
Подходя, оглядывая издали дом, Олег размышлял, цела ли крыша. Крыша у дома, равно как и у человека, самое главное, прохудилась – считай пропало.
У самого дома Олегу встретился Ваня Щуренок, старик лет восьмидесяти. Прозвище досталось ему от прабабки, Щуки, прозванной так сразу же, как кто-то из мужиков шепелявя сказал, глядя ей вслед:
– Вот так штука!
Сын ее был – Вова Щукарь, внуки – Щурята, правнук – Иван Щуренок. И, хвала небесам, бездетен-безвнучат Иван, а то пришлось бы придумывать новые уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Ваня Щуренок посмотрел на Олега, на топор в одной его руке и багор в другой.
– На дрова, что ли?
– На дрова, – ответил Олег, хотя ясно было, что в городе дрова никому не нужны, нужны они – здесь, но зачем они здесь, если сам дом на дрова разобрать?
Щуренок покачал головой, сильно смял зачем-то шапку и ушел к реке. Впрочем, Олег не расстроился: ему и так хотелось мелко перекрестить спину назойливого старика и отправить восвояси, дабы не мешал.
Олег забрался на крышу, подошел к печной трубе. Толкнул слегка – и мягко осыпались кирпичи вниз, шебурша по шершавому толю и гнилым доскам.
Дом покорно стоял под ногами, безучастно приняв приговор. Но пошел разбор, заспорилось дело – и дом затрепетал обрывками толя, заскрипел натужно внутренностями.
– Оракулы веков, здесь вопрошаю вас! – изумленно воскликнул Олег, выставляя раму точными ударами топора. – Да что же я за скотина такая?
Очевидно, случился презабавный внутриличностный конфликт, невидимый внешне, а лишь слышимый через восклицания.
Растаскивая нижний ряд бревен, Олег с надрывом заговорил, не останавливая все же движений:
– Изувер, безбожник… Честное слово… Ни кола ни двора. Дома не построил, а что был – и тот разобрал… Стыдно, стыдно.
Серебряную монету он нашел уже под вечер, роясь в глиноземе под отваленным камнем фундамента. Обтертый о рукав куртки рубль заблестел на солнце, как новый.
Шатаясь, Олег выбрался на дорогу и заковылял на остановку, на последний автобус. За спиной всхлипнули крикливо чайки, ложась в пике над рекой.
Весь обратный путь монета ощутимо жгла ногу сквозь толщу ватных штанов.
Вечером следующего дня добрался до своей квартиры. Грязный, в потеках глины на штанах, пропахший мазутом. Не разуваясь, прошел в комнату и обрушился в кресло. Но тут же встал и снял с полки книгу о денежных реформах на Руси. Из этой книги он и узнал, что такое был в те времена серебряный рубль. А было это – вот что: сто кружек лимонного кваса, два пуда мяса, три пуда муки или двадцать беличьих шкурок.
Олег сбросил сапоги и сходил на кухню. Принес из холодильника початую бутылку водки, рюмку, кусок хлеба и кружок вареной колбасы. Подопнул к трельяжу табуретку, сел.
– А предки-то мои были – не промах, – сказал Олег отражению.
– Это повод, – постулировало тройное отражение и клюнуло в рюмку горлышком бутылки.
Черный день
– Кв.1, Полушкин –
Полушкин был убежденным холостяком.
– Бабы – это дело такое, – говорил он, делая неопределенный жест.
Выпив же, пускался в рассуждение о дискредитации мифа о двух половинках:
– Это что же получается? Кто-то там развеял половинки по всему белу свету, а женимся мы на ком? Да кто в нашем городе живет, на тех и женимся. Я уж и про деревни не говорю, там вообще – берут, что есть, а то и этого не будет. Да и, опять же, продукт скоропортящийся – понять можно, логика есть…
– За логику! – восторженно восклицал кто-то. Мужики, дернув головами, швыряли в себя водку.
– Это как в книжке, – продолжал Полушкин. – «Приключения Гекльберри Финна» называется. Там ребята спектакль устроили – полный атас: пьяный дед голый на сцене танцевал, еще что-то… И они потом зрителям говорят… говорят…
Тут Полушкин терял и мысль и желание ее выражать.
– За театр! – нетерпеливо и убежденно поддерживали справа.
Блестели лысины, клацали зубы, стекленели глаза. Вспыхивали светлячки дешевых сигарет.
– Контрольная, – говорили слева и твердой рукой ровно делили остаток на пятерых, не доливая.
Тускло звякает стеклянное, шуршат истертые добела пакеты, помятыми ватагами тянутся мужики домой…
Работал Полушкин в лимонадном цехе. Вся его обязанность состояла в полуавтоматическом движении туловища влево-вправо с интервалом в три с половиной секунды: указательным и большим пальцами обеих рук Полушкин брал из коробки две заготовки пластиковых бутылок, ставил в автомат, нажимал ногой педаль и доставал готовые полуторалитровые емкости.
Так у него точно все получалось, бессбойно, – начальник любоваться приходил.
– Ты мне нравишься, – говорил он Полушкину. – Ты напоминаешь мне молодого меня. Хотя не такого молодого, а скорее – старого.
Полушкин смущался и прятал за спину руки с каменными мозолями на четырех пальцах.
Коллектив цеха подобрался хороший, честный, не вороватый; но честность эта – вынужденная, ибо нести с работы что-то, кроме бутылок, было нечего. Как самый опытный работник, Полушкин позволял себе лишь одну маленькую вольность: стирку носков. Каждую вторую пятницу, в обеденный перерыв, приносил из раздевалки пакет с носками и деревянные длинные щипцы. Посередине цеха стоял чан обогащения питьевой воды кислородом. Отодвинув с натугой люк, Полушкин опускал в бурлящее носки – парами. Отстирывалось – в момент.
С работы Полушкин шел пешком и, чем ближе подходил к дому, тем кислее ему становилось.
«Мельчают дома, мельчают люди, – думал Полушкин, проходя мимо стройки. – И придет все к этакому сверхлогичному пространству метр на два: слева будет что-то связанное с едой, справа с работой, снизу со справлением нужд, а сверху – низкий, но не слишком, потолок, – для души или чего уж там останется».
Сам Полушкин жил в двухэтажном одноподъездном доме барачного типа, рядом с рынком.
«Рынок этот – ненастоящий, невсамделишный, северный; цены у всех оговорочно одинаковы, да и торговаться не принято», – отмечал Полушкин, проходя по рядам.
Сегодня, отрешенно глядя вперед, Полушкин прошел мимо торговок, натягивающих рукава свитеров на белые пальцы, и вышел к ларьку у центрального входа.
Когда-то тут продавали пиво на разлив. Очередь собиралась загодя, за час, а то и за два, звеня бидонами и банками. Вспомнилось Полушкину, как однажды пиво привезли с опозданием. Очередь напряглась, забубнила, зашаталась из стороны в сторону. И тут из узкого оконца высунулась круглая голова.
– Предупреждаю: привезли поздно, разбавить не успела, – сказала голова. – Поэтому буду недоливать.
Вспомнил Полушкин – и как-то сразу все уравновесилось, самообъяснилось: и все не так плохо и даже скорее сносно, можно жить – да и интересно, что там дальше будет и как закончится, да и люди кругом чем-то живы и не собираются прекращать.
– Кв.2, Сойкины –
Коле Сойкину в наследство досталась старинная пивная кружка. Дед привез трофеем с войны. Толстостенная, основательная, с эмалированной крышкой в металлическом ободе. На крышке тонко выведен геральдический герб: корона, щит с крестом и два печальных полумесяца. Внутри, на крышке, написано: посуда сия подарена графом Генрихом фон Вайсштейном графу Гансу фон Хейнерсдорфу в 1908 году.
Кружка стояла в серванте, посреди сервиза на шесть персон. Изредка Коля с дивана бросал на нее взгляд, исполненный нереализованностью мечтаний. Сидевшая рядом жена, Света, взгляд строго пресекала, направляя куда надо: в лучшем случае – в телевизор, а то могла и на мелкие хозяйственные хлопоты.
Мыслей Коля не оставлял, но не знал, с чего начать. В успехе он не сомневался, ну разве что самую капельку.
– Война, разве что, – думал Коля. И сам себе возражал: – А чего им война?..
Приставка «фон» указывала на аристократичность рода и на, пожалуй, неплохие шансы. Всем сердцем Коля полюбил эти три буковки, безмерно уважая их и преклоняясь.
В 97-м Коля узнал про Интернет и сразу, в отличие от многих, понял, как его применить. Коля нанес визит двоюродному брату-студенту, ввел его в курс дела и даже пообещал что-то сгоряча в случае успеха.
Искали недолго, род оказался на редкость шустрым. Коля только и успевал выписывать: Мария фон Вайсштейн, помощник министра транспорта, Канада; Томас фон Вайсштейн, профессор, Англия; Кристиан фон Вайсштейн, пластический хирург, Германия; и так далее – двадцать пять человек.
Оживленно перекурили и тут же, на ломаном английском, набросали письмо и отправили всем из списка по электронной почте. Оставалось ждать, а это получалось хуже всего: за три дня Коля потерял процентов пять в росте, десять – в массе, прибавив только неопределенный процент в количестве седины. Ответил только один, руководитель отдела логистики «Фольксвагена». Коля прикрыл глаза и явственно увидел равноценный обмен кружки на новенький автомобиль. Между тем немец интересовался фотографиями кружки. С этим сейчас просто, написал он: сделайте цифровое фото покрупнее и высылайте, так получится быстрей.
Насчет цифрового Коля понял, а вот насчет побыстрей – не совсем, так как в их городе такой фотоаппарат был, пожалуй, только у фотографа местной газеты. Не откладывая, Коля сбегал в редакцию, и там ему наговорили много разного, до головной боли. Понятно было только, что фотограф то ли на больничном, то ли в отпуске за свой счет; что, впрочем, в любом случае означало запой, темный и неподвластный кому-либо.
Сойкин обзвонил друзей и знакомых, но так ничего и не нашел. Вечером он написал заждавшемуся немцу: «Погоди, майн фройнд, я не могу найти цифровую камеру». Ответ пришел моментально: «Ничего страшного, я тоже часто дома теряю свои вещи».
И вот тогда Сойкин пришел домой, оглядел свою квартиру и понял бесполезность ее; содержания ее и себя – внешне и внутренне. Надломилось что-то внутри, засвербило.
Но, прежде всего, начатое нужно довести до конца. Коля проявил чудеса дипломатии и убедил немца приехать в Санкт-Петербург, где и обменял реликвию на доллары, по курсу один к десяти тысячам; замечательный был курс.
А уже вернувшись домой, ударился в удивительные самому себе мероприятия. По воскресеньям он снимал со стены в коридоре большой таз и тащил его на кухню. Там, с упоением, неосознанно радуясь чему-то, варил кашу. Натянув фартук поверх куртки, с тазом и черпаком в одной руке и со стопкой эмалированных мисок и тяжелой связкой ложек – в другой, выходил во двор. Там его уже ждали, сидя прямо на земле, подчас неразличимые; покуривая по папиросе на троих.
Сойкин ставил таз на скамью и быстро раздавал дымящиеся миски. Нельзя сказать, что он любил этих людей. Он смотрел на них и видел только липкие щели ртов, сосульки волос, прилипшие ко лбам, дикость повадок и движений.
Потом он собирал миски и шел домой, навстречу жене, стоящей в дверном проеме в позе сахарницы. Профилактическая ссора вспыхивала каждое воскресенье. Коля хотел все объяснить, но и сам не понимал происходящее. Но он говорил, говорил горячо и все же не верил своим словам. Спустя час пересохшая гортань издавала все больше не звук, а запах. Тогда Коля отпивал из чайника, махал рукой и запирался в туалете. Два часа сквозь дверь, низом, просачивался табачный дым и такое же густое ворчание.
– Кв.3, Войтек –
Семья Войтек была неполной. Стефан Войтек, чех, был командирован сюда, на местный комбинат, как ценный и узкий специалист. Узкий специалист быстро освоился и явил свою широту в других сферах, как то: выпить, закусить, поговорить о России и, пожалуй, снова выпить и закусить.
Жених он был не столь завидный, сколько статусный, и, на неожиданной его свадьбе с табельщицей Галей, Стефан плюсом к роли жениха исполнял роль свадебного генерала, в чем и преуспел едва ли не более.
…Но, как-то быстро он ее бросил, увлекающимся оказался молодой человек, и осталась от него лишь фамилия, тапочки да запах заграницы, вытесненный вскоре более привычными и простыми.
Молодая держалась стойко, виду не казала, не отреклась внутренне, не прокляла: любила. Но вот здоровье – сказалось всё: слаба стала ногами, не могла ходить; дали ей инвалидность. С комбината пришлось уйти. Ушла недалеко, в Дом офицеров, что напротив, – билетершей кинозала. И сразу в декрет. Не подкачал чех. Вот уж не было печали.
Сына назвала Степаном. И ясно, и неясно – почему, да и кто поймет, так там все хитро в голове у женщины устроено.
Степка рос быстро, соображал будь здоров, но тихий был, медленный, вялый. На детсад Галя не тратилась, брала с собой. А Степке нравилось: по пять военных фильмов успевал за день посмотреть.
Странности потом всплыли, в школе. На учителей бросался, фашисты ему везде грезились, о чем он и сообщал истерично несколько раз на дню, к всеобщему недоумению. Увезли Степку лечить, да что-то не заладилось у них там, и вернулся он только через одиннадцать лет, аккурат на совершеннолетие.
Приехал Степа не с пустыми руками, с подарком от благотворительного фонда. В мягком чехле, за пазухой, Степа привез диктофон. Вот забава была: разные звуки записывать. А когда звуки кончились, начал экспериментировать с телевизором и радио. Включал одновременно на разной громкости музыкальные передачи и записывал внахлест. Интересно получалось.
На соседские стуки сверху Степа внимания не обращал, не знал, что это значит. Весь второй этаж снимали торговцы с рынка под склад. Стучат и стучат, что с того. Может, ящики какие двигают.
Однажды его подкараулили в подъезде, где он старательно записывал на диктофон скрип ступеней.
– Слышишь, ты, – сказали ему. – Ну-ка, включи, чего у тебя там.
Степа перевернул кассету, мотнул, включил. Струясь, потекла чуждая и непонятная музыка. Такая чуждая и непонятная, что Степу без разговоров, мягко, но настойчиво поколотили. И стал он совсем не от мира сего, смурной какой-то и блаженный. Увезли снова лечиться, на полгода.
Вылечили – на славу, снова он тихий стал, медленный и вялый. Сидит теперь всё больше дома и забавляется тем, что режет линейкой воздух комнаты на небольшие, сантиметров по десяти, кубы. Затем аккуратно складирует на подоконнике. В ящике тумбочки держит самый старый кубик, трехлетней выдержки. Иногда он его достает и, встряхнув, сбивая пыль, дает понюхать матери:
– В тот день борщ варили, чуешь – немного кислит?
А на бытовом уровне и не заметишь сразу. Ну, улыбается без меры. Ну, спиной лучше к нему не вставать. Так и что? У нас местами и временами к любому боязно так повернуться – что ж теперь.
– Скопом –
Многое может объединять людей. Жильцов дома номер 3 по улице Советской объединяла общая тайна.
Неизвестно по чьей прихоти рядом с их домом, на пустыре, поставили памятник Кирову. Небольшой, близко к натуральной величине, Киров заглядывал в окна кухонь и буквально портил аппетит.
В июне 92-го, рано, еще до дневного зноя, к памятнику на грузовике подъехал с десяток бодрых ребят. Ребята разбили постамент, свалили памятник на землю, но не забрали с собой, а, вырыв яму, столкнули вниз, наскоро забросав землей. И были таковы.
Выходя на работу, Полушкин, Сойкин и Галя случайно столкнулись на крыльце и затоптались нерешительно, поглядывая друг на друга искоса, с мыслями об одном и том же.
– Это нам на черный день, – не выдержал накала Полушкин. Сказанное отвечало духу момента: соседи, заговорщически покивав, разбежались по работам.
…Эх, да сложить бы все, на черный день отложенное, да потратить, надеть, съесть – где же он черный? Белый он и даже желтый, мандариновый скорее – радостный, яркий, сочный…
Спустя пятнадцать с лишним лет тот же состав, с другими, но опять безошибочно общими мыслями, топтался на крыльце.
– Пора, что ли? – сказал Полушкин. – Сегодня в 12 сбор. Лопаты возьмите и веревку покрепче.
От серьезности и рассудительности установки Полушкина хотелось сверить часы, но часов ни у кого не было. Поэтому, наверное, еще за полчаса до полуночи все, с соблюдением мер маскировки, прижимая к себе лопаты, материализовались на крыльце, коротая время за фальшиво спокойным разговором о погоде.
– В путь? – нарушая нечаянную паузу, выдохнул Сойкин и хищно ссутулился. – С Богом!
– В путь, с Богом, – ответили нестройно.
Заговорщики сменились в лицах и, на полусогнутых, крадучись вдоль дома с лопатами наперевес, прошли на пустырь.
Место определили точно, очертили лопатой и стали копать, сменяясь. Пока копали, Галя сидела на пеньке, держа скинутые куртки, оглядываясь по сторонам на всякий случай. Время тянулось немилосердно. Полушкин без конца поправлял на голове шахтерский фонарик. Степан часто дышал, выбрасывая наверх сырую землю. Наконец внизу гулко тумкнуло металлом по металлу, стало веселей. Яму расширили, протянули веревку. Попробовали дернуть – не идет.
– Вот дерьмо, – сказал Полушкин, с досады плюнув в темноту.
– Это золотое дерьмо, маэстро, – нервно гоготнул Сойкин, утверждая ноги на мягком краю ямы.
– Бронзовое, – серьезно поправил Войтек, обматывая веревку вокруг руки. – Раз, два, взяли!..
Влажная веревка рвала кожу, скользя.
Беги, сука, беги
Бумага быстро намокала, самолетики падали, не долетая до дороги. Алек хотел было запустить еще один, но пришла сестра, бесцеремонно захлопнула форточку и задала дежурный вопрос:
– Когда ты прекратишь заниматься ерундой?
Умение отвечать на неудобные вопросы подчас незаменимо. Алек 4 года провел на диване и овладел этим умением в совершенстве. Всего в результате селекции у Алека осталось шесть ответов:
1. Человек не может действовать в условиях неочевидности.
2. Человек не может действовать в условиях отчужденности.
3. Не имеешь права.
4. Я готов написать это на своих знаменах.
5. Неси свой крест.
6. Би стронг.
Универсальные фразы. Искусственные кристаллы риторики, выращенные в полевых условиях.
– Человек не может действовать в условиях неочевидности, – ответил Алек и лег на диван, положив руки за голову.
– А работу ты искал? – не отступала сестра.
– Человек не может действовать в условиях отчужденности.
– У каждого должно быть свое место в жизни!
– Я готов написать это на своих знаменах.
– Если я найду тебе хорошее место – будешь работать?
– Не имеешь права.
– И долго это будет продолжаться?
– Неси свой крест.
– Когда-нибудь мое терпение лопнет.
Алек задумался над ответом. Подходили почти все. Поэтому он просто повторил:
– Неси свой крест.
Слова – всего лишь слова. Можно сколь угодно долго составлять красивые фразы и даже жить по ним, но простое столкновение с жестокой реальностью расставляет все по местам, раздает сестрам по серьгам, а кое-кому – и просто по рогам, для внятности.
Алек вышел прогуляться, а когда вернулся, сквозь щель приоткрытой на длину цепочки двери ему было высказано пожелание сходить к дяде. Пожелание подкреплялось лаконичной оценкой прошлого, настоящего и вероятного будущего Алека.
Алек озвучил шесть доводов, но на позиции сестры, равно как и двери, это не сказалось.
До конца 90-х все шло отлично, а после – дядя из бойца идеологического фронта превратился в душителя свобод. Да еще и спор затеял о необходимости и достаточности…
Однажды он пришел домой, счистил со штанов отпечаток чьей-то стопы, собрал вещи и уехал в областной центр.
Потом случилось что-то невероятное. Благодаря старым контактам дядя за один год прошел путь от председателя некой территориальной комиссии, решавшей неизвестно что и в чью пользу, до снабженца всех домов престарелых области. Это была, конечно, не золотая жила, но на серебряную – вполне тянула. Дядя обрастал связями, давал и брал откаты, «работал печенью», вращался по всем орбитам, где мог, забираясь все выше и выше…
Спустя три года он достиг потолка. Область была выработана. Горы шлака оставлены позади.
И дядя ушел на заслуженный отдых. Пил коньяк, вкусно ел, читал книги об искусстве с картинками. Ближе к вечеру выходил прогуляться. Неторопливо, заложив руки за спину. Непременно – в белых штанах.
Алек застал его за чтением. Дядя был вальяжен, пьян, предупредительно снисходителен. Они не виделись лет десять.
– Мне нужен твой совет, – сказал Алек.
Дядя встал. Стряхнул невидимую пылинку с полы фланелевого халата и направил взгляд куда-то вдаль.
– Хорошо. Бери бумагу, ручку. Пиши.
Алек взял и приготовился записывать.
– Носки меняй каждый день.
– Так.
– Трусы тоже каждый день.
– Так.
– Рубашки – через день.
– Так.
– Записал?
– Это все?
– Парень ты неглупый, до остального дойдешь сам.
Разглядывая обойный узор и лепнину под потолком, Алек пространно заметил:
– Пищей духовной меня есть кому кормить. А вот материальной…
– Пошел вон, – бесцветно ответил дядя. И почесал бровь ногтем мизинца.
* * *
Алек поплелся обратно, опустив голову, шаркая ногами. В центре города он заметил на тротуаре надпись: «Магазин приколов 50 м». Рядом была нарисована стрелка, показывающая во двор.
В тесном магазине едко пахло заморскими товарами. Зал был перегорожен невысокой витриной. За ней, прислонившись спиной к стене и скрестив руки, словно поддерживая грудь, стояла продавщица.
Алек отметил: «Поддерживать есть что» – и начал изучать товары. Рядом с каждым лежало пояснение, написанное круглым, детским почерком. Тут были: ампулы с вонючей жидкостью, полурастаявшее пластмассовое эскимо, наклейка на стекло в виде трещины, кубики сахара со всплывающими неприличными штучками внутри, накладные шрамы четырех видов… На краю, крест-накрест приклеенное скотчем к стеклу, лежало объявление: «Требуется курьер. Обращаться к администрации».
– Это сюда, что ли? – спросил Алек.
– Ага, – кивнула продавщица. Под футболкой качнулось тяжело и весомо.
– Так я пройду?
– Ага.
– Туда?
– Ага.
Пройдя темным коридором, Алек попал в кабинет директора. За простым обеденным столом сидел человек с идеальной внешностью грабителя: без возраста, без примет, капелька – в море безликой толпы.
– По объявлению, – сказал Алек.
– Курьер?
– Да.
– Хорошо. Заполняй заявление, пиши автобиографию кратенько, в течение недели дадим ответ.
Он дал Алеку бланки, освободил часть стола от бумаг и приставил стул. Алек сел, быстро заполнил заявление и задумался. Никогда раньше он не писал автобиографий. Мысленно план виделся таким: детство – отрочество – юность. Плюс: промежуточные остановки, акцентирование там, где надо, и умалчивание там, где не надо. Но как выстроить логическую цепь? Алек решил пойти от противного: написать всё, а ненужное – убрать.
Он погрузился в процесс. Жалобно поскрипывала видавшая виды ручка. Шатался стол под бьющимся рыбой локтем. Директор заботливо поднял погнутые жалюзи, впуская яркое весеннее солнце.
Каждые несколько минут Алек с интонацией хирурга требовал:
– Бумаги!
Директор подносил.
Девять листов исписал Алек. Девять листов по тридцать строчек на каждом. И приступил к редактированию, вычеркивая ненужное, малозначительное. Это оказалось много проще, чем писать. На первом круге из его жизни исчезло детство, характеристика родителей, близких родственников и начало учебы в школе. На втором – учеба в школе до остатка, эпопея о поступлении в вуз на трех листах и связанные с ней лирические отступления.
После пятой правки уцелела лишь одна фраза, первая: «Меня зовут Алек». Алек подумал, что сообщать свое имя – шаг явно избыточный и сократил ее до «Меня зовут А.»
На прощание директор протянул ему ладонь, пухлую и мясистую, похожую на перезревший корнеплод.
Спустя три дня Алек уже работал курьером. Потянулись дни скучные и пресные. В магазине ему дали позывной «Писатель» и, к своему стыду, Алеку пришлось отзываться на это прозвище.
Он получил первую зарплату и не отказал себе в удовольствии жестами и мимикой продемонстрировать директору собственную независимость, и его, директора, ущербность.
За что и был уволен. Моментально, росчерком пера. Проще, чем вздох сделать.
* * *
Помыкавшись там и сям, сменив с десяток мест работы, Алек решил уехать в деревню. Было в этом, как он считал, некое самозаклание на неопределенный алтарь.
Из газет Алек знал, что многие деревни вымирают, стоят пустыми. Жилищный вопрос его не беспокоил.
На автовокзале он купил билет на глухое направление до небольшого поселка и шесть часов протрясся в автобусе. Двадцать километров проехал на попутке, выспросив у шофера все необходимое. Три километра прошел пешком, в сторону от дороги, и вышел к деревне Сметана.
Рядком стояло с десяток почерневших изб. Почти все – с забитыми окнами, с дворами, заросшими травой. Майские, безлиственные ветки деревьев царапали крыши.
Алек прошел до последнего дома. Деревня была мертва. За занавесками не мелькали белые любопытные носы. Не тявкали цепные псы, завидев незнакомца. Ржавая колодезная цепь без ведра беспомощно распласталась кольцами по земле.
Алек поселился в последнем, крайнем доме. Замка на двери не было. В косяк низкой двери был воткнут топор. С трудом вытащив его, Алек сбил доски с окон. Стекла были целы.
Он прошел в дом и обнаружил вполне сносную обстановку. Первое, что он придирчиво изучил, – русская печь, ярко-белая, с красным деревянным приступком. В маленькой комнате просторного пятистенка стояла железная кровать с жестким матрасом. В большой комнате вдоль окон – длинная, крепкая лавка. Перед ней овальный стол с побитой столешницей и две табуретки. Под лавкой лежали свернутые полосатые половики. На бугристых стенах, обклеенных пожелтевшей бумагой, белели квадраты.
В крошечной кухоньке висело несколько полок, в углу стояли кочерга и два ухвата. Блестела отполированная ногами петля на дверце подпола. У печи одна в одной – формы для выпечки хлеба.
На чердаке Алек нашел ящик с посудой и стащил его вниз. Принес воды в двух ведрах, растопил печь поменьше, в комнате; нагрел. Достал из дорожной сумки брикет хозяйственного мыла, накрошил в ведро. Швабру сделал из граблей, намотав на них тряпку. Еще несколько тряпок приготовил для других нужд.
Раздевшись до пояса и закатав штаны, он бросился в бой, барабаня босыми пятками.
Неделю Алек занимался обустройством. Принес с реки камней и оттер до блеска некрашеные доски пола. Найденным куском рубероида залатал крышу, заменив несколько прогнивших досок. Очистил колодец. Наготовил дров. Выправил забор и даже приделал самодельную пружину на калитку.
В апогее, удивляясь самому себе, вырыл новую выгребную яму.
Летом он собирал грибы и ягоды, продавал на дороге. На вырученные деньги запасался впрок едой. Купил бродни и снасти – ходить на рыбалку. Раз в неделю, с пастушьей сумкой через плечо, с восходом выходил и шел пешком в поселок, в магазин, на почту: купить хлеба, газет, поболтать с новыми знакомыми. Возвращался затемно, уставший и довольный, волоча сумку по высокой траве.
К зиме Алек устроился замечательно.
В один из визитов в поселок он случайно узнал, что в сельсовете за убитых волков платят деньги. Алек подумывал купить мотоблок, лишние деньги были бы очень кстати. Волки около его дома водились, он не раз видел следы на первом снегу.
Алек помнил слышанный где-то способ ловли волков. Нужна была собака, коза или овца. Расспросив продавщицу в магазине, Алек узнал, где можно достать щенка и тут же купил две бутылки водки – на обмен.
Это был месячный щенок кавказкой овчарки, уже с кличкой – Найда. Алек в охапке принес Найду домой, поставил на пол миску с хлебом и молоком, погрозил пальцем и пошел делать ловушку.
К вечеру все было готово. В поле Алек сделал два кольца частокола из жердей: один в другом, с зазором – только-только протиснуться. Во внешнем кольце приладил полуоткрытую вовнутрь калитку. План был прост: привлеченный волк заходит в зазор, делает круг, своей же мордой закрывает спасительную калитку и идет дальше. Пятиться волк не умеет.
Во внутренний круг Алек бросил старую овчину, полбуханки хлеба и суповую кость. В «пору меж волка и собаки» принес Найду и, перегнувшись, аккуратно поставил туда же на утоптанный снег.
Утром, едва проснувшись, Алек прыгнул в валенки, набросил ватник и выбежал за избу, в поле.
Девять волков набилось в ловушку, сплошным серым кольцом. За ними поскуливала Найда.
Алек задумался. Поймать-то он их поймал, а дальше что? Заколоть ножом, примотанным к палке? Заморить голодом? Задушить по одному, накидывая петлю сверху?
Ругая себя за трусость и мягкотелость, Алек пошел за веревкой. Нужной длины не оказалось, пришлось взять толстую леску. С опаской приблизившись к частоколу, Алек обвязал калитку и, распутывая леску, отошел ближе к дому.
Вздохнув, потянул за леску. Калитка открылась. Суетясь, серые высыпали из ловушки. Алек стоял с мотком лески в руке и завороженно смотрел на стаю.
Вдруг, повинуясь чьему-то неслышному приказу, стая бросилась в его сторону. Алек охнул, дернулся и, запутавшись в леске ногой, упал. «Не успеть! – прожгло сознание. – Вот и все». Сбросив валенки и ватник, Алек взял низкий старт, как бегун на стометровку.
Алек бежал, хлюпая и скользя по маслянистой грязи. В голове крутилась фраза из давно забытого фильма: «Беги. Беги, сука. Беги».
Он влетел в сени, с грохотом захлопнул дверь и рухнул на холодный пол. Отдышался, свистя.
И захохотал, громко и весело, стуча кулаком по влажным доскам.
Дело пахнет повестью
– Вот в наше время – да, были люди. – Я не видел, кто сказал эти почти лермонтовские слова, но по голосу понял, что он примерно возраста моих родителей. – А вы, вы – нынешнее поколение, так… пыль на колесах истории.
– А вы? Вы кто такие? – Мне почему-то стало очень обидно. – «Дети победителей?» Да? А мы – дети детей победителей? А наши дети кто будут? Дети детей детей победителей? Страна детей.
Я заставил себя успокоиться. Ну в самом деле, я же читал «Отцы и дети», знаю: этот конфликт старого с новым – вечен, через двадцать лет буду говорить то же самое своим (ведь у меня когда-то будут дети), но все-таки скорее чужим детям, зачем расстраивать своих, это совсем не обязательно… Но зачем – вот так? Можно же и промолчать.
– Скажите еще, что у нас нет идеологии, – сказал я. «Нас?!» Ладно… – Скажите, скажите.
– Нету, – со мной охотно согласились.
– Так откуда ей взяться-то?! Где вы были, вот конкретно вы, когда я плакал, зажав в кулаке звездочку октябренка? – А ведь это правда. Ужас. – У них, видите ли, все изменилось. Им, видите ли, стало не нужно. Ну? И где вы были? Сидели на своей тесной кухоньке и тряслись от страха?
Вот уж не думал, что умею – так. Насчет кухоньки – это, конечно, слишком. Удар ниже пояса. Сам бы там сидел, трескал яичницу и вслушивался в тревожные голоса из радио.
Я хотел еще что-то сказать, но меня подхватила какая-то волна, меня выносило наверх, я ничего не мог поделать, дыхание сперло, только успел подумать «наверное, вот так на берег выбрасывает рыбу» и…
…и проснулся. Сел и подумал: «А ведь это отличная тема для рассказа. И название – „Восьмидесятник“. А? Тема – вечная, вопросов – много, ответов – тем более… Немножко документально все оформить, факты, даты, сводки… Приправить личными воспоминаниями и терзаниями – народ по-прежнему на это ведется. Простенький сюжет завернуть „для самых маленьких“: семейная история на стыке эпох. Он коммунист, а она – вдруг, как-то с утра, – демократка. Мол, осознала, раскаялась (в чем? Надо придумать в чем. Не очень серьезное, пусть читатель сочувствует), прониклась, решила порвать с прошлым. А он – прожженный верный ленинец. И идет на штурм Белого дома. Или наоборот, защищать? Надо прояснить.
А там – ОМОН, массовые волнения и почему-то танки, облепленные голодными солдатиками, которых кормит пшенной кашей из большой кастрюли сердобольная старушка, живущая неподалеку. Пьяные толпы, флаги, кто-то играет на гармошке. И обязательно среди этого всего какой-нибудь журналист-иностранец в длинном сером плаще, в нелепой здесь, как и он сам, шляпе, с фотоаппаратом, искренне ничего не понимающий. А читатель будет злорадно-горделиво думать: „Чего приехал? Расею-матушку хотел понять? Накося выкуси! Сами еще не разобрались, куда тебе“. Да-а-а… Каков материальчик? А ведь это только крупными мазками. Дело пахнет повестью. А то и романом».
Я взял со стола часы: стрелки еще еле заметно светились в сером свете, значит, совсем рано. Так и есть, пять часов. Спал не больше часа.
Не понимаю людей, находящих с утра силы на приготовление кофе. Столько лишних телодвижений. Я налил себе обычного, растворимого, только покрепче. Аккуратно отхлебнул, привычно закружилась голова. А в самом деле – написать повесть. Написать, как я шел домой с расстегнутой курткой, чтобы все видели красную звездочку на форме. Как я завистливо смотрел на пионерский галстук сестры. Как однажды она пришла и сказала: «А Ленин – дурак». Впрочем, подобное уже писали… А я напишу лучше!
Надо взять бумажку и набросать план. А что? Напишу, издамся, получу гонорар, стану одиозной личностью и темой для многих крупных заголовков в газетах, буду давать интервью, посещать школы-институты и упиваться собственной значимостью в глазах масс. Потом, конечно же, устану от этого и куплю домик на юге. Что ж, дальнейшее будущее видится вполне ясно, осталось только начать. Я снова сделал глоток кофе и достал из пачки чистый лист. Головокружение усилилось. Теперь в нем была пугающая непривычность, тягучесть; я прислушался к своим ощущениям. Кажется, я успел чертыхнуться, до того как меня подхватила какая-то волна; меня вынесло наверх, и опять я ничего не мог поделать, только судорожно вздохнуть и подумать: «А как же повесть? И домик на юге?» И…
…и проснулся. Фу-у, как же это я задремал и не заметил, прямо в очереди в музей. Неудобно… Давно собирался заглянуть в краеведческий, а то все мимо да мимо. Надо же, в них еще и очередь бывает.
Наконец, двери открывают, захожу внутрь и не спеша иду по залам. В геологическом за стеклами лежат разные минералы. А с виду – обычные камни, кто бы мог подумать. В следующем – флора и фауна, под самым потолком на тонкой леске подвешено чучело рыбы-ежа и на просвет видно, что оно внутри пустое и сделано из двух половинок. Затем я догоняю группу школьников, мы одновременно подходим к огромному глобусу, на котором флажком отмечен Северодвинск. Здесь нас ждет экскурсовод. Точнее, она ждет школьников, но я хочу, чтобы она и меня тоже ждала.
– Архангельская область по площади сопоставима с тремя Франциями, – говорит она.
Да-да. Еще в школе утомили этими сравнениями с двумя Германиями, тремя Франциями и семью Бельгиями. Три Франции, говорите? Может, нам и Эйфелева башня полагается? Даже три: одну поставим в Архангельске, вторую в Северодвинске, а третью… С третьей проблема, ее некуда ставить, крупные города кончились. Придумал: в Котлас. Через него транзитом проезжали составы «столыпинских» вагонов с заключенными, в лагеря, на Север; заключенные жадно припадали к щелям, вдыхали прохладный свежий воздух и передавали соседям в центре вагона: «Котлас… Слышите? Котлас! Скоро приедем».
Говорю об этом экскурсоводу. Школьники смущенно смеются. Смотрит на меня недоуменно. Мне вспоминается мужчина из фильма (книги? сказки?) с двумя левыми ботинками на ногах. Кажется, это из «Приключений Алисы» Кира Булычева. Да, точно, тот самый Булычев, который потом что-то написал в «Компьюютерре», прочитал, мне резко не понравилось, а через несколько месяцев на той же странице напечатали статью с его фотографией в траурной рамке, и я понял: это все такая ерунда.
И сейчас на меня смотрят как на того, в ботинках.
– Молодой человек, стыдно не знать такие вещи, даже школьники знают, что… – Ее слова тонут в шуме волны, сбивающей меня с ног, поднимающей высоко-высоко…
…просыпаюсь, ощущая каждой клеточкой тела усталость. Проваливаюсь в дрему, но не могу снова заснуть, одна мысль не дает покоя.
Опускаю ноги на холодный пол: сжигаю мосты. Со второй попытки поднимаюсь, бреду к телефону с закрытыми глазами, перебирая руками по стене. Набираю 01. Гудки, сонный голос:
– Дежурный.
– Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у нас в городе стоит Эйфелева башня?
Там несколько секунд молчат.
– Шуточки шутим?
Неужели стоит?!. Боже, как я смешон с этим вопросом: жить в городе и не заметить такое…
– Пожалуйста, ответьте, это сейчас очень важно для меня.
– Нет, не стоит.
– А в Архангельске?
– Тоже нет. – И бросают трубку.
Ну вот, не успел про Котлас спросить.
Once upon a time…
– А как ему везло! Ка-а-ак ему везло! Патологически, без усилий, невзирая, всегда. Его так и прозвали – Везунчик. И рассказывая о нем, так и хочется тяпнуть с расстановкой, как старый дед внуку, – перед сном: «Once upon a time…» Сказка чистая, не бывает так. Да если б я сам не видел, что ты.
Мы и в институт вместе поступали. Тянет он билет, по лицу вижу – ни бельмеса. А ведь поди ж ты – не перетягивает, знает и верит в свое везение. Вышел отвечать, сказал пару слов и молчит.
Председатель комиссии, немолодой, женат, двое детей, внуки в проекте уже, никогда за собой не замечал такого, чтоб ему молодые люди нравились. А тут прямо как-то ну очень нравится. Да видно же: хороший парень и знания есть, просто нервничает, надо вытянуть. Спрашивает он у Везунчика:
– А вы Бродского читали?
– «…ни страны, ни погоста»?
– Да.
– «…на Васильевский остров пойду умирать»?
– Да-да.
– «…какое ныне тысячелетье на дворе»?
– Да-да.
– Нет, не читал.
Хохотнула комиссия, оценила шутку. Переглянулись, плечами пожали, подбородки потеребили, в общем, приняли. А ведь он действительно не читал, да и тем более поэзию не любил. Так, запомнилось что-то случайно.
И всегда так: вроде бы и не за что, а везет, и все тут.
А увлечение у него было такое, странное на первый взгляд: Везунчик коллекционировал кувалды, молотки и молоточки. Слесарные, альпинистские, хирургические… Да каких только и не бывает, всякие.
На что он только и не шел, чтоб редкие экземпляры достать. Но, как всякому коллекционеру, ему было приятно иметь эти проблемы.
* * *
В тот самый день коллекция пополнилась замечательным молоточком. А дело было так. Сел он в автобус и видит: на стене у компостера в жестяной коробочке за стеклом молоточек. Красный, полированный. И форма очень интересная. А ниже табличка: «При аварии разбить стекло молотком». Глаза загорелись, руки сами собой тянутся. Нет, думает, сейчас решительно невозможно просто так его взять. А если авария? И люди выбраться не смогут? Я виноват, получается? Вот если бы аварию… прямо сейчас.
Только подумал – на тебе аварию. Гололед, водитель – мальчишка, неопытный, не вписались, перевернулись.
Схватил он молоток, разбил стекло, выбрался. Помог паре бедолаг, молоток – в сумку, да и пошел домой. Даже не оглянулся. Ни царапинки!
А дома его ждали: мама в обмороке, теплые киевские котлеты на плите и двое в штатском. И взяли его мягко, быстро и бесшумно. Сила за ними чувствовалась – безмерная.
* * *
Все в мире логично. Связь существует между всем. Между первым, вторым, двадцать пятым и миллион четырнадцатым – ниточка, пусть и тонкая, а то и невидимая, но – есть.
Цунами в Индонезии и объемы потребления соли в Гренландии. Длина моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и детская смертность в Индии. Среднемировая масса опоссумов и толщина озонового слоя над Бельгией.
И в масштабе страны отдельно взятой то же самое. И если живем плохо, а кто-то хорошо – есть причина.
Но процессы эти по теории вычисляемы, хоть и сложны невероятно на практике; да и первокласснику, если захотеть, можно объяснить слово «корреляция» и смысл разжевать. А захотели – очень, притом на самом-самом верху. Ну в самом деле, как греет мысль о том, что ходит где-то по стране козел отпущения.
Не надо реформ. Не надо непопулярных мер. Найдем, возложим все грехи наши и нейтрализуем влияние. А сочинения о праве сильной личности на убийство пусть школьники пишут. По Достоевскому.
Сложности начались, когда открытие учеными понимания системы стало оказывать влияние на саму систему. То есть: поняли и сами невольно оказали этим влияние. И чем дальше, тем интереснее: поняли, что оказывают влияние, и опять повлияли. Клубок следствий рос и ширился. А системе без разницы. Действует. Подстраивается и подстраивает.
Но – разобрались, выяснили: да. Есть причина. Держите адрес.
А судьба у всех козлов отпущения одна и та же. Цель не оправдывает средства? Не мытьем, так катаньем?
Молокососы. Слабаки. Мягкотелая дрянь. Вы хотите жить красиво или как мама с папой? История нас оправдает, возвеличит и на пьедестал самолично воздвигнет.
Не оставляй надежду
– раз –
Судьба стучится в твою дверь. Тук-тук-тук. А ты не слышишь. Ты слушаешь музыку в наушниках. Судьба переминается с ноги на ногу. Ты прибавляешь громкость на любимом месте. Судьба стучит громче, отбивая костяшки, с сомнением поглядывая на пустой почтовый ящик. Ты начинаешь подпевать. Судьба пишет тебе записку и бросает в ящик. За ней хлопает дверь подъезда. Больше она не придет. А листок выпадает на грязный пол, на нем проступают отпечатки чьих-то следов. Сколько раз тебе говорено: «Почини дверцу ящика»?
Или. Звонит Очень Важный Человек. Четыре гудка – и он кладет трубку. Больше ты не существуешь для него. Твое имя забыто, номер телефона выкинут. Твое место занято. Кто-то сделал твою карьеру. Твои деньги потрачены не тобой. Тебя опять обошли на повороте.
Алек не знал, кто, когда и при каких обстоятельствах обошел его на повороте. Из всех поворотов он запомнил только один, да и тот вовсе не образный, а самый что ни на есть настоящий.
Алек в то лето решил насобирать ягод и сделать варенье. Взял у соседа-грибника два металлических короба, по штуке на плечо. То, что это перебор, он понял на вокзале во время штурма электрички. На перроне без смены декораций можно было снимать эпизод погрузки беженцев, охваченных паникой и предчувствием ужаса надвигающегося фронта. Толпа облепила вагоны. Люди толкались, наступали друг другу на ноги и вытягивали шеи.
Наконец, вагоны заполнились до отказа. Электричка дернулась, как взбрыкнувшая лошадь, и поехала, плавно набирая ход. Пассажиры выдохнули, ощупали карманы, осмотрелись, достали книги. За окном проплывали последние метры перрона, на котором осталось множество оторванных пуговиц и рукавов, пакет с хлебом, женская туфля и погнутый в давке зонтик.
В лесу Алек старался не мешкать и споро принялся наполнять короба, изредка поглядывая на часы. Дело шло быстро: год был урожайный на ягоды; весь июль дождливые дни перемежались с теплыми и сухими.
Сгибаясь под тяжестью двух коробов, Алек еле взобрался по лесенке на перрон. На обратную электричку народу собралось едва ли не больше, чем в городе. Алек засомневался, сможет ли забраться в вагон – он и из леса вышел-то с трудом.
Когда электричка остановилась, он увидел, как несколько мужиков с коробами, нимало не смущаясь, залезли на крышу вагона. Алек крикнул им помочь. Те приняли короба, а потом и ему помогли взобраться.
По сравнению с вагоном, на крыше было крайне свободно и свежо. Да и билета никто не спрашивал.
Алек на всякий случай накинул лямки коробов на плечи и сел рядом с мужиком, обхватившим ногами трубу. Тот достал папиросу и выбросил пустую пачку.
– Покурим? – спросил Алек.
Сосед кивнул и спрятал сигарету в кулак: поезд набирал ход, встречный ветер усиливался. После крутого поворота он, не оглядываясь, протянул папиросу назад. Но взять ее было уже некому.
Алек и сам не понял, как это произошло. Просто вдруг он обнаружил себя бредущим по путям, перемазанным ягодами и бормочущим «масса – мера инертности… инертность – мера инерции… вэ квадрат делить на радиус…».
Все-таки физику он знал хорошо.
– два –
Многие знают, что такое «день не удался с самого начала». Это когда ты всю ночь боролся с одеялом. Тебе было то жарко, то холодно, ты поднимал скинутое одеяло с пола, а через пару минут оно, сброшенное, снова оказывалось там же. Ты ворочался, воевал с подушкой, тебе снились ужасные сны. А между тем за окном уже начинали скрести тротуары дворники, лаять собаки и хлопать дверцы автомобилей.
К черту все это, решаешь ты и встаешь. Шатаясь, как деревенский пьяница, выползаешь на кухню, и понимаешь: тебе не хочется есть. Хочется пить, но не хочется горячего. Холодильник предлагает тебе на выбор два пакета прокисшего молока с тошнотворным запахом. В итоге ты отхлебываешь теплой безвкусной воды из чайника. И шлепаешь обратно. Пытаешься найти хоть какую-то более-менее чистую тряпку, дабы намочить ее холодной водой и кинуть на лоб. Но ничего такого найти просто нереально. Эта квартира не содержит тряпок. Вообще ни одной. Тебе приходится обойтись бумажной салфеткой, которая моментально пропитывается, разваливается на куски и превращается в нечто желеобразное. Из этой массы ты устраиваешь на лбу композицию, внешне ни капли не удивительную для того, кто обращает хоть какое-то внимание на обочину дороги весной. Боясь пошевелиться, ты засыпаешь…
…чтобы быть разбуженным телефонным звонком через пару-тройку часов. Это женщина из некой секты. Ее голос бодр и свеж, словно из рекламы стирального порошка. Она задает вопросы. И сама на них отвечает. Краешком сознания ты понимаешь: кто-то из вас выпадает из контекста: ты, она, вопросы или вы вместе. Тебя посещают мысли о хитроумности и простоте мироздания одновременно: Мир Выпавших Из Контекста.
Ты собираешься с силами и говоришь в трубку что-то такое ненужное и никчемное, вроде «такого не бывает» или «это невозможно». Вешаешь трубку. И ступаешь в начало нового дня.
Эта женщина, она что-то говорила про счастье. Про истинную веру и про то, что кому-то воздастся за все их прегрешения. Но, в основном, про счастье.
Алек никому не рассказывал о редких минутах своего счастья. На самом деле, точнее будет сказать «о нескольких секундах». Ему казалось: расскажи кому – и эти секунды обесценятся. Потеряют стоимость. Перестанут быть истинно его секундами.
Это произошло в Израиле, куда Алека пригласили погостить многочисленные родственники. Отказаться он не мог; тем более – родня взяла на себя все расходы, включая на билеты от родины фактической до родины исторической и обратно.
Порядком нагостившись, Алек записался на экскурсионный тур по стране.
В один из дней их группа, похожая на разноцветную гусеницу, выползла на площадь. На этой площади было совершено покушение на Ицхака Рабина. Место покушения огородили низким заборчиком. Около него горели свечи, лежали свежие цветы. Площадь сияла нереальной больничной чистотой.
Алек шел последним в группе, позади сорока человек. Неожиданно что-то кольнуло его стопу. Невесть откуда взявшийся осколок бутылки прорезал тонкую подошву тапки и глубоко впился в ногу. Алек вскрикнул. Два охранника с автоматами, замыкающие группу, подхватили его и за несколько минут, практически не опуская на землю, доставили в больницу.
Конвейер израильской медицины переработал стопу Алека за 14 минут. Врач действовал настолько быстро, что Алек даже не успел разобрать его имя на бэджике, не говоря уж о сказать «спасибо» и попрощаться.
Остаток экскурсионного дня Алека катали в инвалидной коляске позади группы. Он закидывал ногу на ногу, обмахивался снятой тапкой и постоянно курил.
На следующий день их привезли на Мертвое море. Множество тел шевелилось на поверхности темной воды. Некоторые умудрялись читать книги. Женщина в ярко-желтом купальнике звала детей. Дети не слушались и требовали мороженое.
Кругом такая безмятежность.
И вот именно тут это и случилось: двое сочувствующих взяли Алека за руку и ногу и неловко, боком, несколько раз окунули в Мертвое море. Как пельмень в уксус.
– три –
Очень многое в нашей жизни решают связи. Алек отлично знал об этом. Ведь он родился в еврейской семье. Тем более – в провинциальном городе.
Поэтому, когда пришло время поступать в вуз, Алек прикинул свои шансы и поступил на геологический факультет МГУ. Да, факультет не самый престижный. Но – МГУ. Не название – музыка. Яркое, звучное «М». Высокомерное, но в полной мере оправданное «Г». Предостерегающее, многосмысленное «У».
Пять лет пробежали как день. На последипломную практику Алеку чудом удалось пропихнуться в отряд самых перспективных студентов. Учились они, правда, средненько. Зато – все, как один, москвичи, ни в коей мере не обделенные вниманием и заботой высокопоставленных родителей. Воображение Алека рисовало картины блестящей карьеры, не скупясь на золотую и серебряные краски.
Направление на геологическую экспедицию с крайне туманными задачами и целями, оставляющими простор в том числе и на самодеятельность, им выписали в глухую деревушку Тропино, на юге Архангельской области.
Ощущение свободы ударило москвичам и в головы, и по головам. Многие из них впервые остались без родительского надзора. Едва успев разместиться в пустых домах, любезно предоставленных сельсоветом, москвичи напились пива. При этом пили они из рюмок, залпом, наливая из огромного медного чайника. Культуре пития еще только предстояло научиться, и они были полны решимости познать эту науку до мелочей.
На следующий день они снова выпили. И на следующий. И так всю неделю. А потом вторую. И так далее, неделю за неделей. Алек из раза в раз отказывался.
За два месяца все, кроме Алека, безнадежно спились. В Москву он уехал один: проповеди о вреде алкоголизма и упущенных шансах успеха не имели.
А геологи-москвичи так и живут в Тропино. До сих пор.
– четыре –
Все мы совершаем ошибки. Если подумать, вся наша жизнь состоит из ошибок. Они идут чередом, а то и накладываются друг на друга, образуя причудливые сплетения обстоятельств.
Да что тут говорить: мы и на свет зачастую появляемся вследствие ошибки. А некоторые ошибки по прошествии времени перестают являться таковыми. И никто не знает, произойдет это или нет.
Осенью Алек увидел на автобусной остановке девушку. Несчетное количество девушек он видел каждый день, десятки тысяч остались незамечены. Но только не эта.
Алек томился и не знал, как начать разговор. Он не умел знакомиться с девушками.
А между тем особа явно скучала в ожидании автобуса. Она оглядела себя в карманное зеркальце, а потом достала из кармана несколько бумажек, внимательно изучила и выбросила.
– Вообще-то, это клумба, – неожиданно для себя заметил Алек.
– Да? А выглядит как урна, – сказала она с улыбкой.
Слово за слово, разрешите представиться, Таня, Алек, а вы такой смешной, а вы такая красивая, чай-кофе-потанцуем…
Вечером Алек возвращался от нее домой. Почти весь город он пересек пешком и теперь радовался, что добрался без приключений.
Он шагнул в подъезд и спустя четверть секунды, в полнейшей темноте, получил чудовищный удар в челюсть. Как выяснилось позднее, железным ломом. Удар был такой силы, что Алека отбросило назад. Он ударился об дверь и сполз по ней на пол.
Теряя сознание, Алек услышал голос:
– Слышь, так это же не он.
И отвечающий второй:
– В натуре. Вот попадалово… Валим отсюда.
К счастью, пролежал он так недолго. Кто-то из неробких соседей вышел на шум и вызвал «скорую».
А в сознание он пришел и вовсе только через два дня, в больнице. И сразу поинтересовался у мамы про Таню. Как оказалось, она узнала о том, что случилось с Алеком, на следующий день.
Долгих полгода Алек провел по разным больницам. Последний месяц он практически полностью провел перед зеркалом, аккуратно ощупываю новую челюсть. Теперь он стал обладателем волевого подбородка, не чета бывшему.
Каждый день он ждал Таниного прихода. А она не пришла. Ни разу. Это оказалось очень просто – не прийти. Алек не держал на нее зла.
А восемь недостающих зубов ему потом вставил родной дядя, первоклассный стоматолог.
Как настоящие. И даже лучше.
– пять –
Однажды, гуляя по Питеру, Алек прямо на улице наткнулся на выставку-продажу картин. На стендах, сколоченных из тонких реек, несколько художников хаотично развесили свои творения.
– О, – сказал Алек с интонацией человека, нашедшего давно потерянную вещь. Ему сразу представилось, как он повесит дома картину, а интересующимся с напускной небрежностью будет пояснять: «Да так, по случаю в Питере купил, знаете ли».
Натюрморты и портреты он отмел сразу, сосредоточившись на пейзажах и абстракциях. Одна абстракция понравилась ему больше всех. При взгляде на нее под разными углами в хитросплетении линий цвета «а-ля Матисс» угадывались то грустная ящерица, то чистильщик бассейна, а то и стартующий космический корабль. Но к абстракциям Алек относился пренебрежительно, считая их тем же заумствованием, только на холсте.
– Почем? – спросил Алек.
– Восемь триста, – ответили невозмутимо.
– О, – повторил Алек и как-то чересчур поспешно влился в поток прохожих.
«Сам нарисую, – решил он. – Чего такого. Подумаешь. Невелика и наука».
В тот же день он купил краски, простенький мольберт и холст. Набросал карандашом на бумаге эскиз. Композиция включала в себя реку, два берега, траву и несколько деревьев неопределенного вида. За счет отсутствия на эскизе детальной прорисовки получилось многообещающе.
Алек приготовил палитру, унял дрожь в руках и сделал первый мазок. Отступил, оглядывая результат. «Во! Делов-то. Надо дату запомнить. Этапы становления… творческие вехи… все такое».
Спустя час Алек понял три вещи. Первая: творчество безумно утомляет, вторая: все не так просто, третья: пейзаж не вышел и вряд ли когда-нибудь выйдет, по крайней мере из-под его кисти.
Ради интереса он повернул холст и посмотрел. Перевернул и посмотрел. Нет, это не прибавило двусмысленности, как той абстракции. Все та же бездарность, как ни смотри.
Да и с чего – вдруг? Ну с какой стати? У него и почерк-то и тот корявый. Роспись в паспорте печатными буквами. Какие тут картины.
– я иду искать –
Загнанная в ловушку рысь собирается с силами и делает одну попытку спастись. А потом покорно ожидает своей участи.
Алек принял на вооружение этот прием и, прежде всего, составил список возможных мест поиска. Конечно, такая ветреная и непостоянная госпожа редко задерживается на одном месте, но попытаться схватить ее за рукав все-таки стоит.
На тетрадном листе Алек начертил таблицу с двумя колонками. В левую он выписал адреса семи залов игровых автоматов и двух казино, а в правую – дни недели и время.
…Кассирша игрового зала уже бросала на него подозрительные взгляды, когда, наконец, она появилась. Алек тут же крепко взял ее за руку, решив не отпускать, чего бы ему ни стоило. Она вопросительно вскинула брови.
– Мы не знакомы, меня зовут Алек. А ты, стало быть…
– Да-да. Именно она. Чего тебе надо?
– Когда ты придешь?
– Скоро, – слегка раздраженно ответила Удача, высвобождая руку. – Не оставляй надежду.
Квинтэссенция меня
Сейчас уже и не вспомнить, как так получилось, что я крепко сел на мель. Пошел на принцип, а оказался совсем в другом месте. Деньги кончились намного быстрее, чем я успел с ними попрощаться. Осталась какая-то мелочь, так, на сигареты, и немного денег на Интернет-счете. Я не работал. Денег ждать – абсолютно неоткуда. Отец – в отъезде, да я и не попросил бы у него, мать – этажом ниже, но обратиться к ней я не мог, приятели – по дачам-югам. И вообще: август на дворе, какие деньги?
Но я не отчаивался. У меня был небольшой мешок полусгнившей картошки, чай, сахар и пол-литровая банка варенья – настолько старая и невнятная, что я так и не разгадал, из чего оно (варенье) было сделано и являлось ли вареньем вообще. Этого набора вполне хватало.
Утром я выходил в Интернет и просматривал свежие объявления. Искал, что можно быстро купить-перепродать. Пару раз что-то получилось. А потом… потом и деньги кончились, и Интернет. Одновременно. Патовая ситуация.
Запасов хватило на три дня. Кончилась картошка – вот это в самом деле сильно меня расстроило. Спустя еще два дня пришлось проделывать шилом в ремне новую дырочку.
Я сдал залежи пивных бутылок. Купил хлеба и несколько пачек самых дешевых папирос. Хлеб – таял, несмотря на норму в полбуханки на день. Я отщипывал его такими кусочками, какие обычно смахивают со стола, аккуратно клал на язык и представлял себе поле ржи.
По полю непременно пробегала «волна» от небольшого ветерка. И – светило солнце. Как в кино. Светило так ярко, что я щурился, даже поставив ладонь «козырьком». А рожь… рожь росла и впитывала эту чистую энергию звезд, космоса, какие-то там минералы из земли, накапливая в себе, концентрируя. Рожь наливалась. Огро-о-омные колосья ржи. А потом ее срезали, мололи, везли, утрясали, пекли и… и… вот я ее ем.
«Это же прорва энергии! – словно уговаривая, шептал я самому себе. – Калории, джоули, даже килоджоули – и все это дерьмо сейчас в тебе. Энергия звезд! Эта… энтропия! Растет! Чувствуешь?» Я пожимал плечами.
А потом хлеб кончился. И я курил. Курил на завтрак, на обед и на ужин. Дым недвижимо висел в комнате. Странного сиреневого цвета. Густой, как кисель. Я уходил, возвращался, а он так и висел, уступая место лишь новым облакам дыма.
Так прошла неделя. Я чувствовал себя отлично. Намного лучше, чем раньше. Есть уже не хотелось.
Я спал по шестнадцать часов. Вставал, пил чай, курил и выходил на улицу. Садился на скамейку и глазел на прохожих. Последние августовские комары пытались что-то из меня высосать. Я улыбался им и подставлял бледные руки.
Мир вокруг меня покачивался, играл тенями, красками и полутонами. Казалось, он сшит из кусочков, как стеганое одеяло, или сложен как мозаика, и иногда что-то в этой картине складывается неправильно, наперекосяк; какая-то несуществующая тень или деталь – что-то было не так.
Я вздрагивал, напрягал глаза, но так ничего и не смог увидеть.
Мимо проходили люди. Я удивлялся их глупости. Зачем – вот так? Зачем куда-то идти, спешить или не спешить, но – все равно, зачем это все, если можно – как я – посидеть на скамейке, покурить, потом пойти домой, снова покурить, выпить холодной воды из чайника и лечь спать, не найдя в себе сил раздеться и заснуть, заснуть – сразу, на полпути, моментально, выключиться, распасться, рассыпаться на миллионы миллионов атомов?
Это действительно удивляло меня.
Отсутствие чувства голода не удивляло. Я воспринял это как должное, как некую награду за выдержку и спокойствие. Или как плату за то, что утратил ориентацию во времени. Дни сливались, перетекали друг в друга, собирались во что-то одно, как собираются капельки ртути.
Я ни о чем не думал. Думал кто-то внутри меня. Он говорил мне: «Не уходи далеко от дома, тебе не хватит сил вернуться». Я не уходил. Или: «Не поднимайся так быстро по лестнице, остановись, передохни». Я слушался. Кажется, я был ему благодарен за это. Потом. Когда-то много позже. Тогда – будущего не существовало. Прошлое – воспринималось как фильм, в который я попал случайно, по недогляду.
Настоящее?.. В настоящем настоящем в один из дней я решил назавтра не вставать вовсе.
Мой план расстроил приятель из разряда безнадежно бывших, мигом привнесший в мой вечерний моцион помимо запаха дорогих сигарет и вина острый запах охоты. Пару лет назад я оказал ему какую-то очень важную услугу. Может, не особо и большую, но именно тогда очень для него важную. Благодарности в ответ – не дождался.
Приятель был при деньгах; он жаждал попозерствовать, «порисоваться», сыграть в театр одного актера, но отсутствие публики в городе его удручало.
Я сыграл публику на все сто. Специально. На заказ. А потом, беззастенчиво, как равный у равного, попросил в долг круглую сумму. Мы оба прекрасно понимали, что долг этот – изначально невозвращаемый.
Он мысленно попрощался с этими деньгами и демонстративно раскрыл пухлый бумажник. Четыре бумажки как голуби выпорхнули из толстой пачки и исчезли в моем кармане. Так быстро, словно ничего и не было.
Мы разошлись не попрощавшись.
По пути домой я старался не думать о деньгах и о том, как их потратить. Я хотел пойти в магазин ночью. Пустой магазин без покупателей. Никто не должен был мешать мне или отвлекать. Этой ночью магазин обязан был быть моим и только моим. Все витрины, прилавки, полки и холодильники. Кирпичи буханок, грозди сосисок, плотные ряды банок и пирамиды овощей. Килограммы, десятки и пары, граммы, взятые на глазок. В пакетах, фасовке, вакуумных упаковках, завернутые в пищевую пленку, насыпанные россыпью и в навал.
Дома я впервые за несколько дней посмотрелся в зеркало. Я уже знал: дальше все будет хорошо, и позволил себе улыбнуться. Отражение в ответ улыбнулось как-то вяло и неубедительно. Так улыбаются недотепам, наступающим тебе на ноги: мол, «ничего страшного, пройдет».
Как художник подписывает полотно, я вывел пальцем в нижнем углу зеркала две невидимые буквы авторства и названия этой живой картины одновременно: К. М.
Сноски
1
Эко сердчико, да эко бедное мое, Полно, сердчико, да во мне ныть и занывать. Ой да моему сердчику спокою не видать. Што болит-шумит моя буйная голова. Не глядят на свет веселые глаза, Днем не видят с неба солнечных лучей. Да што из лучей-лучей поднимается туман, Из тумана частый мелкий дождь идет. Он прибил, присмочил всю зеленую траву. Шелкова трава стала сохнути, Лазуревы цветочки стали вянуть-опадать. Сено косила красна девица-душа. Сенокос девке на ум-разум нейдет, Полотняная рубашка к телу льнет. По прокосику-то молодец идет. Он идет, идет, да за собой коня ведет. Он ведет, ведет да «Бог помощь» подает: «Бог помощь тебе, девица-душа!» Не берет у девки новая коса, Шелкова не валится трава. (обратно)2
И первый из них – самый бесхитростный: высокого мужика прозовут Полтора, а худую девушку – Косточка, мужику сильному и грозному навесят суффикс, и так Степан станет Степурой. Второй способ дополняет первый: человека пространственно-выразительного, а проще говоря – толстого, прозовут Беспопиком, а невысокого – Верстой. Третий способ едва ли более надуман, чем первый, ведь место работы здесь меняют чуть чаще внешности, то есть почти никогда: Ваня Холодильник, Вова Лесобаза и Нюра Аптека тому свидетели. Четвертый способ подходит в том редком и печальном случае, когда прозвище надо дать человеку ничем не примечательному: так Юрка Никифоров стал Гагариным только лишь потому, что он Юрий. Пятым способом прозвища достаются близким и потомкам: Харитониха – жена Харитона, а Сралёвна – Сраля, Степурята – дети Степуры, Степурёнок его внук, а Степурёнков – правнук. Получить прозвище шестым способом можно за, казалось бы, ерунду. Тут тебе и Миша Блин, и Петя Радио, и Толик Кипитюля, что кипятильником часто пользовался, и Боша, выговаривающий так слово «ложка», и Ваня Ненял («Не могу»), что в войну подростком пошел с женщинами на сенокос и уже к обеду свалился в траву, повторяя: «Ненял я, бабоньки, ненял».
(обратно)3
Собаку звали Тайбола, и это был пятимесячный щенок той неопределимой компилятивной породы, что часто еще встречается в северных деревнях. Летом Мишин дед первый раз возьмет Тайболу на охоту, и она не поднесёт подстреленную белку, а станет подгрызать её, балуясь и вскидывая морду. В тот день дед вернется из леса один.
(обратно)4
О блинах Харитонихи ходили легенды. Все хорошее, что только можно сказать о еде, – было в них. Они таяли во рту, они оставляли волшебное послевкусие, их аромат рвал ноздри и вытягивал шею едока. После этих блинов хотелось жить и умереть одновременно. Харитониха грозилась унести секрет в могилу, но всё же открылась невестке: в тесто она добавляла всё недоеденное за прошлые дни: прокисшие щи, заветренную вареную картошку, надкусанные соленые огурцы, забродившее варенье; а в общем-то – всё; и всё то нехитрое, что могло остаться на деревенском столе, раз-другой да и побывало в чудовищных этих блинах.
(обратно)5
Невинная угроза – не более чем, хоть батог и стоял за дверью. Слово и жест были главным оружием Харитонихи. Из любой ссоры с мужем она выходила победителем одним лишь жестом, легким движением руки. Кривым пальцем Харитониха указывала на старую холщовую сумку, висящую на гвозде. Муж её, Харитон, был из бедной семьи и «ушел в животы» – жить в дом невесты. Прямо «животников» никогда не осуждали – бывает всякое, но и забыть не давали, и ранка эта теребилась легко и без зазрений. А особливо – когда требовался аргумент, крыть который нечем и никак.
(обратно)6
Хорошим тоном считалось прочитать текст на листке полностью и вслух: со временем восхода и захода солнца, с долготой дня и фазой луны, с памятными датами и событиями, с числом под знаком минус – сколько дней прошло с начала года и с числом под знаком плюс – сколько осталось до нового, а потом с обратной стороны – полезные советы, рецепты блюд, заметку о советском характере или загадки народов СССР с отгадками тут же, внизу.
(обратно)7
Потом он проверит «Крута гора, да быстро забывается» – это будет просто, и получится 15 минут, и «Не научи, да по миру пусти – дак хер не кусочки», что окажется много сложней, и даже «К холодной печи никто не ездит» как-то проверится само собой, благо холодных печей, нетопленных годами, здесь будет всё больше и больше. «Вот, – догадается некто, – Миша Блин – это и есть Правоплосское, плоть от плоти, соль и сухой остаток. Чудной и взбалмошный, не от мира сего. Не то застрявший в эпохе, не то выпавший между двух». С этим можно спорить. А можно нет.
(обратно)


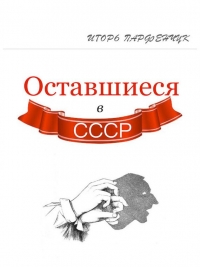


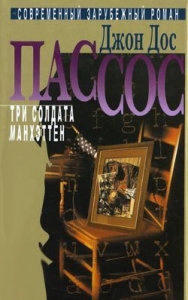




Комментарии к книге «Места не столь населенные», Моше Шанин
Всего 0 комментариев