Ольга Приходченко Лестница грез (Одесситки)
Внучке Анне посвящаю
Ещё раз здравствуйте, уважаемые читатели!
Спасибо, что вы немного потратились и приобрели эту книгу. Смею предположить, не случайно, а потому, что прочли мою первую книгу «Одесситки». Эта – ее продолжение, и в ней прослеживаются судьбы моих героинь, замечательных женщин Одессы, бывшей южной столицы Российской Империи.
Сам владыка морей и океанов в уютном уголке самого синего в мире Чёрного моря с любовью выплеснул на берег ракушку, которая разогрелась на солнышке и раскрылась. А в ней оказалась белоснежная жемчужина, необыкновенной красоты город мечты, Одесса! Моя родная Одесса, мой город-герой, к которому с моря ведёт «Лестница грёз»!
Ольга ПриходченкоКомната в углу в конце коридора
Пир на Весь мир
Моя подружка Лилька Гуревич, похоже, влюбилась в моего дядю Лёню. При разнице-то в возрасте почти в двадцать лет. В моей голове это никак не укладывалось. Такой старый хрыч, не представляю, как он может вообще даже взрослым тёткам нравиться. Он всегда такой злющий и неприветливый, «ещё тот характерец, дальше некуда», как говорит его мама, моя бабка. Ей-то лучше его знать. Всё-таки служба в милиции накладывает отпечаток на людей, особенно таких красавчиков мужчин.
Девки в молодости ему прохода не давали, а теперь что им всем в нём нравится? Я, конечно, тут же выболтала всю его красочную подноготную. Ну, чтобы хоть немного охладить Лилькин девичий пыл. Так нет же, куда там, по-моему ещё больше подлила масла в огонь. Последний козырь даже не пожалела, обрисовала нравственный уровень своего родственничка. Рассказала, как, живя в коммунальной квартире с молодой, пусть даже деревенской, женой с грудным ребёночком, он захаживал к соседке-художнице. Она жила с матерью. Всё было бы покрыто тайной, кабы у художницы не стал проявляться талант молодого перспективного опера в виде кругленького животика впереди. Эти художницы – что молодая, что старая – не давали ему прохода, называя обыкновенное неприкрытое блудовство большой и чистой любовью. Но они недооценили Ленькину мамашу, то есть мою бабку. Наша бабка сразу приняла экстренные меры по сохранению семьи и в один момент прибрала своего нашкодившего сыночка под своё крылышко к нам на Коганку. Обменяла его такую прекрасную комнату в доме Гаевского, с двумя окнами, выходящими на Соборную площадь, на малюсенькую клетку с печным отоплением и со всеми удобствами во дворе, да ещё не просто на Коганке, а в самом «Бомонде». Хуже, чем у Горького «На дне». Ужасней ничего и представить при нормальных мозгах невозможно. Зато дамы художницы потерпели полное фиаско. Семью удалось сохранить.
Однако недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, как поётся в одесской песенке. Наш Ленчик взялся за ум и пошёл в вечернюю школу доучиваться. Видно, все науки полюбил так сильно, что дома почти не появлялся. Бабка устраивала ему засады в доме Гаевского. Пока они с его женой Гандзей караулили моего драгоценного дядю-ловеласа по очереди на углу Дерибасовской и Советской Армии, он благополучно проводил время рядом со своим рабочим местом, 8-м отделением милиции. Пристроился к продавщице из универмага, подцепив её за соседней партой. В общем, доучивался. А койко-место предоставила им уборщица из магазина, очкастая Дорка.
И опять – сколько веревочке ни виться… В собственный день рождения, обманув жену, что у него дежурство, кто-то там заболел, он расцеловался со всеми и был таков. Служба на первом месте. Жене его Гандзе дома не сиделось; в новом крепдешиновом платье, чтобы праздничный вечер не пропадал зазря, решила с сыном прогуляться. И нарвался Лёнечка на собственную жену с дитем, выгуливая в свой день рождения по городскому саду новую, благоухающую духами «Красная Москва» пассию. И запах модного одеколона шипра от мужа так ударил бедной Гандзе в нос, что она, бросив ревущего двухлетнего Олежку, вцепилась этой расфуфыренной работнице прилавка в патлы. Молодой опер ничего лучшего не придумал, как подхватил сына и мигом дал с ним дёру. Оставив на поле боя обеих своих дам. Те, не стесняясь, бились насмерть. Так бы и продолжали, тем более что обе прошли хорошую школу мужества во время войны, но подоспевший наряд милиции увёз отчаянных соперниц в отделение, конечно, в 8-е, оно рядом. Продавщицу признав в ней сразу свою, быстро отпустили. А Ленину жену долго успокаивали, пока не появился сам виновник торжества. И под личным конвоем, ночью, чтоб никто не видел, получая оплеухи, он плёлся, как побитая собака, домой.
Разбитый горшок, как ни склеивайте, новым не станет. Что только ни вытворяла бабка, как ни боролась за него жена – сражение было проиграно. Брошенную Гандзю с сыном тогда Федюнчик из «Бомонда», из того, что на горьковское дно похож, спас. Говорят, она крушила всё подряд, а Федюнчик её со своей Лизкой связали и холодной водой обливали. Побежали за дедом, но тот, как всегда, был на вахте, на своей барже в Ильичевском порту. Маме моей (старшей Лениной сестре) успокоить рассвирепевшую Гандзю тоже не удалось.
Мы с Алкой, конечно, не спали, как тут уснёшь. Олежка ревел на весь двор, мама с бабушкой пошли за ним, а потом, уже под утро, сели пить чай на кухне и шептались, но мы всё слышали. Бабка корила себя: знала же, что этим весь Ленькин скоропалительный брак закончится. Сколько умоляла сыночка дорогого, причитала она, как-нибудь, по-хорошему расстанься с девушкой. Он ни за что: я слово дал жениться. Бил себя в грудь: мама, её и так судьба обидела. Пойми меня: не могу её бросить, она столько натерпелась за войну. Их, девчонок, гнали как скот, хуже скота, пешком в Германию босиком. Ноги у неё нарывали, идти дальше не могла, так её какому-то лояльному немцам пану поляку, как рабыню, как скот, оставили. А остальных девчонок и её сестёр из деревни Ильинцы погнали дальше. У неё на спине такие рубцы от панских вожжей, в палец толщиной. Она на речке платье стесняется снять.
Ленька присел на кровать возле матери, положил ей руку на плечо, крепко прижал к себе, пристально уставился на нее, пытаясь найти сочувствие.
– В общем, мать, мы решили пожениться, – хриплым голосом произнес он, – если вы с отцом не придете на свадьбу вместо вас десять солдат за стол посажу.
Тогда, когда женился на Гандзе, совесть не позволила её обидеть, так сейчас сполна досталось. И еще ему – на кровати у бабки сопел мой маленький двоюродный братик. В доме только и слышалось: не случилось с художницей, так подвернулась продавщица. Отбили бы от продавщицы, появилась бы следующая жертва. Красивый он у нас, Ленька, и добрый, бабы устоять не могут, сами на шею вешаются.
Кончилось тем, что сохранить молодую семью не удалось. Бабка плюнула, сдалась, махнул рукой и дед. Гандзя с малышом остались на их плечах, а по большому счёту – моей мамы. Она, по сути, тянута всю семью на своём горбу, круглые сутки пропадала в своей мясоконтрольной станции, света белого не видела, зарабатывая копейки. Мы с сестрой помочь ей ничем не мог ли: я – школьница, Алка – студентка. А ведь еще был довесочек, негаданное Ленчика наследство – маленькая дочь художницы. Ленька ее не признавал.
Сначала обесчещенная со своей мамашей пытались призвать нашего охочего до женщин шалуна к ответу, но барышня жила в коммуналке и, видно, до Ленчика у неё бывали кавалеры. Соседи, народ «доброжелательный, отзывчивый», охотно нарассказывали, что было и чего не было. Так что мечту выйти замуж за опера-гуляку они похоронили навсегда. Но сердобольная моя мама… Как ей было отказаться от новоиспеченной родственницы. Она увидела сходство в крошке со своим любимым бра тиком Лёнькой и выделяла семье художниц пай – пару кило мяса, те регулярно, раз в неделю, нарисовывались за ними на маминой работе.
Может, и затянула я с этой душещипательной историей. Пусть Лилька Гуревич знает все, думала, это отрезвит мою подружку. Надежды были напрасны. Лилька заставила меня завернуть на чаёк к моему родственничку, теперь уже майору милиции Леониду Павловичу и его беспредельно гостеприимной жене Жанночке, той самой бывшей продавщице, того самого знаменитого в былые времена одесского универмага.
Жанночка радостно всплеснула ручками, стала приглашать к столу. Но я сдерживала ее пыл: не суетись, мы только на минуточку, в туалет приперло, на Дерибасовскую тащиться неохота, а больше нигде нет, до Фонтана «добро» не довезём. Из спальни вырулил Леонид Павлович собственной персоной, тоже попить чайку. Кончилось тем, что мы дружно впятером с их маленьким сынишкой Валерочкой прекрасно отобедали. Дядька с тёткой опрокину ли пару стопочек водки, нам тоже перепало по бокалу хорошего красного вина «Изабеллы». Леонид Павлович сразу взбодрился, делал нам комплименты, особенно Лильке. Рассказывал всякие небылицы, анекдоты, словом, был, что называется, в ударе. Зазывал в ванную похвастать своей фотоаппаратурой, её пошла смотреть Лилька.
А у меня Жанночка выпытывала, как дела, как там Олежка, Гандзя смирилась или по-прежнему буянит. В общем, старалась прознать про все наши «тайны мадридского двора». Просила, чтобы хотя бы мы с мамой обязательно пришли к ним в гости на Лёнечкин день рождения. Бабка не пойдет точно, она до сих пор была верна своему слову: Жанку как невестку не признавать. Лёнька, если и заезжал иногда навестить мать, то только один. Бабка давно от этого сама страдала, но железный характер не позволял ей изменить раз и навсегда принятое решение. Да и как это сделать? У нас дома могут быть, как назло, Олежка с Гандзей. Вдруг Ленька припрется с Жанночкой, тогда столкнутся две жены, одна брошенная официальная, а другая гражданская, и что – скандал, ругань? К черту.
Но пора уводить Лильку от греха подальше, а то еще потянет Леньку на свежачок. И так предостаточно подвигов. У подруги на лице выражение обиженной девочки, даже заикаться перестала. Морда ярко-пунцовая; как необъезженная кобылица, ржёт от каждой глупой и древней остроты моего родственничка. Жанночка, вроде бы ко всему давно привыкшая, несколько раз бросила осуждающий взгляд на мужа. Но старый мерин сдаваться не собирался, напросился проводить нас до остановки со своей собачкой, королевским пинчером Джимиком. Жанночка быстро раскусила маневр – факир был пьян, и фокус не удался. Она подхватила мусорное ведро, и мы все вместе дружно покинули гостеприимный дом. Они посадили нас в троллейбус на Пушкинской, и мы покатили на свой Фонтан, который, вопреки песне, никогда не покрывался черёмухой, как поёт всю свою жизнь знаменитый Утёсов. Это растение только, по-моему, в этой песне и сохранилось, тем, наверное, и греет наши души. Мы с Лилькой, чуть-чуть подшофе, мурлыкали эту песенку себе под нос.
Если бы только знал мой дядька, старый ловелас, какое впечатление он произвёл на мою подругу! Она как будто бы помешалась. Несла, что сама признается ему в любви. Сама предложит себя в любом качестве, ей всё равно, будь что будет. Был бы это какой-нибудь чужой человек, я, может быть, и поприкалывалась над сумасбродными чувствами своей подружки. Но это мой родной дядька. Я-то хорошо его знаю, он через минуту, как нас проводил, даже думать забыл о какой-то молокососке Лильке. А подругу не остановить в её фантазиях. Все мои увещевания: и что у него этих любовей воз и маленькая тележка в придачу и что он ей совсем даже по возрасту не подходит, и что он только посмеётся над ней, были для Лильки пустым звуком. Всё бесполезно. Она до того обезумела, что обо всем, дурочка, растрезвонила собственной маме.
Я это поняла через несколько дней. Мы с Лилькой якобы смотрели телевизор, и как только мама её выходила на кухню, продолжали перепалку. Все это мне порядком надоело. Я уже и не рада была, что потащила ее к дядьке. Что она возомнила о себе? Он-то, старый бабник, даже представить себе не мог, что его гостеприимство обернется таким скандалом. Рита Евсеевна, занося нам поднос с чаем, чуть ли не заорала, что, мол, напрасно я считаю Леонида Павловича старым пердуном, ему ведь и сорока лет нет. Он мужчина в самом соку и вправе сам решать свою дальнейшую жизнь. Она лично как мать только приветствует чувства своей дочери.
Вот тебе раз, такого оборота я не ожидала. Ну, ладно, пусть Лилька, экзальтированная семнадцатилетняя барышня, с ума от нечего делать сходит, но видавшая виды Рита Евсеевна? Нет чтобы остановить взбалмошное дитя, так она ещё решила её поддержать в этом позорном мероприятии. «Мой Кива, – укоряя меня своим взглядом, промолвила она, – тоже был меня старше, и что? Это прекрасно для брака, когда муж старше».
Так, всё с вами ясно, надо линять отсюда по-быстрому, пока дом не взорвался писклявыми визгами и воплями. Еще одну можно было вытерпеть, но двоих… Подсуропила я своему и так невезучему дядьке ещё один «цурез». Еле сдержалась, чтобы не сказать этим двум неряхам, что чистоплюя Лёньку вырвет, если он, не дай бог, попадёт в их комнату с ползающими тараканами и гнёздами клопов в электрических розетках, о пыли и запахах и говорить нечего. На дружбу с Лилькой надо хоть временно, но наложить вето. Пусть перебесится, потом посмотрим. Сама она к нему домой, надеюсь, ума хватит, не попрётся и на работу не сунется. Хотя как знать. Вот характер настойчивый, вот так Лилька! Чтобы я призналась маме или Алке в каких-то своих страданиях… Да ни в жизнь! Сколько бы насмешек поимела на свою голову. В нашем доме слово любовь начисто отсутствует. Любовью страдают одноклеточные, когда спариваются, так постоянно повторяет моя сестра. Лильку на всякий случай предупредила, чтобы у нас в доме она не вздумала свистеть о Лёньке. Иначе бабка её выбросит с балкона второго этажа. Бабку мою она побаивалась, и мое предупреждение возымело своё действие. Временно Лилька перестала к нам приходить, наверное, обиделась. Ничего, перебесилась, поумнела, теперь сама посмеивается. Но всё равно он продолжает ей нравиться. Меня не проведёшь. Сама уже чуть не влипла в подобное приключение. Не знаю, почему мне вдруг вспомнилась эта далёкая история. Но больше к своему родственничку своих подружек не таскаю.
30 сентября у Пелагеи Борисовны, моей дорогой и горячо обожаемой бабуленьки, день рождения. Это как раз приходится на «Веру Надежду Любовь и мать их Софью». И все, как один, пытают, почему родители не назвали её одним из этих имён. Почему-то бабка всегда нервно реагирует, пожимает плечами: «На тот свет попадете – спросите их сами». После такого ответа никто об этом больше не заикается. Она у нас вообще любитель дать от ворот поворот.
Особо мы никогда бабушкин день рождения не празднуем. В лучшем случае придёт её племянник дядя Боря с женой, привезут какие-то фрукты со своего участка в Колиндорово. Но Пелагея Борисовна ждёт Ленечку, сыночка единственного. Заранее, несколько дней, готовится: рыбку нафарширует, любимых котлеток своему сыночку нажарит и, конечно, икры баклажанной по своему рецепту, без каких-то новомодных наворотов. А то до чего додумались нынче «лэи» ленивые: вместо того чтобы синенькие с перцем запечь, как положено, чтобы от них дымком пахло, они их отваривают, да ещё в мясорубке прокрутят. А положено секачкой всё порубить, тогда и масло наверх в икре не поднимается. Вот и получается у лентяек не икра, а слякоть овощная какая-то. Если бы такую икру поставила она перед своим покойным мужем, то полетела бы эта икра вместе с миской на пол. Это в лучшем случае, а в худшем – может, и повыше, в лицо. Скор был покойник на расправу. До сих пор ощущаю боль в позвоночнике после его ударов (так он меня, ребенка, воспитывал за баловство), а ведь сколько лет минуло. Хорошо, что в день бабкиного праздника он часто нес вахту. Подменял сослуживцев: видите ли, у их жён дни рождения, а у твоей разве нет? Объяснял: «Поля, пойми, если оставлю их на судне, они всё равно выпьют, начудят чего, а мне отвечать. А так мне спокойнее. Мы с тобой в другой день отметим, ладно?»
Этот другой день в её жизни так и не наступал. Тихонько бабушка всплакнёт, и жизнь дальше покатится. Всё равно ничего изменить она не могла. Если и бегает где-то на сторону, то умеет скрывать. Ленька, паразит, в него уродился. Дед ведь очень женщинам нравился, высокий, интересный, представительный. А после этой проклятой войны бабы как с ума все посходили, окончательно «сказились», как говорят в Одессе, сами на шею мужикам вешаются. Стыдоба. Или судьба жестокая такая – у многих ведь мужья не вернулись, одним тяжело выкарабкиваться.
И сегодня напрасно она так готовилась, сыночек Ленька заскочил, но всего на пару минут, ему всегда некогда, когда он к ней заходит. Сунул пакетик с традиционным подарком, который приготовила ненавистная разлучница Жанка. Только её одну бабка винила, что сын от матери так отдалился. Даже прохладную водочку, настоянную на лимоне, не выпил и есть не стал. С дуру буркнул, что ещё нужно на 16-ю станцию Большого Фонтана заскочить по дороге, и вообще сегодня всю ночь придётся дежурить. Назавтра у него самого день рождения, пригласил бы мать к себе, бабушка ждала. Да какой там. Забыл или специально не захотел разбавлять компанию? Будут там веселиться все его друзья – родная мать может помешать. Ну и сволочь ты, дядюшка. Бабушка присела на кухне на табурет, машинально развернула свёрток с подарком сына. Могла и не разворачивать, и так знала наперёд, что в пакете. Каждый год один и тот же набор: темно синего цвета трико и пара простых чулок в резиночку. Бабка разрыдалась, уткнувшись лицом в сыновний подарок.
К вечеру объявились племянник с женой, они тоже спешили. Быстро перекусили и дальше в другие гости поехали. Только поздно вечером мы сами сели ужинать на кухне, поздравили бабку каждый из нас подарил ей наши скромные подарочки. Алка купила ей новый платок на голову и халат байковый, мама – тёплые тапочки, а я флакончик духов «8-е марта» и новую грелку, старая уж сильно текла. О завтрашнем дне рождения Лёньки никто даже не заикался. Только мама поинтересовалась, когда я завтра выберусь к ней на работу. По предварительному тайному уговору скрывая от бабки, что мы-то сами к Леньке, конечно, наведаемся, я стала канючить, что попозже, к концу работы, днем у меня какие-то дела. Мама также приврала, что сегодня к вечеру большой привоз был и, похоже, завтра придётся туши переваривать – возни невпроворот.
– Так, начинается, знаешь, мама, я с тобой до ночи сидеть не собираюсь, – разыгрывали мы с мамой перед бабкой спектакль. Но она никак не прореагировала и ушла в спальню. Наверное, все-таки догадывалась, что мы ее обманываем.
– Мама, бабка, думаю, поняла! Что делать?
– А ничего, это её дело. Сама не хочет с сыном общаться и с его новой женой, вот и получает. Ты, Олька, завтра прямо к Лёньке поезжай, а я попозже приду, как управлюсь.
На радостях я маму в щёчку чмокнула. Завтра я свободна как вольная птица. Целый день, по бабкиному выражению, валяла валанду. Что это значит, не вдавалась в подробности. Так, догадывалась, что примерно то же, что валять дурака. Обложилась книжками и журналами, на чем-то останавливалась, если было интересно или фотографии красивые, другие просто перелистывала. Ворочалась с боку на бок на своём кресле-кровати, если сильно затекали руки и начинала ныть спина. Бабка молча терпела моё бездельничание, а потом взорвалась: «Так и лежать будешь, а к Аньке не собираешься? Она же тебя ждёт. У тебя совесть есть? Или ты её всю прогуляла?»
Самый момент рвать когти, иначе достанет до самых печёнок, да и на руку мне сейчас ее окрик. А вообще почему-то вечно так: меня к стенке с контролем и вопросами, куда, чего, с кем и надолго ли? Подавай полный отчёт. А к сестре Алке никаких вопросов. Меня воспитывает, а ее боится. Та утром понеслась, даже не ставит в известность. Произносит два слова: я пошла – и всё. Она пошла и с приветом, а мне приходится выкручиваться, постоянно что-то придумывать или откровенно врать.
Но сегодня заговор против бабки, тайны нашего двора. Если я сейчас попрусь из дома, где столько времени околачиваться? Может, пораньше к Лёньке зарулить, поздравить и слинять. Так, нужно успеть Рогатую поймать, еще одну мою закадышную подругу Галю Рогачко и сговориться. Вдруг у неё какие-то планы, или она уже с кем-то договорилась. Она у меня девушка шустрая.
Десять минут – и марафет на морде готов, одно название, что марафет. Пару раз плюнуть в коробочку с ленинградской тушью и самой бледной помадой смазать губы. Больше никакая косметика мне не требуется, да и, по правде, мне бы и не разрешили. Бабка только и тошнит, что мне больше идёт не пользоваться никакой краской. Все девчонки уже кремами мажутся, пудрой, даже новомодными дермаколами из-за прыщей, а у меня прыщи, благодаря стараниям бабки, вообще как таковые не водятся. Ещё пять минут – бросить что-нибудь на ходу из холодильника в топку-пузо, запить компотом и вперёд.
Нас ждут большие свершения; уже через полчаса я телемпаюсь в трамвае в центр города, с Куликова поля обожаю пешочком пройтись по Пушкинской улице. В конце сентября и весь октябрь погода стоит прекрасная. Платаны ещё во всей красе: их мощные кроны, сплетаясь между собой, образуют живописный свод над мостовой. Они ещё не обнажаются, не па дают листья, не сбрасывают стыдливо кору, как платья – девственницы. Какое странное дерево, вместо того чтобы защититься от холода и мороза, как другие, оно, наоборот, всё с себя скидывает, стоит всю зиму голенькое, и одесситы, конечно, в шутку называют их бесстыдницами. Вот только уж больно вороньё любит зимовать на них, о воробьях и говорить нечего. Уже все птицы прилетели с убранных подчистую полей и переселились в город. Зимой здесь теплее и сытнее для этой наглой и прожорливой оравы. Того и гляди пошлют привет с высоты прямо на голову, уже весь асфальт в их помёте.
Живущим на Пушкинской не позавидуешь, с утра и целый день вороньё каркает, такой гвалт стоит; даже на Привозе торговки так не орут, как эти небесные создания. Но и в этом есть что-то своё с детства знакомое, родное, особенно когда у тебя хорошее настроение. Я гордо вышагиваю по Пушкинской, на мне новый костюмчик, на ногах английские лодочки на шпильке, полный отпад. Ловлю на себе взгляды прохожих: да, смотрите, любуйтесь – это я!
И куда я несусь на такой крейсерской скорости? Ведь ещё совсем рано. Мама придёт к шести, не раньше. Вот и улица Чичерина, пора сворачивать, пойду-ка я к Лёньке пораньше. Меня тянет ко второй дядькиной жене Жанночке. Она такая приятная, свойская, всё понимает. Жалеет меня, знает, как мне дома достаётся, хотя я никогда не плачусь. Нет, на меня никто руку не поднимает, упаси боже, у меня самой рука дай бог каждому – на тренировалась в волейболе. Так иногда бабка запустит в меня веник или перетянет кухонным полотенцем, мама похуже может приложиться, особенно тапком по морде, но я стараюсь перехватить её руку ещё в прицеле. Вообще я стараюсь не нарушать в нашей семье раз и навсегда заведенные порядки, но не всегда это от меня одной зависит. Разве я виновата, что так отвратительно ходит этот 18-й трамвай? Часто к одиннадцати часам вечера домой вернуться не получается. Здесь и складывается тяжёлая морально-политическая обстановка, и такое у меня ощущение, что во всём виновата я. В чём я перед ними виновата? Не нужно было меня рожать. А может быть, я просто ревную маму к Алке.
Вот и квартира моего родного дядьки Лёни, по совместительству ещё и крёстного папы. Как только выпьет лишнего, так и вспоминает 1946 год, свои единственные галифе, которые я ему на тех крестинах подмочила, а он стоял не шелохнувшись перед попом и терпел, пока тёплая жидкость стекала по его рукам на гимнастёрку и ниже. А теперь посмотрите сюда, полюбуйтесь, что из этой засцыхи вымахало. А ну встань, когда взрослые к тебе обращаются! Все смеются, мне, конечно, неприятно, но и я теперь уже с юмором отношусь к его поведению. Видно, за этими событиями кроются в его воспоминаниях и более приятные вещи, только сказать он о них не может. Я лишь однажды у ловила их перекрёстный взгляд с моей мамой, его сестричкой, как они ухмыльнулись. А потом у обоих было долго приподнятое настроение. Вычислить, кто виновница этих воспоминаний, для меня теперь вовсе не сложно. На училась сопоставлять факты. Это, по всей видимости, моя крёстная тётя Эмма, которая до сих пор сохнет по моему дядьке. Подслушала я как-то ругань между бабкой и сыночком. Вечные её заморочки, связанные с религией:
– Не получилось у вас ничего, потому что божьи заповеди не признаёте. Как ты мог с Эмкой пойти крестить Ольку? Священник что вам сказал? Не слушал? Вот и тащишь свой крест, и жизнь твоя кубарем катится.
С тех пор ни тётя Эмма к нам домой не приходит, ни Лёнька её к себе не приглашает, хотя она и давно замужем, да и Лёнька не свободен. Пора заканчивать «Размышления у парадного подъезда», уже пришла.
Дверь в дядькину квартиру открыта, правда, не совсем, на цепочке. Оттуда слышатся голоса, и запахи убивают наповал. Пахнет всем сразу – и сдобой, и жареным мясом, ещё чем-то. Всё смешалось в одну сплошную вкуснятину. Из-за гвалта мой звонок не слышат, один Джимик, королевский пинчер, заливается, то просовывая свою мордочку в щёлочку двери, втягивая мокрым носиком воздух, аж присвистывая, то несясь по коридору к хозяйке на кухню: кто-то пожаловал в гости, а вы не открываете. Наконец дверь распахивается, радостный Джимик бросается ко мне, сейчас порвёт мои нейлоновые чулки, которые я впервые в этом сезоне напялила в честь именин. Чмок в щёчку и просьба выгулять несчастную собаку, а то она с утра ещё не гуляла, не до нее сейчас. Джимик, самый умный пёс всей улицы Ленина, как считают не только его хозяева, но и все жильцы их высокопоставленного милицейского дома, уже выскочил во двор, огласив округу своим радостным лаем: привет, я здесь!
И пошёл метить всю территорию подряд, не пропуская ни одного мало-мальского кустика или сорняка. По сравнению с его ростом они, наверное, кажутся ему великанами. Хоть и бегает в своём доме, но боится потеряться, меня всё время держит на виду. Подбежит к воротам и в упор смотрит на меня: разрешу ли на улицу выскочить?
Я разворачиваюсь в противоположную сторону, он нехотя чешет за мной, за тем обгоняет, устремляясь к другим воротам, может, там повезёт. Стоит перед ними, трусится от напряжения, а вдруг?.. Я не реагирую, мне уже на доело бессловесно общаться с этим проказником, он понимает, что пустой номер, с улицей ничего не выйдет, и бежит обратно в парадную, от злости поднимая задние лапки по очереди на каждой ступеньке. На моё замечание: «Джимик, ай-я-яй! И тебе не стыдно?» отвечает вызывающе, задирает лапу на втором этаже и дает мощную струю на перила. Я не выдерживаю: «Паразит, где в тебе умещается столько?»
Но и этого королевскому отпрыску показалось мало: сбегал на этаж выше и там еще всё обработал. Похоже, он мне отомстил: не хотела меня как следует прогулять, так получайте, я покажу, на что способен. Крик соседки на всю парадную: ах ты паразит, куда только смотрят твои хозяева? Вот я тебе за дам сейчас, засранец! И наш, действительно засранец, с визгом кубарем скатился по лестнице и опрометью забежал в квартиру дрожа и оглядываясь, как нашкодивший ребёнок.
Меня здесь же взяли в оборот. Пришлось поменять мой новенький костюмчик на старый Жанночкин халатик. За компанию сняла от греха подальше и чулочки, не ровён час любвеобильный Джимик мне их уделает. Жанночка предупредила, чтобы и туфли я без присмотра не оставляла, а то погрызёт подлец или помочится. «Такой шкодливый, спасу нет. Лёнечка его обожает, спит с ним на одной подушке. А этот гад, когда хочет пукнуть, разворачивается в мою сторону, пускает такой вонючий дух – хоть убегай. Вы себе такое представляете?»
Возмущению двух подружек, помогающих хозяйке на кухне, нет предела. Все они подружились семьями ещё когда жили на спуске Короленко. Так сказать, дружба, скреплённая трудными голодными послевоенными временами. Простые работницы, и мужья их тоже из рабочих, но закалённые нелегким детством и умеющие ценить добрые отношения. И сейчас, за много лет холода и голода, они исполняют свои многострадальные мечты: к разным праздникам много готовят блюд, накрывают сумасшедшие столы, соревнования устраивают между собой: у кого обильнее, разнообразнее и вкуснее. И пусть на стол уйдёт вся их зарплата, они могут наконец позволить себе такое пиршество.
А то, что Жанночка уже два года носит одну и ту же юбку из отреза, выданного мужу для пошива форменных брюк, это сущие пустяки. Главная мечта жизни осуществляется здесь и сейчас. Они ещё молоды, почти здоровы, у них есть семьи и собственная крыша над головой, и пришло их время веселиться, радоваться всему вокруг на всю ка тушку. Вот почему я люблю приходить в дом Жанночки и Лёньки, их радостное возбуждение предстоящего праздника передаётся и мне. Я сижу в уголке, снимаю шкурку с отварного картофеля, нарезаю его кубиками для винегрета и салата «оливье». А у самой ушки на макушке, мне очень интересно слушать их разговоры. Они не обращают на меня никакого внимания, только иногда дают совет, как правильно держать нож, чтобы не порезаться, и кубики картофеля должны быть одинаковой величины.
– Жанночка, а как там Дорка твоя поживает? – интересуется тётя Надя.
– Сегодня пожалует собственной персоной, спросите, – отвечает Жанна, не отрываясь от плиты. – Ой, девочки, я вам такое расскажу Нашу Дорку вызывали в военкомат. Она к Лёнечке постеснялась обратиться, звонит мне, вся в слезах, причитает, что это по Вовчика душу. У сына её же белый билет. Сообразила взять с собой его медицинскую карточку из поликлиники, а самого Вовчика не таскать туда, вообще ничего ему не говорить. Мало ли чего – загребут, а потом вытащи. Хотя, по мне, армия бы не помешала, вправили бы там этому поганцу мозги на место. А то воображения больше, чем соображения. Он же Дорку ни во что не ставит. После всего, как он ей достался. Мучается она с ним.
Женщины помолчали, повздыхали, переваривая только что услышанное. Чувствовалось, история рождения Вовчика, непростая судьба и жизнь Дорки им небезразлична, не приведи господь. Черт его знает, всякое могут пришить. Укрывательство сына от армии или, того хуже, раскопали, что она невестка белого морского офицера. Там же по мужниной линии ещё та семейка, Дорка знать не знала и духом не чуяла, кто такие Ерёмины на самом деле. А они, оказывается, династией все служили при царе на флоте. И не то погибли, не то после революции за кордон уплыли. А её свекровь Нина Андреевна с сыном, Доркиным мужем Витькой, здесь остались.
– Но она-то здесь при чём? – прервала молчание тетя Надя.
– Я тоже так думаю, но Дорка вся в панике была, разное в башку лезет. Кто его знает, может, её муж Витька сбежал к немцам во время войны. Он же числился без вести пропавшим. Да и свекровь посадили после войны не за красивые глаза, десятку влепили по 58-й. А здесь уже, выходит, и за Дорку взялись.
Жанна смолкла; попросив присмотреть за сковородкой, чтобы не пригорело, пошла в кладовку за перцем и луком. Подружки с нетерпением ждали ее возвращения:
– А дальше что, не тяни резину, что на самом деле приключилось?
– Придет, расспросите. Я и сама все не знаю. Она перезвонила, только и сообщила, что Витьку её нашли в каком-то окопе под Одессой, взводом он, что ли, командовал, там и погиб. Опознали по ножичку перочинному, что ему Ар кашка и Иван, друзья дворовые, до войны подарили, на нем гравировка была. Ивана вы должны помнить, даже его раскопали.
– Как раскопали, он же живой вернулся, всё к Дорке таскался, а после на Крайний Север завербовался? – испуганно выкрикнула тётя Надя.
– Я имею в виду – нашли, чтобы подтвердить тот самый ножичек. Аркашка же, их сосед по квартире, тоже погиб, почти в конце войны. Вот так всё сошлось. Да, еще Дорка сказала, что ей в военкомате Витькину медаль вручили, статью в газете напечатают, чтобы вся Одесса о нем узнала.
– Надо было Дорке сына с собой в военкомат взять. Ему бы приятно было. Отец не без вести пропавший, а геройски погибший, – размешивая крем, мотала головой тётя Надя.
– Кто ж его знал, зачем её вызывали.
– Ну, а Вовчик теперь как?
– Как, как! С ножичком отцовским не расстаётся. Он же отпетый биндюжник. Матерится ужас, в стиляги подался. От рук отбился, Дорке с ним не справиться. А что она может? Девчата, только если она придет, при ней ни звука. Ничего я вам не говорила. Захочет – сама вам расскажет, – умоляюще посмотрела на подруг Жанночка.
– А я бы на месте Вовчика послала этих сраных вояк к чертовой матери, ни за что не простила бы, – стукнула кулаком по столу тётя Надя. – Это ж надо, какие суки, двадцать лет не могли найти окопчик, какие-то дети наткнулись на него. Да они и не искали. Будто не знали, что мальчишек солдат бросили на верную погибель защищать Одессу, пока эвакуируют армию.
Они втроем еще долго обсуждали эту историю. Как Вовке простить, если все эти годы на нем было клеймо сына пропавшего без вести, а то и еще хуже – дезертира. Ему ни копейки пенсии не платили за отца, как другим, и Дорка ничего не получала.
– Господи, а сколько эта несчастная пенсия, курам на смех! – ещё с большим остервенением тёрла несчастный крем тётя Надя.
– Так дело не в деньгах. Куда с таким пятном в биографии сунешься? В работяги и то не везде примут, – наконец подала голос до того молчавшая тётя Люда.
– Девки, скоро гости подвалят, а мы тут с вами заболтались, – спохватилась Жанночка. И начался обычный в таких случаях аврал. Еще раз подсчитывали количество гостей, поход за недостающими стульями к соседям, передвижка столов, потом сервировка. Посуды хватало выше крыши, недаром же Жанночка несколько лет отработала в посудном отделе. Не могла устоять, всю зарплату на тарелочки и рюмочки спускала.
Сервировку стола она никому не доверяла. Носилась как угорелая с кухни в комнату. Никто из нас не мог угадать, куда какое блюдо надо поставить, чтоб лучше смотрелось, Уже и воткнуть некуда, а она, как фокусник, раздвигает кушанья, и еще и еще новые яства умещаются на её хлебосольном столе. Вот это стол, настоящий праздник живота, души и тела. Ещё немного, и кишки сами будут из нас вылазить и тянуться к этим, без всякого сомнения, кулинарным шедеврам. Пока Жанночка в очередной раз уносится на кухню, её подружки подмигивают мне, и мы потихоньку заглатываем по жареному пирожку. Он тает у меня во рту моментально, и проклятый желудок начинает орать что есть мочи. Жанночка смотрит на меня удивлённо: «Это у тебя так урчит? Что ж ты молчишь? Идём на кухню, я холодцом угощу с хренком, подкрепись, а пока гости придут, ещё раз проголодаться успеешь». Я не отнекиваюсь, наворачиваю всё подряд из мисочек, то, что не поместилось в парадных блюдах. Да не одна я, вся наша компания из четырех поварих утоляет голод; со смехом и шутками женщины еще выпили по паре рюмочек водки, мне налили компот. Мне так хорошо было с ними. Я мечтала, что придёт время, у меня будет обязательно большая семья, придёт куча гостей, и я тоже много-много наготовлю вкусненького.
– Жанка, хватит таскать, ну куда ещё, на столе места уже нэма. Да не открывай ты эти шпроты, такая дунайская селёдочка, пальчики оближешь, и тюлечка, ты даже косточки все повытаскивала. А то бы у них руки отсохли самим вытаскивать.
– От ты даёшь! Ты посмотри на неё, совсем сказилася, ещё печень трески тянет. Уж лучше бы с отварным яичком, зелёным лучком приправила, так побольше бы было. Какое расточительство! – не унималась тётя Нина.
– А мне для вас ничего не жалко, гулять так гулять, – лицо Жанночки расплылось в улыбке. – Здесь нас с Лёнечкой к генералу пригласили на званый ужин. Девки, так вы не поверите, ну точно как в басне. Этой – с лисой и журавлём. Всё малюсенькими бутербродиками, тонюсенько порезано, колбаска, сырок, правда, была буженина магазинная, ну прямо на один глоток. Все ж пришли с работы голодные, выпили, накинулись на ту закуску вмиг голые тарелки на столе. И самое главное – расхваливают хозяйку. А мне противно. Ну раз позвала людей, так прими, как следует. Два часа ждали гуся, запеченного в духовке. Так полусырым и давились. За то упились в усмерть. Жлекали коньяк заморский и всякие эти джины. Лёнька потом до утра рыгал.
– Ну и что генеральша?
– Та ей как с того сырого гуся вода. Сама поддала прилично и всё танцевала. Тыкала подчинённым хлопцам свои потные ручки с крашеными ногтями, чтобы целовали.
– И целовали?
– А как же, все как один, в очередь. А генерал? Так он в кабинете кемарил, сморился от непосильных трудов. И никакого стыда тебе, как будто так и надо. Когда уже уходить собрались, торт выставили заказной с кондитерской фабрики, шоколадный, здоровенный. На нем и отыгрались, весь уму ламурили, заодно с конфетами. Аж за ушами трещало, так молотили.
– Правильно, так и надо приглашать. За границей все так приглашают. Сначала выпивка без закуски, особо много так не выпьешь. Потом бутылки убирают, и вот эти фитюльки бутербродики разносят. С подноса сколько возьмешь – ну один, два, больше неудобно. Все продумано, чтобы лишнего не сожрали. А у нас как засядут, из-за стола не вытащить, вино глушат и лопают, глотку обдирают – и какой интерес? А тут музыка, танцы, ручки целуют, будет потом что вспомнить… – Откуда у тёти Люды познания заграничного стола всплыли, ведь нигде, кроме Одессы и еще, кажется, Херсона с Николаевым, не была? Она сама себе ручку поцеловала и сделала реверанс. Забавно выглядело, все дружно расхохотались.
– Жанка, а ну тикай от плиты, иди наводи марафет чтоб не хуже генеральши была, – продолжала звонко голосить тетя Люда. – И ногтики давай я тебе накрашу наверху и внизу.
Так хорошо на душе было. Самый настоящий праздник – любви и самоотдачи от чистого сердца.
Вдруг из ванной вылетает Жанночка, без хала та, в одной руке бигуди, в другой расческа:
– Девчата, совсем забыла, нужно в казанчике пожарить из творога с чесноком шарики.
– Какие ещё шарики, у тебя самой шарики за ролики заехали.
Раздался звонок, Джимик, как ни караулил дверь, а всё же пропустил самый ответственный в своей службе момент: не оповестил, что кто-то идет. Эх, Джимик, где твой нюх и особенный жизнерадостный лай? Собачка не виновата, отвлекли ее эти подружки, трещат без умолку, ничего не поймёшь, то ли радуются, то ли ссорятся. Голова устала вертеться из стороны в сторону а надо ведь ещё бегать хвостиком за каждой индивидуально, сопровождать почётным караулом по всей квартире, не упустить момент, когда они переносят эти волшебные тарелки, издающие такие умопомрачительные запахи. Несчастный пёсик страдает, давясь слюнями. Вся борода замокрела, глаза слезятся, и никому до него дела нет Даже его личное имущество, пустую мисочку, и ту под табурет ногой зашвырнули за ненадобностью. Хоть бы кто-то обратил внимание на его собачьи переживания.
Наконец пришла спасительница. Уж кто-кто, а эта Фроська всегда приносит ему сладкую косточку, всю в мясе, так что есть где отвести душу. Но сегодня и Фроська к Джимику равнодушна. Только и выпалила вместо приветствия, чтобы не вертелся под ногами, не до тебя, еле дотянула целую кошелку бутылок. И сразу в ванную нырнула, дверь за собой плотно прихлопнула. Джимик всё равно и за дверью чувствует, как она эту гадость разливает в фирменные бутылки с красивыми этикетками, Жанка заранее заготовила. Для бедного Джимика это не впервой, если бы кто знал, как ненавидит он этот запах, самый отвратительный из всех на свете. Его хозяева, как выпьют эту гадость, потом во сне храпят на всю квартиру Тогда ему приходится менять дислокацию в постели и перебираться с подушки поближе к ногам хозяина. Там тоже запашок не подарок, лучше всего устроиться поверх одеяла.
Нет, всё же есть запахи и похуже. Тот же нафталин. Это когда Жанночка достаёт из шкафа зимние вещи и просушивает их ближе к холодам, перед морозами. Этот запах начинает ощущаться сначала в парадной, а потом и от всех прохожих на улице. А совсем уж смертельный дух, когда хозяйка морит тараканов, противных рыжих прусаков. Но для Джимика это праздник, собачья радость. Тогда все покидают родное жильё и едут в гости далеко на Фонтан. Пса, естественно, берут с собой, и там для него полное раздолье. Можно быть целыми днями на у лице, не воняют и не шумят эти мерзкие машины. Только пугают его злые собаки из-за всех заборов. Но малыш Джимик тоже им не уступает, заливается на полную катушку. Пусть знают его, городского и породистого, спящего на хозяйской кровати. Не то что эти дворняги – вся жизнь на цепях в конуре, только и знают что охранять дворы и сады. Барбосы беспородные, служаки. А меня хозяева на руках носят, целуют, между прочим. Вот и сейчас пойду-ка я улягусь в спальню к себе на кровать, немного посплю, а то сморился что-то от этой суеты…
– Джим очка, а где моя любимая собачка? Ах, вот он мой родненький, тёпленький. А что я тебе принесла? – тётя Фрося гладила забившегося под подушку пинчера.
Вспомнила обо мне, опомнилась, не хочу с тобой общаться, так и знай. Джимик попытался отвернуть свою башку от её воняющей самогоном руки. Но тетя Фрося уже подхватили слабое тельце и прижала его клину пахнущему всем сразу – и пудрой, и помадой, и свежей краской для бровей, и ещё смесью одеколона с духами. От всей этой смеси Джимик расчихался, как астма тик. С трудом вырвался из цепких объятий, даже косточку выплюнул – она тоже пропиталась всеми этими ненавистными запахами. Кубарем, вверх тормашками Джимик скатился с кровати и даже, что редко с ним случается, зарычал на мучительницу.
– Ну, зараза неблагодарная, ещё кусаться удумал. Небось обожрался уже, так носом крутит, огрызается, – тётя Фрося почесала свою руку. – Засранец, больно прихватил.
В спальню дверь открылась, вошла Жанночка. Джимик бросился с лаем к хозяйке пожаловаться. Да не тут-то было.
– А ну пошёл отсюда! От шкодливый, ничего нельзя оставить даже на минуту. Всё платье моё вымял. Кто тебе в спальню дверь открыл? – возмущалась Жанночка.
Любимая хозяйка сегодня тоже его предала. Орёт на собачонку ни с того, ни с сего. И не гуляла с ним сегодня, нашла кому доверить такое серьёзное дело, как прогулка. Этой фифе противной. Он от ужаса глаза закрывает, когда его эта дылда высоченная поднимает своими руками с длиннющими когтями хищницы и за шкирку держит перед собой. Боится запачкаться или брезгует. И пахнет от нее, как от хозяина, табаком. К хозяйскому табаку Джимик притерпелся, у того запах хоть и сильный, но душистый – все-таки не хухры-мухры, а «Золотое руно». А у этой фифы табачок так себе, как у тех жлобов, которые каждый вечер во дворе козла забивают. Вонь сплошная. И вовсе она не гуляла со мной, а только под забором пряталась и сигаретой дымила. А я, дурачок, ждал. Думал, накурится и пройдёмся по улице, на людей посмотрим и себя покажу а она сразу домой завернула. У неё, между прочим, тоже собака есть, но так себе, беспородная. Она передала мне свой привет на её туфельках, да и юбочке. И не только она, а ещё и отвратительный вонючий кот. Я уже знаком с их запашками, хозяин их хоть и редко, но приносит с собой. И ещё одна фифочка, сестричка той, у нас живёт, когда мои законные хозяева отдыхать выезжают. Никогда меня к себе в кровать не берёт. Закрывает наглухо все двери, и остаётся мне только на коврике в прихожей ютиться. А я не простачок какой-то, а королевский пинчер, не какие-то ваши химины куры.
Никому я здесь не нужен, только и слышу: иди на место, пошёл на место, я кому сказала! А как тут пойдёшь на место, когда все закрыто. Только смог прорваться, так опять заработал по шее. Вот возьму и выйду сам на улицу, пусть понервничают. Будут впредь знать, как ко мне, преданнейшему из преданных, королевскому из королевских, относиться. Джимик опять занял выжидательную позицию у щёлочки входной двери. Хозяйка специально, что ли, дразнит меня. У неё такая манера: если что где увидит или в гостях попробует, а то и вовсе прослышит в нескончаемых одесских очередях, то обязательно запишет рецепт в свои разбухшие от них тетрадки и выдаст на праздничный стол как новенькое, необыкновенное. Другие женщины обычно так помешаны на нарядах, а наша Жанночка на своей кухне. И ведь ничего не скажешь, всё у неё получается, вкусно, красиво, с особым изыском, пальчики мои собачьи оближешь. Она никогда не экономит, всего горы – тортов, разной выпечки. Заставлены все окна, все шкафчики на кухне. В спальню на шкафы переехали вазы с фруктами, в ванной плавают херсонские арбузы в прохладной воде.
Забитый до отказа холодильник уже не отключается на перерыв, стонет и плачет, не в состоянии столько охлаждать продуктов в раскалённом помещении. Как назло и солнышко к вечеру разкочегарилось, и кухня, выходящая окном на запад, залилась праздничным сиянием. По одной расплавленные от жары и духоты да еще загнанные до изнемождения Жанкиным энтузиазмом потные помощницы стали выползать на спасительную лестничную клетку Жанночка одна осталась на боевом посту, но, наконец, и она сдалась: девочки, кажется, всё!
Все облегчённо вздохнули. Жанночку не осуждали, привыкли, такая их подруга от природы. Всех должна переплюнуть, костьми ляжет, но никто с ней не сравнится. Теперь самое время и мне смотаться на улицу. За компанию прихвачу-ка и Джимика. Но он что-то заартачился, мокрой бородой неприятно потерся о мою голую ногу Видно, жрать хочет, и я тоже. Только глазами повела в сторону кухни, как королевский пинчура совсем не по-королевски туда рванул между моими ногами. На столе в кастрюльке лежали пирожки с мясом. Я быстро в ротик себе и собачонке за ткнула по пирожку, и мы, не сговариваясь, рванули на воздух. Мне очень хотелось смотаться со двора подальше, но в таком виде… В драных старых тряпичных тапках на босу ногу и в линялом хала тике на три размера больше, с дыркой на самой груди… Я его почти два раза обмотала вокруг своего тела, поэтому сквозь дыру не просвечиваются комбинация и лифчик, но всё равно, вид ещё тот: на море и обратно. Джимик от меня не отходил ни на шаг, только как жонглёр в цирке ловил кусочки пирожка. Я только командовала: танцуй-танцуй, зарабатывай, пучеглазый карлик, на кусок хлеба насущного трудом, как другие. Крутись, крутись.
Потом мы с Джимиком немного побегали по детской площадке, посидели на лавочке. Я взяла его на колени, положила на спинку и почесала нежное пузико. Вот умора, от избытка чувств он лежал как тряпка, раскинув лапки, и мордочка его улыбалась от счастья. Ну вот, признал наконец меня. Хорошего понемножку, пора домой. Не хочется? Ладно, ещё побегай! И этот самый умный их всех королевских пинчеров вошёл в раж, от радости, что оказался на свободе, без устали носился по двору и громко лаял, на ходу окропляя всё вокруг. Напоследок закрутился волчком, поджав задние лапки к передним, примостился на краю песочницы, проехался задом по земле, отбрасывая её назад, как лошадка копытом, и… побежал впереди меня к парадной. Да так стремительно, что я еле успевала за ним в этих растоптанных старых тапках. На этот раз он вёл себя порядочно, не пакостил у дверей соседки с третьего этажа, а тихо юркнул в открытую дверь собственной квартиры. Помнит, подлец, как ему влетело за прошлую проказу. А говорят, что собаки ничего не понимают. Еще как понимают, даже такие, с малюсенькой головкой…
Так, прибыли первые гости. Это всем своим кодлом прибыла Жанкина сестра Наташа, живущая за 16-й станцией Большого Фонтана. Вся семейка в полном составе: муж Иван, дочка Валька, на год младше меня, но успевшая после школы сразу замуж выскочить. Её муж Витя – деревенский паренёк из-под Киева, очень симпатичный и, по всей видимости, добряк. А это что?! У Вальки фигурка уже деформировалась вперёд животиком. Поцелуи с хозяйкой закончились, настала очередь переноски товара. Бутыльки с помидорами, огурчиками, а самое главное – собственное домашнее вино и сок. Я обожаю все это ещё с тех пор, как однажды с мамой, тайно от бабки, были в гостях у тёти Наташи, Жанночкиной сестры. Наша бабка лежала тогда в больнице, и мы получили неожиданную свободу. Алка ехать отказалась, а зря, как классно у них было. Стол накрыли во дворе под навесом, рядом с летней кухней.
Это место на их участке было самым уютным. Побеги виноградных лоз ещё с молоденькими, полностью нераскрывшимися листочками вились над зелёной верандой, местами прикрывая солнышко, и при малейшем ветерке ласково трепетали. Другие срывались с металлической верёвки и опускались прямо на заставленный стол. Я не сомневалась: без искусных ручонок Жанночки не обошлось. Всё тот же ассортимент, вызывающий у меня единственное желание скорее начинать пробовать все подряд.
Гостями были в основном их соседи, жители колхоза Карла Либкнехта, которым командовал Герой Соцтруда Макар Посмитный. Фактически Одесса в сторону Фонтана и бывшей Люстдорфской дороги, а нынче Черноморской плавно переходила в угодья этого хозяйства, известного на весь Союз. Здесь, недалеко от мужского монастыря, и получили тётя Наташа с мужем комнатку от колхоза, в небольшом домике на две семьи с огородиком. Вокруг простирались поля. Добираться нам в принципе было удобно. Сначала 18-м трамваем до 16-й станции Большого Фонтана, а потом 19-м. 19-й вообще был каким-то чудным. Я запомнила его ещё со второго класса, когда единственный раз в жизни попала в пионерский лагерь Портофлота. Вот там, мимо забора этого лагеря, почти вплотную к нему, проложены рельсы одноколейки, а сам трамвайчик ездит по кругу. Я, домашний ребёнок, попала первый раз в лагерь; он хоть и пионерским назывался, но в нём царили далеко не пионерские, а настоящие лагерные порядки. Их устанавливали детдомовские дети. Первым делом у меня забрали мыло, зубной порошок, щётку, и все по очереди чистили этой щёткой свои зубы. А когда я пожаловалась вожатой, то мне устроили тёмную и хорошо отколотили, а потом демонстративно моей зубной щёточкой почистили все девчонки свои сандалии и тапки.
Сколько слёз я пролила, стоя у этого забора в ожидании мамы. Мне казалось, что вот-вот следующий трамвай привезёт ее, она заберёт меня наконец домой и мне помоют голову Здесь все девчонки коротко стрижены, моют голову прямо под краном с холодной водой. Свои косы я боялась даже распустить, чтобы их расчесать. Эти злющие девчонки, не говоря уже о мальчишках, не упускали любую возможность, чтобы подёргать меня за косы. Пионервожатая каждый мамин приезд обещала помочь мне помыть голову, а сама потом перед всеми высмеивала меня, как беспомощную белоручку. Все везде и всюду врут и воруют напропалую. И пионеры, хотя клятву давали, и взрослые комсомольцы.
Моя мама сдалась и забрала меня домой через две недели, когда уже вся голова кишела вшами и гнидами. Потом, уже взрослой, проезжая этим 19-м трамвайчиком, я впивалась глазами в окошко, чтобы увидеть сразу всю территорию лагеря. Наш деревянный корпус по-прежнему выкрашен в голубой цвет, и дети всё так же облепили забор, выставив головки между штакетником, в ожидании родителей. Теперь в этом лагере работает пионервожатой моя подружка Галка. Она всё детство в нём провела, он для неё стал родным. Странно, но ей там нравится. А на Фонтане у Жанкиной сестры больше бывать в гостях не приходилось. Всё общение с моей сверстницей Валей и её родителями происходило в квартире моего дядьки и тётки. Обе мы были родными племянницами – я со стороны дядьки, а она со стороны тётки.
Всё это я поведала вам исключительно ради домашнего их собственного вина, которое они привезли в качестве подарка. Здесь же, на кухне, был открыт первый трёхлитровый бутылёк. Тёрпкий сказочный запах привёл всех присутствующих в приподнятое настроение. И что вы думаете? Разве можно было устоять против такого искушения. Вы тысячу раз правы. Нет! Нет! И ещё раз нет! Более того, в ход сразу пошли простые гранёные стаканы и чайные чашечки, стоящие в буфете. Тётя Наташа повторяла, что вино не крепкое, сахару не добавляли, просто чистый сок. Все в один голос подтвердили, что это действительно чистый сок, поэтому бутылёк оприходовали со скоростью звука и здесь же его ополосну ли и отправили на антресоль, чтобы не мозолил глаза.
– Совсем без градусов, – заключила тётя Фрося, – це для дитёв.
Она всегда, когда выпьет, с ходу переходит на полуукраинский язык. Видно, этот натуральный сок пришёлся в самый раз уставшим женщинам. Раздался звон упавшей с окна тарелки с остатками холодца, к ней подорвал Джимик и моментально стал все слизывать с пола. Жанночка с визгом набросилась на любимца, что тот может пораниться. Схватила веник и начала им подметать осколки. Тётя Фрося нагнулась подать Жанночке совок, и обе задами стукнулись. Жанночка не удержала равновесие и попыталась ухватиться за наклонившийся стол, тот не выдержал её приличного веса, и все стаканы и чашки дружно полетели на пол. Под истошный лай самого породистого. Жаль было Жанночку, она больно стукнулась лицом об угол стола и ушибла руку. Но больше всех досталось несчастной собаке. Все в один голос объявили его виновным. Тётя Наташа с ее загадочной улыбкой поняла причину случившегося. Наши глаза встретились, её тонкое, по-настоящему красивое лицо, обычно уставшее от жизни, заиграло. «Ты, Оля, этим вином не увлекайся, оно обманчивое. С виду вроде и не пьянит, а по ногам хорошо бьет».
Я уже и без неё поняла это, почувствовала, меня немного повело. «Та прямо хороший сок! То, шо надо!» – вскрикнул тети Наташи зять, Витя, втаскивая с лестничной клетки в коридор ящик белого винограда «дамский пальчик». У меня с ходу слюнки потекли от этих прекрасных гроздьев, спелых и золотистых, как будто бы южное солнце передало винограду всё своё тепло, а вековая степь наполнила его сладостью.
– Ото после вина, о той ще виноград за компанию и як раз будет то, шо на до. Скопытиться можно только так! И мыть его на до сильно, а то отравой увесь залили. Это з таировского институту – не успокаивался Витя.
Виктор, Валькин муж, её ровесник, симпатичный высокий парень польских кровей. Приехал в дом отдыха покупаться в море. И на танцах в пансионате на 16-й Фонтана познакомился с Валькой, пошёл её провожать. Пока они у калиточки провожались, их застукал Валькин папа, вероятно, тоже знаменитого сока напробовался и пристал к парню: «Женись, нечего тут ошиваться просто так». Вот и вся история. Валька в комнате сидит, квочку напоминает, высиживающую цыплят, обмахивается газетой, и всё ей по барабану Смотрит на меня так, как будто бы ей одной известно что-то такое загадочное, неведомое никому. Она только спросила меня, как мои дела, я ответила односложно: хорошо. Её же спросить у меня не повернулся язык, неудобно как-то. И так всё ясно.
На кухне такой тарарам. Жанночка сидит с компрессом на лице. Несчастный Джимик заливается под дверью. Пришла ещё одна его любовь – тётя Дора. Ей очень подходит это имя, оно, наверное, производное от слова – дородный. Чего-чего, а дородности ей не занимать. Один бюст чего стоит. У всех Жанночкиных подруг с этим делом всё в полном порядке. Но сравниться с бюстом тёти Доры не может даже тётя Фрося со своими пистолетами, торчащими в разные стороны. У тёти Доры бюст начинается от самой шеи. В этом месте сходятся обе груди, напоминающие мячи или арбузы, приплюснутые бельём до самой талии. Носить на себе такую тяжесть не каждый выдержит, поэтому она тяжело дышит. Она сразу усаживается в большой комнате за стол, отодвигаясь от него подальше, чтобы грудью не сбросить тарелки и бокалы. Когда она наклоняет голову с несколькими подбородками, то получается, что два нижних шара держат посреди верхний шар – голову. Все женщины по очереди заходят, здороваются с Дорочкой. Одну её они ласково называют Дорочкой. Дорочка постоянно протирает свои дурацкие очки. Они почему-то у неё всё время запотевают. Улыбается какой-то детской непосредственной улыбочкой; как по мне, так эта улыбочка на её лице ни к селу, ни к городу. Все опять умотали на кухню – неугомонные.
Тётя Дора, обращаясь к нам с Валькой, тихонько спрашивает:
– Когда это они успели так набраться? – Я, не моргнув глазом, предложила и ей составить компанию, попробовать домашнего вина или, по Витиному сока, пока суть да дело. Но Дорочка наотрез отказалась, попросила водички холодненькой, если можно. – Там без Фроськиного самогона не обошлось, – предположила она. – А что, Жаночка сильно разбилась?
– Нет, это из-за Джимика, – возразила Валька.
– Ну да, и тебя, Джимик, как меня, всегда по делу берут, – тетя Дора опустила руку, и Джимик по ней, как по горе, вмиг забрался на вершину, к самому ее лицу и облизал его вместе с очками. Счастливая тётя Дора радостно взвизгивала, совсем как молоденькая девчонка. А этот паразит рад стараться и по её груди, плечу, затем по затылку прошелся, как по горной тропе. – Ой, Джимик, отстань, не целуй меня, от тебя так шпротами воняет! – тетя Дора пыталась сбросить собачонку, которая уже сползла к ее шарам. —тьфу! Я кому сказала. Ты мне всю кофту обделаешь. У меня другой нету. Что ты с ним сделаешь?
– Счас сделаю, – не выдержала я и ухватила уцепившегося королевского за туловище. Чтобы припугнуть этого глистатого, ещё несколько раз подбросила и выпустила на пол, легонько поддав под зад. Другой бы сразу убежал, а этот нахал опять рванул к тёте Доре на руки, и она его прижала к груди. Ну, тогда терпите этого нахала. Тогда я не знала, что последний раз вижу тётю Дору. И буду только от Жанночки случайно, ненароком узнавать о её дальнейшей, просто ужасной судьбе.
От судьбы не уйти
Дорка сама не заметила, как постепенно развалилась вся, как ей казалось, дружная её компания. Сначала из магазина ушла директриса. Закончила свой институт и подалась на завод. Партия позаботилась и направила её на Одесский коньячный завод инженером, и здесь же её якобы выбрал народ партийным секретарём. В магазин назначили нового директора, русского по национальности в паспорте, а самого настоящего маланца по роже. Этот сорокалетний с порога взял власть в свои руки. И кроме швабры, с которой теперь Дорка боялась расстаться, никуда её не допускал. Вслед за директрисой уволилась и её подруга Надька, вместе со своей квартиранткой-племянницей. Новая метла всех начисто, что называется, вымела.
Из старых работниц только и осталась одна Дорка. На её место желающих пока не находилось. Она так же исправно торчала чуть свету магазина, ждала хозяина, как собака. Директор подъезжал на новенькой машине «Победа», обходил все свои владения, просматривал пломбы. Дорка по утрам варила ему кофе и бегала в магазин за продуктами для бутербродов. По простоте душевной она пыталась дать ему пару советов, но он грубо оборвал её: «В ваших советах не нуждаюсь, наслышан о всех ваших делишках и подружках. Скажите ещё спасибо, что работаете у меня».
Тайной, покрытой мраком, оставалось всё, что делается в подвале. Какой товар привезли, какой вывезли, никто не знал. Что выбросят в продажу, тем и торговали. В магазин зайдут покупатели, покрутятся, потыркаются впустую и уходят восвояси, только и мой за ними пол. Только иногда попадались Дорке пустые коробки от импортной обуви или ГДРовского белья. Одно время подумывала сдать какой-нибудь девчонке угол, но и эту мысль она выбросила раз и навсегда из головы. Вовчик ей такой концерт закатал по заявкам, что неделю после этого в себя приходила.
В единственный выходной, понедельник, маяться по пустой квартире не было никаких сил. И Дорка с раннего утра уезжала к своей подруге Надежде и хоть там душу отводила. Сама Надька выглядела не ахти. Со скрипом двигалась по малюсенькой кухоньке. Угощала Дорку по-барски, даже коньяком в пять звёзд. Как раньше все собирались у Дорки, так теперь вся их магазинная компания переместилась к Надьке. Её подружка Женька, работающая в редакции, называла квартирку намоленной. Эта комната наш Ноев ковчег! Налазится по чердаку и причитает потом: «Ой, Наденька, какая ты умница, что не выбросила это, цены же теперь всему нет. Кому только сказать, и при Сталине сохранилось, и при румынах. Для любого музея находка. Это будет опубликовано в книге, а это снесу на киностудию. Они же все там попадают от счастья». С собой Женька обязательно приносила либо коробочку конфет, либо пирожные. Вот в понедельник Надька и угощала свою Дорочку всем, что она для неё припрятала. Присядут, выпьют по стопочке и рассказывают друг дружке всё и про всех, как на духу.
А как Надежда начинает говорить про своих любимых Наденьку и Коленьку, так её и вообще не остановить. И самые они у неё и замечательные, и воспитанные, и умненькие, а уж какие начитанные – и говорить нечего. Всё хвастается, тащит её в большую комнату, стены которой все в полках с книгами: «Смотри, Дорочка, это всё Наденька сама прочитала, ещё из библиотеки таскает. А я тоже при деле, между прочим. С Коленькой языками занимаюсь. Мечтает мальчик плавать по морям и океанам. И Наденька доверяет мне свои технические переводы».
Надежда вся светится счастьем, прикрывает ладонью лицо от пробивающихся сквозь прозрачную занавеску солнечных лучей, в глазах хитринка: чем бы еще удивить Дорку.
– Моя Наденька на все руки мастер, настоящий инженер, по предприятиям приглашают, прямо нарасхват. Как закончила аспирантуру, ее сразу лабораторией руководить поставили, какие-то новые технологии они у себя разрабатывают. Технический прогресс, Дорочка, понимаешь? Я в этом полный профан, но она так умеет объяснить, что я тоже понемногу начинаю разбираться. Скоро всё будут делать за людей машины, и мы обгоним даже Америку.
Дорка вздыхала, качала головой:
– Так догоним, что скоро жрать нечего будет. Моей профессии с веником и шваброй не грозит этот, как его, прогресс.
Надька пыталась переубедить подругу: мол, и до твоей профессии доберутся, веник автоматом заменят уборочным. На кнопочку нажмешь – и поехало грязь и пыль стирать. Но видя, что Дорке разговор этот неприятен, сменила тему:
– Такие мужики вокруг Наденьки крутятся, ты не представляешь! А она, глупая, ноль внимания. Все они для нее остолопы, им только одно нужно, говорит, у них у всех лишь одна извилина – из пустой головы в мошонку.
– Куда? – на лице Дорки застыло изумление, она ничего не поняла.
Надежда, смеясь, показала пальцем между ног Дорка сообразила и тоже рассмеялась.
– Я думаю, Дора, что-то произошло с ней, кто-то напугал ее сильно или обидел. Вся их семья странная какая-то, никак от войны не отойдут. Мать каждое воскресенье в церкви пропадает, все посты соблюдает. Молится и трудится, как проклятая. Я ради них в долги влезла. У Женьки в долг взяла и у Полинки. Полинка вообще спросила: сколько надо, и на следующий день деньги притащила.
Дорка посмотрела на подругу как на ненормальную:
– Зачем им такие деньжищи?
– Так и знала, что ты взбеленишься. На денька частный дом на окраине решила для матери и сестры купить с огородиком. Они у себя в деревне, как бревно в глазу у этой кугутни. Другой жизни для деревни нет, как сплетни плести. Не тебе мне рассказывать, какой у нас народец! До сих пор мажут говном им калитку и румынскими блядями обзывают. Нужно же на ком-то злобу свою вымещать.
Надежда вся задрожала от возмущения, поведав, что мужа младшей сестры так заклевали, что он бросил ее с двумя детьми. А девчушки хорошенькие, беленькие. Бабуленькой ее называют. Она им сказки рассказывает, дети слушают, затаив дыхание.
– Дорка, хоть стой, хоть падай. Я им как-то Пушкина читала, прошло недели две, и представляешь, эта двухлетняя малышка своего маленького пупсика засунула в кадушку для солений, полностью закрыла крышкой и стала выкатывать на улицу. А что оказалось? Она запомнила, как царицу и приплод в бочку поместили и выбросили в океан, и царевич Гвидон там быстро вырос. Вот и решила, что если в бочку поместить пупсика, тот тоже быстро подрастёт. Вот какое мышление в два годика!
Дорка долго молчала, выпила воды и на полном серьёзе выпалила:
– Фашисты проклятые, пацана с мамашей в море выкину ли в бочке. И тогда суки были.
Надежда Ивановна от невежества подружки еле удержалась, чтобы не расхохотаться, заметив, как из-под очков Дорки потекла слеза. Она даже не решилась объяснить ей, что это самая известная сказка во всём мире.
– Успокойся, Дорка, на платочек, протри лицо, лучше расскажи, что с Вовчиком. Здоров?
– Не знаю, что и сказать, сестрица названая, ничего хорошего. Твой распрекрасный Вовчик совсем распустился. Живём, как кошка с собакой. Заявится под утро, полазит по кастрюлям и спать заваливается. А то и вовсе ночевать не приходит. Если и спрошу, на всё один ответ: не твоё дело, не маленький уже, жопу подтирать не надо. Ничего нельзя сказать или попросить что-то по дому сделать. Вешалка уже какой месяц на одном гвозде болтается, вот-вот совсем сорвется, видит же, возьми молоток. Нет, бурчит: тебе надо – ты и прибивай. Не знаю, Надюша, чем я перед ним провинилась.
Дорка, не стесняясь, стала громко плакать. Надежда пыталась ее успокоить, дергала за плечи, убеждала: перерастёт, такой возраст, всё изменится. Вот женится, детки пойдут, жизнь наладится.
– Надя, что изменится? Это характер такой, обозлился на всех и на всё. И никуда не деться. Чует моё сердце большую беду только не знаю, с какого боку ждать.
– Вечно ты каркаешь, ещё чего-нибудь действительно накаркаешь.
Сказать правду даже Надежде Дорка не решилась. Поняла, давно поняла, не такая уж она глупая, почему её сын так переменился. И почему её, свою родную мать, презирает и ненавидит. Сама виновата, сама познакомила сына с бывшей подружкой своей свекрови, Нины Андреевны Ерёминой. Что на неё тогда нашло, проклинает тот день и час, когда решила, чтобы Вовчик узнал, кто были его дедушка и бабушка. Вот он и узнал на её горе. Да она и сама просто обалдела от услышанного. Как Вовчик упирался, не хотел переться ни к какой старухе. Она его фактически силком потащила. Убедила, что скользко, боится темноты, обещала, что только на полчасика заскочат, навестят подругу бабушки и обратно домой.
День выдался холодный, ветреный. О такой погоде недаром говорят: хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но вышло всё наоборот. Сама Дорка уже собралась уходить, несколько раз порывалась, но сын словно спелся с этой старушенцией. Всё задавал и задавал вопросы. Что и как, и когда, и где это было. С того дня его как подменили. Заранее просил Дорку купить продукты для старухи. В гостях у Веры Константиновны он стал бывать чуть ли не каждую неделю. Свою однокомнатную квартирку которую та получила как реабилитированная, она называла не иначе, как салоном. Вовчик всё утро чепурился, мылся-брился, наглаживался, даже сам туфли свои чистил, раньше такого в помине не было. Брал с собой гитару книги и под реверанс «честь имею!» растворялся, громко хлопнув дверью. От сына она теперь выслушивала одни замечания. Он то и дело Дорке выговаривал: кто так рубашку гладит, не умеешь – не берись, всё только испортишь. Уходил, пугая вечно подслушивающую соседку с Греческой улицы, которая подкрадывалась к ним под дверь, словно тень. Вовчик никогда не называл последнюю по имени, а только: там твоя сучка с Греческой уже присосалась к дверям, оторви ее. Как только Вовчик исчезал, здесь же нарисовывалась она:
– Дорочка, не переживайте вы так, не на до, деточка, плакать. У нас, на Греческой, у соседки тоже не ладились отношения со взрослым сыном. Так что вы думаете? Разменялись, разъехались в разные стороны, и дело с концом. А как разбежались, так и подружились. Куда это ваш Вовчик с утра пораньше намылился?
– Мне он не докладывает.
– А мне кажется, я догадываюсь. У нас на Греческой одна красотка жила, симпатяга девка, ни дать ни взять, так вот, к ней любовник чуть свет наведывался. Муж рано на работу убегал, а этот тут же к ней, как партизан, пробирался. Подпольщики-любовники, как вам это? Мы все делали вид, что ничего не замечаем.
– Так воскресенье сегодня, – не выдержала Дорка. – Какая работа?
– Здрасти, я ваша тётя, её муж и в выходные дежурил. Иди знай – дежурил ли… И тебе, голубушка, надо проследить, так, на всякий случай, куда он заладился по утрам шастать. Я тебе больше скажу Дора, он даже зубы стал чистить, вот тебе крест, не веришь? Всю раковину зубным порошком оплевал. Фифа у него объявилась, не встать мне с этого места. Чтоб я так жила, чует моё сердце. И радоваться тебе надо, а не плакать. Такой симпатичный хлопец, а больно неприветливый он у тебя.
Соседка с Греческой тут же нажаловалась, что Вовчик грубоват, вчера он сказал ей, как приблудной кошке: «Брысь отсюда!» Но она не обижается, если с матерью родной так обращается, то что говорить о ней. А сколько она для него сделала? А? Никто же не считается. Ой, да не о чём говорить, раньше никто не мог себе такого позволить. А теперь что? Сплошной пролетариат. Рабочему классу везде у нас дорога и почёт. Дорка ничего не отвечала, сидела, обхватив голову руками, и ждала, когда соседка уже скроется с ее глаз. Но та продолжала через слово повторять по слогам: про-ле-та-ри-ат.
Портить Дорке отношения с ней не было никакого резона. Что взять с несчастной одинокой старухи при живых детях. Из Питера родной сынок и его жёнушка теперь даже летом в Одессу не приезжают. Присылают открытки с курортов: то с Ялты, то с Сочи. Целой стопкой лежат эти открытки с приветами в тумбочке, от которых ни тепло, ни жарко, а только веет холодом безразличия. Вечерами достаёт она эти послания, пересмотрит, опять сложит в ящик и ложится в холодную постель с одним желанием к утру не проснуться. Почти до утра представляла она, что однажды так и будет. И тогда приедет наконец её сыночек к ней вместе с невесткой и будут плакать горько-горько у изголовья. И сама она начинала плакать, и усыпала вся в слезах изо дня в день, из года в год.
Дорка потихоньку успокоилась. Что ожидать от сына, когда она сама во всём виновата. Не в свои сани не садись. Ведь предупреждала её мать, едва она только заикнулась о Викторе. Коршуном налетела на дочь Ципа, шипела змеей, орала во всю еврейскую потку: не смей, ты что, совсем с ума спятила? Мы сами тебе жениха подберём, когда надо будет. Дорка тогда от злости только огрызнулась: тебе ведь подобрали, очень довольна? Ципа не нашлась, что ответить взрослой дочери, и только стала причитать на идише. Доркина мать Виктора так и не приняла. А теперь вот и Доркин родной сын ее тяготится, отталкивает от себя, стыдится, а может, и брезгует. Боль сдавила грудь Дорке, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Даст бог подохну и освобожу сына от себя.
Все это Дорка глубокой занозой держала в себе и рассказать даже своей самой верной и преданной подруге Надежде не решалась. Как же так в жизни получается, думала Дорка, возвращаясь домой в полупустом трамвае, уставившись в грязное стекло. Невольная зависть лезла и лезла в голову. И уже от неё невозможно избавиться. Да, Надежда при любых обстоятельствах умела как-то приспособиться в жизни. И при царе, и при революции несколько мужей сменила, и опять же в войну не бедствовала, да и после войны сумела неплох о устроиться. А сейчас и говорить нечего, такую племянницу отхватила и живёт в любви и достатке, и самое главное – в почитании и уважении. А она, Дорка, даже преданных Лёвку с Фимкой, считай, потеряла. Сын их на дух не переносит Но вера, что сын изменится, у Дорки всё-таки тлеющим огоньком, слабой искоркой проблескивала. Приходя от старухи, он стал приносить книжки и до полуночи их читал. А вдруг за ум возьмётся, и будет праздник ещё на её улице.
Неожиданно Дорка получила повестку в военкомат. Самой ее дома не было, расписалась в получении у почтальона соседка. Парня почтальона знал весь район. Ещё при румынах пацанёнком ему оторвало правую руку по локоть, а левую выше кисти. Кое-как хирурги ему разрезали кость на левой руке, и в эту расщелину он, ловко орудуя ртом, вставлял карандаш и даже писал. Соседка сама его уговорила не носить извещение к Дорке на работу, чтобы не было лишних разговоров. Да и он сам с детства знал Вовчика как облупленного. Даже признался, что с его-то инвалидностью за последние два года получал не одну повестку. Как будто бы за это время у него руки могли отрасти. Должен был лично предъявлять комиссии свои обрубки. Единственное, что почтальона удивило: странно, повестка выписана на мать, а не на сына. Вроде как Вовчику не доверяют. Может, думают, что он увиливает от призыва? Так это бесполезно, они его из-под земли найдут.
– Ещё срок схлопочет, – предупредил почтальон соседку, – вы ему так и передайте, с ними не шутят И тётя Дора пусть обязательно сходит сначала, и документы о здоровье Вовчика прихватить не помешает.
Соседка даже слезу не сдержала, когда почтальон этим обрубком с покрасневшей кожей в месте прорези ловко заполнил бланк и дал ей расписаться.
– А ты-то как сам, сынок? – спросила старушка.
– У меня всё в порядке, уже на втором курсе университета, учусь на вечернем.
– Какой ты молодец. А наш Вовчик, твой тёзка, никак за ум не возьмётся. Ему армия бы не помешала. Вон какой бугай вырос, правда, кашляет, так ведь и курит ещё. А как Дорке все нервы истрепал? У неё уже голова трясётся. Еще вот что…
Но почтальон уже ее не слышал, быстро спустился по лестнице, надо было разнести письма еще по нескольким адресам. Соседка тут же понеслась в магазин к Дорке. Ещё с порога она стала руками звать ее, пугливо оглядываясь по сторонам: «Выйдем, Дорочка, на улицу, я тебе сейчас такое скажу». У бедной женщины за тряслись поджилки, ноги стали ватными, лицо побагровело. В голове застучало: что-то страшное случилось, она не знает ещё что, но что-то, наверное, ужасное, она этого постоянно ждала. Сердце не то что забилось, оно прямо заухало в горле.
– Что он, паршивец, опять натворил? – крикнула она, сдергивая и протирая запотевшие очки.
– Не знаю, что с ним, вот, сама читай, – старуха сунула Дорке повестку. Прочесть её она сразу не смогла. Дрожащими руками медленно развернула этот маленький листочек, который извещал, что ей, Доре Моисеевне Ерёминой, следует явиться в военкомат Центрального района, число, месяц, год и время. И всё, больше ничего. Единственная мысль, которая пришла ей в голову, что её Вовчика, очевидно, призовут служить, несмотря на полученный им белый билет. И сама она в этом виновата. Сама же пожаловалась на него врачихе, которая приходила к ней домой, когда Дорка болела: что сын неблагодарный, измывается над ней, а она всё для него сделала – и выходила, и вылечила, и от армии спасла. Что на неё тоща нашло, так разоткровенничалась.
Несколько дней Дорка металась, как раненая, боясь с кем-либо поделиться своей бедой. Что только не крутилось в её воспалённом уме, даже покойная свекровь приснилась такой, какой Дорка никогда её не видела: молодой и смеющейся, качающейся на каких-то немыслимых качелях. Она то подлетала к Дорке, тянула к ней руки, то возвращалась высоко в небо, закидывая назад голову, а раскачивал ее на этих сумасшедших качелях мужчина в морской парадной форме. Блеск золотого кортика, висящего у мужчины сбоку, ослеплял Дорку. Его она видела только со спины, лицом к ней он не поворачивался, однако она чувствовала, что знает этого человека.
Кто-то во сне её растолкал, тормошил за плечо: «Мама, мама! Ты чего? Проснись! – Вовчик испуганно будил мечущуюся на кровати мать. – Тебе плохо, может, врача позову? – Вовчик нежно гладил Дорку по лицу: – Я накапаю тебе кремлёвских капель или лучше валерьянки?» Дорка покачала головой: «Не надо. Мне, Вовчик, бабушка твоя приснилась (она уже полностью пришла в себя) на качелях… не одна, наверное, с твоим дедом совсем молодым… Я подумала сначала, она с моим Витенькой, твоим папой. Нет, это был не он. Они так радостно смеялись. Господи, к чему бы это?»
Дорка разрыдалась. Сын выключил свет, пробурчал: «Кончай этот концерт по заявкам, давай спать. Мне завтра на работу, а тебе, вижу, совсем делать нечего, концерты во сне устраиваешь, разная ерунда снится».
Она лежала тихо, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не слышал сын, и размышляла. Её мама Ципа всегда, когда что-нибудь приснится или просто нужно было посоветоваться, сразу бежала в синагогу. Как ещё Дорка её высмеивала. А сейчас она с радостью сама бы побежала к раввину, да синагога на Пересыпи сгорела, и бежать ей некуда и не к кому. Разве что сходить в церковь. Там ведь надо креститься, а она не православная, ещё выгонят с позором. А если надеть платочек и, как покойная свекровь, просто поставить свечки и тихонько про себя нашептать богу, попросить у него помощи. Свекровь всегда повторяла, что бог един. У него просто было много сыновей с разными вероисповеданиями. Всё, как у людей: рассорились братья, кто главнее, кто к небу ближе. Вот и стали, в конце концов, враждовать за истинную веру. А вера она должна быть одна – в создателя. Это уж люди сами как хотят извращают её в своих интересах. И предают и бога, и его сыновей Иисуса и Магомеда, а больше всего ненавидят евреев за то, что они не верят в божьих сыновей, присланных к ним на землю.
К утру она окончательно решила сходить в церковь, вдруг боженька сжалится и отведёт беду от её мальчика. Но другую, более страшную мысль она гнала от себя и днём и ночью. А мысль эта хуже назойливой мухи разъедала безжалостно её воспалённый мозг. От нее сердце Дорки останавливалось и из груди вырывался не крик, а какой-то звериный рёв, который она еле сдерживала.
А вдруг её Витенька вовсе не пропал без вести. А тог да, в 41-м, сдался в плен или того хуже… она даже мысленно не могла себе позволить так думать. Нет, пусть режут меня на куски, рвут на части, я никогда не поверю, что мой Витенька не выдержал и стал предателем. Она даже в кино, когда видела негодяев – предателей, всяких полицаев, власовцев, не могла поверить, что это просто обыкновенные артисты и им досталась такая роль. С Надеждой спорила, что хороший нормальный человек, даже великий артист никогда не согласится играть такого подлеца. Но наедине с собой она всё же рассуждала: может, это так и есть, её Витенька не выдержал или, того хуже, затаил обиду на советскую власть за отца, за деда и только всё это время ждал. Никогда же он с ней ни словом, ни полсловом не обмолвился ни о своём отце, ни о деде. Только и было ей известно: отец его погиб в Гражданскую в Севастополе – и всё. Да Дорку это нисколько не интересовало. Столько народу тог да полегло непонятно за что. Зато царя ненавистного скинули, он во всём и виноват был. Ещё разрушили тюрьму народов раз и навсегда и повыгоняли всех буржуев. А плохо живём потому, что у советской власти много врагов, чего только один Гитлер натворил.
Зачем же всё-таки её вызывают? Опять на её пути военные. Опять будут допрашивать: как ей, еврейке, удалось уцелеть, ещё и с сыном во время оккупации? Если же насчёт свекрови, то они её, несчастную, сами реабилитировали. Никто их не просил, Дорка ни разу сама не обращалась, чтобы хуже не было.
Она опять в который раз задавала себе этот проклятый вопрос: «А может? А вдруг?» За эти дни ожидания и неизвестности Дорка не то что похудела и осунулась, а просто превра илась в сплошной комок нервов. Возвращается с работы, поднимается к собственной квартире, не успевает еще вставить ключ в замочную скважину как дверь сама перед ней открывается. Дорка в ужасе как заорет. На её вопль все двери разом распахнулись. В доме поднялся переполох. Люди в недоумении: что происходит? Просто соседка по ее коммуналке секундой раньше открыла эту проклятую дверь изнутри, чтобы выйти и посидеть во дворе на лавочке.
– Дорочка! Разве так можно? Вам будет лучше, если я инфаркт схвачу? Мне это нужно? Что вы такая пугливая? Вы хотите моей смерти, чтобы мое сердце остановилось? Разве так можно распускать нервы. Не у одной вас такой сынок знаменитый.
Соседку, словно часы, завел кто-то, или внутри нее злости чересчур много накопилось. Может, и лучше будет, если его загребут, хватит отлынивать. Пусть послужит, как все. Ее сын войну прошёл, а этот наглец… Кому только сказать, в кого уродился, Дорочка ведь такая добрая, покладистая женщина, а сынок… Как он смеет родную мать называть Доркой? Дорка перестала понимать, что она там тарахтит.
– Какая вы ему Дорка? Вот и рожай их после этого, воспитывай, всё для них, – соседка присела на край табуретки, уткнувшись в плечо Дорки, и гладила ее по спине. Иногда замолкала, чтобы не добить окончательно несчастную женщину, а потом опять с новой энергией продолжала тараторить: – А они вырастут и помашут тебе ручкой: «Аривидерчи». До свидания, дорогая, до свидания. Вы меня о моей внучке спрашиваете, я так и не видела ее. Не знаю, какая она растет. Прячут от меня, а позвали бы – я бы пешком по шпалам к ним до самого Ленинграда дошла. Никому я тоже не нужна, ругаю себя, что задержалась на этом свете.
В ночь перед визитом в военкомат Дорка маялась разными дурными мыслями, которые лезли ей в голову. Утром умылась, оделась в своё единственное приличное платье. Есть не хотелось, кусок хлеба в глотку не лез. Выпила холодного чая. Пересмотрела ещё раз содержание кошёлки, которую целую неделю собирала. Обычно с этой кошёлкой, она ходила на базар, а теперь в ней были уложены её вещи первой необходимости. Ну, вот и всё: паспорт, повестка, сумка. Хотела сыну оставить записочку, однако, сколько ни пыталась что-то написать, ничего не получалось. Скомканные бумажки выбросила в печку. Разревевшись, обняла сначала печку потом провела рукой по дымоходам: спасительница моя, подружка верная, не можешь ты мне больше помочь, никто не может Сыночка моего согревай своим теплом, как в те страшные годы. Прощай!
Мучила её мысль обратиться к мужу бывшей квартирантки Жанночки, но так и не решилась. Он в милиции служит, человек порядочный, добрый, наверняка не откажет, вступится за неё. А вдруг это ему самому навредит? Так никому ничего и не сказала. Только протёрла портрет свекрови: мама, видно, моя очередь настала, прощай! Еще раз взглянула на портрет, пытаясь навсегда запомнить каждую черточку лица, и тихо вышла, как привидение. Двигалась по улице, никого не замечая. Вот и это, знакомое зловещее здание военкомата. Сюда в 41-м она привела своего Витеньку, чтобы больше никогда не увидеть. Теперь её очередь пришла переступить этот страшный порог. Но сына своего она им, пока жива, не отдаст. Она в их полном распоряжении, а сына не смейте трогать. «Позвоню все-таки Жанночке, предупрежу ее, мало ли что», – подумала Дорка, завидев у входа в военкомат телефон-автомат.
В проходной она сунулась в окошечко, протянула солдатику свой паспорт с повесткой. Солдатик отдал честь и сказал: «Вам, гражданочка, в 10-й кабинет. Это по коридору направо, а потом еще раз направо. Упретесь в него». Она прошла вертушку и замерла, как вкопанная. Поджилки трясутся, валерьянку на сахар накапала, даже не считала, сколько капель, думала, успокоится. По коридору туда-сюда сновали всякие военные, на неё поглядывали. Дорке было не до них, туман страха застилал глаза, она не заметила, как к ней подошёл молоденький лейтенантик, взял под руку: не волнуйтесь, я проведу, вас уже ждут.
Куда её вели, она не видела, шла, как истукан, печатая каждый шаг несгибаемыми ногами. В узком длинном коридоре споткнулась, зацепившись за плюшевую ковровую дорожку. Но лейтенант удержал её. – Постойте здесь минуточку, вас сейчас пригласят, – предупредил он. Дорка безучастно облокотилась спиной на стенку, прижав к груди двумя руками сумку с пожитками. «Что-то они со мной долго церемонятся, – мелькнуло в голове, – или тактика у них, как в кино. Сначала no-хорошему потом покажут, где раки зимуют. Что они ещё от неё хотят?» Ожидание казалось ей вечностью. Наконец двухстворчатая дубовая блестящая дверь открылась и всё тот же лейтенант сказал: «Дора Моисеевна, проходите!»
Перед Доркой предстала большая залитая солнечным светом комната. По стенам стояли в ряд стулья, на которых сидело много военных. Она не различала их чинов и званий. Посреди комнаты был большущий стол, из-за которого ей навстречу, улыбаясь и протягивая руки, вышел то ли генерал, то ли полковник. Она сумку свою автоматически спрятала за спину.
– Дора Моисеевна! – этот седой военный приблизился к ней вплотную, проводил к своему столу, усадил, а сам остался стоять, со своих мест поднялись и остальные военные. – Дора Моисеевна, – его голос от волнения дребезжал, – мы вас пригласили сегодня, чтобы сообщить… сообщить вам, что ваш муж, Ерёмин Виктор Владимирович, нашёлся. Не пропал без вести в трагические дни обороны нашего города-героя, нашей родной Одессы. А геройски защищал ее до самой смерти. Юным следопытам спасибо, это они обнаружили окоп с останками лейтенанта Ерёмина Виктора Владимировича и других героев-солдат. Вот по этому ножичку распознали. А вам мы вручаем награду мужа: медаль «За отвагу» и удостоверение. И, конечно, на вечную память – ножичек. На нем дарственная надпись: «Витьке Ерёмину от Ивана и Аркадия». Вам он знаком?
Дорка бросила свою сумку и буквально вырвала из рук генерала маленький складной ножичек, весь проржавевший, и, плача, стала его целовать: «Витенька, мой Витенька! Я всегда знала, что ты собой пожертвуешь ради других. Я же была тогда совсем рядом. Витенька! У тебя сын растет, уже взрослый он, мы с твоей мамой назвали его в честь твоего отца – Владимиром».
Все по очереди поздравляли Дорку, жали ей руку, тепло проводили.
– Будут какие-то просьбы, не стесняйтесь, обращайтесь, обязательно поможем жене героя.
Она и опомниться не успела, как оказалась со своей кошёлкой в одной руке и коробочкой с медалью и ножичком в другой на улице. Дошла до первого дерева, облокотилась на него и разжала руку: Витя, Витенька, бедный мой, родной. Сколько она так стояла, не помнила и не знала. Потом тихонько ноги сами её понесли по привычке на Софиевскую улицу, теперь Короленко. В магазине все замерли, когда, как привидение, появилась их уборщица Дорка. Она медленно зашла в магазин, поворачивая голову из стороны в сторону. Прислонившись к ближайшему от входа прилавку, стала сжимать и разжимать ладонь с коробочкой, в которой лежала Витенькина боевая награда, и застонала от душевной боли.
Перед её неожиданным появлением завмаг рвал и метал, что немедленно уволит эту наглую прогульщицу. Вышвырнет на улицу, кричал он. Теперь-то точно, она не отвертится. Два раза посылал продавщицу за Доркой домой, справиться, мало ли чего, вдруг заболела. Соседи сообщили, что видели, как она утром с сумкой куда-то ушла. Всё, потирал руки заведующий, песенка этой жидовки спета. Он уже и акт подготовил о её прогуле, да и других недостатков наберётся выше крыши. У него в книжечке прямо досье на эту особу. Избавится он в конце концов от этой четырёхглазой еврейки навсегда. Чума сраная, всюду суёт свой длинный нос. Надо же набраться нахальства заговорить с ним на идиш. С ним, русским Соколовым; он подошёл к висящему за ширмочкой в кабинете зеркалу и гордо посмотрел на себя в зеркало. Да, нос, конечно, подкачал, ничего не скажешь. Эта жидовская кровь никак не разбавляется, так и прёт в каждом поколении. Вот и у дочери шнобель уже растёт. У жены личико, как у куколки. Так нет же, дочка в него уродилася. Катенька смеётся и повторяет: это от того, что я тебя очень люблю. Оно, конечно, приятно, когда дочка отца любит, но как потом замуж выйдет с таким носищем.
Наконец ему дол ожил и: уборщица появилась. Так-с, он расправил перед зеркалом плечи, ещё раз посмотрел на себя в профиль, плюнул, гордо задрал голову, на ходу подтянул рвущиеся уже от давности подтяжки и рванул в атаку в торговый зал.
– Это что за ясное солнышко у нас засияло? Дора Моисеевна, для вас что, законы не писаны? Когда хочу, тогда прихожу на работу, что хочу – творю. Видите эту книжицу, в ней все ваши подвиги трудовые. Моё терпение волындаться с вами кончилось раз и навсегда. Вы уволены за систематические упущения в работе и за сегодняшний прогул. Забирайте свои рваные монатки и мотайте отсюда с моих глаз, быстрее, скатертью дорога. Всему коллективу надоели ваши закидоны. Как ни спрошу, где уборщица, почему в зале грязь, один ответ слышу: побежала домой, сейчас придёт. Так вот, Дора Моисеевна, можете навсегда у себя дома оставаться.
Заведующего бесило, как Дорка смотрела на него ничего не понимающими глазами, это же выражение полной остолопки. Дорка не шелохнулась, продолжала так же стоять на месте, казалось, она ничего не слышит и не видит. В её громадных очках только отражался свет магазинной люстры. Она вдруг словно очнулась и, улыбнувшись, протянула заведующему красную коробочку.
– Что вы мне тычете? – возмутился он. – Быстрее проваливайте, не мешайте работать.
Обступившие Дорку продавцы сами взяли из ее рук коробочку, раскрыли ее:
– Дорочка, что это?
Она еле слышно пролепетала:
– Медаль… Мой муж нашёлся! Заглатывая слёзы, дрожа всем телом, продолжала: – Мой Витенька нашёлся, мой муж, Вовчика папка. Я только что из военкомата, генерал Витенькину медаль вручил. Посмертно наградили. Герой ваш муж, сказал. Нашли его ребята-следопыты в окопчике под Одессой. По ножичку признали, вот по этому ножичку.
Дорка достала из сумки платок, вытерла им слезы, протерла выступивший на лбу пот. Без всякой злости, глаза в глаза, посмотрела на завмага:
– Не боюсь я вас, уйду. Я в сорок первом не боялась, на передовой была, окопы с девчатами рыли под самым носом у румын. И мой Витенька не испугался, до последнего патрона отстреливался, Одессу защищал с другими солдатиками-героями. Тоже мне напугали. Мыть полы везде смогу.
Она уже было развернулась, схватила свою сумку, чтобы уйти, как её обнял Дмитрич, пожилой прихрамывающий участник войны, продавец из отдела тканей:
– Да вы что, Дорочка, надумали – уходить? Так мы вас и отпустим. Вы нам всем, как мать родная, в этом магазине. И трудовой коллектив не надо примешивать, трудовой коллектив Дору Моисеевну в обиду не даст, заставит считаться с его мнением. Теперь не те времена.
Все осуждающе уставились на заведующего. Галка, бой-баба из парфюмерного, глотку кому хочешь перегрызет, с укором глядя на него, завопила своим грубоватым голосом, что тот много на себя берет, хозяином себя мнит, хотя в торговле ни черта не соображает, прислали по райкомовской разнарядке и думает, на него управы нет. Черта с два. А на всякие книжечки с недостатками у нас есть свои книжечки, правда, девочки, милиции очень интересно будет их прочитать.
Бойкая Галка выбежала из-за прилавка, схватила стоявшую у входной двери Доркину швабру:
– Желающие есть помахать? То-то. А ты, Константин Петрович, профсоюз липовый, что молчишь? В рот воды набрал или с утра начальственного коньяка залил туда, все угодить стараешься. На кой хрен ты нам такой нужен, только взносы собирать, переизберем, Дору Моисеевну выберем. Она честная женщина, порядочная. У нее сегодня такой день, а вы…
Заведующий хорошо знал про крутой нрав этой рыжеволосой Галки, она выросла среди блатных на Пересыпи, с блатными связь не теряла, и он откровенно побаивался ее.
– Так я что, я ж не знал. Причина уважительная, я бы сказал, великая. Я сам лично очень рад за вас, Дора Моисеевна, искренне рад, – лепетал завмаг, он не ожидал такого отпора. Но его уже никто не слушал.
Дорку все обнимали, целовали. Даже покупатели, которые за столько лет как будто бы с ней породнились. Новость сама перебежала дорогу и стала известна в ее дворе. Соседи по дому неслись в магазин поздравлять свою Дорку Витька нашёлся, Нины Андреевны сын, Доркин муж, Володькин отец нашёлся и с почестями захоронен. И вдруг Дорка осознала, что только сейчас, только сегодня, спустя столько лет, она получила это страшное извещение. Её Витенька умер сегодня, его убили сейчас. И никаких надежд у неё больше нет. Всё, расстрелян! Она схватилась за своё больное сердце, побледнела, в глазах потемнело, в ушах гул.
– Воды, воды, валерьянки накапайте ей, – закричала Галка. – «Скорую» вызывайте.
Дорку перенесли на диванчик в директорский кабинет. Галка хлопотала над ней, кричала, чтобы все расступились, раскрыли настежь двери, прикладывала к лицу влажное полотенце и причитала: ну как же так, Дорочка, такой день, помянуть Витеньку надо и свекровь твою, Нину Андреевну. Ни за что отмучилась женщина, бог смилостивится, устроит ей теперь встречу с сыном-героем на том свете. Дорка ничего не слышала, лежала тих о, в полудреме и не ведала, что «скорая помощь» с инфарктом отвезет ее в Еврейскую больницу. Вовчик изредка ее навещал, но долго не засиживался, все куда-то спешил. Дорка смирилась, соседки по пала те заполняли тоску и душевную пустоту своими рассказами. У каждой была своя история, нелегкая жизнь. Да и она сама что только не передумала, о чем только не вспомнила за этот месяц.
Дымоход старой печки
Большая семья Дорки жила на Молдаванке. Издавна в этом районе Одессы селились бедняки. Глава семейства Моисей работал на скотобойне. Маленький худенький еврей целый день выскабливал шкуры убитых животных, потом раскладывал, подвешивал, засыпал солью и запихивал в бочки. Страшная вонь, мухи и пахнущие падалью шкуры целый день мелькали перед глазами. К вечеру он мылся, переодевался, получал кусок хорошего мяса и шел припевая домой, не замечая тяжелого духа, который длинным шлейфом тянулся за ним.
Мать Дорки, Ципа, наоборот, была крупной ширококостной женщиной-командиром. С каждым родившимся ребенком она полнела все больше и больше. Дети часто болели и умирали, в живых осталось только четверо. Квартирка их состояла из двух маленьких полуподвальных комнатушек и кухоньки; дед Моисея, промышлявший, как многие на Молдаванке, контрабандой, построил все это в самом конце длинного двора. Перед каждой квартиркой были отгорожены заборчиком небольшие палисаднички, обвитые диким виноградом по самую трубу на крыше. Здесь мыли детей, стирали, готовили пищу, вся жизнь проходила в палисадниках. Посреди двора, рядом с туалетом и краном, росла большая акация – гордость и любимица обитателей этих трущоб.
Дорка, старшая в семье, первая пошла работать на фабрику. Крупная, в мать, она постриглась, повязала красную пролетарскую косынку; озорная, сильная, веселая, быстро освоилась и мечтала стать стахановкой-многостаночницей. Ее единогласно приняли в комсомол, и там она была первой. Однажды в их цех пришел работать невысокий, худенький, интеллигентный паренек, отслуживший армию. Они стали встречаться. Виктор жил в центре города с матерью, отец погиб еще в первую мировую. Нина Андреевна очень хотела, чтобы ее Витенька учился. Учились они уже вдвоем на рабфаке, вместе на фабрику вместе на занятия, вместе – общественные работы. Парочка стала неразлучной. Виктору надоело ежедневно провожать Дорку и они, никого не предупредив, не испросив согласия у родных, расписались.
Сначала объявили Доркиным родителям. Моисей стоял растерянно, на глаза навернулись слезы, и он не сказал ни слова. За то Ципа радостно пошла навстречу молодым, расцеловала их – и быстро начала доставать из шкафа Доркины вещички. Завязав их в узелок, сунула в руки Виктору и принялась своим большим телом быстро-быстро их выпроваживать. Молодые не успели опомниться, как оказались на улице. Так, пешком, с узелком, они, уже не очень радостные, медленно шли через весь город к дому Виктора. Энтузиазм Виктора улетучился – вдруг и его мама поступит так же, как Доркина? Она уже высказывалась нелицеприятно о Дорке. А он малодушничал, жалел мать и убеждал ее, что это просто дружба и ничего такого у них с Доркой нет. А ведь было… Дорка тоже притихла. Как провинившаяся, она плелась сзади мужа, строя планы назавтра пойти в профком и попросить общежитие. Но сегодня уже почти ночь.
В коммунальной квартире, где жила семья Ереминых, их комната по коридору была последней и угловой. Комната большая квадратная светлая с высокими потолками, от двери влево ее украшала выложенная белым кафелем печь. В углу между стенкой и печкой стояла никелированная кровать, на которой спала мать. Витькин кожаный диван с высокой спинкой прятался за круглым столом. Витька шел и корил себя – как же он мог не подумать о матери? И перед Доркой стыдно.
Нина Андреевна очень удивилась стуку в дверь. Обычно Витенька сам открывал, тихонько заходил, пил молоко с булочкой и ложился на уже постеленный диван, а тут вдруг стучит Она быстро накинула на плечи хала тик, открыла дверь и увидела парочку с узелком. По их сконфуженным лицам со взглядом нашкодивших взрослых детей она все поняла, достала из буфета бутылочку вина, расставила стопочки, нарезала сало ломтиками, разложила веером черный хлеб. Так, втроем, они отметили свадьбу. Икону Нина Андреевна хотела было снять со стены, но передумала, сама помолилась. Перестелила свою кровать для молодых, а сама улеглась калачиком на диван сына. Медленно скатывались слезы на подушку. Она вспоминала свое венчание. 14-й год, война, смерть мужа, рождение Витеньки. После жутких лет войны, революций, голода, холода родных никого не осталось, хорошо хоть Витеньку сохранила – и вот он уже женился. Господи, на еврейке. Мир перевернулся, с церквей кресты посбрасывали, собор, где венчалась, вообще взорвали. Да сейчас все атеисты, дай бог, чтобы у них было все хорошо.
Молодые возвращались с работы поздно, и теперь Нина Андреевна на стол ставила два стакана молока и две булочки. С собой она ничего не могла поделать, ревновала сына к невестке, пыталась ее воспитывать, но Дорка сопротивлялась и про себя называла ее старой барыней. Витенька готовился поступать в институт, Дорка закончила семилетку. Все чаще инициативная Дорка подзуживала мужа снести печку, которая занимает полкомнаты, но свекровь сопротивлялась. Дорка каждый раз приводила все новые доводы, что на первом этаже печки нет, там вообще две комнаты. Наконец Нина Андреевна сдалась – делайте что хотите. Пришел печник, осмотрел первый этаж, чердак, выпил стопочку и констатировал, что половина печки это дымоход от печки первого этажа и с подвала. Так что печку можно оставить, а лишние дымоходы выбрать, и освободится целых два квадрата площади. На том и порешили.
Работал печник медленно; чтобы не пачкать, от стенки разобрал проход и залазил вовнутрь. Кирпичи аккуратненько протирал, укладывал в сумки и уносил. Казалось, никогда он ее не разберет, пошел уже второй месяц, а он все уносил и уносил. Нина Андреевна старалась всего этого не замечать, и, едва печник появлялся в доме, тут же уходила гулять. Раньше, бывало, возьмет Витеньку и целый выходной с ним путешествует, теперь одна. По весне она любила ездить в Люстдорф, где со времен Екатерины жили немцы. Их аккуратненькие чистенькие домики с черепичными крышами блестели на солнце. С немецкой настойчивостью они в этой просоленной веками почве выращивали виноград, фруктовые деревья. После первой мировой многие семьи уехали, во время гражданской просто исчезли, теперь все здесь было в запустении. Правда, работал рыб-колхоз, можно было прикупить свежей рыбки, перламутровые сардельки лежали в каждой шаланде, накрытые брезентом. Их тут же, на берегу, перекладывали в ящики и грузили на подводы или редкие машины и везли на Привоз. Деревья цвели пышным цветом, особенно абрикосы, их розовые лепестки, словно бело-розовым снегом, обсыпали землю. Нина Андреевна шла по мощенным булыжником переулкам и вдыхала этот необыкновенный воздух с запахом моря и цветущих деревьев.
С появлением Дорки она даже в плохую погоду исчезала со своей Софиевской, садилась в трамвай и каталась по кругу. Кондукторши ее уже знали и разрешали не брать второй билет. Трамвай укачивал ее, а она, глядя в запотевшие окна, все вспоминала свое детство, родителей, мужа и, как, оставшись вдовой, с маленьким ребенком, без средств, пошла на биржу труда. Когда дошла ее очередь, уже ни на что не рассчитывала, брали только разнорабочих – мужчин и женщин. Отдав в окошко свой листок, сразу произнесла – согласна. «Что согласна?» – изумилась девушка в окошке. – «На все согласна». – «Понятно, идите во второй кабинет».
Ей предложили работу на телефонной станции, с тех пор она там так и трудится. С появлением Дорки Нине Андреевне домой возвращаться не хотелось. Она с удовольствием соглашалась на ночные смены или если кто-то просил ее о подмене. А еще эта затея с печкой. Пьянчужка печник действовал на нервы, кирпичики выбирал медленно, по одному. Хитрюга. Она догадывалась, что относит их кому-то на новую печку где сейчас взять такие? Но, с другой стороны, и грязи нет. Вот когда разберет стены по контуру – тог да будет. Ой, гуляю, а думаю все о Дорке. И как эта девка подцепила моего Витеньку? Правда, мальчик родился слабенький, потом голод, безденежье, поздно начал ходить. От армии несколько лет отсрочку давали – слабые легкие. С девушками вообще не встречался, сторонился их. Нет, это Дорка его на себе женила. Лето летело быстро, работы много, все хотят отдохнуть, хорошо завтра воскресенье, 22 июня. Поеду в Лютсдорф, накупаюсь, там все поспело, абрикосы, черешни, накуплю всего, мечтала Нина Андреевна, засыпая.
Нине Андреевне снилась война. Она металась по постели, очнулась вся в поту, дикий гул, взрывы, свист, дом дрожал. Сын в трусах стоял возле окна, барабаня пальцами по подоконнику он всегда так делал с детства, когда волновался. Не сговариваясь, выскочили во двор. Соседи растерянные кричали, плакали, прижимая к себе детей. Неужели война? Тихо произносили это страшное слово. Самолеты улетели, и все разом смолкло. Может, ошибка? Все разошлись. Витенька подошел к матери, обнял ее. Нина Андреевна вздрогнула, в 14-м вот так же обнималась с мужем последний раз. «Мама, помоги Дорке, она беременная, а мне собери что на до…» Дорка, белая, как мел, теребила поясок хала тика. «Витька, я тоже пойду я сдала ГТО, я хорошо стреляю». Она схватила мужа своими большими руками, и все хватала его, хватала… Нина Андреевна выбежала на улицу что-нибудь прикупить, но магазины опустели, пустые полки, и только по радио объявляли, что «Германия без объявления войны вероломно напала…»
Нина Андреевна знала, что ее тоже мобилизуют. Господи, немцы были в Одессе, и итальянцы, и французы, да кого только не было, но теперь-то кто их в город пустит. Вон военный правильно говорил – через месяц только пшик от Германии останется. Сама себя успокаивая, подошла к дому. Взглянула на темные окна: что сейчас идти, пусть побудут вдвоем. Села на лавку у ворот, она уж и забыла, когда скамейка была пустая. Ни детей, ни старух. Тишина. Вдруг смех, песни. Нина Андреевна обернулась. Посередине мостовой, как на демонстрацию, на призывной пункт шли парни и девчата в нарядных выпускных платьях. Витенька с Доркой ушли к вечеру. Она осталась одна, ходила от одного окна к другому – хоть бы Дорка вернулась.
Дорка вернулась только под утро, рухнула на кровать и завыла в подушку. Нине Андреевне жалко ее стало, пусть выплачется. У самой уже сил плакать не было, только сердце ныло. Ей сегодня в ночную смену, не бомбят, тихо, может, все обойдется, пойду сейчас, вдруг что-то узнаю. «Дора, я на работу, а ты отдохни», – сказала она. – «Я с вами, сначала к своим забегу, а потом на фабрику».
Нина Андреевна не возвращалась домой неделю. Там же на телефонной станции они спали, ели, а Дорка пошла в бригаду, охраняла дома в ночное время, бегала с девчонками по крышам, сбрасывали зажигательные бомбы, и, как только появлялась возможность, прибегала к свекрови. Забирала ее записку, оставляла свою – и опять в бригаду. На Днестре уже вовсю хозяйничали немцы. Город остался без пресной воды. Жители эвакуировались, на стенах домов висели порванные плакаты – «Не отдадим Одессу врагу!» Нина Андреевна написала Дорке, чтобы та с родителями немедленно уходили, однако записка лежала, а Дорка не появлялась.
Город напоминал раненое животное, у которого не осталось сил сопротивляться. Стены домов, как оспой, побиты осколками. Нина Андреевна шла домой и не верила своим глазам. Вот отвалившийся балкон, каким красивым он был, с чугунной решеточкой, как кружево. Когда двери были распахнуты, на у лицу доносились звуки рояля. А теперь вместо двери дыра. Напротив здание с обвалившимися вовнутрь крышей и перекрытиями. От угла улицы ее дом не проглядывался, и, пока его не увидит, сердце ее колотилось навылет, и лишь когда она видела свой дом, немного успокаивалась. Больше идти на работу не на до было. Начальство с первых дней войны своих жен и детей, всех родственников со скарбом отправили. Вот и сегодня их уже не было, остался один комендант, приказал сжечь личные дела сотрудников, разную документацию, все, что накопилось за многие годы, и разойтись.
Работая телефонисткой с первого дня войны, она, конечно, была в курсе всех событий в городе, но чтобы такую Приморскую армию эвакуировать, да так молниеносно, в одну ночь… Сколько окопов вырыли, два с лишним месяца готовились к обороне, и вдруг в одночасье, 15 октября, армия морем покидает город, оставляя его жителей, детей, стариков, женщин один на один с немцами. А может и хорошо, рассуждала Нина Андреевна, ее Витенька где-то уплывает сейчас, наверное, специально продуманный маневр, кто его знает.
Она уже не замечала, что частенько сама с собой разговаривает, сама задает вопросы и отвечает или не находит ответа.
Но где эта дура Дорка? Может, эвакуировалась с семьей, а если нет?.. Она уже знала, немцы всех евреев в Польше, в других странах сгоняют в специальные лагеря. Дверь квартиры была открыта настежь. Соседи укатили кто куда, и только сквозняк гулял по комнатам. Она захлопнула форточки, двери, села на свой диван и стала ждать. Временами ей казалось, что кто-то ходит по коридору или вздыхает, поднимается по лестнице, и тогда она срывалась с места, открывала дверь, но никого не было. Дни она не считала. И вдруг опять стреляют, где-то рядом настоящий бой. В городе наши! Но это были немцы. Несколько мотоциклов объезжали улицы и стреляли по окнам. Нине Андреевне вдруг жутко захотелось пить, но воды не было, за ней надо было идти на Пересыпский спуск, там из заброшенной штольни вытекал ручеек. Рано утром к нему тянулись с пустыми ведрами, очередь выстраивалась длиннющая, на целый день.
Город больше не бомбили. Люди из разбитых домов начали переселяться в свободные комнаты. Так, у Нины Андреевны появились соседи – две старушки и семья – пожилой мужчина с женой и две девочки-погодки, пятнадцати и шестнадцати лет. Она сказала им, что одинока, что муж погиб, сын в армии, почему-то о Дорке она ничего не сказала. Приходил новый назначенный дворник, на каждого составил карточку, сверяя с паспортом, наказал заполнить длиннющую анкету в двух экземплярах на двух языках. Нина Андреевна машинально ответила на вопросы, только о знании языков написала – нет Поразили ее сами вопросы – о национальности до третьего колена, членах партии. Значит, все-таки правда о евреях и коммунистах. Через пару дней дворник Иван Иванович, отвесив поклон и назвав ее мадам, поднялся к ней опять в комнату. Его узенькие глазки пронзили Нину Андреевну насквозь, а затем так и забегали по кругу в поисках чего-нибудь стоящего. Ничего хоть мало-мальски дорогого у нее давно не было, даже обручальное кольцо не сохранила, еще в 20-е выменяла его на продукты для Витеньки.
Иван Иванович поправил на тертую до блеска дворницкую бляху и торжественно вручил ей ее же паспорт, в котором стояла печать полиции, и предложил расписаться в новой дворовой книге. Паспорт всегда должен быть при вас, мадам, предупредил дворник. Его странное западенское произношение, манера говорить тяготили ее, и, сославшись на головокружение и плохое самочувствие, она пыталась поскорее выпроводить непрошеного гостя. Но он все давал ей советы пойти на биржу пока есть места, не умирать же с голоду. Это у вас, мадам, голова от голода кружится.
Нина Андреевна постоянно думала о Дорке, ее семье, она ведь толком даже адрес не знает. Знает, где-то на Молдаванке, а где? И с родителями Доркиными даже не познакомилась. Теперь вот Витенька скоро вернется, что она ему скажет.
Как рано посыпал снег, какой жуткий холод, такого в Одессе и не помнят. Правда, слышала иной раз от стариков: мол, как первая мировая или еще какая до нее – так крепкий мороз. Неужели и сейчас к долгой войне? Нужно подниматься и идти на биржу, другого выхода нет, еще немного – и уже не встану. Натянув на себя побольше теплого, перевязавшись крест-накрест шерстяным платком, доставшимся ей еще от матери, она, словно старушка, медленно спускалась по лестнице. Улица встретила ее «Заверюхой» – это когда страшенный ветер, сбить с ног пара пустяков, редкие прохожие, если только по нужде. И вдруг что это? Впереди на сытых, откормленных лошадях медленно ехали солдаты. Пригляделась. На немцев они не были похожи. Нина Андреевна прислушалась к речи. Что-то похожее на молдавскую. Румыны. По бокам бегали какие-то люди в полувоенной одежде с белыми повязками (она сообразила – полицаи) и криком подгоняли растянувшуюся по у лице колонну. Дети крепко цеплялись за взрослых, боясь потеряться; с трудом пробивая ветер, плелись старики, все тянули за собой на самодельных тележках немудреный скарб. Вдруг какая-то старуха стала заваливаться, ее подхватили, пытались тащить. Недолго. Вскоре она завалилась окончательно, и все двинулись дальше, обходя бездыханное тело.
Колонну замыкали два конника. Один из них, взмахнув рукой, подозвал полицая, очевидно, старшего, что-то шепнул ему. Тот склонился над женщиной, сорвал с головы платок, осмотрел оба уха, потом залез в карманы, расстегнул пальтишко, порылся за пазухой, что-то вытащил и быстро сунул к себе в брюки. Столь же сноровисто снял с рук перчатки, оглядел пальцы, затем стянул рваные ботики, брезгливо обшарил ноги. Ничего не найдя, он зло обтер снегом ладони и, приставив винтовку к груди, для верности выстрелил. Старуха даже не дернулась, только ее глаза продолжали немигающе смотреть в это страшное серое небо. Полицай, поправив овчинный тулупчик, побежал догонять колонну которая в снежной пелене скрылась уже из виду, уползая в сторону Пересыпи.
Нина Андреевна стояла, облокотясь о выступ какого-то здания, ноги ее не слушались, ее колотил озноб, она медленно развернулась и пошла обратно к дому. Теперь она не могла больше ни о чем думать, кроме Дорки. Где она, что с ней? Неужели беременная, с ее внуком в животе вот так, в колонне, идет на Пересыпь. С матерью, отцом, и сколько у них еще детей. Господи! Как же я забыла? Она вдруг вспомнила, как смеялась Дорка, рассказывая, что ее мать опять беременна. Она, наверное, родила уже. У Дорки семь месяцев – по пальцам считала Нина Андреевна. Слезы текли по лицу, смешиваясь с колючим снегом. У ворот стоял дворник в меховой шапке, валенках и белом кожухе, подпоясанный широким немецким ремнем. Бляха все так же блестела, он периодически протирал ее рукавицей.
– Мадам Еремина, что же вы в такую погоду выбрались. Ой, ой, что же вы себя так довели, вот сюда ножку, вот сюда. – Комната ее была открыта, непротоплена, холод собачий, он заволок ее на диван, обшарил пустой буфет, заглянул за ширмочку, даже под кроватью пусто. Ни припасов, ни воды – ничего. – Разве так можно, я счас, – быстро выпалил дворник и исчез.
Опомнилась Нина Андреевна, когда Иван Иванович заливал ей чай из ложечки в рот.
– Утром патрули были, весь дом вокруг облазили, нет ли партизан, больных каких и жидан, евреев, значит, рассказывал он. – На той неделе из 3-ей квартиры евреев выселили. Но в гетто им будет хорошо.
Теперь он каждый день стал заходить, приносил кашку, мятую картошку, супчик рыбный, суетился, кормя женщину.
– Иван Иванович, я на биржу собралась.
– Навыть? Я вас до родыча моего зведу з Карпат, вин артель видкрив, лис до него приходыть. Добрый человик, диловой, мабуть допоможеть.
Дворник помог, устроил на работу учетчицей в цех возле самого порта.
На третий день, возвращаясь со смены, Нина Андреевна неторопливо, сберегая силы, шла вдоль стены, временами держалась за нее – не упасть бы, темно, света на у лицах не было. Внезапно впереди замаячила фигурка, она то появлялась в проеме меж домами, то исчезала – показалось. И вдруг прямо из-под земли выросла Дорка. Нина Андреевна от неожиданности ахнула, медленно сползая на землю, ноги подкосились, хорошо, ухватилась за Доркину фуфайку. Облокотившись о стоявшую одиноко сафору женщины тихо плакали. Нина Андреевна мучительно думала: как незаметно провести Дорку? Дворнику нужно стучать в окно, он открывал ворота и сразу захлопывал их. Его надо как-то обмануть. Дора, я сделаю вид, что мне плохо прямо в воротах, он мне поможет, а ты быстро во двор. Потом… Я оставлю дверь в квартиру открытой, ты и прошмыгнешь.
Так и сделали. Пока Иван Иванович затаскивал Нину Андреевну на второй этаж, Дорка забежала во двор и спряталась в уборной. Нина Андреевна сказала дворнику, что отпустило, все в порядке, у нее есть хлеб, несколько яиц, она благодарна ему за все и обязательно с ним рассчитается. Она еще долго причитала, нахваливала Ивана Ивановича, выигрывая время, и наконец отпустила, услышав наказ поплотнее прихлопнуть дверь и набросить крючок.
Она слушала, как дворник спустился, как заскрежетал засов на воротах. Сердце ее билось громче этого скрежета. Нина Андреевна молилась, хоть бы кто не выглянул. В комнате она зажгла свечку, которую только сегодня купила, желтую румынскую, и присела на краешек дивана. Время тянулось медленно, наконец в дверях появилась тень, она, как привидение, двигалась на фоне дрожащей свечи. Нина Андреевна тут же последовала совету дворника, тщательно все позакрывала. Они долго стояли, крепко обнявшись, и молчали. Затем свекровь спохватилась – Дорка же голодная. Она выложила на стол все, что у нее было, налила в кружку кипятку. Дорка жадно пила, запихивала грязными руками хлеб и вдруг начала громко икать. Глотнула холодной воды, но икота не прекращалась, на лбу проступил пот. Нина Андреевна стала снимать с нее мокрую вонючую одежду, намочила полотенце, протерла худое тело. Не такая уж она крупная, и живот маленький. «Дора, сколько месяцев?» – «Не знаю, семь вроде бы». Она переодела Дорку отвела на кровать, сама улеглась на диван. Спрашивать дальше девушку не хотелось. Потом. Очнулась от забытья – уже светало. Растолкала Дорку, сказала, что закроет ее, поставила воду, ведро для нужды. Когда вышла на улицу, ворота были уже нараспашку, дворник расчищал снег возле уборной. Она кивнула ему с улыбкой и скрылась.
Хозяин цеха, украинец лет тридцати пяти, сразу оценил грамотность Нины Андреевны, ее пунктуальность, честность, как аккуратненько она ведет учет. Она сама тенью ходила за ним, старалась ему понравиться, ненавязчиво подсказывала, как будет лучше, что выгоднее делать. Мыкола Стэпанович, так звали молодого хозяина, смотрел на всех исподлобья, орал на рабочих до обеда, и Нине Андреевне тоже иногда доставалось. В обед выпивал пару чарок, закусывал куском домашней свиной колбасы или салом, очень любил жареную рыбу, и прямо на глазах менялся, начинал напевать себе под нос, потом опять принимал чарочку, еще больше теплел, и теперь к нему можно было обращаться с любыми вопросами. Душа человек. Дела шли хорошо, цех процветал, постепенно расширялся. С его родины, с Буга, поступал лес, пилорама приносила доход, заработала столярка, заказов много, табуретки, оконные рамы, двери нарасхват.
На работу хозяин приезжал на собственной машине. Эти малолитражки, как тараканы-прусаки, стали все больше появляться на одесских улицах. К Новому году Мыкола обустроил себе кабинет и все чаще стал просить Нину Андреевну накрывать ему стол. Она старалась особенно, когда кто-то заглядывал к нему. Она красиво сервировала, нарезала и раскладывала закуску, ставила рюмочки, бокалы. После обеда хозяин отдыхал, как боров развалясь на диване. Нина Андреевна убирала со стола, спрашивала, куда это положить. «Оце забырайте соби, нехай пацюкив не буде».
Так Нина Андреевна каждый день несла Дорке что-нибудь вкусненькое. А Дорка целыми днями лежала, иногда неслышно ходила по комнате и в ужасе думала, что будет дальше. Приближался 1942-й год. Нина Андреевна думала только о ней, бегала на Привоз или куда поближе, покупала пеленки, одеяльце, однажды ей повезло – купила немецкую маленькую бутылочку с соской. Хотела еще одну, да не было больше. В аптеках продавались, но дорого. Деньги ходили в обращении разные – и советские руб ли, и оккупационные марки, даже рейхсмарки, на них охотнее продавали, даже уступали в цене. Нина Андреевна купила новое корыто, купать ребенка, только подошла к воротам – там дворник.
– Что это вы с корытом новым, у вас же есть?
– Да прохудилось оно, выбросила, – ляпнула Нина Андреевна первое, что пришло в голову.
– Давайте подсоблю вам, занесу.
– Да что вы, Иван Иванович, и так я не знаю, как вас за все благодарить.
– Вот и приглашайте на чаек, праздник же скоро.
Он подхватил корыто и устремился вверх по лестнице. У Нины Андреевны отнялись ноги, сейчас в коридоре он увидит ее старое, совсем не дырявое.
– Ну, Иван Иванович, что вы, дорогой, спасибо, – она вырывала одной рукой корыто, а другой гладила его по груди; на глаза навернулись слезы. – Какой вы золотой человек!
Дворник, красный от смущения, довольный, заулыбался:
– Рад служить хорошим людям. Ну як там мой сват, не балуе?
– Ну что вы, добрый хлопец.
Когда Нина Андреевна захлопнула за собой дверь, первое, что она сделала, сорвала старое корыто со стены, открыла дверь в комнату и влетела в нее с двумя, к ужасу изумленной Дорки. Она не сдерживалась, рыдала, уткнувшись в Доркин живот. Дорка тоже заревела, так они и плакали, пока не стало легче.
– Корыто, корыто… Надо упрятать корыто.
– Зачем? – Дорка смотрела на свекровь своими большими, покрасневшими от слез глазами.
– Дворник видел.
– И что из того? – Дорка не унималась, высмаркиваясь в чистую тряпочку.
– Я ж ему соврала, сказала, что старое в дырках, я его выбросила, а он хотел с новым помочь, зайти, представляешь?
– Мама, я знаю, что делать. В печку можно спрятать, там поместится, только шибко грязно, сажа.
Нина Андреевна вздрогнула. До этого Дорка никак не называла ее, ни по имени-отчеству, только глаголила – дайте, возьмите, вы… Ай, Дорка, совсем девчонка, обстриженная голова, пришлось отстричь волосы из-за вшей и гнид. Все лопочет, поглаживая живот: «Нас трое, мама, Витенька вернется скоро, нами будет гордиться, правда?»
Женщины, не раздеваясь, улеглись на кровать, вплотную придвинув ее к печке, чтобы было потеплее. Наутро Нине Андреевне не нужно было рано на работу, и она не торопилась подниматься. «Мама, мама, немцы», – Дорка трясла ее за плечо, «Гдe, где?» «На улице машина, по двору ходят».
Свекровь подбежала к окну, стекла замерзли и только в маленькие просветы вверху рамы можно было разглядеть Ивана Ивановича в окружении немцев. Он что-то объяснял им, показывая на окна. Дорка завыла. «Замолчи ты, – Нина Андреевна лихорадочно вертела головой. И вдруг глазами остановились на печке: – Быстро сюда, залазь! Печник же там умещался, работал».
Они бросились к кровати, отодвинули ее, разобрали проход. Дорка засунула голову в проем и в ужасе отшатнулась. «Не так, ногами надо. Как печник», – застонала Нина Андреевна. Дорка, придерживая живот и вся трясясь, сама не зная как, оказалась в дымоходе. Свекровь быстро заложила кирпичи, придвинула кровать, набросала подушек, одеял, за тем снова прильнула к окну. У ворот дежурили два солдата, они курили, других не было видно. Она подошла к двери, прислушалась. Раздался стук и голос Ивана Ивановича:
– Видчыняйте! Открывайте!
Из соседних комнат выглядывали испуганные соседи, никто не двигался. Нина Андреевна каким-то странным чужим голосом спросила:
– Иван Иванович, дружочек, это вы?
– Та я, я, видчыняйте.
Первым прошел солдат, автоматом открывая все двери подряд и осматривая комнаты. Жильцы с дворником и офицером проследовали на кухню. Там на столе Иван Иванович раскрыл дворовую книгу, приказал приготовить паспорта. Бросив взгляд на Нину Андреевну, он спросил: «Шо вы вся в саже?» – «Да я, да я… печку растапливаю, золу вытаскивала». Дворник вздохнул, и она увидела, что сам он бледный, нервничает. «Еремина Нина Андреевна, 1895 года рождения, проживает с 1920 года в этой квартире. Вдова, русская, здорова, вот здесь все записано. Благонадежная», – водя пальцем по строке и запинаясь чуть ли не каждом слове, читал он. Офицер брезгливо выхватил паспорт из рук Нины Андреевны, посмотрел на фото, потом на нее: «Когда получали паспорт?» – выпалил он. «До войны еще, года три тому». «Где сын?» «Забрали, сразу забрали», – заголосила в крик Нина Андреевна, не выдержав напряжения. Офицер отдал документ: «Идите. Следующий».
– Нина Андреевна, не стойте здесь, ступайте, у вас все в порядке, – подтолкнул женщину Иван Иванович. Открыть дверь своей комнаты она не решалась, навалилась на нее всем своим телом, прислушиваясь к голосам на кухне. Следующими были старушки, они разговаривали с офицером и по-немецки, и по-французски, он даже смеялся. У них тоже все было в порядке. Обе, улыбаясь и подмигнув Нине Андреевне, скрылись в своей комнате. Дочкам третьих соседей офицер долго выписывал какие-то бумажки, они расписывались молча, бледные и растерянные.
Только когда они ушли, у Нины Андреевны отлегло: «Слава Богу, пронесло, как там Дорка?» Она отодвинула кровать, вытащила кирпичи:
– Ты где, все обошлось, вылазь.
Когда Дорка, вся в саже, вылезла, Нина Андреевна сунула ей зеркало – и обе покатились со смеху.
– Ну, хватит, теперь знаем, что нужно делать, – Нина Андреевна чмокнула невестку в черную от копоти щеку. Неделю белили кирпичи, с работы Нина Андреевна принесла по частям табурет, сложили его в печке, потом притащила кусок фанеры, соорудили там лавку, корыто старое пристроили под детскую кроватку.
Но Нина Андреевна была недовольна, все-таки видно, нужно чем-то завесить. Денег было мало, она крутилась на толкучке, искала какой-то коврик, наконец нашла, самодельный, с лубочным рисунком, зато по размеру как раз. Старушка, продававшая его, сама удивилась: такая интеллигентка – и вдруг такое купила. Когда повесили – успокоились, теперь нужно только отогнуть угол и забраться вовнутрь, а оттуда заложить ровненько кирпичи. И все… Нину Андреевну понемногу отпустил страх за Дорку, за внука, она была уверена – это мальчик, и назовут они его Володькой. Как мужу шло это имя! Дорка постепенно приспособилась, где сидеть или стоять, чтобы не слышно было, если вдруг захочется чихнуть или кашлянуть, или дворник, кто-то другой придет. Решили, лучше спиной к печке.
Теперь другая мысль, как Дорке рожать, не давала покоя. В книжной лавке она купила старый акушерский справочник «Роды и родовспоможение», несколько раз прочитала сама, заставила читать Дорку. За печкой все было готово, аккуратно сложено стопкой, даже фонарик был, Витенькин, Нина Андреевна случайно наткнулась на него, роясь в комоде. Завтра Новый год, нужно Ивана Ивановича поздравить, а то и пригласить. Не к пустому же столу. Она заготовила бутылку водки, немецкие папиросы, а для жены дворника – маленький флакончик духов, хозяин ей подарил.
Под новогодний вечер Нина Андреевна приоделась, подождала, пока Дорка залезет в печку, спустилась вниз. Долго стучалась, никто не откликался, хотела было вернуться, как услышала шаги. Дверь приоткрылась, на пороге стояла дворницкая жена, женщина неопределенного возраста, она редко выходила на улицу, ни с кем не общалась. К себе Нину Андреевну не пустила, подарки приняла, поблагодарила, сказала, что мужа нет дома, и скрылась в коридорной темноте.
Так даже лучше, думала Нина Андреевна, устало поднимаясь по лестнице. Сейчас скажу Дорке, что ее тоже ждет подарок – лимон и маленький мандарин. Ели из одной тарелки по очереди, на всякий случай. Когда Нина Андреевна готовила на кухне или выносила мусор, Дорка скрывалась в печке. Один раз зашла соседка, как раз Нина Андреевна была на кухне, тихонько позвала ее; видя, что в комнате никого нет, подбежала к буфету. Дорка стояла за ширмочкой ни жива ни мертва. Хорошо, мама вернулась с кастрюлей, и соседка ничего не обнаружила. Сейчас конспирация должна быть на первом месте, я тебя контролирую, ты – меня. Поняла? Жалко было Дорку. Ноги отекли, лицо бледное, живот вырос прямо на глазах, еле протискивается. Но Дорка старалась ежедневно раз 15–20 проделывать эту зарядку бесшумно в полной темноте.
На Новый год Нина Андреевна постелила праздничную скатерть, тарелка на ней стояла одна, свою кружку и вилку Дорка не выпускала из рук, в случае чего с ними и должна была спрятаться. Из вазочки торчала лапка елочки, от нее исходил сладкий липкий запах хвои. Дорка поела, положила голову на колени Нины Андреевны, свекровь, гладя ее по волосам, рассказывала, что творится в городе. Дорка внимательно слушала, а когда свекровь закончила, ее как будто прорвало, и она стала рассказывать свою историю. Как с бригадой копала окопы, как бегала по крышам и сбрасывала зажигательные бомбы, как таскала раненых. Как один пожилой солдат сказал ей: «Дочка, уходите домой, все, Одессу оставляют». Ночью на машины грузили раненых, девчонок, чтобы ухаживать за ними, не брали, не положено. И они, умирая от страха, пробирались назад в город.
А дома опять рожала мать. Ципа сильно кричала на отца, тот от растерянности ничего не мог делать. Дети сидели на улице и при криках матери вздрагивали и плакали. До этого Ципа рожала в «родилке», как называли специальную больницу, и Моисей, гордый и счастливый, ходил смотреть на новорожденного, которого жена показывала ему в окно. Дорка понимала, что скоро и ее ждут такие же муки. Мать быстро справилась, появилась девочка – крупная, с рыженьким пушком на головке. За ужином отец, выпив вина, раскрасневшись и охмелев, начал говорить, что братья Трейгеры с семьями давно эвакуировались, прихватив с собой добро, а он не верит, чтобы немцы что-то плохое сделали евреям – это пропаганда. Были немцы в 18-м в Одессе, ну и что? Что они сделали простым евреям – ничего. Он сам работал у немца, сытно кормили и еще денег давали. Дорке противно было слушать отца, а рассказывать ему, что она насмотрелась в окопах, о страданиях раненых, трупах не хотелось – все равно не поверит. «Иди спать, папа».
Город притих, словно вымер. Немцы входили, практически не встречая никакого сопротивления, кое-где, правда, постреливало, но тут же умолкало. Казалась, такой массе танков, машин, мотоциклов, людей негде разместиться, однако все вмещалось и вмещалось. На перекрестках появились патрули. Это были румыны, немцы объезжали их с проверками. Дворы оцеплялись, целыми кварталами, каждую квартиру обходили, подсчитывали людей, заполняли карточки. На ворота наклеивали плакаты – распоряжения на немецком и русском языках. Моисей уже несколько раз бегал читать, спорил с соседями, однажды вернулся и с порога: «Давайте переезжать, хата Люси Коган свободна, сколько там комнат, всем хватит. Ну что сидите?» Глаза его лихорадочно блестели, но переселяться ни у кого желания не было. Лицо Ципы осунулось, она сидела молча, не реагируя на слова мужа, ноги широко расставлены, в руках держала новорожденную, из сорочки свисала большая мягкая грудь, младенец сосал ее. Маленький рот девочки не успевал заглатывать все молоко, и оно стекало по Ципиной рубашке, «Ух, лентяйского рода, сразу видать», – добродушно улыбаясь и подкладывая тряпочку под щечку дочки, выговаривала мать. Дорка варила в казане кашу, медленно помешивая. Она думала об отце, он понял все, поэтому и заговорил о переезде. Отдельной строкой в распоряжении было написано, что лица «еврейской национальности» будут переселены в гетто, за неповиновение – расстрел.
Моисей снова побежал на улицу, его магнитом тянуло к этому распоряжению, он никак не мог поверить. Через несколько дней во дворе объявились немцы, с ними полицай с повязкой на руке. Прикладами они стучали в квартиру Колесниченко. Долго никто не открывал. Они выломали дверь, выволокли старого коммуниста Ивана Колесниченко, невестку и двух внуков. Весь двор в ужасе смотрел на приговоренных. Дед обнял детей, их мать старалась что-то объяснить, опустилась на колени, молилась, кричала. Офицер взмахнул рукой, раздались выстрелы, все разом упали, как в кино. Тишина, только каркнула ворона и взлетела стайка воробьев. Солнце стояло в зените белесое от зноя, небо равнодушно гнало мелкие об лачка. Немцы укатили, народ разошелся в оцепенении, только старый коммунист Колесниченко остался лежать с невесткой и любимыми мальчишками. Еще одна квартира освободилась…
Семью нужно было кормить. Дорка видела – на отца никакой надежды. Он целыми днями сидел во дворе на ящике и что-то бубнил себе под нос, как чокнутый. Дорка с сестрами пошла в город, может удастся что-нибудь купить съестного. На Степовой магазины позакрывались, но Привоз открыт, толпился разный люд. Боясь потеряться в толкучке, девочки держались за руки. С трудом им удалось купить полмешка прелой гречки, они двинулись на выход, отошли, наверное, квартала на два, как подъехали грузовики с немцами, оцепили базар, раздались выстрелы, крики. Дорка вся побледнела от испуга, поняла, что вместе с сестрами была на волоске от смерти. Одной рукой она поддерживала мешок, другой – живот. Долго, с оглядкой, знакомыми дворами пробирались домой, не переводя дыхание, так и вломились в дверь. «Шо вы так запыхались, хто за вами гнався?» Дорка не знала, что ответить отцу Мать бросилась к девочкам, они, задыхаясь, рассказывали, как едва не угодили в облаву. «А чего вас туда потянуло?» – не унимался отец. «За ткнись, идиет», – Ципа все чаще теперь так его обзывала. Как она могла связать свою жизнь с этим никчемным человеком. Но отцу было все равно, он хотел кушать: «А когда жрать будем?»
Гречку принесли сырой, ее нужно было обжарить, мама стояла над казаном, мешала крупу, и слезы крупными каплями падали в чугунку. Вечером в окошко постучали, заглянула соседка, она тоже недавно родила, но у нее не было молока, и она умоляла Циггу подкармливать ее ребенка. Ципа согласилась, ночью принесли малютку и мешок пшеницы. Во дворе спилили старую акацию, пристанище воробьев, с крыш сараев и с подвалов исчезли кошки; стая собак на пустыре исчезла еще летом, теперь на этом месте стояли силки, в которые попадали птицы. Еврейские семьи ждали, когда за ними придут и начнут переселять в гетто. Мать со старшими девочками сшили каждому заплечный мешок. В них уложили самое необходимое – мыло, полотенце, кружку, ложку, не забыли про метрики.
Румыны вместе с полицаем пришли во двор дождливым утром. Охрипшим голосом полицай зачитал приказ: «Всем лицам еврейской национальности незамедлительно покинуть свои дома, за непослушание будут расстреляны. Хайль Гитлер!» Целый день простояли под осенним холодным дождем и ждали отправки. Никто за ними не приходил. Старуха Блюм плюнула на все и вернулась в свою каморку, затопила печку, закрыла задвижку дымохода и уснула. Навсегда. Поздно вечером нагрянули с проверкой. Не досчитавшись старухи Блюм, пошли за ней. Ночью повалил снег, стало еще холоднее, люди сидели на мокрой земле, стараясь тесно прижаться друг к другу чтобы согреться. Мимо проезжали машины, редкие прохожие смотрели на несчастных, как на прокаженных, боясь заразиться.
Ципа шептала Дорке что-то на ухо, та отнекивалась, но мать убеждала ее. Хотелось есть, но пищи не было никакой. Во двор ходили в уборную и воды из крана попить. Дорка тоже ходила, в животе шевелился ребенок, он тоже кушать просит, ему холодно, вон как бьется. Отец и дети спали, мать толкнула Дорку – вставай, беги. Дорка машинально поднялась, накрыла мать своим одеялом и тихо растворилась в ночи. Никто ее не окликнул, патрули грелись в будках; она медленно шла по ночным улицам, с рассветом почти дошла, но услышала шум мотора и спряталась в развалинах разбомбленного дома. Уже было совсем светло, в руинах Дорка отыскала место, куда не капал дождь, и там, под уцелевшими ступеньками, забылась. Целый день с нетерпением дожидалась темноты, чтобы выползти из своего укрытия и идти дальше. Ее бил сильный озноб, когда наконец она увидела дом свекрови. Ключи от квартиры, комнаты у нее были, только вот новые ворота закрыты. Она завернула за угол посмотреть, светятся ли окна. Они были темными, как все окна на улице. «И вдруг вижу– вы идете. Вот и все».
Нина Андреевна выслушала Дорку не шевелясь. Руки, ноги онемели, Дорка стала растирать ее всю, целовать в лицо, плечи, уложила на диван, присела рядышком.
Заканчивался январь, хозяин Нины Андреевны стал пораньше отпускать ее домой, к нему в кабинет все чаще стала заглядывать одна из рабочих – Люська. Нина Андреевна утром первым делом убирала следы их «вечерней работы».
Вот и сегодня он отпустил ее пораньше. Нина Андреевна бодро шла по улице, согреваясь быстрым шагом, зима в Одессе была действительно лютой. Открылось много новых магазинов, небольших пекарней, все частное, как при НЭПе, витрины светились празднично, всюду какие-то конторы, заметно прибавилось комиссионок и автомобилей. И туристов. Они разгуливали по у лицам, нарядные, дамы в шубках, мужчины в длинных пальто, веселились, распивали шампанское, войны как будто и не было. Нина Андреевна одну такую гулящую компанию заприметила на бульваре, когда забежала в пекарню купить хлеба. Схватила свежую белую буханку – и мигом домой. Усилившийся с моря ветер толкал ее в спину Открыла дверь в комнату, увидела Дорку сидящую на полу на клеенке в расстегнутом халате. Во рту она держала скрученное вафельное полотенце. Вдруг она вся напряглась, лицо раскраснелось, на шее вздулись жилы, и только тихое мычание в полотенце слышала Нина Андреевна.
Она закрыла за собой дверь на щеколду схватила подушку и подложила Дорке под спину. Схватка прошла, Дорка выплюнула полотенце, попросила воды, жадно глотнула. Дорка умница, все приготовила для родов, удобно разложила вокруг себя.
– Все будет хорошо, – Нина Андреевна взяла Доркину руку и прижала к груди, – воды отошли, я с тобой, потерпи еще немножко.
Дорка опять закрутила полотенце, прикусила его зубами. Нина Андреевна показала ей большой палец – держись! Дорка руками обхватила ноги, свекровь подсунула ей чистую пеленку.
– Тужься, тужься, молодчина! – Нина Андреевна, как могла, подбадривала невестку. Дорка разжала руки, откинулась назад, казалось, это никогда не кончится. Обе женщины лежали на полу, отдыхали. Вдруг Нина Андреевна вспомнила, что нужно нажимать на живот. Нина Андреевна толкала его вниз, вниз, потом рукой нащупала появившуюся головку, подставила обе руки.
– Давай, родная, давай! Все! – вытянув ребенка на простынку, она, как заправский акушер, перерезала пуповину, перевязала, замазала зеленкой, перевернула на животик, открыла ротик, бинтиком обтерла язычок и беззубые десенки. Опять перевернула, и вдруг он как заорет. От испуга Нина Андреевна чуть не выронила младенца. Обтерла грудь Дорке и сунула ему в рот сосок. Дорка улыбалась, поднялась с пола, легла с сыном на кровать и мгновенно уснула. Нина Андреевна все вымыла, перестирала, сварила на кухне суп и тоже улеглась. У нее уже не было сил подумать, что дальше будет, завтра, послезавтра. Небо очистилось от об лаков, просветлело, месяц заглядывал в окно. «Вот я и бабушка», – вздохнула она и уснула.
Дни летели быстро, хлопотно, одна радость – Вовчик. Женщины могли часами смотреть, как он спит, морщится, зевает, смотрит. Дорка обвязалась большим платком и засовывала туда сына. Она так боялась, что он заплачет, и старалась в отсутствие Нины Андреевны сидеть с ним в печке. Женщины растирали запаренный мак и поили Вовчика сладенькой водичкой, чтобы подольше спал.
Наступила весна, зацвели деревья. Когда малыш крепко засыпал, Дорка стояла с ним у открытой форточки. Боязно было. Только в печке она чувствовала себя в безопасности. Нина Андреевна старалась поменьше рассказывать, что происходит в городе, не хотела ее огорчать. Туристский бум еще сильнее охватил Одессу. Только теперь сюда все больше стекались коммерсанты, они скупали дома, дачи. Весь центр был в шикарных дорогих ресторанах. Кутили в основном румыны. Пестро разодетые, малообразованные, они корчили из себя богачей. Нина Андреевна, торопясь на работу, старалась обходить Дерибасовскую, чтобы лишний раз не видеть эту развалившуюся на стульях праздную публику. Для хозяина она теперь готовила отчет на имя губернатора «Транснистрии», как теперь называлась Одесская область.
Сегодня утром Нина Андреевна зашла в кабинет к хозяину и обмерла: на стене висели три портрета в одинаковых рамах – Гитлера, короля Михая и губернатора «Транснистрии» Алексяну Она узнала рамы, в них раньше были портреты Ленина, Сталина и Карла Маркса, рамы пылились в цеху за шкафом с инструментом. В порту случился пожар. За ночь стены домов обклеивали листовками с призывом оказывать сопротивление оккупантов. Немцев почти не осталось в городе, патрулировали везде только румыны. Молодых солдат среди них уже не было, в основном мужчины средних лег по всему: неопрятному виду взгляду, рукам, чувствовалось – крестьяне.
Облавы стали реже, у кого в порядке паспорт, отпускали, иногда даже отдавали честь. В постоянных заботах пролетели лето, осень. Нина Андреевна радовалась быстрому бегу времени. Мальчик рос, правда, был слабенький, хватало силенок только cocaть мамину грудь. Но грудь была почти пустой. Дорка плохо ела, стала плохо видеть.
43-й год даже не отметили, одна радость – у Вовчика прорезались сразу два нижних зубика и выросли на голове черненькие волосики, мягкие, как пух. От Ивана Ивановича Нина Андреевна услышала, что у соседей угнали в Германию обеих девочек-погодок.
– Да, я что-то давно никого не вижу.
– Так они перебрались к родителям на Ольшевскую. А старушки каждый день надевают шляпки и идут на Дерибасовскую, попрошайничают. По-французски песенки поют. Им дают, жалеют бабушек.
– У каждого свое горе, – вырвалось у Нины Андреевны. Она спохватилась, но Иван Иванович, опустив голову, поддержал ее:
– Да, да, у каждого свое.
Зима опять выдалась суровой, снежной, море замерзло до самого горизонта. Приходилось каждый вечер протапливать печку. Хозяин отправил Нине Андреевне целую машину деревянных обрезков, отобрали самые удобные для топки, ни пилить, ни колоть не надо было. Их сложили в сарае, и Нина Андреевна до работы заносила чурки в комнату, чтобы к ночи оттаяли. Какое счастье, что тогда разобрали дымоход. Дорка целый день сидела там, прижавшись спиной к теплым кирпичам. Вовчик лежал в платке под грудью, играл ручками с деревянными бусами, которые она вешала себе на шею вместо погремушки. Платок натер шею в кровь, она его развязала, положила Вовчика в корыто, сама за дремала. Проснулась – ни платка, ни сына, опустила руку в корыто, и в нем его нет. Пошаркала ногами, вот он, у нее под коленками, выполз сам. Молодец, сынок, взрослеет.
Нина Андреевна температурила. Хозяин велел идти домой. Она не спешила, она специально уходила, чтобы не заразить Дорку с малышом, он и так все время сопел, носик заложен, тяжело дышит Разболелись все. Вовчик в подвязанной торбе лежать не хотел, царапался, капризничал. Дорка плакала, засовывала его обратно, он опять начинал орать, тогда она брала сына на руки. Полностью выпрямиться не получалось, приходилось часами держать на полусогнутых ногах. Ноги немели, набухали вены. Нина Андреевна продолжала хмыкать носом, чихала, но на улицу выходить все равно нужно было, хотя бы через день. Хлеб, дрова, вода. Хорошо, что кое-что из еды в доме припасла.
Весна нагрянула неожиданно, дружно, солнце расправилось с зимой на удивление быстро. Заголосили птицы. На Соборной из репродуктора гремели бравурные немецкие марши; пламенные речи призывали население помогать «великой Германии». Однако чувствовалось, что дела у немцев не ахти. Вести с фронта просачивались радостные, Красная Армия наступала. Все больницы, дома отдыха, санатории были забиты ранеными, и они все прибывали и прибывали. Ресторанчики позакрывались, праздная публика испарилась, смело и туристов, приезжавших скупить что-нибудь по дешевке, а потом продать в Румынии. В конце марта в городе объявились итальянские части. Итальянцев доставляли пароходами, а затем железной дорогой отправляли дальше на фронт.
Каждый день Нина Андреевна приходила с работы с хорошими новостями. Хозяин часто куда-то уезжал, его не было целыми неделями, и тогда все дела он доверял ей. Нине Андреевне это не нравилось, она боялась, что в один прекрасный день хозяин исчезнет насовсем. Но пока он все-таки возвращался, сразу начинал кричать, топать ногой, наводил порядок, потом выпивал чарку другую, успокаивался и приговаривал: «Та будь шо будет».
Опять потянулись облака, накрапывали нудные осенние дожди, темень. Витрины уже не светились, не мылись стекла, магазины были в табличках – «Сдается» или «Продается». Под их двери ветер гнал опавшие листья и мусор, однако никто его не убирал. Нина Андреевна моталась по базарам, высматривала подарки Вовчику на день рождения, тщательно прятала, чтобы никто не видел, особенно Иван Иванович. Шерстяной костюмчик и шапочка были как раз, первые ботиночки чуть великоваты, ничего, на вырост. Малыш еще не ходил, но ползал бойко. Он неожиданно мог закричать, Дорка его еле догоняла. Женщины совсем потеряли покой, а вдруг шорох и детский голос кто услышит, хотя в квартире кроме старушек никого не было, да и они длинными вечерам сидели у себя, лишь изредка на кухню наведывались. Дорка стала еще хуже видеть, жмурилась от света. Нина Андреевна понимала – болезнь от вечного страха.
Одесситы, встречаясь, взглядами как бы приветствовали друг друга, скоро конец оккупантам. Все ближе слышалась фронтовая канонада, молва доносила о партизанах из катакомб, замуровать их там немцам не удалось, участились случаи саботажа, взрывы в порту и на железной дороге. Немцы были в ярости, людей опять стали хватать на улицах, без разбора, всех подряд. Город заметно опустел. Бесчинствовали мародеры, власовцы, румыны. Иван Иванович круглыми сутками держал ворота запертыми.
Хозяин теперь платил Нине Андреевне только оккупационными марками, она старалась их сразу тратить, почти все уходило на продукты. Но вот и он пропал, лес на пилораму больше не поступал, рабочим делать было нечего, они приходили с единственной целью – что-то украсть. Нина Андреевна не сопротивлялась, сама же ничего не трогала. За неделю растащили все, и она, прихватив документацию, тоже перестала появляться в цеху. Войска наступали стремительно, бои шли уже в городе. От взрывов ворота слетели с петель, Иван Иванович не поправлял, он сам все реже выходил на улицу. Вдруг со стороны спуска Короленко раздался мощный гул. Дом дрожал, и печка дрожала, казалось, вот-вот все завалится и их придавит кирпичами. Нина Андреевна догадалась – танки. Они шли и шли мимо их дома. Дорка отчетливо слышала раскатистое «Ура!», и ей почудилось, что сейчас дверь откроется и зайдет их с Ниной Андреевной Витенька, обнимет, увидит сына. Следующим утром все стихло. Нина Андреевна решила сходить к дворнику. Дверь в квартиру была открыта, за столом сидели хозяин с женой, а на самодельном высоком стульчике мальчик, на вид лет двенадцати.
– Вот, Нина Андреевна, сохранили мы сына, он с рождения у нас парализованный, – Иван Иванович тяжело вздохнул, голос его задрожал, слезы текли по впалым щекам. Дворницкую жену бил озноб, мальчик, улыбаясь, доверчиво смотрел на Нину Андреевну и тянул к ней свои исхудавшие ручонки. Из его рта текли слюни.
Нина Андреевна, глядя на больного мальчугана, стояла как вкопанная, слова не могла выдавить, а Иван Иванович все причитал:
– Я ничего никому плохого не сделал.
– Да, я знаю, я тоже сохранила свою невестку и внука, сегодня они выйдут на улицу. Два года без белого света.
– Где, где? – Иван Иванович от неожиданности плюхнулся на стул.
Нина Андреевна гордо выпрямилась, повернулась и ушла. Сколько дней и ночей она ждала этого момента, сколько всего вынесла. Она торжествовала. Победа, победа, мы победили, я победила, Витенька мой победил, Дорка победила, Вовчик двухлетний победил, этот мальчик-инвалид победил!!! Она еще долго не могла успокоиться и вдруг заревела. Слезы крупным градом текли по лицу.
Иван Иванович засеменил за ней:
– Что вы такое говорите? Откуда невестка с внуком? У вас же никого не было.
Он недоверчиво посмотрел на Нину Андреевну. Она давно вызывала у дворника подозрение – все ли в порядке с головой. Бесконечные ночные стирки, ходила, как мышка, ни с кем не общалась, так, изредка, парой слов перекинется – и шмыг домой. Нина Андреевна стояла посредине комнаты, волосы ее растрепались, заплаканные глаза горели.
– Выходи, Дора, конец твоему заключению, – Нина Андреевна с силой сорвала коврик, и Иван Иванович обомлел, увидев медленно выползающую из печки Дорку.
– А где ребенок?
– Сейчас.
Дорка, как кошка, снова нырнула в кирпичный проем и аккуратно, за обе ножки, потянула Вовчика.
– В больницу их надо, немедленно, я помогу! – Нина Андреевна видела, как у дворника желваками заходило лицо. Перед ним стояла полуседая, полуслепая и полуживая женщина без возраста, с трудом она удерживала на руках худого бледного мальчика, он долго не мог раскрыть глаз, щурился, как мать. – Я счас, я счас, потерпите немного. – Иван Иванович вернулся быстро с дворовой книгой и бланками. – Счас, счас мы его зарегистрируем. Давайте паспорта. Как зовут, фамилия? – Иван Иванович записывал: Еремин Владимир Викторович, родился в 1942 году 26 января. Мать – Еремина Дора Моисеевна, отец – Еремин Виктор Леонидович.
Только через месяц Нина Андреевна попала с Доркой и Вовчиком в больницу, однако там не оставили, только выписали Дорке очки. Больница была переполнена ранеными. А еще через два месяца Нину Андреевну арестовали, Люська, любовница хозяина, донесла; дворника забрали месяцем раньше.
Дорка ждала свекровь, целыми днями они с сыном сидели на скамеечке у свисающих набок ворот – Иван Иванович так и не успел поправить их. Возвратились из эвакуации соседи, заняли свои комнаты, старушек прогнали, они переселились на кухню, но и там мешали. Приходил участковый и говорил старушкам быстрее подыскивать себе другое жилье. Как два старых больных воробья с подрезанными крыльями, они молча сидели на кухне на одной табуретке, принесенной еще Ниной Андреевной. Дорка не могла это стерпеть, у нее подкашивались ноги, она вспоминала, вот так на сырой холодной земле сидели они той страшной ночью в 41-м в своем дворе, ждали отправки в гетто. Потом их всех погнали – исчезли все…
Дорка пустила пожилых женщин к себе, кое-как соорудили топчанчик. Старушки спали на нем вдвоем, валетом. Доркины уговоры, зачем мучиться, есть же свободный диван и можно отдыхать на нем, они не воспринимали. Уходили из дома рано утром, обратно очень поздно, весь день попрошайничали. Все, что добывали на «охоте», приносили в самодельно сшитых мешочках и вываливали на стол – хлеб, яйца, помидоры, кукурузу, куски сахара, яблочко. Пировали все вместе. Но однажды домой пришла только одна, другая умерла прямо на улице. Дорка запретила Екатерине Ивановне, так звали оставшуюся в живых, побираться. «Вы лучше с Вовчиком посидите, а я попробую устроиться на работу». Екатерина Ивановна гуляла теперь с мальчиком, а Дорку взяли в открывшийся на их у лице большой магазин. Завмаг сжалился – взял ее к себе уборщицей. Нина Андреевна не вернулась, ее осудили за сотрудничество с немцами, за то, что не эвакуировалась, а обязана была.
Много лет спустя в поликлинике Дору окликнула регистратор – пожилая женщина.
– Еремина? Дора Моисеевна? Вашу мать, свекровь звали Нина Андреевна?
– Да, а в чем дело?
– Хочу с вами поговорить, – оглядываясь по сторонам, тихим голосом прошептала регистратор, – я Вера Константиновна. Подождите меня, я накину пальто и выйду.
У Дорки застучало сердце. Как молот. Она вышла на улицу, притулилась к стене – от волнения закружилась голова. Она мучительно думала, что может ей сказать эта женщина. Муж пропал без вести, она несколько раз писала запросы, но получала один и тот же стандартный ответ. На запрос о свекрови ей ответили, что Нина Андреевна осуждена на десять лет без права переписки…
– Давайте отойдем в сторону, – предложила Вера Константиновна и поведала Дорке, что в молодости работала вместе с Ниночкой на телефонной станции, они дружили, но за время войны ни разу не виделись. Судьба столкнула их в пересыльной тюрьме, обе получили по десять лет и ехали, голодные, без воды, в одном товарном промерзшем вагоне целую неделю. Нина Андреевна была сильно простужена, без теплой одежды она не выдержала и скончалась прямо в товарняке. На каком-то полустанке ее тело сбросили в кювет и спустили собак. От нее ничего не осталось, овчарок погрузили и двинулись дальше. Охранники экономили тушонку…
Веру Константиновну реабилитировали, она вернулась в Одессу, обитает в маленькой комнатушке, близких никого, поэтому работает с людьми. Легче… А с Ниночкой они условились, кто выживет, тот обязательно отыщет кого-нибудь из родных и расскажет Дорка не плакала, шла медленно, часто останавливалась и все время приговаривала: «Мама, мама, мамочка». Ей было уже известно, что всю ее семью немцы уничтожили, только где лежат они и похоронены ли по-людски, никто не ведает.
Не знала Дора лишь про то, что Ципа бросила свою последнюю новорожденную девочку, которую и назвать-то не успела, стоящим у обочины женщинам, когда их колонну вели на Пересыпь. Они поймали этот сверток, она это точно видела. Мать пыталась и других детей вытолкнуть, румын, сопровождавший колонну, даже специально отошел в сторону, отвернулся. Но дети плакали и еще крепче хватались ручонками за Ципину юбку.
Дорка заторопилась домой. Она шла навстречу своей новой нелегкой жизни. Ее ждал сын и старушка, которую Вовчик называл бабушкой.
Сын героя
Юноша Ерёмин Владимир Викторович терпеть не мог, когда близкие называли его Вовчиком. Теперь, повзрослев, он представлялся новым знакомым только Владом, школьные же друзья по прежнему звали его Ерёма. Он никогда не приглашал своих знакомых к себе домой, никогда никого не знакомил с матерью. Все знали, что отец у него погиб, а мать где-то работает. Уже мало кто в магазине, где работала Дорка, мог припомнить, как выглядит её сын и что он из себя в настоящее время представляет.
Дома с матерью он почти не общался. Утром рано уйдёт, вечером поздно вернётся. Дорка только после его возвращения переворачивалась на другой бок и засыпала. Единственным человеком, кому она могла довериться и признаться во всём, была её послевоенная подруга Надежда. Как они в те тяжёлые годы подружились, так, считай, и породнились на всю оставшуюся. Но Дорка всё же ревновала Надьку к неизвестно откуда взявшейся племяннице и всему этому бесконечному кодлу. К сожалению, Надька так далеко жила, что Дорка только изредка к ней выбиралась. И Надежда Ивановна, как уволилась из магазина, со своим тромбофлебитом так мучилась, что ни о каких поездках даже не мечтала.
Влияния на Вовчика Надежда Ивановна не имела тоже никакого. Сам Влад иначе как предательницей тетю Надю не считал. Променяла она его на какую-то деревенскую девку и её семейство и носится с ними, как с писаной торбой. Ходить к ней в гости, даже на день рождения, наотрез отказался. Тем более что день рождения приходится на 1 января. Мать всегда особенно готовилась к этому дню. И, на всякий случай, спрашивала сына: «Забыла, сколько лет твоей тётке сегодня исполняется?» На что получала всегда один и тот же ответ: «На календаре посмотри».
Ну да, ну да, только посмеивалась Дорка, всё забываю, что она ровесница века. Хитрила, конечно, спрашивая, сколько Надьке стукнуло, но так хоть с сыном словечком можно переброситься, Глядишь, ещё какой разговор завяжется. Не завязывался; Вовчик грубо, как топором колют дрова, обрывал мать: отстань, у тебя что, других дел нет? Или еще больнее: и ты ещё со своими двадцатью копейками лезешь…
Нередко понукал Дорку и так: разбираешься, как свинья в апельсинах, помолчала бы лучше.
Для нее это было обиднее всего. Дорка украдкой смотрела на сына и не верила: неужели это её Вовчик. Он вставал рано, без будильника, открывал настежь окно, брал в руки гантели и делал зарядку. Потом плескался в ванной под холодным душем, тщательно брился у окна, любуясь на себя в зеркальце, аккуратно подстригая на голове волосы и колдуя над усиками.
Все его движения были чёткими, выверенными до секунды. Съедал бутерброд или творог, запивал кофе и, тихо прикрыв дверь, уходил. Дорка, за своей ширмочкой боясь шевельнуться, ждала, когда за ним закроется дверь, только тог да и вставала, одевалась и шла в магазин на работу. Она давно поняла, откуда ветер дует. Сама же его чуть ли на аркане потянула в гости к этой реабилитированной старухе, бывшей подружке своей свекрови Вере Константиновне. Вот та и наплела её Вовчику чёрт-те чего. Сама же её свекровь, Нина Андреевна, никогда ни словом, ни полсловом не обмолвилась с невесткой ни о прошлом, ни о настоящем. Так что судить Дорка, что правда, а что неправда, а что вообще вымысел, не могла. Только сердцем чуяла: вот здесь, в этих отношениях со старухой, собака зарыта. А с другой стороны, Вовчик вроде бы менялся в лучшую сторону. Уже не так откровенно грубил, наоборот, можно сказать, даже вежливо начал к матери обращаться. Но Дорка сердцем чувствовала, что это наиграно. Она смирилась, уже привыкла – что дома она никто, что на работе. Ходит сын к старухе, пускай ходит, хоть пьяным оттуда не возвращается. И то слава богу.
Что мог Влад, Владимир Викторович Ерёмин, узнать от Веры Константиновны? Что он внук Владимира Николаевича Ерёмина, да, того, того самого капитана, которого краснорожие пьяные морячки с другими царскими офицерами навечно оставили стоять на дне Севастопольской бухты. А сына его Виктора в 41-м отправили с мосинской винтовочкой в окопчик Одессу защищать. Через столько лет случайно на окопчик наткнулись «пионэры», на белые косточки, которые прямо сверху торчали. Благодаря «пионэрам» их реабилитировали, не сдались молоденькие хлопчики в плен, насмерть стояли, обороняя город от врага. Не дождались подмоги, а ведь им, отправляя на верную гибель, обещали: армия перегруппируется и придет им на выручку.
Правда восторжествовала! Отблагодарили, вручили медальку вдове, честь оказали, что еще на до? А то, что после войны Дорка с сыном жили впроголодь, так это же не их дело. Вера Константиновна вышла в центр «салона» и поклонилась низко, в самый пол перед Владом.
– Ты, сынок, никогда им не прощай – ни отца своего из окопчика, ни деда капитана, его с булыжником на шее столкнули на дно морское, ни бабушки, моей подружки, полуживой, брошенной собакам на прокорм. Ниночку Ерёмину никогда им не прощу, прекраснее человека в жизни не встречала. Я тебе, сынок, обязательно расскажу о них. Их роман начался со шляпки, самой простой, правда, парижской шляпки. Помянем с тобой, Влад, их светлую память.
Старушка достала из буфета две хрустальные рюмки, налила молдавского коньяка, отпила немного. Влад отказался от коньяка: я лучше крепкого чаю.
– Не тужи, хлопчик, и не верь во все эти бредни: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Они там, кто в начальстве, уже сколько лет живут прекрасно в этом коммунизме. Все им на блюдечке преподносят, только каемочка не синяя, а красная. Народ корячится, с ложечки их кормит. Коммуниздят, как хотят, не стесняясь. В партию эту все прощелыги прут, как завмаг у твоей мамы. Не будешь в ней – фигу теплое местечко, – Ледовитый океан. В начальство, самое мелкое, не пролезешь – горлышко узкое. Ни стыда у них, ни совести, на остальных, кто не в ней, наплевать. Всех коммуниздить принять не могут – не резиновая, так устанавливают нормативы. Этих брать, этих не брать. А вдруг примут, не дай бог, не тех, и эти «не те» их же и выбросят. Нет, братцы, тащите рекомендации от проверенных коммуниздильщиков.
Влад всё понимал, о чем говорит Вера Константиновна, какая такая партия, почему в ней, как выражалась старушка, одни воры и негодяи, и народ заставляют ее поддерживать. Он хорошо запомнил, как мальчишкой ходил с матерью в их школу, она в тот день была украшена, играла музыка, дежурили какие-то люди с красными повязками на руках, кругом милиция, даже их участкового он там видел. Взрослые подходили к длинному столу с буквенными табличками, им совали какие-то бумажки, они опускали их в ящики, которые стояли посреди спортивного зала. К то-то сначала скрывался за шторкой в кабинках, а потом бросал в ящик. Дорка даже не заглядывала в эти бумажки, просовывала их с трудом в щель ящика и сразу торопилась на выход. Вовчик дергал ее за рукав, канючил у Дорки купить ему пирожное или бутерброд с колбасой, раньше такие вкусные он никогда не ел.
– Да, Влад, все на выборы ходили и тебя брали. Теперь сам ходишь, попробуй не пойди. Ведь какой праздник устраивается – голосовать за эту партию. Людей обещаниями заманивают – скоро лучше заживете, светлое будущее вас ждет – завлекают такими вот буфетами. Почти сто процентов населения должно прийти. Все сто вроде бы нескромно. Кто не может сам, заболел или немощный, еле ноги волочит, тем урну таскают, лишь бы проголосовали. По поездам с теми урнами шастают, вертолёты, самолёты по бескрайним сибирским просторам гоняют. Каждый час сводка по радио – сколько уже охвачено. Народу косточку бросили: выходной 5 декабря, на День Конституции. Месяцами магазины пусты, хоть шаром покати, а к 5 декабря – изобилие, на те вам, народ, к празднику, гуляйте. По фабрикам и заводам заказы раскидывали, рабочим за их же собственные деньги продавали. А то ещё вдруг разозлится голодный рабочий класс и начнёт жаловаться.
Только вот куда жаловаться, господа? В газеты, на радио? Так они же все той партии служат, коммуниздильщикам. Везде одно и то же: распинаются передовики производства, одни успехи вокруг, рапорты о выполненных и перевыполненных планах. Целый год ордена и медали штампуют, награды за доблестный труд. Какой же это план, господа, если его можно перевыполнить на двести процентов? Вранье, сплошной обман. Правда – что на полках пусто и в дом купить нечего, все жуткий дефицит, без блата никуда. А коммуняки, что наверху, живут припеваючи, о хлебе насущном не думают У них свои магазины. Ублюдки, ненавижу их. Приличные, конечно, есть даже в этой партии, нельзя всех черной краской мазать, но они рядовые, на задворках, погоду не делают.
Вера Константиновна никак не могла угомониться. Видно, не было никого или просто опасалась, кому все это можно вот так, откровенно высказать, чтобы не заподозрили в лютой ненависти к власти этой партии. Влад не выдаст, в крайнем случае, скажет, что выжившая из ума старуха несет всякую чушь, ей в психушку дорога. В больнице, что рядом с их домом, отделение есть, пусть туда везут.
– Ой, чуть не забыла, – Вера Константиновна почему-то понизила голос или просто устала говорить, – этой партии нужно ещё содержать братские народы, а они, как снег на голову, всё освобождаются и освобождаются от рабства проклятых капиталистов. Надо их защитить, помочь, они тоже кушать очень хотят. Собственный народ побоку, а этим всё подавай, а то, чего доброго, опять назад к капиталистам попросятся. Есть такая добренькая страна на белом свете, где так вольно дышит человек: Союз Советских Социалистических Республик.
Древо жизни
Влад после этих посиделок плёлся домой, как в тумане. В голове каша, разобраться бы, что к чему, так он особо не интересуется. Однажды остановился у какого-то дерева и, что есть силы, стал бить его по стволу кулаком. Пока рука не онемела и не начала сочиться кровь. Потом обнимал ни за что пострадавшее дерево и шептал: прости, дружище, меня, ты ни в чём не виновато. Я знаю, ты тоже страдаешь. Люди взяли тебя молоденьким трепетным саженцем и посадили в знойном пыльном городе, оставив для жизни только этот небольшой полукруг земли. Да и землёй эту грязь назвать язык не поворачивается. Кто хочет, мочится ночью на твоё тело, кто хочет, режет ножом твою кожу, выписывая на тебе своё дурацкое имя в плюсе с такой же набитой дурой. Твоя кора вся в погашенных окурках. Ты болеешь, твои ветви жестокие руки безжалостно обрезают, калечат каждую осень, чтобы они не мешали проводам и домам. Ты усыпаешь, прощаясь со своей тяжелой жизнью, думая, что навсегда.
Но приходит опять весна, эта нежная, всегда юная обманщица. Поливает, моет твои корявые перебитые ветви, корни наполняет жизненной влагой. Засохшие корни оттаивают, нехотя, не спеша, не веря в своё пробуждение, как тяжелобольные, потихонечку начинают сосать эту живительную влагу. Солнышко обогревает твои подмёрзшие почки, и они, наперекор всему начинают набухать, как груди у забеременевших женщин. Вот, вот ещё немного – и ты опять поверишь, что тебя ждёт праздник жизни, и твои почки лопаются, рождаются новые нежные листочки; они выползают из почек, как из материнского чрева, на белый свет и тянутся к солнцу, как всё живое, молодое. Скажи, дерево, ответь мне: ради чего ты, старое трухлявое бревно, которое всё равно, рано или поздно, спилят просыпаешься каждой весной? И возрождаешься вновь и вновь, чтобы дарить жизнь всем этим неблагодарным тварям, которые осенью улетят в далёкие тёплые края, бросят тебя, старика, помирать одиноко зимой, высосав все твои соки, как пиявки. Зачем тебе всё это, трухлявое бревно? Зачем?
Влад устало сел поддерево, облокотясь спиной на его шершавый ствол. В своих размышлениях он не заметил, что небо посветлело. Первые солнечные лучи уже обласкали верхнюю крону. Птицы проснулись, дружно хором затрещали, подняв возню. Дерево вздрогнуло, встрепенулось, листочки звонко задрожали. Поживём ещё, а? Влад поднялся, снова прижался к стволу лицом и увидел цепочку муравьев, направляющихся по расщелинам коры за добычей, за нектаром, чтобы кормить где-то под землёй свою королеву – здоровенную муравьиху-матку и многомиллионную родню. Я понял, дружище, я всё понял. Ты живёшь ради всей этой оравы, ты их дом и кров. И ты признателен людям, что они определили для тебя эту благородную на земле миссию. И ты вечно будешь прощать людям всё во имя этой цели, ведь ради нее ты рождено само.
А я, Влад Еремин, ради чего рождён я? Все мои близкие ушли из этой жизни, загубленные непонятно за что. Вера Константиновна открыла мне глаза, хотя так, до конца мне еще не все ясно. Для чего меня оставили жить на этой земле? Ведь для чего-то встретился мой отец с Доркой? Для чего-то бабка моя спасла меня. Какую миссию в этом мире мне уготовили? Вот бы знать. Неужели только быть удобрением? Нет! Ни за что. Удобрением я не стану, без меня хватает говна на этой земле. Ну, я пошёл, дружище. Прощай!
Общаясь постоянно со старухой и её друзьями, он понял: чтобы что-то из себя представлять, нужно очень много знать, и чем больше ты знаешь, тем интереснее жить. Книги читать – такая же работа, только более сложная, чем грузить ящики на заводе. Неужели можно знать больше, чем приятель Веры Константиновны, Яков Михайлович? Столько лет отсидел по сталинским лагерям, полжизни, а какая память! Какая тяга к жизни! Эти старики даже не двужильные – они, как морёные дубы, вечные. Вон какой любознательный внук Якова Михайловича, Серж. Влада потянуло к нему, как магнитом. Но у Сержика была возлюбленная, и он большую часть времени, естественно, посвящал ей. Иногда, если девушка уезжала с родителями или они ссорились, такое тоже имело место быть, наступал час Влада. Тогда они на целый день уезжали подальше из города – или на Каролино-Бугаз, или на Днестр. А то вообще подавались на лиманы: на Белгород-Днестровский, Хаджибеевский или Куяльницкий.
Возвращались довольные, обгоревшие, уставшие, за то с рыбой. Молодые люди развлекались на полную ка тушку. Куда только их не забрасывала судьба в этих загулах. Можно, конечно, всю жизнь прожить, идя по чистым, светлым и красивым улицам Одессы, никуда не сворачивая. Но стоит только чуть-чуть соблазниться и свернуть в сторону, в какой-нибудь тенистый проулочек, спуститься с приятелями в какой-нибудь подвальчик в картишки переброситься, так и получишь полное представление о жизни и нравах этой жемчужины у моря. Разношёрстными компашками, где можно было перекантоваться, кишит вся Одесса, как бездомная кошка блохами. В этих компаниях, на самом горьковском дне Влада всегда с удовольствием встречали, слушали его анекдоты, песни, байки. Девицы сами вешались ему на шею. Всё как в песне: «…Там собиралася компания блатная, там были девочки: Маруся, Роза, Рая и с ними Костя, Костя шмаровоз».
Уходил Влад всегда не прощаясь, по-английски, шепча девице, что на минуточку, и пропадал до следующего загула. Это не были бордели в прямом смысле слова, за любовь здесь не платили, просто бросали деньги на стол, кто сколько может, и начинался загул с выпивоном и закуской и прочими радостями жизни – всё от обоюдных желаний. Если ты был на мели, тебя тоже принимали как родного: а как же, это же Одесса. Девки сами выскочат, заработают ради такого хлопца. Он же с ними говорит по-человечески, поёт для них, даже стихи читает. Да какие стихи! Девушки сдержать слёз не могут, размазывают по щекам чёрную тушь, бегут умываться, и их лица, отмытые от марафета, выглядят невинно, по-девичьи. Они искренне вздыхают, стараясь прижаться хоть чуточку к этому богу в узких штанах-дудочках, снизошедшему в их грязный подвал.
По не известно кем писанному правилу, встречаясь на у лице днём, эти девицы никогда не здоровались первыми. Даже сделают вид, что незнакомы с ним. Но он всем и нравился потому, что сам первый, всегда с уважением здоровался и улыбался, прикладывая руку к виску и произнося: рад видеть, до следующей встречи! И шёл дальше, не оглядываясь. Многие из этих девушек работали или учились в институтах, и, не дай бог, причислить их к проституткам, глаза выцарапают своими длиннющими ногтями. Влад даже знал в одной компании разбитную девицу работающую в райкоме комсомола. Наверное, она тоже состояла в той самой партии, которую так ненавидела Вера Константиновна. Вот на этой бл….ди уж точно негде было ставить пробу. Но видели бы вы, как она мучила восьмиклассников, поступающих в члены ВЛКСМ. Изощрялась каверзными вопросами, наслаждалась, как прыщавый юнец краснеет и бледнеет и у него шевелится от ужаса ширинка.
Влад эту комсомольскую шлюху терпеть не мог. Сразу старался смыться, если оказывался с ней в одной компании. То, что она сексотничает, никто не сомневался, однако сказать открыто ей, кто она есть, никто не решался. За глаза её все называли «коммунистическим субботником». Ребята, вырвавшись из её объятий, в один голос утверждали, что им пришлось выполнять двойную норму, как на коммунистическом субботнике. По отчётности, за этот светлый праздник труда в день рождения вождя мирового пролетариата обязательно выполнялись минимум две нормы. Но, встретив её на улице, никому бы и в голову не пришло так подумать об этой статной, красивой взрослой девушке с открытым правильным лицом. А уж когда она начинала поучительным тоном наводить моральный порядок в компании, все усцывались и старались втихаря смыться – лишь бы не заарканила. По принципу: кто не спрятался, тот не виноват.
Иногда ей все-таки удавалось заарканить какого-нибудь незнайку из южных республик. На неё быстро западали случайные приезжие, так что в простое её величественное комсомольское тело редко бывало. Поэтому, когда она появлялась незвано-негаданно с кавалером, ощутимого бегства публики не наблюдалось. Тогда сытая львица не страдала от голода и не бросалась на окружающих, а наоборот, царственные преподношения очередного кавалера ещё больше возвышали её над остальными, и вечеринка проходила благополучно.
Влад явно был не во вкусе этой девицы по многим статьям: прежде всего национальность небезупречна, во-вторых, без образования, без перспектив, а самое главное – карманчик пустой, что с него взять? Только приветливые, ни к чему не обязывающие отношения. Однажды она, хорошо набравшись, попросила провести её домой. И Владу ничего не оставалось, как покорно тащить на себе эту тяжеленную лошадь – как назло, на сонных улицах не было ни одной машины, всё как вымерло. Пьяная, пьяная, а всё выспрашивала у Влада, как ему удалось не быть ни пионером, ни комсомольцем. Такого оригинала, как Влад, она ещё не встречала.
– Теперь вот встретила, – грубовато обрезал ее Влад. Наталья, так звали эту комсомолку-вожака, долго трезвонила в дверь, наконец послышались шаги: это ты? Одна?
– Не одна! Открывай!
Влад знал, что он не оправдал её ожиданий, и теперь, когда ребята, подвыпив, обсуждали На талью, он предпочитал отмалчиваться. О ней слагали одну легенду за другой. Что было правдой, а что выдумкой, судить Влад не брался. Однажды Влад с Сержиком рванули в Аркадию и, конечно, подкадрили приезжих девиц, успели запудрить им мозги, что они моряки, то есть водоплавающие. Девицы харьковчанки всё выпытывали, кем и куда друзья плавают. Плести языками без костей в Одессе не умеют, ну, пожалуй, самые тупые. Петь лазаря ясны соколы умели хоть куда. Выслушивать же девиц с их харьковским выговором и манерами двум одесским циникам доставляло вообще массу удовольствия. Сержик рассказал для начала детский анекдотик на заданную тему: «Подходит милиционер на вокзале к чудаку и строго спрашивает: «Чому нахаркив?» – Чудак отвечает: «Там моя маты живэ». – Милиционер опять за своё: «Я пытаю, чому нахаркив?» – «Так, я ж кажу, – почти плача отвечает парень, – там маты моя живэ».
Друзья переглянулись, ещё раз посмотрели на харьковских красавиц, таких же несообразительных, как и в этом анекдоте харьковчанин. Вдруг Серж толкнул товарища: «Смотри, Наташка прет по пирсу с кавказским аборигеном. Во мужик даёт, даже на пляже в бурке и папахе». Одна из девиц, присмотревшись, на полном серьёзе ляпнула: «Та не, це вин такой весь волохатый, шо впереди, шо сзаду». Друзья, не сдерживаясь, расхохотались. Южанин привлекал к себе всеобщее внимание, он выглядел настолько карикатурно, что даже плавки ярко-малинового цвета от его шерстяных кудрей топорщились.
Все отдыхающие, проходя мимо этой парочки, приостанавливались и ухмылялись, перешептывались между собой, некоторые пытались пальцами обратить на «волохатого» внимание. Но когда юноша повернулся в профиль, Серж не выдержал: «Вот это да! Монблан отдыхает!» Друзья покатывались от смеха, забыли о своих подклеенных спутницах; толкая друг друга, обсуждали параметры увиденного чуда, сравнивая и со спиленным Араратом, и с Эйфелевой башней. Так, не в силах сдержать смех, шли к трамвайной остановке. «Слушай, а где наши барышни?» – спохватился Сержик. Влад хлопнул его по плечу: «Успокойся, у нас не те размеры, наверное, побежали искать соплеменников этого южанина».
Расставаясь, Серж озабоченно спросил у Влада, как он думает, Наташа вычислила их? «Коммунистический субботник» никогда ничего не прощает. Она по всем хавирам мечется со своим сачком. Кто не спрятался, того вылавливает. В общем, мы её не видели, язык на замке. Договорились?
– Мы с тобой из-за этого «коммунистического субботника» лоханулись, – продолжал Серж. – Давай вечером прошвырнёмся по Дерибасовской, кого-нибудь к ужину подцепим. Хата свободная простаивает, предки лишь завтра вернутся. Жаль этих чувих харьковских потеряли. Светка рыжая в море сама ко мне льнула, чуть ли не в плавки лезла. Никаких проблем не было бы.
– Не получится, Серж, сегодня я вечером занят Бывай, дружище!
И Влад быстро свернул в ближайший переулок. Его всегда поражал цинизм друга по отношению к девушкам и женщинам. Раньше и за ним такое водилось, но теперь что-то перевернулось внутри. Он чувствовал, что меняется, становится другим, и этих приезжих девчонок не смел бы обидеть.
Сидеть дома с матерью не хотелось. Решил вечером заглянуть к Вере Константиновне. Тянула Влада в ее «салон» какая-то неимоверная сила, там он ощущал себя человеком, рядом с этими талант ливыми, умными, изувеченными, но не сломленными людьми. Гордыми и целеустремлёнными, любящими жизнь и умеющими радоваться ей, как дети.
Но было ещё рано, и Влад свернул на бульвар к Потёмкинской лестнице, где, по рассказам Веры Константиновны, встретились его бабушка и дедушка. А виной этой встречи была всего-навсего женская шляпка, правда, парижская. И откуда всю жизнь потом, до самой смерти, Нина Андреевна любила смотреть на море. Влад редко когда задерживался здесь, обычно быстро сбегал вниз, перепрыгивая через ступеньку по гигантской лестнице. Сейчас же он спускался медленно, вглядываясь в склоны, заросшие деревьями, кустарниками и сорняками. Однако ни одного дерева из описанных Верой Константиновной не было и в помине, не говоря уже о самом модном и любимом одесситами кафе. Торчащие из земли сваи и куски кирпичной кладки напоминали Владу оставшиеся из-за прожитых лету стариков сгнившие корни зубов. Вообразить себе, что когда-то здесь пахло цивилизацией вместе с ароматом кофе, сейчас было невозможно. Влад еще раз внимательно все осмотрел вокруг и решил возвращаться. Поднимаясь, он всегда пытался соревноваться с ползущим вверх фуникулёром. Ему чудилось, что именно в этом месте, на этой лестнице он когда-нибудь тоже догонит свою судьбу. И она будет светлее, чем у деда, чем ума тросов из фильма «Броненосец Потемкин». Влад не часто ходил в кино, но этот фильм запомнил по Потемкинской лестнице, где когда-то началась любовь его бабушки и дедушки.
«А все-таки что это за загадочная шляпка из Парижа, какая такая тайна скрывается за ней? – вдруг мелькнуло в голове. – Старушка упоминает об этом вскользь, в следующий раз обязательно выведаю».
Лестница грез
Всю неделю Володя никак не мог успокоиться, с нетерпением ждал новой встречи с репрессированной подругой своей бабушки Верой Константиновной. И она поведала ему удивительную историю его бабушки и дедушки по отцовской линии, которая сыграла роковую роль в судьбе семьи Ереминых.
– Только ты не перебивай меня, пожалуйста, всё, что знаю, расскажу. Давно пора тебе знать правду.
– А Дорка знает? – только спросил он старушку.
– Нет, не думаю. Ниночка, хоть и хрупкая была женщина, но воля, как кремень. За тебя боялась, за Дорку тоже. Пожалуй, только я одна и знала всю правду о Ниночке. Сама же я из этого сословия. Так вот, слушай. Детство твоей бабушки, сколько она себя помнила, как только вспоминала это время, было сплошным праздником. Весёлая хохотушка мама, в красивых кружевных платьях. Такой она запомнила свою мать в детстве. Всё в кружевах: кружевные юбки, лиф, шляпка, перчатки и даже зонтик. И сама она, маленькая девочка, радостно прыгающая по пирсу в ожидании подхода громадного военного корабля, обвешанного цветными флажками, и звуки громыхающего оркестра, и все матросики, построенные на палубе, как игрушечные… Её поднимают повыше чьи-то руки, и мать, перекрикивая толпу, кричит ей: вон видишь там на палубе – это твой папа. Помаши ему ручкой, он обязательно увидит.
И потом музыка, радостные крики, и отец, высоко подбрасывающий её над собой, над толпой, и сердце замирает от счастья. Так на руках и нёс он её, свою дочь, до самого экипажа. Попеременно целуя то её, то маму. Она устала от поцелуев и уснула. Она всё помнила, как отец с матерью гуляли с ней по Летнему саду. Как не хотела спать ложиться в белые ночи и потихоньку пробиралась на балкон, выходящий на Невку, где сидели родители и целовались. И отец притоптывал ногами, что рассердится, и относил её в крова тку. А она опять и опять возвращалась на балкон.
Как радостно родители спрашивали её: кого она хочет, братика или сестричку? Она непременно отвечала: всех, всех… и братика, и сестричку, и собачку, и птичку.
Потом ей сказали, что мамочка поехала в магазин далеко-далеко покупать ей братика. Но и у бабушки и у няньки глаза были красными от слёз. А потом верну лея папа, она даже его не узнала. Он больше не смеялся, не веселился, как раньше. Правда, с ней много гулял и разговаривал, как со взрослой: «Ты у меня уже большая девочка. Наша мама очень сильно заболела и должна долго лечиться. А когда вылечится, всё будет опять так же хорошо, как и раньше. Она уехала лечиться далеко, в другую страну к тёплому морю. Мы будем писать ей письма, а она нам. Ты должна сама быстро выучиться писать и читать. Ты же уже немного умеешь, вот и будешь с нашей мамочкой переписываться».
Он прижал к себе дочь и разрыдался. Ниночка, как могла, отца успокаивала, пыталась рассказать, что тоже зимой сильно простудилась, но бабушка её вылечила. Вот и мамочка тоже выздоровеет.
Отец опять ушёл в далёкое плавание, от него редко приходила почта, но когда получали письма, то целыми пачками.
Мать вернулась из-за границы, когда Ниночке исполнилось уже девять лет. Она уже понимала, что её мать серьёзно больна. Но где и когда она подхватила чахотку, осталось загадкой. Никогда больше мама не поцеловала свою единственную дочь, всегда от неё отстранялась.
Начались бесконечные поездки на лечение то на Кавказ, то в Крым, а то и вовсе в Италию. Бабушка ради дочери продала своё имение и переехала к ним в Петербург.
А потом один из лечащих врачей порекомендовал им попробовать полечиться в Одессе. Где есть прекрасная клиника и больница для больных, страдающих туберкулёзом. О врачах и местном климате и говорить нечего. В тех краях прекрасное сочетание моря и степи, и воздух подходит именно для таких больных. Бабушка тоже ухватилась за это предложение, как за последнюю соломинку. И город Одесса её устраивал во всех отношениях: во-первых, большой и культурный центр, Ниночка сможет там учиться. Во-вторых, даст бог, в знаменитой клинике вылечат её дочь.
Сначала так и получилось, матери сразу легче стало. К концу лета она поправилась, похорошела. Приезжал отец, они втроём проводили время, веселились. Но пришёл день отъезда отца, мама плакала, Ниночка, глядя на неё, тоже. Решено было до полного маминого выздоровления остаться в Одессе, не возвращаться в прогнивший сырой Петербург. Так Ниночка и осталась с мамой и бабушкой в Одессе. Думали, на один год, а оказалось на всю жизнь.
На последние средства, от продажи бабушкиного имения и квартиры в Петербурге, купили небольшую квартирку в Одессе и маленький двухэтажный домик с балконом в немецком посёлке Люстдорф, недалеко от Одессы, у самого моря. Но и это не помогло, мама так и не выздоровела, а просто медленно угасала. Редкие приезды отца, в основном на день рождения Ниночки в конце августа, ожидались ею целый год.
Как любила и ждала она отца! Прогулки с ним по городу по Приморскому бульвару, его интересные рассказы о разных странах и городах, о далёких экспедициях по морям и океанам возбуждали повзрослевшую Ниночку.
Как любила она опираться, как взрослая, на руку отца, ловя на себе удивлённые взгляды прохожих. Особенно когда засиживались в кафе у самой лестницы на Приморском бульваре, ведущей в порт. Отец больше никогда не останавливался у матери или в их городской квартире у дочери. Он всегда по приезде снимал номер в гостинице на Приморском бульваре, но почти ежедневно ездил с дочерью сначала к матери в Люстдорф, а потом весь вечер посвящал дочери в городе.
Так и летели год за годом. Бабушка совсем перестала приезжать, сетуя на плохое самочувствие, и внучку к себе не приглашала. Да и куда было приглашать, она хоть и жила в Москве, но вынуждена была ютиться приживалкой у богатой подруги.
Потом пришло известие и о её смерти. Нарочный привёз Ниночке красивую шкатулку от бабушки, в которой сверху лежало прощальное письмо, а под ним их последние родовые украшения, которые удалось сохранить бабушке для внучки. Не от большого ума, а, конечно, сдуру Ниночка их на дела и поехала с нянькой в Люстдорф. Мать, увидев её, сначала нахмурила брови, а потом и вовсе рухнула в обморок, вероятно, поняв, что бабушки больше нет. Ниночка никогда в жизни их больше так и не на дела, а в тяжёлые годы революции бабушкины украшения в последний раз помогли и спасли её внучку. Больше помощи в жизни ей ждать не от кого было.
В тот последний приезд отца на её день рождения мать с отцом разрешили дочери пригласить свою лучшую подругу. И Ниночка пригласила меня. Так тайна, которую Ниночка тщательно скрывала в гимназии о своей семье, раскрылась.
День был замечательный. Угощения отец заказал самое изысканное в лучшем ресторане города. Стол был накрыт прямо на пирсе под большим шатром. Гостей было немного, в основном такие же обречённые больные, с которыми за эти годы сдружилась мать. Нас, девочек, посадили в самом конце стола почти на выходе, и чувствовалось, что отец переживает за нас, особенно если кто-то из гостей начинал кашлять.
Гости, как ни странно, много пили и ели, радовались жизни на всю катушку. Ниночка, несмотря на свой юный возраст, понимала их. «Хоть один день – да мой!» Эти слова постоянно повторяла её мать, разрывая дочери сердце.
Отец пригласил дочь и меня прогуляться вдоль берега моря, потом посадил в поджидавший экипаж и отправил с нянькой в город.
Как умерла мама, Ниночка не видела, её только в церкви подвели к закрытому гробу, и она даже не могла плакать, как другие. Только смотрела на сразу постаревшего и поседевшего отца, и сердце Ниночки сжималось от жалости. Дочь надеялась, что теперь её ссылка в Одессу наконец закончилась и отец больше с ней никогда не расстанется. И она уедет в такой желанный её сердцу Петербург. Она даже собрала все свои вещи.
Но после поминок случайно она подслушала разговор няньки с отцом. Отец объяснял ей, что она с Ниночкой останется в Одессе. Так будет всем лучше. Он не хотел травмировать дочь. Она ещё очень мала для таких потрясений. Взял клятву с няньки, что та ни при каких обстоятельствах не проболтается. Ниночка видела, как отец положил в руку няньки деньги и сжал её кулачок.
Она на всю жизнь запомнила его слова: «Я сам, когда придёт время, расскажу дочери всё. Пока она ничего не должна знать. Договорились, Глаша? Вот и хорошо». Он даже поцеловал няньке руку.
Прощание с отцом тяготило обоих. Ниночка не могла смотреть в глаза отцу, который пытался объяснить дочери, что лучше ей остаться ещё на время в Одессе, пока не закончит учёбу Убеждал девочку, что сам редко бывает в Петербурге. Она не помнила, поскольку была ещё очень маленькой, какой отвратительный там климат. Пример матери чего только стоит. Как только он получит очередной отпуск, так сразу к ней приедет.
Ниночка его совсем не слушала, только опустила голову, так и стояла на перроне, ни разу не подняв гл аза на отца и на уходящий поезд.
От отца регулярно приходили письма. Ниночка месяцами их не вскрывала. Ничего нового в них всё равно не было. Она все сведения получала от маминых знакомых с Люстдорфа.
Домик, который им принадлежал, отец сразу продал после похорон матери, даже не поставив дочь в известность. Ранней весной Ниночка с нянькой поехали в Люстдорф посмотреть, что к чему на даче, были планы провести там лето. И тут обнаружилось, что в домике другие хозяева, что отец его давно продал.
На пирсе они встретили друга матери, такого же несчастного больного, немца по происхождению, высохшего до невозможности. Он признался, что очень любил её маму и уже скоро, очень скоро с ней встретится.
Если хотите, Ниночка, сказал он, я выкуплю для вас обратно этот дом. Но Ниночка наотрез отказалась, а через месяц ей сообщили, что друг матери скончался и оставил её своей единственной наследницей. Ниночка хотела отказаться, но нянька встала перед ней на колени. Деньги, хоть и были, как оказалось, небольшими, но так необходимы юной хозяйке и её няньке.
С тех пор Ниночка постоянно приезжала в эту деревеньку, подолгу стояла на пирсе и шептала, рассказывала, делилась с морем своими радостями и печалями. Как раньше это было с мамой.
Молодость берёт своё. После занятий они гурьбой залетали в ближайшую кофейню, хоть это и не очень подобало благородным девицам. Покупали пирожных, шутили, смеялись. Было весело и радостно. А потом барышни, торопясь опоздать, возвращались по своим домам.
Ниночке спешить некуда было, она медленно брела по родному для неё теперь городу, любуясь его широкими прямыми улицами, красивыми классическими домами. Она с деловым видом, чтобы не привлекать к себе внимания, проходила мимо театра, в котором не пропускала ни одного нового спектакля, оттуда сворачивала к Думе и шла вдоль парапета Приморского бульвара. Подолгу смотрела на уходящие вдаль корабли. Вокруг неё не было близких людей, таких как покойная мать или бабушка, и отцу она больше не доверяла. Только на Рождество и Пасху она получала от бабушкиной подруги большую, перевязанную красной или розовой лентой коробку со сладостями и денежные переводы по почте с небольшими записочками наилучших пожеланий.
Жили они с Глашей очень скромно. Иногда Глаша бурчала что-то недовольно и невнятно относительно отца. Но однажды Ниночка не выдержала и призналась ей, что об отце она и без неё всё знает. И теперь Глаша может высказывать свои претензии открыто. Вот преданная Глаша и выдала всё, как на духу Всё, что знала сама и что так тщательно скрывали от Ниночки мать и бабушка.
Как жили не тужили вдовствующая помещица со своей единственной дочерью. Дом у них был и в Петербурге и в Москве, и так, ещё немножко, то там, то сям, по губерниям небольшие именьица.
Бабушка твоя была хорошая женщина, тихим голосом говорила Глаша, все её очень любили, а меня подкинули в младенчестве летом на порог подмосковной дачи. Помещица не стала дитя в приют сдавать, а оставила у себя, заботилась, как о собственной дочери. И учителей нанимала, и воспитателей. Маленькая Глаша хвостиком крутилась вокруг своей благодетельницы.
Прасковья Петровна гордо представляла её не иначе как а это моя «Глашенька воспитанница». Глаше было уже десять лет, как решено было ехать в Петербург. Пора было вывозить в свет распустившийся бутон – дочь Екатерину.
Глаша, тихо присев на корточки на балконе, расчёсывая Ниночке волосы продолжала: мать твоя в молодости хороша была, да её и болезнь не сильно попортила. В своей Тверской губернии она пользовалась успехом. Все соседи наперебой приглашали в свои имения погостить вдову с дочерью, дабы полюбоваться на красавицу. Но Прасковья Петровна считала местных помещиков с их сыновьями недостойной партией для своей дочери.
Катерина тоже любила меня и играла, как с живой куклой. Наряжала меня, приглашала ко мне детей на ёлку Мне никогда не давали понять, что я живу здесь просто так, из жалости, а наоборот, как самая главная, потому что маленькая. Вот и двинула помещица в Петербург, и меня с собой прихватили.
Зима в тот год была снежной, морозной, какой-то праздничной. Я маленькая была, так счастлива: всё сверкало, столько экипажей, столько гостей в доме. Шум, суета, бесконечные балы, маскарады, театры, праздничный калейдоскоп какой-то.
За Прасковью Петровну тоже начали свататься – вот смеху-то было. Она всё возмущалась, ну чего удумали. В этой столице все как с ума посходили: одни сплетни и сплошной разврат.
Да за всей этой суетой не заметила твоя бабка, что дочь её влюбилась. Пока Прасковья перебирала подходящих женихов для дочери, наша Катенька сделала уже свой выбор.
Ей бы догадаться, почему дочь безропотно разрешила увезти себя из Петербурга, так нет же, никому и в голову не пришло, что у неё закрутился роман с морским офицером. На одном из балов Катенька и встретила свою любовь – твоего папашу незабвенного. Он действительно был хорош собой, ничего не скажешь: статный, молодой, а как шла ему эта проклятая морская форма с этим кортиком. Так и бряцал им, так и бряцал.
Женщины глаз не могли отвести от этого красавца. Вот и забилось у твоей матушки сердечко в истерике. Не могла бедная Катенька ни о чём больше думать, все окна в доме были исцарапаны его именем: Андрей, Андрей!
– Как это? – не выдержала Ниночка.
– Как, как. Зимой окна замерзают, вот она и царапала по инею его имя.
Жених оказался, хоть и дворянского рода, да гол, как сокол. Только скудное жалованье, которого едва хватало, чтобы редко появляться на людях.
Как Прасковья Петровна не оттягивала этот брак, что только ни делала, ничего у неё не вышло. Даже в Париж увезла нас летом и дальше хотела попутешествовать, чтобы отвлечь доченьку Куда там. Бабка симулировала плохое самочувствие, торчали в Италии до самой зимы. Всё напрасно. Молодой офицер был упрям и настойчив.
Твоя бабка через подружку свою пыталась дать ему отступного. Ни в какую. Сумасшедшая страсть, хуже всякой болячки. Обвенчались через год в Петербурге, там молодые и остались жить. Дом в столице бабка твоя подарила молодым в качестве приданого, да ещё содержание.
Молодые в Питере зажили на широкую ногу. Через полгода Прасковья Петровна категорически отказалась оплачивать счета зятя. Так тот ничего лучшего не придумал, как уговорил жену заложить дом под ссуду. Опять какое-то время пожили на широкую ногу да дом забрали за долги. Вот Прасковья и вынуждена была продать одно из имений и выкупить молодым в Питере квартиру в которой ты и родилась. Ты думаешь, это послужило для молодых уроком? Как бы не так. Сплошные развлечения, балы, пикники, морские прогулки, уразумить молодых она была не в силах. От её назиданий молодые отмахивались, как от назойливой мухи.
Вот одна из прогулок для Катеньки закончилась печально. Она сильно простудилась, будучи беременной вторым ребёнком. Братик твой при родах умер, а Катенька так и не поправилась. Ещё больше любила твоего отца, совсем как ненормальная.
Сколько светил твоя бабка приглашала, профессоров, куда только не возила дочь лечиться, всё было напрасно. Такой диагноз – приговор при жизни. Да ты и сама всё уже видела и понимала. Петровна продавала одно имение за другим, всё, что у неё было. Вот и эту квартирку в Одессе она на твоё имя купила. А то бы и ты на лице осталась, да и я вместе с тобой. Ниночка, при мне, на коленях бабушка твоя просила, умоляла зятя не бросать больную жену и внучку. Создавать хоть видимость семьи. Так вот, чтоб ты знала: выполнял он эти обязательства не бескорыстно. За всё твоя бабушка ему платила.
С меня она тоже клятву взяла, что я никогда тебя не брошу. Верой и правдой буду тебе служить. Меня она тоже любила как родную, всё горевала, что не может дать мне приданое.
Обе девушки молча сидели обнявшись на балконе, наблюдая зарождающееся утро, и каждая думала о своём.
Жизнь же дальше пошла своим чередом. Глаша действительно оказалась преданной семье душой. Она отказала сватовавшемуся к ней сыну бакалейщика. Но все эти годы она поддерживала с ним близкие отношения, ни перед кем их не афишируя. Даже когда он, по настоянию родителей, женился на другой, у них всё продолжалось, как и раньше. Более того, Глаша даже учила его детей и грамоте и музыке.
Так и жили одинокие, всеми забытые Ниночка с преданной Глашей. Отношения у них сложились родственные, как у старшей и младшей сестры. Всегда и везде только вдвоём.
Владимир сидел, не шелохнувшись на продавленном диване, обхватив голову двумя руками. Старуха, подруга бабушки, молча продолжала в такт своему рассказу кивать головой: вот такая была моя Ниночка, тихая, терпеливая и бесконечно одинокая.
– А откуда же мой отец появился? Какой-то мифический отец. На фабрике с Доркой познакомились и сразу поженились. А потом война, и как будто бы его никогда и не было. Вы-то хоть его когда-нибудь видели?
Старуха ещё ниже опустила голову, как будто бы собралась уснуть. Потом встрепенулась, выпрямилась, глубоко вздохнула и громким властным голосом произнесла:
– Знакома я была не только с твоим дедушкой, но и с твоим отцом. Расскажу сейчас эту историю Ниночки-золушки, потерпи, не перебивай. Не могу сразу, всё сжимает, сердце ноет.
Она встала, распрямила плечи, спину и ровная, как доска подошла к прикроватному столику, накапала себе остро пахнущих капель валерьяны в стакан с водой:
– Сказка… сказка про Ниночку-золушку, мою подруженьку до гробовой доски… Только сказка, к сожалению, пришлась на начало двадцатого века. Даже название у этой страшной сказки есть.
– Название сказки? – Владимир поднялся с дивана и согнулся над самым лицом старухи: – Какая сказка, какое название?
Старушка подняла на юношу свои выцветшие белёсые глаза: есть у этой сказки название, есть.
– Какое? – с ужасом отстраняясь от старухи и машинально присаживаясь на диван, закричал парень.
– Шляпка.
– Шляпка? Какая шляпка? Что ещё за шляпка?
– Мальчик мой, простая дамская шляпка, которая определила дальнейшую судьбу твоей бабушки, твоего отца и мою за компанию, да и твою тоже.
– Сейчас вспомню, – старуха что-то про себя посчитала в уме, – ну да, прошёл год, как мы закончили уже гимназию. Моя дружба с Ниночкой временами вспыхивала, а временами совсем сходила на нет.
Я знала, что Ниночка осталась при живом отце фактической сиротой. Она с преданной ей Глашей жила очень скромно, но достойно. Зарабатывала частными уроками, носилась по городу от одного ученика-балбеса к другому. Не отказывалась давать уроки даже детям зажиточных евреев. Что считалось в те годы вообще неприличным, но что делать? Жить-то им надо было на что-то.
А Глаша всё ходила к своему другу бакалейщику на подработки. Дела у того пошли в гору, он даже на Александровском проспекте держал большой оптовый склад в подвале, а на первом этаже хороший магазин. И по-свойски давал обеим девушкам заработать. Сказать, что совсем они бедствовали, нельзя было. Но, уж точно, не шиковали. Ниночка в этом отношении никогда со мной не делилась. Скрывала своё бедственное положение. Ни у кого помощи они не просили, никогда ни на что не жаловалась.
Но что в Одессе можно скрыть, ты сам знаешь. Шила в мешке не утаишь. Богатые с бедными дружбы не водят. А я любила заскочить к ним в свободную минуту просто так, поболтать. Ниночка девочка была начитанная, с ней всегда было интересно. А её Глаша – та вообще энциклопедия. Вот кому нужно было учиться, да не пришлось. К ним в квартирку я приходила как к себе домой. Всегда чистенько, вкусно пахнет обедом и выпечкой. А самое главное – такое радушие, чувствовала я в их доме, как будто бы пришла к своим самым близким людям. А так редко бывает. Ты меня понимаешь, Владимир?
Помню, я пришла пригласить Ниночку в кафе на Приморском бульваре. Весь наш выпуск решил там встретиться, посмотреть друг на дружку, пообщаться. Я уже несколько раз приглашала её раньше на подобные сборища, однако Ниночка всегда отказывалась. Я понимала, она чувствует себя неловко. Все барышни блещут нарядами, одна перед другой красуются, выпячивают напоказ свои украшения, демонстрируют свои состояния. В первый же год некоторые повыскакивали под венец и, будучи уже замужними дамами, поглядывали на бывших соучениц свысока. А те, кто еще не замужем, были просватаны, меня тоже родители пытались обручить, но я всё же как-то ещё выкручивалась.
А Ниночку ещё в гимназии за глаза обзывали оскорбительно – «облезшая дворянка», за протёртые ботинки. Она же всё ходила в перешитой гимназической форме и меняла её на пару застиранных платьев. Я ещё в гимназии как-то предложила ей несколько своих платьев, но она так резко возразила. И даже со мной после этого какое-то время не общалась. Я уж, как лиса Патрикеевна, через Глашу возобновила с ней дружеские отношения.
Ниночка не пошла бы и в этот раз, но Глаша, видно, настояла. Она подшивала или подгоняла по фигуре одной богачке платье, привезенное прямо из Парижа со всеми аксессуарами. Глашкин бакалейщик прислал за Ниночкой экипаж. У всех просто глаза повылазили из орбит, когда в самый разгар веселья напротив кафе остановился этот, с открытым верхом, фаэтон. И из него выпорхнула разодетая в пух и прах Ниночка.
Фурор, который произвела Ниночка своим появлением, привлёк к ней всеобщее внимание, не только наших выпускниц, но даже остальных посетителей. Это был её звёздный час, как у Золушки из сказки. Теперь ни у кого не повернулся бы язык назвать её «облезшей дворянкой». Она предстала пред всеми настоящей принцессой.
Как она была хороша, мальчик мой, какая она была хорошенькая, просто наслажденье смотреть. Прямо сейчас вот вижу её перед собой. От проявленного к ней внимания щёчки её, обычно бледненькие, вспыхнули румянцем. От нашей Ниночки глаз нельзя было отвести.
В глубине зала сидела, гуляла компания молодых людей с парусного судна, стоящего на рейде. Молодые лейтенанты, или они тоща были ещё гардемаринами, кажется, пили вино, громко смеялись. Заигрывали с нами. Куда там: белоснежные кителя, сбоку кортики позванивают… Хороши, подлецы, как на подбор.
Владимир смотрел на старушку, у которой от приятных воспоминаний у самой покраснело лицо и заблестели слезящиеся глаза. Она кокетливо повела плечиками, распрямилась, выгнулась, выпятив грудь, как будто бы лет пятьдесят сбросила с плеч.
– В общем, – продолжала старушка, – настроение у всех было приподнятое. Молодые люди стали писать записочки на салфетках и запускать их, как ласточек, в сторону нашего стола.
Сначала мы смущались, официанты сделали даже им замечание. Но потом всё же потихонечку принялись читать эти послания и так разошлись, осмелели, что начали сами барышни, на их же салфетках, отвечать всякими шуточками и выпускали «птичек», словно из клеток на свободу, обратно к кавалерам.
Всё это было так по-ребячьему азартно и смешно, что не только официанты и лакеи улыбались, лица других работников кухни тоже расплывались в улыбках. Они поднимали недолетевшие ласточки-письма и подавали их юношам на подносах. Не знаю, что было бы дальше, хотя, конечно, догадываюсь. Но за нашими девицами стали приходить, к кому кто: или няньки, или родители заезжали. Все быстро разъехались, я тоже ушла с прислугой.
Я даже не сомневалась, что за Ниночкой придёт Глаша.
Лейтенантики отдали девицам честь и гурьбой побежали вниз в порт по лестнице, где на рейде красовался их парусник. Ниночка оказалась последней выходящей на лестницу. Она накинула на голову дорогущую эту французскую шляпку, но с непривычки забыла завязать ленты на ней. Только Ниночка вышла, как вдруг откуда-то взявшийся ветерок со всей силы дунул ей в лицо, она от неожиданности аж глаза зажмурила и выпустила ленты из рук. Майский освежающий ветерок тут как тут воспользовался оплошностью девушки и подхватил лёгкую шляпку, как свою добычу, унося с собой в синеву неба.
И взлетела шляпка ввысь, радостно расправив ленты. Со стороны она выглядела, как белокрылая чайка, кружащаяся над морем. Ниночка пыталась догнать негодницу, но та парила над головами людей, издеваясь, то снижаясь почти до земли, то опять взмывала вверх. Невозможно по лестнице было за ней угнаться. А затем она вообще устремилась на склон бульвара, поросшего красиво высаженными деревьями с ярко окрашенными белой известью стволами. Но и этого показалось беглянке мало: вырвавшись на свободу на широкие просторы, она уносилась майским ветром всё дальше, пока её не поймали в свои сети густые ветки акации.
Шум и крик от происходящего привлек внимание и молодых гардемаринов. Обернувшись, они вместе с гулявшими по бульвару тоже наблюдали за полётом девичьей шляпки, но, увидев её приземление, только пожали плечами и продолжали спускаться по лестнице дальше к порту перескакивая через одну а то сразу и через две ступеньки.
Ниночка стояла бледная, ни жива ни мертва. Она не представляла, что теперь будет? Как она подвела Глашу, её бакалейщика. Но больше всего волновало, где теперь достать такую шляпку? К тому же девушка ещё разорвала, нет, скорее надорвала случайно юбку, когда пыталась поймать ее. Она не заметила, как один из лейтенантиков перепрыгнул через парапет лестницы и рванул за этой проклятой шляпкой-беглянкой вниз по склону.
Какая-то незнакомая женщина ласково обняла девушку; прижав к груди, нежно гладила по волосам и приговаривала: «Не расстраивайтесь, милая барышня, вам родители закажут в Париже новую, ещё лучше этой». Но Ниночка не слышала ее, слёзы ручьем текли по её щёчкам. Другие прохожие тоже пытались утешить девушку, волосы которой, вырвавшись на свободу из-под шляпки, развевал волнами задувавший с моря ветер. Даже постовой, представившись, спросил, не нуждается ли она в помощи, не обидел ли её кто. Ниночка только покачала головой: нет, нет, никто, мою шляпку унесло.
– Ну, так это не велика беда, барышня. Дело поправимое, – служивый улыбнулся Ниночке. – Дай бог, чтобы то была единственная ваша потеря.
Она плелась по у лицам, не замечая ничего вокруг. В голове стучало: облезшая дворянка, облезшая дворянка… Даже этот шикарный наряд она умудрилась превратить в драный. Ниночка уже была почти у дома, как почувствовала, что кто-то настойчиво толкает её в плечо:
– Барышня! Барышня! Остановитесь! Я еле вас догнал. Спасибо постовому, показал, куда вы пошли. Вот ваша шляпка.
Ниночка смотрела на шляпку, не веря собственным глазам. Вид шляпка имела, правда, ещё тот. Одна лента оторвалась, запутавшись в ветвях, да ещё лейтенантик мял её в исцарапанных руках. Только сейчас она рассмотрела окликнувшего ее молодого человека. С иголочки белый китель был испачкан, форменные брюки тоже, пыльные башмаки и потное, грязное лицо. Но, казалось, юноша ничего этого не замечал, он не сводил глаз с девушки. Так они оба и застыли, пристально вглядываясь друг в друга. И долго молчали. Первой опомнилась Ниночка: я – Нина. Молодого человека звали Владимир.
– Идёмте, – решительно взяв инициативу в свои руки, она повела юношу к себе домой. Молодой человек категорически отказывался. Как можно было в то время предстать перед родителями в таком виде. Однако Ниночка была непреклонна: «Вы понимаете, Владимир, первый встречный патруль – и вы попадаете на гауптвахту».
Познания девушки в воинских порядках рассмешили юношу и заставили сдаться. Глашу Ниночка представила ему как свою тётю. Пока Глаша колдовала над формой лейтенанта, молодой человек, укутавшись в простыню, сидел в гостиной и пил чай с Ниночкой. Молодые люди рассказывали друг другу разные истории из их жизни и жизни своих друзей. Ниночка забыла и о порванной юбке, и об испорченной шляпке.
В открытый настежь балкон смотрела, как бы следя за молодыми людьми, старая акация, наполняя комнату своим колдовским ароматом.
– Вы играете на фоно? – спросил молодой человек, увидев у стены небольшое кабинетное фортепьяно.
– Немного, я специально не училась, так, для себя, меня Глаша научила. А вы?
– Я люблю гитару, с ней на судне сподручней. Сыграйте мне что-нибудь.
– Что же сыграть, право, я не знаю, – смутилась Ниночка, потирая пальчики.
– А то, что вам самой больше всего нравится, – и лицо его вспыхнуло и залилось краской, даже пятнами пошло по шее.
Ниночка, переодетая в домашнее скромное платье, робко подошла к инструменту.
– Вы любите Чайковского? – вполоборота спросила она.
– С удовольствием послушаю. Спасибо.
Владимир видел, как напряглась спина у девушки с тонкой талией, как мощно она взяла первые аккорды, и руки ее бежали по клавишам, и повороты головы не успевали за этими движениями, извлекавшими величественные звуки Первого концерта. У молодого человека перехватило дыхание не только от музыки, он вслушивался в нее и уже понимал, не сомневался, что встретил ту единственную на всю жизнь женщину. «Шляпка, шляпка, проказница шляпка, как я благодарен тебе», – повторял про себя молодой офицер.
Лестница, все судьбы с ней так или иначе связаны. Как ее только не называли: гигантская, бульварная, приморская, теперь вот Потемкинская. Хоть это название осталось от такого великого сына нашего несчастного отечества. Нигде во всем мире нет ничего подобного этому творению архитектора Боффо. Пять лет ее строил. Странная лестница, правда, Владимир? Так и тянет туда – и когда горько на душе, и когда радостно. Представляешь, как граф Воронцов любил свою жену, чтобы создать этот шедевр – водопад застывшего камня к ее ногам.
Старуха прищурилась и усмехнулась:
– «Полумилорд, полукупец…», нашкодил Пушкин великому гражданину России, говорят, потом жалел. А ведь граф Воронцов не побоялся подписать письмо на имя императора еще в 1820 году о необходимости отмены крепостного права. Вольнодумец! Здесь, в Одессе, под его крылышком и вызрело выступление декабристов в Санкт-Петербурге в 25-м. Одесса всегда была вольным городом, а тогда единственным в крепостной России. Эта лестница как символ свободы и ведет к раскрытым настежь морским воротам, а Воронцовский маяк вместе с Фонтанским указывают кораблям путь к ней. Поэтому наши мальчики и рвутся в морячки. Не правда ли, сынок? Какая-то она, наша лестница, и в самом деле необыкновенная… Лестница грез. Без нее Одесса и не Одесса. Так и тянет к ней, что с моря – скорее бы на нее взобраться, и ты дома, в Одессе, что с суши – скорее бы сбежать по ней и уплыть далеко-далеко.
Вера Константиновна прервалась, достала из комода полотенце, вытерла им пот со лба. Помолчав немного, она уже совсем другим, поникшим голосом продолжила:
– Вот так, миленький, вот такая приключилась история начала настоящей любви твоих бабушки и дедушки. И всё на моих глазах. Славная была пара. Сколько знала Ниночку всегда она его ждала, то из очередной экспедиции, то из рейса. Как сейчас вижу: гуляла я со своим сыночком, царство ему небесное, и вижу: стоит моя красавица, твоя бабушка, на той самой лестнице. Я ей кричу, машу зову её, а она вся там, в порту, и больше ничего для нее не существует.
Вера Константиновна натужно поднялась со стула, шаркающей старческой походкой подошла к трюмо, смахнула слезу и, выдержав паузу, выдохнула:
– Такой, как был у тебя дед, таких сейчас и в помине нет. Большого сердца был человек. Когда мой муж погиб, они с Ниночкой столько для меня сделали. Царство им небесное обоим. Тебе нечего стесняться своих родичей, ты, сынок, должен с честью носить свою фамилию – Ерёмин Владимир Викторович.
Владимир сидел, не шелохнувшись, в висках метрономом стучали слова Веры Константиновны: постарайся быть достойным своих близких. Никогда прежде он не слышал этих слов, никто и никогда не рассказывал ему прежде о его семье, молчала и Дорка – или не знала тоже, а может, боялась? А выходит, он, Владимир Викторович, потомственный моряк и по деду и по прадеду. Только вот отцу, как говорит эта странная старушенция, не повезло. Родился он в страшное время. Досталось бабушке Нине и с моим отцом Витенькой, и с моей мамой, да и со мной тоже.
– А дед твой Владимир, боевой морской офицер, сгинул, а где? – вывела из оцепенения Владимира старушка. – Так никто не знает, куда делся. Поговаривали, в Севастополе революционные морячки утопили.
– Как утопили? – Владимир побледнел.
– Да так и утопили. Всему командному составу камни к ногам и в море. Такие вот дела. Цвет флота уничтожили, сволочи. И они ещё хотят, чтобы народ их любил, почитал, верил им. Малограмотные негодяи, упивающиеся кровью народа, гробят такую страну. А народ… что народ – быдло для них. Любовь их вся на красных тряпках, обагрённых кровью. Ты книжки, которые я тебе в прошлый раз подобрала, прочёл?
– Только одну, – приврал, покраснев, Вовчик.
– Не обманывай. Вижу по глазам, даже не раскрывал. И как ты станешь умным, грамотным, если ничего не читаешь. Хочешь, чтобы и из тебя сделали дурака. Ни за что, я тебя им не отдам. Не знаю, сколько еще протяну, хватит ли сил, но у меня теперь цель в жизни – из тебя сделать человека. Ты должен, нет, обязан читать, чтобы понимать, что творится вокруг. Пусть чувствуют, не все согласны плясать под их красную дудку. Я тут одну книжицу у приятельницы выцыганила. Ты уж её береги и, пожалуйста, никому не показывай.
– Что за книжка, Вера Константиновна, мне за нее не влетит?
– Так я ж предупредила: никому не показывай. Прочти, а потом, мой мальчик, я тебе расскажу об этой поэтессе. Ох, ты смотри, как быстро темнеет. Иди уже домой, а то мать будет волноваться.
– Да не будет, она понятливая, – подчёркивая свою независимость, ответил Вовчик.
– А то оставайся у меня ночевать, опасно ходить по тёмным улицам, – предложила старушка.
– Не переживайте, мне здесь каждый камень знаком и каждая собака знает, – бахвалился Вовчик.
Вера Константиновна только усмехнулась, прижала на миг к груди Вовчика и тут же оттолкнула, хлопнув по спине: иди!
Так Доркин Вовчик, незаметно для самой Дорки, круто изменился. Нельзя сказать, что между ними была возведена стена из ракушечника, но из досок точно, и она начала постепенно рушиться. Только если сын и раньше не называл её мамой, то теперь он обращался к ней по имени, правда, по-босяцки грубовато: Дорочка. Когда женщина вскипала от обиды, как чайник на плите, только тогда Вовчик ласково величал её – мама-Дорочка. Дорочка, не кипятись. Дуйся – не дуйся, я так привык, я так хочу и я так сделаю.
Одному Дорка радовалась: у Вовчика пропали вечно пьяные кореша с Софиевской. Среди его друзей появились рабочие ребята, учащиеся в институтах и университетах, с вечерних и заочных отделений. В новой компании он быстро почувствовал себя своим, как рыба в воде. Его приятный мягкий голос располагал к себе всю компанию. Едва он появлялся, ему сразу передавали гитару Он всегда с поклоном принимал её, настраивая, напевал старую одесскую песенку:
Жил в Одессе парень молодой, Ездил он в Херсон за арбузами, И вдали мелькал его челнок С белыми, как крылья, парусами. Арбузов он там не покупал, Лазил у прохожих по карманам, И валюту в банке он менял, И водил девиц по ресторанам. Но однажды этот паренёк Не вернулся в город свой любимый, И напрасно девушка ждала У фонтана в платье тёмно-синем.Под прикрытием этих песенок, бесшабашных гуляний складывалась компания единомышленников, близких по духу людей. Вовчиком его никто больше, кроме матери, не называл. Друзья называли его Ерёма или Влад.
«Коммунистический субботник»
Теперь, когда история со шляпкой читателям известна и перевернуты старые страницы из семейной хроники Ереминых, продолжим наше повествование. Теперь уже Влад Ерёмин мог часами стоять у начала Потемкинской лестницы и смотреть на порт сверху, на входящие и уходящие суда. Любил он подходить к самому обрыву и представлять, как на этих обвалившихся поросших бурьяном сваях находилось любимое всеми одесситами кафе-мороженое, откуда всего каких-то лет пятьдесят с небольшим вышла его такая молоденькая бабушка и встретилась с удалым красавцем гардемарином. Он так увлекался этими представлениями, что уже сам чувствовал себя тем самым гардемарином, бежавшим за французской шляпкой, и вместо бабушки его воображение рисовало прекрасную девушку незнакомку. В пылающей голове юноши бушевали страсти такой неимоверной силы, что он не выдерживал и сначала сбегал по лестнице вниз, потом, стараясь не снизить скорость, наверх. Только после этих видений его желания от усталости и бессилия проходили. Наступало безразличие, и, тяжело ступая, он медленно шёл домой.
Но в этот раз задумавшись, он не заметил идущую навстречу Наташку с уже известным кавалером и от неожиданности смутился.
– Чао! – выдавил он из себя.
– Привет! Знакомься, это Махмуд. Махмудик, а это Влад, мой самый большой друг.
– Привет, Влад! – Махмуд протянул свою руку, такую же волосатую, как и всё его тело. В модной нейлоновой рубашке он производил довольно приятное впечатление. Могучий торс, широкие плечи, бычья шея, приветливое лицо, на удивление интеллигентный тихий голос.
– Колись, Влад, тебя занесло на лестницу рандеву? – озадачила парня своим игривым вопросом Наталья. Отведя Влада в сторонку, она скороговоркой прошипела: – Возьми шефство над этим Абрамгутангом. Вы с ним одних кровей, так что тебе это не сложно. Титей-митей, ну денег у него, как у дворняги б лох, а то и больше. А мне с моим положением, сам понимаешь, сильно светиться с ним не по фонтану. А я тебе, мой мальчик, тоже пригожусь, ох как пригожусь. Увидишь. Ты умница, всё на лету схватываешь, вот и договорились.
Развернувшись в сторону Махмуда, она прощебетала:
– Мне домой нужно срочно объявиться, гостей мама зазвала. Крепко заругают, если не приду Я через Влада с тобой свяжусь. Владик, будь другом, не бросай Махмудика, он замечательный парень.
Она послала парням воздушный поцелуй и, как ведьма на швабре, взлетела вверх по лестнице, только её и видели. «Ну, сучка, ну, проблядь, на тебе пробу ставить негде», – злился Влад. Он всегда поражался её моментальной сообразительности, умению ловко вывернуться из любой ситуации. Особенно его резануло: он одних с тобой кровей. Именно это его застопорило. Значит, ей известно, что он по матери еврей, но как Махмудик может быть евреем? Злоба душила Влада: обвела, зараза, вокруг пальца. Он метнул взгляд на этого здоровенного медведя из южных краев, который сам обалдел от внезапно изменившейся ситуации и невинно моргал глазами сквозь нависавшие над ними густые брови.
– Такой красивый и хороший девушка, – он аж цокнул языком и пальцами одновременно.
– Очень порядочный девушка, – Влад поддразнивал Махмуда, но тот не заметил. – Она боится, что её увидят с незнакомым человеком, да еще днем, когда все на работе. Понимаете?
– У нас тоже это нельзя хороший девушка. Друг, кушать хочешь? Друг, пойдём, где шашлык хороший, где сидеть хорошо. Я не знаю. Деньги есть, не знаю куда. Только гостиница своя знаю. «Пассаж».
Влад понял, что отделаться сразу от этого южанина неудобно, и обречённо поплёлся его провожать к гостинице. Новый знакомый здорово устал и плёлся сзади, не задавая никаких вопросов. У гостиницы он опять предложил Владу провести вечер, может, с девушками, ну, конечно, с не такими хорошими, как Натали. Деньги, не волнуйся, есть, напомнил гость. Просто посидеть, музыку послушать, икру покушать, много икры покушать. И лобио, и сациви, шашлык чтоб сочный был.
Как по заявке телезрителей, на углу Дерибасовской и Советской Армии нарисовались две знакомые девицы из подвала с Красного переулка. Влад сам от себя не ожидал такой прыти. Отдав честь и улыбнувшись девицам, он пропел:
Красотки, красотки, красотки кабаре, Вы созданы лишь для развлечений…– Девочки, не желаете разделить вечер с солидными друзьями? Для начала познакомимся, – он подмигнул своим давним приятельницам, – меня зовут Влад, а это, разрешите представить, мой кавказский приятель Махмуд.
Девушки расцвели на глазах; подхватив молодых людей под руки, развернули их на 180 градусов обратно на Дерибасовскую. Райка, повиснув на Владе, пропела ему на ухо: «Что за фраер? Звидкиля вин туту зявся? Гей до дому спочивать? Деж до цёго ошивався? Хочь при бабках, або так?»
– Понятия не имею, – Влад слегка оттолкнул настойчивую Раечку, – «коммунистический субботник» подбросила на Приморском бульваре, а сама, паскуда, смылась. Заставила провожать его к гостинице, а он всю дорогу канючил, что жрать хочет, в любой ресторан идем, и девочек просил. Один в Одессе боится, первый раз припёрся.
Райка, закатив глазки, заржала: Вас понял, по обмену опытом с «коммунистическим субботником». Э, милок, раз здесь Наташка поучаствовала, мы сваливаем.
– Почему? – удивился Влад. – Он же приглашает.
– Не сечешь или прикидываешься? Так она уже его ободрала, как липку. Поэтому и дёру дала, чтоб не рассчитываться.
– Не похоже. Для него она припасла роль честной комсомолки. Может, задание какое-то выполняла. Гуляйте, девки, а я потихоньку смоюсь. У меня самого рандеву назначено, никак не могу не прийти.
Райка, однако, не унималась, мёртвой хваткой вцепилась во Влада.
– Успеешь, мы тебя долго не задержим, пожри с нами и валяй на все четыре стороны. Дальше сами его сработаем, не боись. Кавказец будет доволен. Он точно в «Пассаже» кантуется, не врет?
– Хрен его знает, в кабаке проверим его на вшивость.
Владу ничего не оставалось, как зарулить с этой разудалой компанией в кабак. Девицы разошлись на полную ка тушку. Кавказец был в ударе, стол ломился от закусок, оркестр, задариваемый гостем, обслуживал исключительно их столик. Влад несколько раз попытался по-английски удалиться, но не вышло, а потом сам опьянел от избытка армянского коньяка. Бутылки опорожнялись одна за другой. Уже за полночь весёлая компания, в сопровождении швейцара и обслуживавшего их официанта, покинула ресторан. Как доплелись до подвала в Красном переулке, Влад не помнил. Только под утро он проснулся от мучившей его жажды. В потёмках разглядел спящую рядом с ним незнакомую девицу, а дальше, на громадной продавленной тахте, голого кавказца в полной боевой готовности с отдувающейся Райкой. В коридоре столкнулся с блюющей в тазик Райкиной напарницей: «Ты чего?» Девица, в три погибели согнувшись, мучилась над тазиком, стоящим на табуретке.
– Ты чего? – повторил он свой вопрос, еле ворочая языком. Не отрываясь от тазика, несчастная прошипела:
– Влад, где ты взял это животное? Я его сейчас огрею этим тазом с блевотиной. Недаром Наташка, сучка, сбежала, целку из себя корчила. Это же не человек, это орангутанг настоящий. Он из зоопарка, что ли, сбежал? Падла, искалечил меня всю. Как теперь работать буду? Удружил ты нам, спасибо… Райка там ещё жива? Он уже четвёртую девку по полной программе отоваривает. Ты такое видел? Дорого это ему станет, пойди скажи ему.
– Пошли вы на х… сами набросились, как голодные на добычу. А теперь я виноват. Я тоже блевать хочу. – Еле удерживаясь на ногах, спотыкаясь на каждой ступеньке, Влад выполз наружу, жадно хватал ртом свежий воздух, приходя в себя. Ну и погулял так погулял…
Целый день голова гудела и раскалывалась от боли. Желудок сводила жгучая резь. «Какая я скотина, мама, наверное, всю ночь не сомкнула глаз, места себе не находила, металась по комнате от одного окна к другому, ожидая его». Мама! Он вздрогнул. Его мозг неосознанно произнёс это слово – мама. Нужно было хоть утром заявиться, а он сразу поплёлся на работу. Резкая боль скрутила все внутренности. Чем нас отравили в этом вонючем ресторане?
А мама никогда в жизни ни в одном ресторане и не была. Не пошла на панель, как эти девицы. Пошла вкалывать, все вкалывали, а ведь была совсем молодой. Тоже хотела в жизни немного радости, счастья и приютила этого Алексея Михайловича. Как он ненавидит этого негодяя до сих пор. Встретил бы на улице, все ноги за мать переломал бы. К вечеру он почти дошкандыбал до дома, когда увидел удручённо бредущую мать, Дорка шла в сторону магазина. Она перебежала перед идущим снизу трамваем дорогу не обращая внимания на встречный.
– Мама! – Влад сначала тихо, как бы про себя, позвал Дорку. Потом, что есть силы, закричал: – Мама!
Одновременно зазвонили оба трамвая. Влад бросился им наперерез. Обе женщины-водителя ругали Дорку последними словами. Одна из них пыталась даже её ударить, орала, что из-за такой жидовки в тюрьму идти не собирается. Влад перехватил её руку и отшвырнул в сторону. Обнял за плечи мать:
– Мама, прости меня, идём домой!
Из магазина выскочили люди. Шум, крики: наша мама Дора чуть под трамвай не попала, она когда-нибудь допрыгается туда-сюда бегать. Девки, смотрите, это её Вовчик. А он ничего, только какой-то помятый. Тихо, девки, прикроем Дорку, все по местам.
Дорке вызвали врача, и она оказалась на больничном. Как была она счастлива, её Вовчик сам за ней ухаживает, называет мамой, а то и мамочкой.
Навестить Дорку приехала Надежда Ивановна, наконец за столько лет, да не одна а со своей названой племянницей Наденькой. Женщинам не терпелось поболтать, как бывало раньше, тет-а-тет, но присутствие Влада и Наденьки их смущало. Первой не выдержала Надежда Ивановна:
– Так, молодёжь, погуляйте, а нам с подружкой пощебетать хочется. Надюша, подари нам пару часиков счастья.
Влад с Наденькой, выйдя за ворота, остановились, не зная, в какую сторону пойти. И, не сговариваясь, машинально направились в сторону Дерибасовской. Владу не очень хотел ось светиться в центре с «пидстаркуватой», по его мнению, спутницей. Они свернули в Городской сад, вышли к театру, а потом решили посидеть в Пале-Рояле на скамеечке. Сначала за общими, ничего не значащими разговорами они не заметили, как стемнело. Потом На денька расспросила Влада о производственных успехах, и здесь его как прорвало. Он всё выдал: и как ненавидит этот завод, какое там творится очковтирательство. Техника допотопная, ещё с прошлого века, и всё, что они производят, годится только на утиль. Какую Америку мы собираемся догнать, а то и перегнать? Наденька слушала внимательно и вдруг предложила:
– Володя! Идите работать в мою шарагу у нас сейчас как раз есть одна вакансия. Многого не обещаю, но то, чем мы занимаемся, вам будет интересно. Не понравится – вернетесь назад на завод. Решайтесь. Вот мой телефон, позвоните.
Возвращались молодые люди весёлые и в приподнятом настроении. Наденька думала, что сделала хорошее дело, предложив Владу новое место работы, довольно перспективное. А Влад был рад, что наконец сбежит с завода и не будет больше видеть все эти спитые рожи, эту грязь и копоть. Кончатся «леваки»: ты мне, я тебе. На радостях он проводил тётку с её племянницей к самому их дому. Тем же трамваем вернулся в город.
Дорка и не помнит, когда последний раз она так светилась счастьем, вся сияла. Её Вовчик будет работать в научно-исследовательском институте. Всё повторяла, чтобы запомнить: НИИ, НИИ. В первый трудовой день на новом месте Владу мечталось сразу показать, на что он способен, но его энтузиазму не дали развернуться, весь этот день в лаборатории он просидел один. Вся группа во главе с Надеждой Сергеевной выехала на объект, а у Влада не оказалось оформленного пропуска. К вечеру в лабораторию заскочила На денька, извиниться, что так сложилось. Она валилась с ног от усталости, и Влад поплёлся её провожать. В трамвае они уселись рядышком. Измотанную Наденьку укачало, она вздремну ла, склонив голову на плечо Влада. Он сидел, не шелохнувшись, боясь нарушить её сон.
– Конечная, – тихо произнёс Влад, расталкивая Надежду Сергеевну, – нам выходить.
Наденька встрепенулась:
– Да, да, ой, спасибо! Ты езжай обратно, еще раз спасибо.
– Нет уж, раз сюда забрался, хоть поздороваюсь с тёткой. Одними приветствиями встреча не окончилось. Был и вкусный ужин, и приятный разговор. А самое главное – была Наденька, которая Владу так увлечённо рассказывала, чем он будет теперь заниматься, насколько это увлекательно. Будущее за развитием техники, и он, Влад, тоже примет участие в ее разработке. Возвращался Влад с полной сеткой книг, его распирало от знакомства с такой талантливой и необыкновенной женщиной. Наденька на работе щедро делилась с ним своими знаниями, иногда хвалила, но чаще ругала, если Влад ленился или не выполнял ее задание.
Дорку раздражало, что её сын каждый день исполняет роль бесплатного провожающего. Сначала эта Наденька забрала её лучшую подругу, а теперь и сына решила к рукам прибрать, не иначе. Уже и по выходным к этой Наденьке спозаранку плетется, даже Веру Константиновну забыл, и ещё ничего не скажи. А с другой стороны, её Вовчик стал такой привлекательный, статный, не в её род пошёл, а в отца. Неужели он влюбился в эту На деньку? Она же его на пятнадцать лет старше. Бедная Ниночка, соседская девочка, с детства в её Вовчика влюблена. Одно время что-то между ними было. Дорка застала их в комнате. Влюблённая девочка вылетела пулей, на ходу накинув пальто. А вот чулочки забыла… До сих пор ни с кем не гуляет, всё на их окна посматривает. Спросить сына боится, один раз ляпнула: «Я здесь Ниночку встретила, такая хорошенькая, барышня. Ты её давно видел?» В ответ молчание. А Дорка, как ни в чём не бывало, продолжала: «В институт поступила, правда, на вечерний, днём работает. Меня встретит, сумку из рук тянет, всегда подносит, о тебе спрашивает, что да как». Сын в конце концов не выдержал: «Мама, мне другая женщина нравится. А Ниночка очень хорошая девушка, я знаю. Пожалуйста, не заводи пустых разговоров».
Вот тебе и весь сказ. Неужели её красавец Вовчик в эту старуху влюбился? А Надька? Всё талдычила, голову мне морочила: моя Наденька мужиков на дух не переносит, ни с кем не встречается, одна работа в башке. Скрывала, подруга называется. Вовчик теперь и дома не всегда ночует, у них толчётся. Видите ли, с Надеждой Сергеевной одно большое дело делают. Вот как наделают, будет всем весело. Нянчить-то кому? А что я лезу в их жизнь, раз любовь, пусть уж женятся. Только Ниночку соседскую всё равно жалко, душою она ближе к Дорке, чем эта невесть откуда взявшаяся племянница.
А Надежда Ивановна не могла нарадоваться за свою Наденьку. Наконец проснулась её спящая красавица, её бывшая квартирантка, синий чулок, на глазах изменилась. Так быстро всё случилось, сначала отрезала эти деревенские косы, завёрнутые на затылке в старушечий пучок. Потом появились туфельки на каблучке, вместо вечных полуботинок – зимой и летом одним цветом. Кофточки, юбочки, бельё импортное и эти кремпленовые платьица по фигурке её точёной. Из её комнаты смех, музыка и Вовчика бас, а на туалетном столике духи и прочая косметика. Только Дорка с ума сходит, ей бы радоваться, что беспутный сынок к приличной женщине прибился, а она бесится.
Надежда Ивановна себя вспоминала, своего Эдика, тоже моложе её был. Не жалеет она ни на минуту о том времени. Голодно и холодно было, но как хорошо им было вдвоем. Пусть и её Наденька своё в этой жизни возьмёт – заслужила. Только нервничала Надежда Ивановна, когда замечала, как на Наденькино личико словно тень-печаль ложилась. Оно вытягивалось, глаза западали и наливались слезами, она вздрагивала и убегала к себе в комнату. Только при Вовчике, которого теперь все называли Владом, её лицо преображалось, начинало искриться. Ничего не попишешь, это всё она – любовь, которая нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Надежда Ивановна часто пела эту песню. И отгоняла от себя другую мысль: любовь пришла, как беда, – раскрывай ворота. Тьфу-тьфу, она перекрестилась. Не дай бог, накаркает.
Для самой Наденьки, Надежды Сергеевны, руководителя производственной лаборатории института, встреча с Владом поначалу носила исключительно воспитательный и общеобразовательный характер – уж больно настойчиво тетка просила образумить парня. Постоянное общение с ним каким-то необъяснимым образом всё притягивало и притягивало её. А когда уже и сам Влад признался ей в любви, то такая крепость, как Наденька, сдалась на милость победителю. Может, поначалу это и был производственный роман, но потом всё слилось воедино с бурной страстью, которую никто из них раньше никогда не испытывал. Они уже не расставались круглосуточно, жили у Надежды Ивановны. Наденька к Дорке стеснялась ходить, да особенно и времени у неё свободного не было. Только когда умерла соседка с Греческой, уж тогда Надежда Ивановна и Наденька приняли активное участие в похоронах и поминках. Наденька через институт организовала и машину и людей. А сынок с невесткой, как и предсказывала старуха свою кончину, приехали только через неделю после похорон. Отдыхали в Крыму, вернулись в Питер, а там телеграмма…
Ещё через месяц в освободившуюся комнату въехал молодой милиционер, старший лейтенант из ОБХСС Фёдор Николаевич. Дорка над новым соседом взяла полное шефство. По утрам угощала его манной кашей, он, в свою очередь, предлагал ей импортный растворимый кофе из красивой банки. Дорка предупредила, как только кофе закончится, чтобы он эту баночку ей подарил, она туда что-нибудь насыпет – красота какая. Иногда новый сосед приводил к себе девушек, но Дорку стеснялся и их не показывал. Юркнут к нему в комнату и не высовываются. А Дорка делала вид, что ничего не замечает. Сидела у себя в комнате и глаза им не мусолила. Дело молодое, сама когда-то так же с Витенькой прошмыгивала к нему в комнату, пока свекровь на работе была. Тоже от соседей прятались. Всё в этой жизни повторяется и повторяется. Только одним перепадает на всю жизнь, а ей, Дорке, на одно мгновение. Витенька, Витенька! Какие мы были с тобой дураки, зачем ссорились, не разговаривали, мучили друг дружку. Любить надо было без устали. А сын наш на старухе, наверное, женится. Сорок лет никому не нужна была, и на тебе – нашего сына подцепила. Так и засыпала несчастная одинокая Дорка, бубня одно и то же себе под нос.
Вскоре у Доркиного соседа милиционера объявилась невеста, во всяком случае Дорке так показалось. Девушка ей очень понравилась: красивая, умница, с высшим образованием, вот бы моему Вовчику такую. А он со старухой связался. Девушка вела себя изначально не так, как предыдущие. Свои отношения с молодым человеком не скрывала. Наоборот, постоянно старалась продемонстрировать их всему дому. Вскоре Наташенька переехала к Фёдору окончательно. Дорка очень хотела, чтобы Вовчик увидел новую соседку но знакомство, как по закону подлости, долго не получалось. Вовчик к матери заглянет на минуточку, так соседей дома нет. Онасынуужевсе мозги запудрила, Вовчик только и слышал: Наташенька то сказала, Наташенька это сделала, такая пара, такая пара. Я её рыбу учу фаршировать, так у неё такие ноготки, просто жаль портить. Сынок, ты бы уже тоже определился с этой, ну своей. Чем она тебя околдовала, не пойму. Сколько девушек симпатичных вокруг. Ой, сынок, хоть один раз мать послушай.
Раньше, когда Влад приближался к собственному дому, он внимательно оценивал обстановку, так ещё с малолетства привык. Участковый Сахно приучил его с детства чувствовать за собой охоту. Вот и сегодня это состояние вдруг вернулось. Спиной почувствовал и быстро оглянулся: его нагоняла Наташка «коммунистический субботник».
– Привет, Влад, далеко двигаешь? – Наташка озорно подмигнула.
– Домой, к матери. А ты сюда зачем пожаловала?
– Я теперь здесь живу, у мужа, – гордо приподняв головку, проворковала она.
– Постой, постой, так это ты подцепила нашего соседа Фёдора? Ну ты даёшь, подруга. Что это тебя на мусора потянуло? Хотя…
– Договаривай, договаривай, что замолк. Нам с тобой делить нечего, поэтому давай сразу договоримся: мы знать друг друга не знаем. В твоих же интересах. А Дора Моисеевна, выходит, твоя мамаша. Понятно!
Влад еле сдержался. Теперь ему пришлось перед матерью разыгрывать целую комедию. Восторгаться прекрасной девушкой Наташей не стал, а на стенания Дорки по поводу того, как умудряются эти приезжие разобрать в Одессе достойных девушек, вызывали у него только ироническую улыбку.
С появлением в квартире «коммунистического субботника» Влад все реже навещал мать. Но стоило ему появиться, у Дорки рот не закрывался от восхваления Наташеньки. Только когда разлюбезная Наташенька попросила Дорку подписать заявление на их третью соседку, тут она растерялась. В заявлении говорилось, что прописанная в их квартире соседка фактически более трех лет находится в Мурманске у сына, а комната простаивает. Сын получил там трехкомнатную квартиру, в том числе и на мать. Дорка хоть и мало общалась с этой соседкой, но её устраивало отсутствие последней. На кухне просторней, туалет и ванная всегда свободны, чем плохо. Заберут у бабки эту комнату, других вселят, вдруг целую кодлу с детьми, а так тихо, спокойно.
Дорка попыталась вразумить Наташеньку, но куда там. Она ей целую лекцию прочитала, как с такими проходимцами, типа их соседки, надо только бороться и выводить их на чистую воду. Дорка вспомнила и свою Надьку. Да, попадись в Надькиной коммуналке вот такая особа, и осталась бы её подружка тоже на у лице. Не принимая никаких Доркиных возражений, Наташенька потребовала от неё отдельного заявления, подписанного не только ответственным квартиросъёмщиком, то есть самой Доркой, но и проживающим вместе с ней сыном. Расстроенная Дорка после работы прямиком понеслась к подруге Надьке, чтобы переговорить с сыном и ненавистной «учёной». Теперь Дорка Наденьку величала только так – «учёная». Встречая сына дома, она всегда говорила: «Как это тебя твоя «учёная» отпустила? Это же надо?»
Надежду Дорка застала одну. Выслушав подругу, Надежда Ивановна тяжело поднялась с дивана и, подойдя к окну, задумалась. Потом резко повернулась и выкрикнула:
– История мне эта совсем не нравится. Кому нужен такой скандал? С какой стати ты будешь на старости лет писать доносы, да ещё Владимира брать по делу. Этой падле надо, пусть сама и пишет, чтоб у неё руки отсохли, а ты не вздумай ничего подписывать. Чем ей эта соседка помешала? В какой борщ насрала? Ой, Дора, что-то здесь не так. Сыну ничего не говори, скажи, что не застала дома. Постой, Дорочка, а случаем не для себя ли твоя соседушка эту комнатёнку приглядела? Дверь прорубят и две комнаты получится, чем плохо, в самом центре.
Про себя Надежда Ивановна подумала: «А потом, глядишь, и ты, Дорка, помешаешь. С тобой справиться тяжелее будет, у тебя ещё Вовчик есть».
Как решили, так и поступили, Дорка сыну ничего не сказала и сама наотрез отказалась писать всякие заявления. Наташенька только плечиками пожала: как хотите, мол, и без вас обойдёмся. Спустя неделю пришла комиссия с участковым и, в отсутствие Дорки, составляли какие-то акты. Через несколько месяцев Наташенька с мужем объединили две комнаты, как и предполагала Надежда Ивановна.
Теперь новые соседи Дорку перестали и вовсе замечать. Ни тебе здрасте, ни тебе до свиданья, полное одиночество. Даже поездки к подруге перестали быть ей в радость. Ей даже казалось, что Надежда Ивановна вздыхает с облечением, когда она уезжает домой. Лёжа теперь в постели, Дорка часто вспоминала смешную и преданную соседку с Греческой; как старушка сама себе накаркала, что умрёт, а дети так и не приедут её даже похоронить. Я тоже так умру, никто и не чухнется, только когда завоняюсь, тогда спохватятся. Вдруг резкий звонок прервал печальные Доркины мысли. Сердце заколотилось: футы, господи, это соседи к себе в комнату поставили телефон, и он звонит бесконечно и днём и ночью. Сами допоздна гуляют, а этот скаженный телефон трезвонит и трезвонит Может, и надо было подписать это проклятое заявление, всё равно ведь комнату у старухи отобрали. Так хоть бы сохранила хорошие отношения с новыми соседями. Все же хорошо складывалось поначалу, а теперь вот как враги.
Чем больше люди имеют, тем больше им надо и надо. Прав был сын, когда предупреждал ее не очень доверять новой соседке. А она, дура, всю душу перед ней наизнанку вывернула. Всё обо всех понарассказывала. И кто её только тянул за язык? А эти соседи молодые, что за люди? Тянут и тянут всё домой. Обе комнаты заставили новой импортной мебелью. Особенно раздражало Дорку что свой старый шкаф они вынесли в коридор и вперли между стенкой и её дверью. Воткнули еще буфет, холодильник «ЗИЛ» с ключиком в дверях. Развернуться теперь негде. Доркин же маленький столик на кухне сиротливо прижался между раковиной и газовой плитой, поэтому был всегда забрызганным и мокрым. Дорка чувствовала себя чужой в этой квартире, не хозяйка она собственной комнаты, а какая-то бесправная квартирантка, которую можно выгнать или оскорбить в любую минуту.
Страх, страх, который на время чуть-чуть отпустил Доркину душу, опять вернулся с новой силой. Ей чудилось, что уже весь двор её сторонится. Стараются проскочить мимо нее, не здороваясь. Она себя сама успокаивала: а кто должен со мной раскланиваться? Жизнь не стоит на месте, одни жильцы давно получили новые квартиры и переехали, другие поменялись, третьи и вовсе перебрались в мир иной. Все меняется. Даже на работе, как гром среди ясного неба, сообщили, что их директор сам подал заявление об ух оде и оформляет отъезд на историческую родину. Как же так, он же терпеть не мог евреев, как от этой национальности шарахался, а теперь, нате вам, и мама у него еврейка, и отец был, и жена, и дети. Хотя все украинцами записаны, а он так и вообще русским. В архиве где-то справки раздобыл, в милицию понес, чтобы паспорта поменяли. Её тоже на работе как-то подковырнули: не собирается ли она свалить?
Она бы и не придала этому значение, но однажды под вечер к ней прикатили старые друзья, Лёвка с Изькой; сначала болтали о том о сем, семье и детях. А потом они объявили: собрались мы, Дора дорогая, в путь-дорогу дальнюю, покидать Союз. С пеной у рта, особенно Лёвка, они стали поносить собственную страну, её порядки.
– Дорка, решайся, что тебя здесь ждёт? А Вовчика? – разошелся Левка. – Что, в этой стране наших детей ждут в институте? Только всякими уловками туда можно поступить да за деньги. А получить нормальную работу? Мы здесь даже не второй сорт. Чуть что, так и тычат: еврей, жид пархатый! Вот ты зачем закончила свой сраный техникум? Чтобы с твоим образованием мыть полы в магазине, больше никуда не устроиться. Скажи, что твоему Вовчику светит в этой прогнившей стране?
– А что там, ты знаешь? – не удержалась в ответ Дорка.
– Знаю, – Лёвка стукнул кулаком по столу – будет поначалу тяжело, придется пробиваться, лбом стены прошибать, но меня никто хоть жидом не назовёт и моих детей. Мы с Изькой решили ехать в Америку.
Хуже не будет, пока есть силы, станем на ноги. Дорка, не дури, ради своего Вовчика давай с нами. Жить здесь всю жизнь в коммуналках, в лучшем случае на сто рублей в месяц, еле сводить концы с концами… Тикать надо скорее отсюда. Вся Одесса двинула. Ты не представляешь, какие очереди на отъезд. Ради интереса пойди посмотри.
Дорка сидела, обхватив голову руками. Боже мой, что сказал бы Витенька, услышав все это. Бегут с Родины, которую он защищал и погиб, и через двадцать лет нашли его останки под Одессой. Как можно бросить этот город? Сыну даже заикнуться нельзя. А вдруг у Вовчика тоже такие мысли, а она не знает, он же теперь только со своей «ученой» всем делится, все тайна, секреты. Вдруг сорвутся вдвоем, а ее и не спросят.
– Между прочим, Дорка, можешь хорошо подработать, – продолжал Левка, он словно не понимал ее состояния. – Ты же одиночка, мы тебе мужа подберём, вывезешь на себе хорошего человека. Он тебя не обидит, тебе сейчас цены нет. Ты теперь самый ходовой товар в Одессе.
Он смеялся и шутил, потом энтузиазм его иссяк. Выпили, закусили, долго молча сидели. Все трое плакали. Прощаясь, Лёвка с Изькой обняли Дорку: думай, сестричка, кто его знает, сейчас так, а завтра могут опять ворота закрыть, железный занавес опустить. Нас провожать придешь? Мы сообщим.
Дорка после их ух ода не находила себе места. Это известие выбило её из колеи. Она изводила себя сомнением, говорить ли об этом Вовчику? Он её и слушать не захочет. У него теперь любовь, хорошая работа. Однако на следующий день, после работы понеслась к подружке в надежде застать сына. Дома, как всегда, оказалась только Надежда Ивановна с вечными компрессами на обеих ногах и мукой на лице. Молодых не было, они взяли отгулы и на несколько дней уезжали на Каролино-Бугаз, покупаться, позагорать, рыбку половить. Для сотрудников НИИ там есть курени, лодки. Прекрасное место для отдыха, что ни говори. С одной стороны плаваешь в море, с другой – переходишь дорогу и, пожалуйста, пресный лиман Днестровский. С мая месяца по глубокую осень туда просто паломничество.
– Опять рыбу наловят, а мне чистить, – пожаловалась Надежда Ивановна, – так каждый раз, когда туда едут. Но сейчас я им сказала: силы есть на отдых, так вот, будьте добры, и всю рыбку мне такую везите, чтобы сразу на сковородку.
Дорка хотела предложить свои услуги, но смолчала. Ее бил озноб обречённости, одиночество огнём сердце обдало. Значит, отдыхают, веселятся, в ус не дуют, а ей подыхать. Никому она не нужна.
Возвращаясь в трамвае от подруги, Дорка для себя твёрдо решила: пришло время вернуть сына домой. Всё, хватит, он мой, и никому его не отдам. Никакой подруге Надьке, никакой её племяннице Наденьке. Это мой сын. Мой сын. Вон сердце как колотится. Завтра же вызову врача на дом, и он вернётся. Не бросит же меня одну. А если бросит, то туда мне и дорога. Без него все равно жизни мне нет на земле.
Жизнь как жизнь
Днём к Дорке на работу прибежала Валька, бывшая жена Ивана. До войны ее Витенька, когда они не были еще знакомы, тоже был влюблен в Валентину. Она охотно гуляла с ним, пока Иван служил срочную. А потом и Витьку забрали служить. Иван вернулся – и через месяц они с Валентиной расписались, а спустя еще девять месяцев у них родилась дочка. А Виктор после армии встретил Дорку, тут и всё завязалось. Дружили всем двором. Только третий друг, Аркашка, всё никак не мог остановиться в своём выборе. Красавчик, самый образованный и талантливый, он после школы поступил в институт. Потом непонятно – учился, не учился. Вроде в Москву хотели даже перевести как самого умного, во всяком случае, так сообщала каждому встречному поперечному его мама тётя Мара. Но вскоре он опять объявился в Одессе и загремел, как и все, в могучую и непобедимую. Тётя Мара, опять по секрету и, конечно, всему свету растрезвонила, что в её Аркашеньку влюбилась до потери пульса дочка чуть ли не академика, нет, какого-то министра. Но не сложилось. И только потому, что жених оказался с пятым пунктом в паспорте. И вообще из-за этого он вылетел отовсюду, как пробка из бутылки.
От Аркашки приходили восторженные письма о военной службе. И там он был самым-самым, его ценили за необыкновенный почерк и умственное развитие. Отбарабанив положенное, Аркашенька возвратился не один, а с дамой, вдобавок с солидным приданым. Приданым оказался её сын лет на пять младше отчима.
Только тут тётя Мара наконец прикусила свой язык, что называется, закрыла его на замок. Но на сей раз не надолго стихла музыка и прекратились фраерские танцы. Просто «хорошей Аркашенькиной знакомой», как уверяла Дорку тетя Мара, не понравилось в Одессе, и они по-тихому съехали. А красавчик поплыл дальше по Дерибасовской обольщать столь доверчивых и неотразимых наивных девственниц.
Эта прекрасная жизнь в одночастье прервалась 22 июня 1941 года. Все, что случилось потом, все это страшное время – пропажа Виктора без вести, гибель всей Доркиной семьи в гетто, арест уже после войны Нины Андреевны за якобы сотрудничество с немцами – Дорка старалась просто вычеркнуть из своей жизни, раз и навсегда. Иначе можно вообще удавиться. Только Вовчик и удерживал её на этом свете. А как она мучилась, пока устроилась на работу. Никуда не хотели брать, в чём только её не обвиняли. А если разобраться – за что? Что выжила в этом аду благодаря свекрови, которая прятала ее всю войну с новорожденным в печном старом дымоходе? Вырванные из жизни годы. Ее Витеньки нет на свете, весельчак и балагур Ар кашка погиб где-то в Крыму. Из близких знакомых один Иван остался жив.
Поначалу Иван с Валькой вроде жили как все, вторая дочка Ниночка родилась, а потом как отрезало. Пить крепко стал, жену поколачивать. Не ожидала Валентина, что Ивана мать в старые отцовские письма, ещё хранящиеся с Гражданской войны, подсунет свои записочки. Отомстила невестке за зверское к себе отношение. Умерла старушка во время оккупации голодной смертью, и это при невестке и её ещё молодой и крепкой здоровьем матери.
Иван, когда пришел с фронта, немного пожил в семье, а потом оставил ее, куда-то завербовался на Север; как тог да говорили, погнался за длинным рублём. По пьяни он даже Дорке предлагал всё бросить к чёртовой матери и уехать на заработки вместе. Но она и слышать не хотела, в голову не брала эти идиотские мысли. Все ждала, была уверена, её Витенька обязательно вернётся к ней. И свекровь тоже, только нужно потерпеть. Печка, в которой она практически просидела всю войну, научила её этому.
И вот те раз, днём в магазин врывается соседка Валька и начинает с порога орать, захлебываясь, что её дочку Леночку прямо с толкучки милиция забрала в кутузку и теперь плавающему зятю грозят большие неприятности. Могут прикрыть загранку, а Леночку засудить за спекуляцию. Надо что-то делать. «Дора, я на всё согласна, выведи меня на своего бывшего квартиранта. Умоляю, – чуть снизила голос Валька. – Там, такое дело, такое дело. – Она оттащила Дорку за угол дома и, брызгая слюной, в самое ухо зашептала: – Ленка узнала твою соседку».
Дорка от растерянности ничего не понимала. Только с третьего раза до неё всё-таки дошло. Ленка продавала на толкучке вещи, ну, тряпки, которые привозил её муж-моряк. В то утро около нее долго вертелась какая-то моложавая покупательница, долго примеряла чуть ли не все подряд, приценивалась, а потом развернулась и быстро направилась к выходу. То ли не понравилось, или в цене не сошлись, а может, вообще баба не собиралась ничего покупать. Но как только эта сучка отошла, к Ленке сразу подошли двое, предъявили какие-то корочки и приказали следовать в контору. Она поняла: ОБХССная подстава.
Ну и пошло-поехало. Слёзы, мольба, всё барахло она оставила там. Рада была, что еле ноги унесла без последствий. А вчера, продолжала Валька, у младшей Ниночки был день рождения. Ленка выпила винца и пристроилась у кухонного окна покурить, теперь это модно, все девки на толкучке курят. Так вот, она выглядывает в окно и видит, во двор заходит твоя, Дор, соседка Наташка со своим мужем, чинно так идут под ручку Может, Ленка на них и внимания не обратила бы, но Наташка как раз была в том самом платье, которое примеряла, красиво на ней сидело, прямо по фигуре. Его потом с другими вещами у дочки в околотке забрали. И кто забирал? Твой сосед, это он мою Ленку обшмонал, всё у нее конфисковал и ещё и потребовал, подлюка, хороший куш, чтобы дело не открывать и ее Димке в пароходство не сообщать. Вот они чем занимаются. Выручай, Дорка, как мне твоего бывшего квартиранта найти?
Дорка застыла как истукан, от всего услышанного ее била нервная дрожь. Она молчала, не в силах от ужаса разжать рот, наконец выдавила из себя:
– Кого найти?
– Так квартиранта твоего бывшего, он сейчас в начальниках у них. Надо сук этих поприжать, понимаешь, а то делают, что хотят. Пусть, гаденыш, Ленке шмотки и куш возвращает. Дорочка, помоги, за ради дружбы наших мужей. Поведи меня к нему, хоть на работу, нет, лучше домой. – Тут напористая крикливая Валька внезапно поумерила пыл, сменила гнев на милость: – Я ж понимаю, все кушать хотят. Так мы согласны, отблагодарим, чай не чужие, сочтёмся. Главное, чтоб к Ленке больше не цеплялись. Ну, так сведёшь?
Наконец до Дорки дошло, что от неё требуется. Но еще некоторое время она стояла в раздумье, потом повела плечами, словно стряхнула с себя оцепенение.
– Валя, понимаю, большая неприятность, но к Леониду Павловичу не пойду. Язык не повернётся такое ему предложить. Отблагодарим, все кушать хотят… Он меня мигом вышвырнет. Не тот человек, чтобы брать. Если бы я своими глазами не видела, как Жанка концы с концами еле сводит. В одной юбке со свитерочком бегает из года в год. Ты уж лучше сама к Наташеньке с её муженьком наведайся. Они рады будут. Ты ж им заявление подписывала на соседку, что она редко дома появляется. Вытурить бедную женщину помогала, вот и иди к ним. Долг платежом красен, пусть отдают его тебе и Ленку твою больше не трогают.
Лицо Валентины скривилось, желваки заиграли на раскрасневшихся от злости щеках:
– Ну и падла ты жидовская, Дорка. Сама ж с магазина живёшь и корчишь из себя целку. Мне-то не надо втюривать, какая ты честная и порядочная. Моего Ивана всё приваживала, бегал к вам с Надькой-курвой как на срачку. Мне тогда ещё нужно было вывести вас, лярв, на чистую воду. Ничего, и сейчас не поздно. А твой сынок ещё тоже заплатит, думает, ему так с рук всё сойдёт.
Дорка схватилась за сердце.
– А Вовчика чего впутываешь в наш разговор, он-то при чём? Валентина опустила голову и, как змея, прошипела:
– Твой бусурман Нинку мою испортил и бросил. Или скажешь, что ничего не знаешь? И она теперь и не туды, и не сюды. Кому такая дура нужна? Высохла уже вся. А сам, как павлин, у Надькиной племянницы ошивается. Такую девочку на курву старую променял. Попомни меня, отольются кошке мышкины слёзки.
Дорка ничего не ответила, машинально повернулась и пошла в магазин. Только дверь стала открывать, как резкая боль острым ножом полоснула в самое сердце. Больше она ничего не помнила – ни подъехавшую «скорую», ни больницу. Там долго ее не держали, диагноз поставили – микроинсульт.
Рот сдвинулся, тяжело, будто чужой, ворочался во рту язык. Левые рука и нога висели, как за ниточку привязанные. Руку не поднять, ногу не поставить, так и привезли через месяц домой, сгрузили на кровать, как сгружают с подвод мешки с картошкой. Вовчик крутился вокруг, приговаривая: мама, лежи спокойно, отдыхай. Справа на стул поставил ей воду лекарства, под кровать утку. После работы обещал заскочить. Так и бегал: до работы покормит, всё, что надо, сделает и после работы, и уезжал к своей Наденьке.
Сама Наденька, его ненаглядная «ученая», появлялась в выходной, правда, всё перестирывала, вывешивала во дворе и, едва Дорка прикорнёт, уносилась на свои Ближние мельницы. Дорка даже вздыхала с облегчением, часто делала вид специально, что спит. Не находили обе женщины общего языка. Дорка стеснялась «невестки не пришей к месту», как таких называли в Одессе. У На деньки тоже не все было в порядке со здоровьем, часто пошаливало сердце, скакало давление, и женские дела требовали лечения. Так что ухаживание за больной Доркой тяготило ее. Могла бы больше поухаживать за Доркой Надежда Сергеевна, однако она не утруждала себя излишним сюсюканьем со свекровью. Да и какая Дорка ей свекровь, так, просто Влада мать.
Наташку она вообще не видела. Та с тех пор, как привезли Дорку домой, ни разу к ней не заглянула. Спросить сына о соседке Дорка тоже не решалась. Только приветливая и безотказная Ниночка и бельё во дворе снимет, и перегладит, и подмоет Дорку Ждала она её, как свет в окошке. Девушка училась на вечернем и забегала лишь к самой ночи. Уставшая за целый день, она надолго не задерживалась, быстро справлялась со всем и убегала к себе. Дорка постепенно приходила в себя и старалась потихонечку сама что-то делать. Вовчик купил ей всё металлическое: кружку, тарелку, мисочку, они падали, не разбиваясь.
Только вот телефон у распрекрасных соседей не давал покоя, трезвонил и днём, и ночью, стал для больной женщины врагом номер один. Неужто такие деловые или специально, чтобы насолить ей, беспрерывно крутят этот проклятый диск? Со всеми, кто к ней приходил, она ни о чём другом не могла говорить, как только об этом телефоне, который доведет-таки ее до белой горячки. Вот и сыну дырку в голове проела: попроси На ташку, пусть хотя бы когда уходят, отключали бы его. Влад пытался застать соседку на кухне, но всё никак не получалось. Он постучал в дверь. Весёлый голосок откликнулся: открыто. И он переступил порог соседской комнаты.
– Вот это да! Кто к нам пожаловал! Какими судьбами! Проходи, не стесняйся. У меня здесь не совсем прибрано, но ты же будешь смотреть только на меня, – Наташка залилась своим щекотливым смехом. В руках у неё был хрустальный бокал с зеленоватой жидкостью. – Хочешь коктейль?
– Наташа, я к тебе по делу, мне сейчас не до коктейлей.
– А как можно решать дела, не выпив?
– Наташа, я серьёзно, мне надо поговорить с тобой.
– Конечно, поговорим, – девушка подошла к бару, откинула дверцу. Отражаясь в зеркалах, перед Владом заиграли разные иностранные бутылки с выпивкой. – Ну как? Что предпочитаешь? Я вот люблю коктейль с «Шартрезом». А тебе, думаю, сделаю что-то покрепче, с коньяком. Или ты хочешь один коньяк?
Она достала круглый пузатый бокал и плеснула туда коньяк, покрутила в руке, понюхала, глядя на Влада: самое оно, для разминки, правда?
Девушка действительно была красива; нежного розового цвета нейлоновый стёганый халатик, не застёгнутый ни на одну пуговицу разошёлся, обнажая высокую, слегка полноватую грудь и атласный с кружевами пояс, поддерживающий нейлоновые чулки на ногах. Влад, принимая из её рук бокал, улыбнулся: ты действительно неотразима, вот сейчас твой зайдёт и будет и тебе, и мне капец.
Но девушка не слушала Влада, она уже обвила его шею своей рукой и прямо под нос Владу подставила свой бюст.
– Наташка, да ладно тебе, мне сейчас не до шуток, – он пытался её отодвинуть от себя, но не тут-то было. – Наталья, тебе что, делать нечего?
– Почему же? Как раз я тебе и предлагаю хорошее дело, – и она впилась в его губы своим ртом. Влад почувствовал вкус поцелуя с запахом шартреза и её руку шарящую по его брюкам. – Ну что ты, как не родной. Можно подумать, что нам с тобой впервой. Моего сегодня не будет, он на дежурстве, а твоя мамаша в параличе. Так что всё в полном ажуре.
Влад поначалу просто остолбенел, потом с силой оттолкнул её. Потеряв равновесие, Наташка упала сначала на край кресла, а потом, не удержавшись, рухнула на пол. Он бросился помогать ей подняться, но она ругалась почём свет стоит. Схватилась за порезанную руку: ты меня ещё попомнишь, падла стоеросовая. Сейчас открою окно и буду кричать: помогите, насилуют меня. Вон следы на лицо, на руке. Сейчас же мужу позвоню. Так что готовься.
– Сама ты падла, я хотел только попросить тебя по-человечески: мать не может выносить ваш бесконечно трещащий телефон. Вас нет, а он всё трезвонит и трезвонит. Наташенька, я тебя очень прошу отключайте его хоть на время. Давай сюда руку, ты же поранилась, не дури, кровь капает.
– И пусть капает, – она окровавленной рукой схватила Влада за ворот рубашки, зло оскалилась. – Теперь-то я и с тобой, и с твоей очкастой мамашкой рассчитаюсь. Я никогда ничего не забываю и не прощаю. Понял?
– Да пошла ты! – Влад пулей вылетел из комнаты. Сучка, как была сукой, так и осталась. Его всего колотило. В зеркало старого соседского шкафа, впертого между их дверью и стеной, он в ужасе разглядел своё отражение. Вся его рубашка и даже брюки были испачканы кровью. Вот сволочь! Ещё подставит меня ни за что. Он быстро рванул в ванную, сбросил с себя одежду и стал лихорадочно застирывать. Не зная, куда пристроить постиранные вещи, он отнёс их в комнату. На себя напялил старые порванные джинсы и видавшую виды рубаху. Бросив на ходу матери, что придёт завтра, быстро засунул мокрую одежду к себе в портфель и выскочил во двор. В воротах лицом к лицу столкнулся с Ниночкой. Девушка, увидев Влада, просияла и, как всегда, когда она о нём думала или видела, глаза её увлажнялись.
– Вовчик, что случилось? С мамой что?
– Нин, с мамой всё в порядке, а вот я, по-моему, влип по самоё никуда.
– Что случилось?
– Нинка, выручай, к тебе сейчас можно?
– Да, конечно, мама у Ленки с детьми сидит Дачу они снимают в Аркадии. Пойдём!
Влад, оглядываясь, быстро пошёл за девушкой, его всего колотило. Как ей всё рассказать, только бы поверила. Вот попал так попал!
Ниночка, открывая входную дверь ключом, посмотрела на раздувшийся мокрый портфель, с которого капала вода: что у тебя там течёт?
– Сейчас расскажу, давай скорее, – он стал ногой растирать накапавшую лужу, а затем по коридору стремглав подбежал к двери в Ниночкину комнату и умоляюще простонал: – Скорее, ты можешь побыстрей?
– Да что случилось? Ты можешь по-человечески объяснить? Влад сразу бросился к окну не реагируя на вопрос девушки: сейчас меня заберёт милиция, вот что сейчас будет.
– Вовчик, при чём тут милиция? Что ты натворил?
– В том-то и дело, что ничего. Эта сука всё сама подстроила.
– Какая сука? Объясни всё по порядку, – Ниночка хотела передвинуть портфель, но Влад схватил его и поставил себе на колено. – Что ты делаешь, что у тебя там? Хватит, Вовчик, или рассказывай всё, или…
Она забрала из его рук портфель, уселась на свой диван: тебя слушаю.
Влад стоял, как школьник перед доской на уроке, посреди комнаты в своих старых коротких джинсах, мокрых туфлях, хлопая себя по бёдрам и коленям.
– Посмотри на меня, ты видишь перед собой идиота. Я идиот, понимаешь, полный идиот. Она меня посадит, как самого последнего поца в Одессе. Она меня посадит. Боже мой, какой же я мудак! Вот влип так влип!
– Кто? Ты можешь мне сказать, кто?
– «Коммунистический субботник», вот кто. Ниночка сама уже испугалась за Вовчика.
– Вовчик, Влад, ты и дальше будешь пороть всякую чепуху.
– Это не чепуха. Здесь в портфеле доказательства, что я её пытался изнасиловать. Понимаешь?
– Владик, милый, родной, успокойся, что с тобой? Ты о ком говоришь?
– О своей соседке, о ком же ещё? Ты-то мне хоть веришь? Ниночка схватилась за голову: господи, что ты такое несёшь?
– Дурак, попался я на её удочку как хорошо она расставила сети, и я в них и загремел, весь запутался. Я только зашёл к ней в комнату попросить, чтобы они выключали свой телефон, когда уходят, или приглушили его. Понимаешь, эти паскуды Дорку сводят с ума, целый день телефон непрерывно звенит. С ума сойти. Здоровый человек не выдержит, а больной…
– Мама твоя мне давно об этом говорила, – Ниночка взяла Влага за руку.
– Она сама меня к себе пригласила, налила коньяку, сама выпила, по-моему, она была навеселе еще до моего прихода. Так вот, ну… ко мне полезла, нахально полезла. Я её оттолкнул от себя, она упала, руку поранила, потом меня специально кровью своей обмазала. Я еле вырвался. Сука она, «коммунистический субботник».
Ниночка поёжилась:
– Вовчик, а при чём здесь коммунистический субботник?
– Кличка у неё по городу такая. В райкоме комсомола работает. А муженёк в милиции, не знаю только кем. Но по всему видать, тот ещё жук.
– Зато я знаю, что он из себя представляет. Два сапога – пара. Я тебе чай сейчас согрею. А вещички давай сюда, выварю. Хрен она что докажет. У меня ты, если что, ночевал. А если будет выступать ещё, то скажу, что она сама тебе прохода не даёт. Я много чего о ней и о нём знаю. Пускай только попробуют. Ленку нашу по полной поимели, теперь за тебя взялись. Не выйдет у них ничего. Ты полежи и успокойся. Я сейчас быстро.
Влад никак не мог прийти в себя, всё высматривал в окно, не едет ли кто за ним. Но двор жил своей обычной жизнью. Попив чай, он немножко успокоился, порывшись в карманах, не обнаружил отцовского ножичка.
– Ты что ищешь?
Ниночка занесла в комнату таз с его вещами: здесь развешу а то ещё кто увидит. Она уселась рядом с ним на диван. Сначала гладила, потом мелкими нежными поцелуями покрыла всё его лицо, шепча: я люблю тебя, я так люблю тебя. Что хочешь со мной делай. Живи со своей женой, а я всё равно буду тебя любить. И ждать Вовчика своего единственного.
Влад молча принимал ласки любящей его девушки. Отстранить её не хватало духу. От такого искреннего участия и нежной любви он позабыл обо всем, сгрёб в охапку плачущую Ниночку, и страсть пронеслась ураганом по телам молодых людей.
Когда Влад уснул после наслажденья, Ниночка сбегала навестить Дорку заодно и посмотреть, что там и как. В коридоре было темно, из-под двери соседей пробивалась полоска света, на полную мощность был включен телевизор. Ниночка открыла Доркину дверь и прошмыгнула в комнату. Никто её не заметил. Ночнику кровати Дорки только освещал её лицо. Она спала, её профиль чётко отражался на стене, грудь спокойно то поднималась, то опускалась. Девушка наклонилась над спящей Доркой: мамочка, я так люблю его, выздоравливай! Дорка открыла глаза: кто здесь?
– Это я, Нина.
– Ниночка, а что сейчас – утро или вечер?
– Тётя Дора, почти ночь.
– Ниночка, эта сволочь последняя приходила, потом её муженёк, всё моего Вовчика спрашивали. А я уснула и не знаю, когда он ушёл. Что им от него надо? Телефон меня доконает. Я Вовчика всё прошу с ними поговорить. Что за люди, неужели так тяжело отключить, когда уходят.
Ниночка, поправила постель, потом тихонько прошептала на ухо:
– Тётя Дора, не просите, не унижайтесь. И Вовчика к ним не посылайте. Они же всё назло вам делают Негодяи они. А Вовчик к себе домой давно поехал.
– Как домой? Здесь его дом. Рядом со мной, с нами. Разве такой судьбы я хотела для единственного сына? Скажи, а? Ниночка, а у тебя парень есть? Пора ведь.
– Есть, тётя Дора.
– Хороший?
Ниночка помолчала и еле выговорила:
– Тётя Дора, самый хороший, я его очень люблю.
– Вот и хорошо, слава богу. Я за тебя очень рада. Жаль, что мой Вовчик такой дурак. Такую, как ты, потерял.
– Тётя Дора, мы, к сожалению, только верные друзья. Девушка наклонилась над Доркой, поцеловала её в щёку: я завтра забегу.
Влад несколько раз менял свой путь к дому. В тот раз сошел с трамвая на предпоследней остановке и через пустырь, где теперь громадную стройку развернули, через сараи быстро заскочил в парадную. Тихонько открыл дверь и здесь же услышал плач Надежды Ивановны.
– Вовчик, ты? Наконец-то. У нас такое несчастье. Где тебя носит? Наденьку нашу «скорая» забрала. Пришла вся чёрная, сразу легла, сказала, голова у неё сильно болит. А сама всё за живот держится. И стонет, стонет. Я и так к ней, и так. Смотрю, её уже всю знобит. Попросила девчонок сбегать к телефону-автомату на остановку «скорую» вызвать. Так она ещё стала со мной ругаться. А я же вижу, ей совсем плохо. И это ещё не все. Не знаю, как тебе сказать. Ты ж уже взрослый мужчина, у неё кровотечение. Как могла, замыла, но ты обязательно ещё раз все протри, в холодной воде простынки замочи, я потом выварю. Вот напасть. Завтра с утра прямо в больницу езжай. Её в Еврейскую отвезли, где Дорка лежала, в гинекологию.
Влад всё вымыл, поменял постель, так до утра и не ложился. Всё курил в форточку и всматривался в темноту ночи. Пока он там с Нинкой кувыркался, его жена чуть богу душу не отдала. Что с ней случилось? Хоть сейчас беги, но никто же не пустит Скорее бы утро. Мать права, когда повторяет: пришла беда, открывай ворота. Только какая сейчас пришла беда?
С первым трамваем он уехал в центр города. В приёмном покое дежурная, узнав, что он муж, ехидно процедила: на что только не идут бабы, чтобы мужиков удержать. В наше время делать подпольный аборт… Была бы девчонкой неразумной, а то тетке под полтинник. Совсем показилися.
– Вы что-то перепутали, моя жена, Надежда…
Он не успел договорить, дежурная обрезала его на полуслове.
– Ничего не перепутала, вашу жену всю ночь откачивали, дуру старую. Пишите записку, ей передам, вас к ней всё равно не пустят, – она вырвала лист из тетрадки и предложила карандаш.
У Влада дрожали руки, в голову ничего не лезло. Он быстро начеркал: «Дорогая, скорее выздоравливай, люблю, целую, твой муж Влад». Дежурная, закатив глазки, покачивающейся походкой двинулась к лестнице, обернулась, спросила, будет ли он ждать ответа.
Время тянулось бесконечно долго. Только сейчас Влад почувствовал, как он устал. Столько сразу свалилось на его голову. Болезнь матери, эта сволочная На талья с мужем с изощрёнными подлостями. Ещё и Ниночка со своими страданиями и влажными от слёз влюблёнными глазами. Да и Надя, его любимая Наденька, как она могла так поступить. Ничего ему не сказала. Даже не посоветовалась, как будто бы он для неё никто. А он ведь отец ребёнка. Почему она это сделала? Кто дал ей право за него решать. Господи, всё ей прощу, только бы выжила, только бы всё обошлось. Бог с ним, с этим ребёнком, будут еще. И всё-таки, почему она с ним не поделилась. Может, и приняли бы такое решение, но вместе. Он, получается, для неё никто, ноль без палочки. В кармане Влад по привычке стал нащупывать отцовский ножичек, но его в карманах не оказалось. Я ж костюм новый надел, наверное, в старых джинсах остался. Хотя и в джинсах его не было. Неужели выронил в комнате «коммунистического субботника» или в ванной, когда застирывал джинсы. Неужели потерял?
– Молодой человек, вам послание, – отвлекла Влада девушка в белом халате, наверное, медсестра. Он взял в руки всё тот же листок, с обратной стороны которого было написано одно слово: прости.
Он вышел из больницы в тумане, не заметил, как доплёлся до работы. Заглянул в Надеждин отдел, сказал, что она заболела и просила его поехать на объект. А сам помчался к Дорке, в голове стучало только одно: ножичек, ножичек! В комнате застал мать, стоящую у окна. Она, опираясь на стул и палку, улыбаясь, при виде сына выпрямилась.
– Видишь, я уже шкандыбаю потихонечку.
– Мама, ты ножичек не видела? Не попадался тебе?
– Та какой тебе ножичек? Не видишь, я уже хожу, порадовался бы за мать.
– Вижу, мама, вижу, ты ножичек отцовский не брала?
Не глядя на Дорку, Влад выбежал в коридор, всё обшарил на кухне, в ванной и туалете. Ножичек как сквозь землю провалился. Последняя надежда, что, может быть, по дороге к Нинке обронил или у неё оставил… Как неудобно всё вышло с Нинкой. Как он мог опять поддаться её ласкам. Подлец он, любит другую, а переспал со всегда готовой на это Нинкой. Что всем этим бабам от него нужно? Только одно – и этой Нинке, и «коммунистическому субботнику», да и его Надьке тоже.
Эх, Надя, что же ты наделала? На работе ни с кем не считается, ну это ладно, там она хоть начальник. Но, выходит, в их личной жизни он для неё никто, а столько лет прожили, уже давно мог стать отцом. Он тоже хорош, ничего не замечал, все был занят болезнью матери. А вдруг Надя пыталась с ним поговорить? Что-то не похоже. Влад так заскрипел зубами и застонал, что Дорка не выдержала:
– Что ты здесь всё ищешь, ты у своей «учёной» спроси, она у тебя всё знает.
Влад не выдержал, вспылил:
– Ты, ты одна во всём виновата, всё время в жизнь мою лезешь. Как ты к моей жене относишься? Отвратительно.
Дорка, обеими руками ухватившись за стул, с запотевшими от напряжения очками, ничего не видя перед собой, заорала:
– Какая она тебе жена? Кто сказал, что она тебе жена? – Дорка залилась в причитаниях: – Нашла молодого пацана и пристроилась. Кому она до тебя нужна была? Старуха, почти моя сверстница, ни стыда, ни совести, мальчишку в кровать затащила. Всю жизнь тебе поломала. Давно уже бы женился, если бы не эта бтядь старая. Умную чересчур из себя корежит. Попомни мои слова: использует тебя, пока ты молодой, в силе, а потом выплюнет и другого дурака найдёт Такие «ученые» жёнами не бывают. Ты лакей для нее, для обеих лакей, прислуживаешь им, рад стараться. Обо мне совсем забыл.
– Мама! Прекрати, мне и так тошно, – взмолился Влад.
– О, опять трезвонит! Слышишь? Разрывается.
– Мама! Это они сами к себе звонят.
– Зачем? Там же никого нет, – завопила Дорка, двигая перед собой стул.
– Чтобы мучить тебя, изводить. Ублюдки они, а не люди. – Влад подошёл к окну и тихо произнёс – Национализм непобедим.
Дорка не расслышала, переспросила:
– Что ты сказал?
– Мама! Они ненавидят нас потому, что мы евреи. Это тебе понятно?
– Так какой же ты еврей? Витенька же русский был, из дворян.
– Я, мамочка, для них всех суржик. А то и стопроцентный еврей, у иудеев по матери все судят. Меня тут в отдел кадров вызвали. Подумал: зачем, может, уволить собрались, а они бумагу подсунули подписать о неразглашении государственных тайн. Ты не знаешь, какие у меня тайны можно выведать? Большой секрет об устройстве автоматической печки для выпечки пончиков, венгерского производства. Такая херня. Во всех журналах ещё лет тридцать назад о ней было напечатано. А они все равно заставляли подписать, чтобы я на пять, а то и десять лет стал невыездным. Ну, не идиотизм?
– Вовчик, дура я, ничего не понимаю.
– Что здесь не понимать? Боятся, как бы все евреи из этого рая свободных народов, свободной страны, где так вольно дышит человек, не сбежали. Подавать же заявление на выезд сейчас можно. Другое дело, выпустят ли, вот такими бумажками и стараются попридержать. Если все рванут отсюда – кому польза?
– Вовчик, так ты что, со своей «учёной» тоже решил туда? – на лице Дорки застыл ужас. – Вот оно что, теперь я поняла, какого черта ты ей понадобился. А меня здесь как собаку бросите. Да я всё равно никуда бы не поехала. Здесь пусть хоть на свалку выбросят. Здесь наша земля, за нее твой отец голову сложил, все мы тут родились, тут и помрём. Ждать недолго осталось.
– Мама! Никуда мы не собираемся, тем более тётя Надя. Она могла ещё во время войны уехать, корни-то у нее немецкие. А Наденька моя, знаешь, серьёзно заболела. Вчера ночью на «скорой» в Еврейскую отвезли.
– А что с ней? – Дорка с трудом доковыляла до своей кровати. – Уж не собирается ли она тебе ещё наследника на шею повесить?
– Сколько же, мама, в тебе злобы и ко мне и к моей жене. Можешь успокоиться, выкидыш у неё случился. Дай бог самой выкарабкаться. Я пошёл, мне на работу ещё надо и к ней в больницу.
Дорка, лёжа в кровати, долго не могла уснуть, проклиная все на свете. Невестка-то хороша, вон чего удумала – её Вовчика дытынкой намертво к себе привязать. Но бог не фраер, всё видит, не дал ей родить. Забрал дитя. Жалко, конечно, «учёную», невезучая баба, но её сын ещё так молод, будут у него ещё свои дети. А ей куда под пятьдесят лет рожать? Правда, после войны и позже рожали, так то было после войны. А теперь-то зачем?
Дни опять потекли для Дорки какой-то пустой чередой. Вроде клятый инсульт немного отступил. Речь наладилась, руку и ногу отпустило, шкандыбать можно. Нет худа без добра, дорабатывать до пенсии не надо. По инвалидности спровадили. Не надо теперь чуть свет вставать, куда-то бежать, валяйся в постели сколько хочешь, как барыня. Вовчик еще реже появлялся, а как придем орёт не своим голосом, чтобы она его Владом называла и забыла это пришибленное имя Вовчик.
Одна Ниночка по-прежнему за ней ухаживала. Что-то не везёт девчонке. С каким-то хлопцем повстречалась, и он её бросил. У говаривала Дорка, что может прижать этого паскуна, раз обрюхатил, так женись, а то дотянули, что аборт поздно делать. Теперь рожать придётся. Ох, и крыла Дорка его матом, каких только проклятий на его голову не сыпалось. Ниночка её успокаивала: мол, парень не виноват, к нему никаких претензий нет, но Дорка стояла на своем, не могла угомониться: засранец и падаль.
А Ниночка просто расцвела. Редко когда женщину такое положение украшает, а она, глупенькая, нарадоваться на свой маленький животик не могла, вся светилась от счастья. С собственной матерью и сестрой совсем чужими стали. Судом Валька разделила лицевые счета на комнаты и обменяла свою поближе к старшей дочери Ленке. Ниночка, навестив Дорку убегала к себе и только на последнем месяце стала ночевать у Дорки. Обеим женщинам вместе было хорошо и тепло. В тот день Дорка, опираясь на палку, потопала на базар. Не спеша скупилась, поторговалась от души и возвращалась домой, таща на шее корзинку. В дверях квартиры столкнулась с соседкой Наташкой.
– Твою шлюшку подзаборную в родилку увезли. Дорка не выдержала:
– А ты бы хотела родить, что только ни делаешь, да бог такой сучке дитёв не даёт. Тебя, курву, весь город как облупленную знает. На халяву всем без разбору подставляешься. Так никто и не хочет, даже без денег, хоть приплачивай сама.
Наташка побледнела:
– Ну, падла жидовская, сама напросилась. Попомнишь меня со своим жидёнышем.
И понеслась прочь, как угорелая. Дорка крикнула ей вслед:
– Сама падла вонючая. А Вовчик у меня русский, бабушка его дворянкой была, не вам, «коммунистическим субботникам», чета.
Владимир Ерёмин с утра был в хорошем настроении. Все проблемы со здоровьем жены остались позади. Ушли в небытие и разногласия, обиды. На денька выплакала все слёзы, прося у мужа прощения за свой поступок. Решили уже даже официально пожениться. На работе всё ладилось, сдавали объекты один за другим без проблем. На полученную премию слетали в Москву в отпуск, походили по театрам. Столько всего нового и интересного увидели. Вернулись, полные впечатлений. Сообщение Дорки, что Ниночка родила мальчика от какого-то негодяя, который обманул бедную девушку, нисколько не тронуло Влада. Он только сказал: не хотела бы рожать, сделала бы аборт, как другие бабы. Проблема-то в чем?
Дорку всю передернуло.
– Так любит этого паразита. На него можно же было найти управу. Мы где живем? В советской стране или нет? Как ей теперь одной вытянуть дитя? Валька проклятая от своей младшей совсем отвернулась, только с Ленкой носится. Я-то знаю, каково одной жилы тянуть!
Она присела на диван, накапала себе валерьянки, выпила и, улыбнувшись, продолжала:
– Я ей помогаю, сижу с маленьким. Так грудь сосёт, только подавай! Такой хорошенький, прямо как ты в детстве. Просто копия, надо же такое. Все маленькие хорошенькие, только когда вырастают, одна возня и мучения с ними. А Ниночку, тебе скажу, после родов не узнать, красавица и такая мать, поискать такую ещё надо. Трудно ей материально, и люди к одиночкам плох о относятся, но она не обращает внимания, сыночка своего любит, как я тебя. – Увидев, что сыну неприятны её излияния, Дорка вздохнула: – Ладно, сам-то ты как, здоров?
– Да вроде всё в порядке, только, мам, я тебе деньжат в этом месяце подбросить не смогу. Протранжирили всё в Москве. Москва деньги любит.
– Мне не привыкать, – Дорка махнула рукой, – я теперь с Ниночкой столуюсь, как-нибудь выкрутимся. Правда, сейчас её нет, на всё лето укатила в пионерский лагерь, направили от работы. И маленького Витеньку с собой забрала, разрешили. Хорошо там им за городом, и воздух, и море, и на полном пансионе. А я так по малышу скучаю, ты не представляешь.
Дорка с укоризной посмотрела на сына и только вздыхала. Эти вздохи приводили Влада в бешенство. Скорее отсюда на у лицу, не слышать эти вечные упреки, глотнуть свежего воздуха. Чего-чего, а воздуха в комнате Дорки хватало, постоянно гулял сквозняк, и днём и ночью в любую погоду все форточки у неё всегда были настежь. И рамы она никогда не заклеивала, занавески не задёргивала. За войну насиделась за наглухо закрытыми окнами и дверьми, да ещё в дымоходе, который так и не снесла за ненадобностью. Пусть уж будет, спаситель наш, как кладовка удобная. А уж о чистоте и говорить нечего. Будто заведённая, как часы-ходики, она всё время тёрла и тёрла своими тряпочками мебель, пол, выискивала каждую пылинку и старательно смахивала ее. Была ещё одна причина, из-за которой Влад не ночевал у матери ни под каким предлогом. Наташка с её непредсказуемым поведением. Он панически боялся ее. И встречи с Ниной избегал, того своего жалкого состояния стеснялся, их не совсем дружеских отношений…
Внутренне Влада Ерёмина подгрызала совесть. Его угнетало, ему было неудобно перед матерью, она больна, а он молод, здоров, живёт с любимой женщиной, ему нравится работа. Жизнь пролетает весело, в разных компаниях, на вечерах. А Дорка совсем брошенная. Даже на собственный день рождения её не пригласил. Отметили в ресторане с друзьями; когда выпили за родителей, он посмотрел на жену. Наденька погладила его по руке: как бы твоя Дорка вписалась в нашу компанию? Ты представляешь? Завтра купишь тортик и навестишь её. Так тортиками и откупался. А сегодня даже и конфетки не принёс, чаю с матерью не выпил, только нахвастался, как клёво было с Наденькой в Москве – и был таков.
Арест
Дорка сидела с маленьким Витенькой во дворе под сбросившей уже листья акацией. Малыш палочкой рисовал на земле какие-то чёрточки, оборачиваясь к Дорке, с радостью кричал: баба тють, баба тють! Дорка делала вид, что ей рисунок очень нравится, и, улыбаясь, отвечала малышу, всплеснув руками: ой, как красиво, какой ты молодец! Рисуй дальше, Вовчик… Витенька. Её так и тянуло назвать его Вовчиком. Осеннее солнышко в полдень хорошо прогревало её спину, затянутую в старый шерстяной платок, подаренный девочками из магазина. Ещё полчасика погуляем и пойдём обедать и отдыхать. Моему сыночку в детстве солнышка не досталось. Только тёмная печка, да и потом, когда все матери гуляли после войны со своими детьми, Дорка не могла позволить себе такой роскоши. Зато сейчас она наслаждалась общением с этой крох ой. Пусть не свой, чужой, соседский, но любила она его, как родного. Иногда, прижав Витеньку к своей груди, плакала, так сердце щемило, один бог знает Бедная Ниночка, при живой матери и других родственниках сирота. Дорка теперь днём у себя в комнате почти не бывала, все больше во дворе у песочницы или на скамейке рядом с клумбой. Телефон по-прежнему звонил без умолку разрываясь на части. И черт с ним. Возмущаться начали другие соседи, Дорка не реагировала: я навоевалась, сейчас вы воюйте с ними сами.
Дорка даже внимания не обратила, как во двор зашли двое в штатском и прошли в её парадную, а следом ещё двое в милицейской форме. В окне кухни показалась соседка, она пальцем указывала на нее. Почти тут же на улицу выскочил один в сером строгом костюме, чеканя каждое слово, спросил:
– Вы Дора Моисеевна Ерёмина?
– Да, а что случилось?
– Пройдёмте к вам в квартиру.
Маленький Витенька с интересом смотрел на незнакомого дядю. Незнакомец ей на ухо быстро прошептал: ребёнка оставьте здесь! Чей это ребёнок? Дорка, как ужаленная, подскочила, схватила мальчика: это как здесь? Я за него отвечаю, мне его мать доверила. А вы кто такой?
Человек в сером строгом костюме, оглядываясь, наклонившись сбоку к Дорке, быстро показал ей удостоверение. Она не успела ничего прочитать, да и без очков все равно ничего не увидела бы. Только то, что корочки коричневатые.
– Шо вам от меня надо, я в магазине давно не работаю!
– Пройдёмте к вам в квартиру, там вам всё объяснят.
Дорка подхватила мальчика на руки и пошла, озираясь по сторонам. Дверь в квартиру была раскрыта настежь. На кухне за столом расположился второй мужчина в штатском, а милиционеры с двух сторон стояли около её комнаты. Витенька закапризничал, расплакался, растерянная Дорка только повторяла: я давно не работаю в магазине.
– Нас ваш магазин не интересует. Когда ваш сын последний раз к вам заходил?
У Дорки сильно застучало в висках, она крепко схватила своей рукой мужчину: что с моим сыном? Что случилось?
– Ваш сын обвиняется в убийстве, он арестован, заведено уголовное дело, ведётся расследование. Поэтому здесь понятые, ваши соседи, и мы – старший следователь прокуратуры…
Дальше Дорка ничего не слышала. В глазах потемнело, сплошной гул и продолжающаяся непрерывная дробь в висках. Валерьянка, опись вещей в квартире, хныканье Витеньки, заплаканное лицо склонившейся над ней Ниночки. И отвратительная самодовольная морда Наташки: получила, жидовка четырёхглазая, убийца твой сын, убийца!
– Не может быть, он никого в жизни не обижал, это ошибка. Сколько Дорка пролежала, она не понимала. Ниночка, как могла, присматривала за ней, сыночка своего определила с помощью бывшего Доркиного квартиранта в детский садик. Как матери-одиночке ей полагалось место без очереди, но все равно пришлось выбивать. Навещала Дорку и жена Леонида Павловича Жанночка. Она-то и рассказала и Ниночке, и Дорке, в чём обвиняют Вовчика. Будто он замешан в убийстве с особой жестокостью некой Татьяны Ивановны Корской, проживающей в Красном переулке.
– Эта тварь работой дворника прикрывалась, а сама, говорят, тайно содержала притон, малолеток совращала, подбирала их в порту, когда они моряков подлавливали, пришедших из рейса. Те по полгода баб не видели, на любую кидались, паспорт не спрашивали, – живописала Жанночка. – Вовочкин ножичек вроде бы там нашли. Как он там оказался, если он все время, как Дорка принесла его из военкомата, с собой таскал. Вовчик твой все отрицал, не был там и не знает никакой К орской, но они очевидцев липовых привлекли, наверное, из тех, кто сам под следствием и срок грозит приличный. Они якобы и опознали во Владимире Еремине преступника.
Дорка ждала Наденьку, пусть хоть и гражданская жена, но всё же как-никак жена, однако «учёная» ни разу не объявилась. Через какого-то замызганного мужичка (отыскала, наверное, среди местной шпаны) передала ей вещи своего сожителя, не приложив даже записки. На словах передала (мужичок тот еле выговорил), что совершила большую ошибку, связав свою жизнь с таким дерьмом, да еще и убийцей. И всё.
Преданная Дорке Ниночка писала от ее имени во все инстанции одну за другой жалобы, надиктованные начальником Жовтневого района милиции Леонидом Павловичем. Он же попросил свою бывшую сокурсницу по вечернему юридическому факультету Одесского университета Анну Ивановну стать адвокатом Ерёмина. Леонид Павлович по своим каналам тоже интересовался этим делом, но получил совет, неофициальный намёк не совать свой нос в это грязное дело. Кто бы ни вмешивался, оно никак не развалится и дойдёт до суда, мощные силы заинтересованы да подследственный начал давать показания.
Поздним вечером, вернувшись с работы и нервно закуривая одну сигарету за другой, Леонид Павлович признался жене Жанночке: Вовчика в тюрьме сломали.
– Я это так не оставлю, не могу, Жанна, поступить иначе. Все шито белыми нитками, это месть, ненависть, подставили парня. Пусть меня попрут из органов, исключат из партии, я буду стоять на своем: Доркин сын не виноват.
– Я разговаривал с генералом, который в нашем доме живёт, – продолжал Леонид Павлович, – ему всё рассказал, что знаю. Мне в Вальховском переулке в морге, так, не для протокола, рассказали, что удары дворничихе наносились сначала более длинным предметом и широким лезвием, вот они проникли до самой кости. Вовчика ножик такого вреда принести не мог, карандаши им затачивать, а не убивать. Наверное, им уже потом тыкали в раны, чтобы следы были, понимаешь. А вот отпечатки пальцев на ножичке принадлежат действительно парню, но они старые.
– Ты говорил еще о каком-то платке и перчатке.
– Их, похоже, выкрали из квартиры и подбросили, чтобы побольше улик было. Там не иначе, как замешан кто-то из наших. Сосед-милиционер, может, они же со своей блядской женой ненавидели и Дорку и ее сына, кроме как «жиды проклятые, чтобы вы все сдохли, не добили вас в войну» они от них ничего не слышали. Продержался бы парень до суда, а там посмотрим. По почерку банда Корявого здесь замешана, есть такая наводка, и Вовчика держа т в одной камере с одним из этой паршивой кодлы, давно за ней гоняюсь. Что делать будем, жена?
Они уже лежали в постели, говорили вполголоса, приглушили свет, чтобы не мешал спать сыну. Жанночка теснее прижалась к мужу: а генерал что?
– Не лезь, посоветовал, чем буду дальше от этого темного дела, тем целее. Он сам комиссуется, сказал, что будет предлагать меня на генеральскую должность, но не в Одессе, а в Молдавии. Если утвердят – сразу получу полковника и фруктов вдоволь накушаемся. Как посоветуешь – так и будет.
– Хватит, Лёня, – Жанночка забрала из рук мужа окурок. – На кой леший нам эта Молдавия вместе с ее фруктами. Они на Привоз и так все привозят. Лишь бы деньги были. Я догадываюсь, что ты ему ответил. Немцев с румынами в войну не боялись, и сейчас со всякой швалью справимся, не испугаемся. Анька берётся Вовчика защищать?
– Вроде согласилась. Одна из всей этой трусливой адвокатуры. Остальные по углам запрятались, в стороны разбежались, работы невпроворот и так далее. У зрели: партийные суки за этим делом стоят. Знать бы кто?
– Да их соседка это, На ташка. Ее прозвище знаешь какое: «коммунистический субботник», по райкомам набегалась, всех подговорила: мол, мало того, что убийца, так еще злодей-насильник. Пока муженька дома не было, хотел ее попользовать. Что там пользовать, полгорода, наверное, побывало, все смеются.
Леонид Павлович прикурил очередную сигарету Табачный дым застилал глаза, дым уже густым кубарем катился по всей квартире. Жанночка побежала открывать окно. Но лучше не стало, с улицы потянуло автомобильной гарью.
– Догадываюсь, что смеются, но дело-то пахнет керосином, – Леонид Павлович медленно, колечками выпускал дым, делал он это очень изящно. – Кто-то сильный замаран, а стрелки на шавок спустили. Эти твари только исполнители. Вопрос, кто заказчик? Туда хаживали такие тузы… Ого-го.
Леонид Павлович давно информировал начальство о неблагополучии в этом подвале, и детская проституция там процветает, и наркотиками балуются, но наверху всё тянули, не разрешали прикрыть притон. Не верим, это навет, бабские россказни, вы обливаете грязью творческую интеллигенцию. Теперь убийством все это постараются спустить на тормозах, а ему в лучшем случае выговор влепят, преступление же на территории его отделения. Ещё и Вовчик ни за что пострадал. Хотят мне финку в бок вставить, чтобы не рыпался, размышлял Леонид Павлович, так не на того напали, я не за погонами гоняюсь. Нет, не быть тебе, дорогая Жанночка, генеральшей.
Она выключила ночник, бивший в глаза, и прижалась к мужу: а на чёрта мне быть той генеральшей, мне и с подполковником хорошо.
– Жанна, ты вот что, за Валеркой приглядывай. У этих подлецов ни стыда, ни совести. Для них вообще ничего святого нет.
– Лёнечка, нам не впервой, умоляю, береги себя. Давай спать, родной, скоро светает, – она забрала из рук мужа недокуренную сигарету погасила ее о край пепельницы, затем отвернулась к стенке и еще долго лежала с закрытыми глазами, тихо плача.
Ниночка сопровождала Дорку на все заседания суда. В одной руке она тащила Доркин табурет, на котором та периодически отдыхала, борясь с новой напастью – удушьем. По другую руку – навалившуюся и опирающуюся на неё Дорку. На шее у Дорки висела кошёлка со всеми её документами и передача для Вовчика. Усаживалась она в зале так, чтобы получше видеть сына. Несколько раз ей делали замечание, что нужно вставать, когда суд входит, но она не обращала на это никакого внимания.
В последнем слове Владимир Викторович Ерёмин отказался от ранее данных показаний и не признал своей вины. Ему влепили 12 лет колонии строгого режима, на два года больше, чем просил прокурор. Никакие адвокатские доводы не помогли. Ниночка Доркину комнату закрыла, забрала ее к себе жить. Теперь целым днями Дорка сидела, уставившись на кухонное окно в своей квартире, и приговаривала: зачем я сюда вернулась в том клятом 41-м, сгинула бы в гетто со всеми, за то давно бы отмучилась и не принесла всем столько несчастий.
Ниночкина соседка, толстенная тетка в бледно-розовом сарафане, который едва прикрывал ее задницу, обгоняя Дорку, медленно передвигавшуюся по узкому коридору и откровенно злясь на приблудную, сочувственно советовала: – Что вас здесь, Дора Моисеевна, держит? Умные евреи давно перебрались в свой Израиль. Я бы на вашем месте со скоростью звука отсюда драпала. Паспорт бы где добыть с нормальным пятым пунктом.
Дорка не смолчала:
– Да он у вас и так нормальный, вы кто – украинка или русская? Вовчик мой русский, его родина здесь, даже в тюрьме, и моя здесь.
– Вы что, меня не поняли или прикидываетесь? – злилась соседка. – Люди сейчас платят огромные деньги, чтобы эту графу переделать и чесать отсюда. И не огрызайся. Имеешь свой угол и сиди там, что сюда припёрлась. Нам мало этой полоумной Нинки с байстрюком, так ещё и тебя, магазинную воровку, притащила. А сынок твой как с детства был бандитом, им и остался. Наконец посадили, там ему и место.
Дни бежали своей чередой. Каждое утро она высматривала почтальона, ожидая писем от Вовчика и бесконечных ответов-отписок из разных инстанций. У нее по-прежнему теплилась надежда на Анну Ивановну. Маленький Витенька, завидев ее, голосил: «Мама, Аблоката плишла и бабулин Вовчик сколо плидёт». Потом он утешал Дорку: «Не плаць, баба, Вовцик сколо велнется». Обнимал женщину прижимался к ней, показывал, как её любит.
Счастье безумия и смерть исцеления
Адвокат Анна Ивановна бодро шла в прокуратуру, она была полна оптимизма. Похоже, Вовчика дело будет направлено на новое рассмотрение. Ах, Одесса, жемчужина у моря! Сплетни здесь распускаются быстрее реактивного самолета. Вот и дело Ерёмина уже ни для кого «большой секрет». О нем не шепчутся по углам, а говорят в открытую. И на Привозе торговки вовсю судачат. Мол, проституток развелось из студенточек симпатичных, и мальчиками не брезговали. Фамилии разные мелькали. Подвальчик, хотя и прикрыли, но смрад и вонь из него протянулись-таки и до Киева и до Москвы. Одесские знаменитости попритихли. Их покровители сделали вид, что «нас здесь не стояло».
Липовые «очевидцы» убийства выражали своё неудовольствие, не стесняясь в выражениях, но по другому поводу. То, на что они рассчитывали, никто не собирался для них делать, тем более платить. Родители пострадавших от насилия детей уже от собственного имени требовали наказать виновных. Глотки им закрыть боялись, да и было некому. В город комиссии стали приезжать одна за другой, и всё по письмам пострадавших. А путаные показания «свидетелей» убеждали начальство всех уровней, что тут нечисто, подстава Владимира Ерёмина очевидна, на до бы все прикрыть, опасно дальше поддерживать обвинение. А самое главное – позиция адвоката, которая упирала в своих кассациях на заключение судебно-медицинской экспертизы. Судя по ней, раны перочинным ножичком не могли никак привести к смертельному исходу. А факт, который проверил Леонид Павлович, вообще был надежным алиби для Вовчика. Почему никто не обратил на него внимания или специально его не исследовали?
В институте строго вёлся журнал прихода и ухода на работу, и вообще записывались все передвижения по городу сотрудников, так что можно было точно сказать, кто, где и когда находится. Уже после ареста Ерёмина журнал бесследно исчез, а ведь ещё целую неделю, оказывается, он был на месте. Леонид Павлович настоял на том, чтобы допросили всех, с кем встречался в тот злополучный день Влад. Набралось пять независимых свидетелей, которых никто до этого не опрашивал, они буквально по минутам расписали его рабочий график. В том числе показали, что большую часть дня Еремин провел на приемке какого-то объекта, долго не подписывал акт пока не исправили мелкие недостатки. Алиби было железным, он никак не мог быть на месте убийства – время не сходилось.
Анна Ивановна представляла, как обрадуется Дорка. Сама она собственную мать потеряла ещё ребёнком во время войны и воспитывалась в детском доме. Поэтому и хотела, как никто другой, помочь несчастной женщине отвоевать свободу для сына. Столько та уже пережила, натерпелась – и на тебе, ещё и ещё. Добивают бедную. Неспроста, кому-то нужна ее смерть, и чтобы Вовчик на долго застрял в тюрьме.
Смущало Анну Ивановну, которая чувствовала, что на верном пути, одно обстоятельство: вдруг председатель одесской коллегии адвокатов, не стесняясь, как бы в шутку, намекнул ей: «Анна Ивановна, здесь все ясно, переключайтесь на другие дела, у нас, кроме этого, их полно, обеспечу на год вперед».
Анна Ивановна, играя глазками, отшутилась при коллегах: пока не доведу до конца – не брошу. Вы же знаете мой принцип: на полдороги не останавливаться. Возникнет во мне надобность – я готова, обращайтесь, не подведу.
«Вот сучка, – вспылил про себя председатель, – зачем я её при всех зацепил, остра на язык, стерва. Как все потупили рожи, лыбятся, сволочи. Понимают, дело шито белыми нитками, распутает, сучка, клубок. Умна, зараза».
Дорка решилась всё же съездить к своей старой подруге, не столько с Надеждой Ивановной повидаться, сколько посмотреть этой проклятой «учёной» в глаза. Не удержусь, плюну ей прямо в морду, про себя решила. Душу свою облегчу. Сгубили её мальчика и пальчиком не пошевельнули, чтобы помочь. На Дерибасовской в гастрономе она купила самый дешёвый вафельный тортик, там же села в трамвай и поехала.
Дверь долго не открывалась, соседи сказали, что старуха дома, только предупредили: она того, не в себе, тю-тю, как говорили в Одессе. А племянница на работе, она тетку на всякий случай закрывает, от греха подальше, ключ снаружи торчит или у Маньки, она вон в той комнате, вдруг «скорую» или психушку надо вызывать.
– А вы кто им будете?
– Мы вместе с Надеждой Ивановной долго работали, вот приехала навестить.
– Понятно, подруги, значит, – не унималась соседка. – А вы мужа ее племянницы знаете? Как его посадили, Надежда Ивановна совсем тронулась. Кричит на весь дом, что там, на свалке, лежит настоящий убийца, а её сынок Вовчик ещё маленький, она его только родила. Слушай, поёт, слышите? Так целый день.
Дорка в ужасе поплелась за ключом к Маньке. На стук выглянула женщина инвалид без одной ноги, на костылях.
– Вам чего? Ключ? Надька не велела никому из чужих давать.
– А я не чужая, я мать Владимира Ерёмина и подруга Надежды Ивановны.
– Тогда другое дело. Проходите, сейчас ключ возьму, надо её уже покормить. Я Надьке говорю: сдай её в психушку что ты с ней мучаешься? Ни чёрта не понимает, такое несёт – ужас. Сейчас сами увидите. Ой, горе. Ещё хорошо, что племянница у неё человек приличный, а так бы давно пропала.
Она посмотрела на бледную, как смерть, Дорку и продолжала:
– Как Влада упекли за решетку, билась в истерике, такое несла. В другие времена давно бы к стенке поставили. Пойдёмте, она не опасная, плакать будет, глупости говорить – не обращайте внимания.
Дорка за женщиной инвалидкой тих о прошла в комнату. Надежда Ивановна сидела у окна в ночной рубашке и поправляла коротко стриженные седые волосы перед маленьким зеркальцем на длинной ручке.
– Машенька! Как я сегодня выгляжу? А? А кто это с тобой? Что за бабка?
– Надя, это я, Дора!
– Какая ещё Дора? Я сейчас занята, муж вот-вот вернётся, на до приготовиться. Машенька у нас с Юзеком служит. Нарадоваться на неё не могу. Она так любит нашего сыночка, как собственного. Ты его Доре показала уже? Правда, хорошенький? Я обязательно ещё дочку рожу. Обрадую всех вас.
Она замолчала, схватила расческу, плеснула на голову воды и стала расчесывать волосы, да так быстро, что едва не обронила на пол зеркало.
– Как тебя зовут? Дора? А ты чего плачешь? Я помню, твой не вернулся. А мне повезло, я так рада и счастлива. Никто больше нас не разлучит. Он так любит меня и нашего Вовчика, – Надежда Ивановна исподлобья посмотрела на Дорку. – Я теперь другой жизнью живу. Как тебе мое кружевное платье? Красиво? Соцкий сказал, что я в нём принцесса. Он так любит целовать мои груди, смотри, до синяков. Машенька, я сегодня грудью кормить Вовчика не буду, сваришь ему кашки или дай молочка. Слышишь, он плачет, кушать просит. Иди к нему, покорми.
Дорку всю трясло, скорее бы на у лицу из этого ада. Бедная моя подруга, господи, не выдержала этого удара. Арест Вовчика её добил. А мне нужно держаться, мне нужно ещё встретить сына. Всю злость и обиду на невестку как рукой сняло, ей тоже не сладко. Говорят, её не узнать, так она постарела и согнулась. Неужели она поверила, что Вовчик убийца и насильник? К то она после всего? Бог ей судья. Надьку не бросила, и то хорошо. Тогда получается, что Жанночка про Надьку и учёную всё знает? Только мне не говорили. Жалели, берегли. Господи, что же ты мне никак мозгов не дашь.
Уговаривали же Изька с Фимкой рвануть с ними куда угодно, только подальше от этой страны, от этого коммунизма. Как смылись, ни одной весточки не прислали, а обещали. Может, и там не рай. Везде хорошо, где нас нет. Мне бы только дотянуть до возвращения Вовчика. Только об этом я прошу тебя, господи. Бедный мой сыночек, что за судьбу я тебе сотворила. Если, не дай бог, перевернусь, то и угла своего у тебя не будет. Эта комната, будь она проклята. Только горе в ней может жить, как и в этом городе. Да, ты знаешь много горя, Одесса. Живи, коль можешь, и процветай!
Дорка медленно шла по тротуару бурча себе под нос всё подряд, что взбрело в голову. Завернула в ворота, теперь и их нет, только облупленный чёрный проём. Так и живёт весь двор настежь, словно беспризорный. Какой идиот приказал посносить все заборы, такие красивые, с чугунными решёточками, с калиточками с неповторяющимися витыми узорами? Даже в революцию, как ни тяжело было, а вокруг колодцев жильцы всё равно цветы высаживали. Чугуна, что ли, не хватает на их ракеты, такую красоту сгубили? Вдруг свет ярких фар ослепил Дорку. Она едва успела отпрянуть к стенке, машина с визгом вылетела на улицу.
– От носится сумасшедшая, это твоя На ташка вырулила, – две женщины из соседней парадной с возмущением покачали головой. – Ни с кем не считается, наплевать, что дети во дворе, что люди пожилые.
Дорка через несколько дней решила во что бы то ни стало наведаться к себе. Ниночка отговаривала, сама она туда ни под каким видом не хочет заходить. И пусть не хочет, а я там хозяйка комнаты, посмотрю, что и как. Да и самое главное – заберу из дымохода ёлочные украшенья для Витеньки. Она представляла, как обрадуется мальчик. Ведь подлая Валька, бабушка называется, все игрушки утащила для детей старшей дочери. А этот её внук для неё не существовал. Только, ни стыда, ни совести, и орала на весь двор: с кем нагуляла, тот пусть и тянет лямку. Не с твоим ли, Дорка, ублюдком-бандитом? С детства девчонка такая упёртая, как её батька. Шо хотела, то творила. Вот теперь доигралась и пусть знает: нет у меня дочери, и этого байстрюка знать не знаю.
Зима, снега, как всегда, в Одессе нет. Ребятишки видят его только на картинках да по телевизору Ниночка в обеденный перерыв обегала в округе все магазины, однако так ничего путного, на свои тощие капиталы, отложенные для подарков, и не нашла. После работы постояла в разных очередях, за всем надо было выстаивать, и побежала за сыном в детский садик. Там, как всегда, выслушала молча все претензии в свой адрес как вечно опаздывающей за сыном нерадивой мамаши. Рассчиталась с воспитательницей за будущий детский праздник, на который приглашены настоящие артисты, а не переодетые родители. Посмотрела на остаток в кошельке. Теперь и суетиться за подарками к Новому году нет никакой необходимости, дотянуть бы до зарплаты.
Когда с сыном они вышли на улицу, погода изменилась до неузнаваемости. А всего-то минут пятнадцать была в садике. Так часто в Одессе, море все-таки. Подул холодный ветерок северный, нагнал свинцовых тяжелых туч, и пошёл меленький, мокроватый снежок.
Сначала слабый, он очень быстро набрал свое и превратился в настоящую снежную бурю. Витенька обрадовался, немного поиграл с мамой в снежки, пока не залепило все глаза. Он закрыл варежками личико, заплакал, уткнулся Ниночке в ноги и стал проситься на ручки. Пришлось ей взять ребёнка на одну руку сумку с продуктами в другую и бежать домой с остановками, переводя дыхание. Как два сугроба, влетели они в квартиру.
– Сынок, зови бабушку, – Ниночка присела на стул в кухне, не раздеваясь, – пусть снег с нас сметёт, у меня сил нет.
Витенька побежал звать бабушку, но дверь в комнату была закрыта.
– Мам, бабы нетю, – и развёл смешно ручки, по-детски, – нетю бабы.
Ниночка поднялась с трудом, вынесла на парадную своё пальто, стряхнула с него снег, потом очистила пальтишко сына. Обошла всю квартиру, Дорки нигде не было. Куда она могла пойти? Вроде все на месте, тапочки под диваном. Значит, в ботах пошла. Куда? Никак к себе почапала, больше не к кому вроде. Выглянула в окно, но из-за пурги даже угла дома не видно, не то что соседних окон. Видно, всё-таки к себе пошла. Сидит, небось, плачет и фотографии рассматривает, душу отводит. Ладно, не будем, Витенька, бабушке мешать, потом за ней схожу, а сейчас давай посмотрим, что нам бабушка приготовила.
На кухне крутилась соседка.
– Вы случаем не знаете, куда тётя Дора пошла? – спросила Ниночка, по очереди поднимая крышки кастрюль. Все они были пустыми.
– Больно надо мне знать, куда твоя Дорка умчалась. С утра как выпендрилась, так до сих пор не появлялась. Что уставилась, говорю тебе, ещё с утра пошла к себе и не возвращалась. Я врать не привыкла. Не то что некоторые…
– Тётя Тома, присмотрите за Витенькой, я мигом.
– Присмотреть не трудно. А что за ней бежать? Припрётся сама, куда денется?
– Нет, я всё же схожу. Она очень больной человек, вдруг что случилось.
– Можно подумать, другие здоровые. Раз собралась – иди, я сама уже волнуюсь, как бы чего. Не на до было твой Доре связываться с этими гадами, не оставят они ее в покое, доконают, комната ее им нужна. Но я тебе ничего не говорила.
Ниночка, набросив пальто, так в тапочках и выскочила на лестницу. Ключей у неё не было, да и зачем они, постучит, Дорка ей откроет. Но на ее стук никто не откликался. Ниночка звонила соседям, что есть силы барабанила по двери кулаками, била ногой. Все напрасно. Из соседних квартир повыскакивали жильцы, все молчали. Только одна тётя Клава высказалась: помяните мои слова, похоже, и до Дорки дорвались.
Почуяв неладное, Ниночка бросилась вниз, позвала мальчишек, лепивших снежную бабу, велела им сбегать в 8-е отделение милиции за участковым. Сначала какое-то время ждали, может, соседи Доркины объявятся, но потом всё же решили вскрыть квартиру. Когда зажгли свет, вся комната заиграла разноцветными искорками битых ёлочных игрушек. Ящик от них валялся возле печки. Участковый отодвинул занавеску, прикрывающую кровать, и отшатнулся. Побледнел, как школьный мел, повернулся к дворнику: скорее за следователем, пусть группу вызывает. И задвинул занавеску.
– Все выходите отсюда, все на выход. Вас потом позовут. Не выдержала женщина, с собой покончила, – белизна не исчезала с лица участкового.
До утра работала оперативная группа. Особенно настораживало следователей, что Дорка уже давно в комнате не проживала, а вся пыль была протёрта. И зачем пожилой женщине было своими ботами разбивать игрушки на мелкие кусочки, если, как утверждают соседи, она специально пришла за ними, чтобы Витеньке подарить. А откуда взялся этот электрический шнур, которым она удавилась, лёжа на кровати, чуть-чуть скатившись набок? На поломанных ногтях запеклась кровь, руки посинели от ударов. Дорка явно сопротивлялась перед смертью.
Ниночка помчалась к трамвайной остановке, звонить по телефону-автомату Леониду Павловичу. Его не было, подошла Жанночка.
– Тётя Жанна, Дору убили, – Ниночка еле сдерживала слезы.
– Нина, ты меня слышишь, немедленно возвращайся к сыну и ни с кем не общайся. Поняла?
Подозрения на соседей отпали. Они с раннего утра уехали на работу, а оттуда укатили к родственникам в Тернопольскую область встречать Новый год. Остановились на версии: квартиру хотели ограбить, но тут внезапно объявилась Дорка, помешала, вероятно, и кого-то узнала, с ней и расправились.
Дорку тихо похоронили на Слободском кладбище, увезли прямо из морга. Комната месяц была опечатана, только потом Ниночке разрешили забрать Доркины вещи. Остальное имущество соседи выкинули во двор. Оставить комнату за Вовчиком не удалось. Как осуждённый он по закону был выписан из лицевого счёта и потерял право на жилплощадь.
Только к весне наконец дело Ерёмина сдвину лось с мёртвой точки. Новый состав суда не обнаружил следов преступления и отменил приговор. Со справкой об освобождении Ерёмин Владимира Викторовича вышел на свободу. У здания одесской тюрьмы его никто не встречал. Быстро, не оглядываясь и задыхаясь, он побежал к скверику между железнодорожным вокзалом и Привозом, обессилено присел скамейку рядом с двумя мужиками, которые осторожно, чтобы никто не видел, разливали чекушку. Запах соленого огурчика, которым они собирались закусывать, бил Владу в нос. Было солнечно и тепло, птицы после зимовки обустраивали новое жильё. Вероятно, у них уже появились птенцы, потому и стоял такой птичий гвалт, что у Влада разболелась голова. Он закрыл лицо руками и тихо всхлыпывал: я всё потерял, всё потерял, куда идти?
Была любимая жена, хорошая работа, любящая заботливая мать, даже погибший в войну отец, которого я никог да не видел. Теперь даже крыши над головой не оставили – ничего. Схожу к Нинке, пусть покажет, где мать похоронили. Зачем они выпустили меня из тюрьмы? Жизнь всё равно кончена. Это они, он посмотрел наверх, на распустившуюся буйно крону дерева. Это они, безмозглые, пусть живут и размножаются, а мне зачем такая жизнь, кругом сплошная подлость, враньё и двуличие. Лозунгами коммунистическими прикрываются.
Может, к Жанночке с Леонидом Павловичем зайти, что посоветуют? Паспорт ведь нужно заново оформлять, что эта бумажка об освобождении? С ней никуда, даже грузчиком или подметалой на Канатной не устроишься. Ни денег нет, ни крыши над головой. Ух, сучья судьба, никому не желаю такой. А эти пьяницы хоть бы коркой хлеба угостили, с утра крошки во рту не было. И от глотка водки не отказался бы, горло прополаскать.
Он медленно побрел на привокзальную площадь. Она вся бурлила, стонала сигналами автомобилей. Прибывали уже первые отдыхающие, Влад знал – это с Севера, люди месяцами солнца не видят у себя там, за Полярным кругом. Сейчас загуляют, начнут швырять деньгами. Ему бы одолжили, обязательно вернет, купил бы билет на край земли и никогда больше в этот проклятый город не вернулся бы.
Влад посмотрел на здание, торцом стоящее к зданию вокзала, и обалдел. С высоты и ширины всей стены в него впился своим строгим взглядом сам Генеральный секретарь Коммунистической Партии Советского Союза. Присмотревшись, он так рассмеялся, вспомнил, как, вернувшись из Москвы и ожидая такси, они с Наденькой посмеивались над этим портретом. Тогда одно плечо генсека увеличилось за одну ночь, чтобы поместилась третья звезда Героя Советского Союза, теперь же это плечо ещё раз расширили для четвёртой звезды. Леонид Ильич, подумал Влад, пятая звезда уже никак не поместится, стенка закончилась. Они здесь себе звёзды и медали вешают, а таким, как я, приговоры. Никто из тюремного начальства даже не извинился перед ним. Только, возвращая личные вещи, удивлялись: повезло тебе, парень, хороший блат имеешь на воле. А то, что невиноватого засудили, и в голову не брали.
Идти к Леониду Павловичу и Жанночке Влад передумал, еще наговорит чего лишнего. Дождавшись темноты, он поплелся к своему дому. Ниночкино окно светились уютным зелёным светом, похожим на его настольную лампу. Он заставил себя развернуться, бывшая квартира вся была погружена в темноту Влад ужаснулся: матери нет – и все для него вымерло, он один на всем белом свете. Один и никому не нужен. Он поднялся по старым скрипучим ступенькам и позвонил. В коридоре послышался шорох, потом детский тоненький голосок:
– Мама, это к нам?
– Иди в комнату, я открою.
Дверь открылась, в проёме он увидел Ниночку:
– Вовчик! Вовчик! А мне сказали, что только завтра тебя отпустят. Мы завтра собирались тебя встречать. Анна Ивановна только сейчас ушла, все с ней обговорили, что и как дальше. Ты её не встретил? Ну, что ты стоишь?
Она с силой потащила его за рукав. Влад по привычке, войдя в комнату, пригнул голову. Перед ним на его старом диване сидел мальчик и что-то рисовал. Влад увидел над диваном знакомые портреты своей бабушки, Дорки, отца и его собственный, очевидно, сделанный из старой фотографии.
Мальчик сполз с дивана и вплотную подошёл к Владу:
– Мама, это мой папа?
Влад испуганно взглянул на Ниночку:
– Я так благодарен тебе за всё. Спасибо за маму, – голос его дрожал, – я хотел только попросить тебя сходить со мной на кладбище, показать, где ее могилка. Сможем в ближайший твой выходной?
Мальчик тем временем открыл дверь книжного шкафа, достал альбом с фотографиями, быстро выбрал одну из них и протянул Владу:
– Это мой папа, а это моя баба с мамой, а это я, когда совсем маленький был, видишь?
Влад смотрел на Ниночку она горько плакала, мальчуган дергал ее за край халата и тоже захныкал.
– У меня никого кроме тебя никогда не было. Никогда. Никого. Вовчик, это твой сын. Назвала его в честь дедушки, твоего отца – Витенькой.
Влада ноги не держали, он присел возле мальчика, всматриваясь в его личико, потом прижался к нему и сам заплакал, как ребёнок. Ниночка обняла обоих своих мужчин: спасибо, господи, наконец мы все вместе.
Ровно через девять месяцев Ниночка родила девочку её назвали Доркой.
Еще через два года семья Ерёминых эмигрировала в США. Ещё одна комнатка в коммунальной квартире на улице Короленко, такая же, как у Дорки, только в конце коридора и тоже угловая, освободилась в чудесном южном городе у самого синего моря.
Последний день
Вот и настал тот последний день, больше Влада Ерёмина ничего не удерживало в родном городе. На прошлой неделе с Ниночкой и детьми они сходили на могилу матери. Влад сам поставил ей памятник, сразу, как только вышел из тюрьмы. Сварил металлические уголки по контуру могилы и залил всё цементом, посреди утопил квадратную мраморную плиту с именем и двумя датами и всё. Ниночка увела детей, оставила мужа наедине с матерью. Как ее Вовчик изменился. Только сорок, а он совершенно седой, высокий худой мужчина с упрямым характером. Ниночка уговаривала его никуда не уезжать, бесполезно. Здесь крыша над головой, одной комнатки маловато, конечно, на четверых, но их семью по закону должны поставить на квартирный учёт. «Какой к черту закон, Ниночка, – вспылил Влад, – ты что, веришь всем этим басням о равенстве перед законом? Я сыт по горло их законами. Хватит. Придем домой с кладбища, начинай паковать вещи».
Два старых потрепанных чемодана – это было всё, с чем они собирались начинать новую жизнь в чужой и далёкой стране.
Влад попросил, чтобы жена с детьми подождали его у кладбищенских ворот, а сам присел на край могилы. Он причитал, что Дорка одна остаётся здесь лежать навечно, только со всеми своими, а его Ерёмины никто, хоть они все коренные одесситы, не нашел покой в этой несчастной земле. Деда-капитана революционные морячки молодым сбросили с привязанным камнем в ногах в Севастопольскую бухту. Давно рыбы сожрали. Бабушку Нину, которая спасла его и Дорку выбросили полуживой из поезда, не доезжая Колымы, на растерзание собакам. Виктора Еремина захоронили через двадцать лет в братской могиле. Мамины родители с младшими детьми сгорели в аду, устроенном румынами для евреев на Пересыпи. Только Дорка чудом спаслась, но и ее убили из-за этой проклятой комнаты.
Влад слабо себе представлял свое с Ниной и детьми житье на чужбине. Сам он ни за что бы не поехал. Но малыши, этот прелестный мальчуган и курносая (в кого?) девчонка, которую назвали именем матери, ради них и решились. Хуже не будет, потому что хуже быть не может. Мы не одни, нас ждут Доркины друзья, помогут устроиться на работу, дети пойдут в школу. Вот только неизвестно, когда в следующий раз смогу прийти к тебе на могилку поклониться. Жанночка с Леонидом Павловичем обещали навещать. Тётю Надю попросили бы, но она, бедняжка, умерла в психиатрической больнице, её захоронили к матери на Втором Христианском. Прощай!
Он нагнулся, поцеловал холодный черный гранит и побежал догонять семью. На трамвае ехали недолго, решили дальше пройтись пешком. Обогнули оперный театр и оказались на Приморском бульваре. Вокруг кипела обычная весёлая жизнь города-курорта в летние месяцы. У памятника Ришелье за держались, любуясь панорамой порта и Потемкинской лестницей. Сколько в их семье связано с этим местом, и вообще каждый уголок родной.
– Вовчик, помнишь каток, как, разогнавшись, ты врезался в нас с Ленкой, губу мне разбил? – Она прижалась спиной к мужу. – Хочешь, я тебе признаюсь?
Влад смотрел на жену недоверчиво.
– Я тогда специально громко заорала, чтобы ты меня пожалел. Не так уж больно мне было, просто ты уже тог да мне очень нравился.
– Да иди ты, тебе всего ничего было, что ты понимала?
– Дурачок, всё понимала, на уроке училка что-то объясняет, а я тебя рисую, где-то сохранила тот рисунок. Поищу, с собой увезем.
Они подошли к началу Потёмкинской лестницы. Влад обнял жену:
– Я действительно дурачок, нет, полный идиот, только к сорока понял, что в этой жизни главное. Что есть ты, есть дети. Прости меня. Не помню, я рассказывал тебе или нет, что когда-то на этом самом месте встретились мои бабушка и дедушка. Конечно, будем скучать, наша же с тобой, Нинуля, родина.
– А я, ещё не уехали, а уже ночами не сплю, все отодвигаю день нашего отъезда. Утешаю себя, что это ради наших детей. Но мы ведь вернемся, конец когда-нибудь придет этому коммунизму с социализмом с человеческим лицом – и мы вернемся.
Так, обнявшись, они шли домой в свою коммуналку Завтра рано вставать. На кухне, сдвинув стулья и табуреты, кемарили молодая пара с ребёнком. Накануне им выдали ордер, и они боялись, что вдруг еще кто-то нахалом вселится в эту долгожданную освободившуюся комнатку, что в дальнем углу обшарпанного коридора, казавшегося длинным тоннелем. Дай бог, чтобы им повезло увидеть свет в его конце, подумал, глядя на похрапывающих новоселов, Владимир Викторович Еремин. Ему не повезло.
Женька гроб
Пока учишься в школе, время как бы замирает. Тянется, тянется, конца и края не видно. И вот всё – конец, перед тобой открыта дорога в большой мир. К тебе больше не относятся как к маленькой. Ты взрослая, такая же, как большинство людей на земле. Мне восемнадцать лет, я студентка. Мне казалось, что наконец сейчас моя жизнь преобразится. Больше не будет моё сердце усиленно биться при приближении к школе – нашей родной 38-й. И при этом в голове звучать ария Ленского: «Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит!..»Так нет же, открываются бесконечно новые двери, и оттуда, словно с разъяренного моря на берег, задувают ветры всё новых и новых проблем, неутихающая боль.
Утром я не очень торопилась в институт, дрыхла иногда до последней минутки, а то и дольше. Потом «корабельный» аврал (ну как иначе у внучки моряка): завтрак на ходу несколько книжек и тетрадей наскоро запихиваются в сумку, поспеть хотя бы к перекличке. Вечер тоже вроде бы принадлежал мне. Бабка косо поглядывала на меня, чувствовала, затаила обиду. Потом я поняла, что она не решается попросить съездить с ней на кладбище к деду. Выжидает, чтобы ее Ольку любимую совесть замучила. Возится на кухне, что-то вкусненькое нам готовит, тарелки расставляет. Посмотрит на меня своими большущими поблекшими голубыми глазами, с редкими маленькими ресничками, тяжело вздохнет, утюжок горяченький под бок – и тихо прошаркает в спальню на свою кровать. Я, конечно, не выдерживаю первая.
– Баб, что с тобой, не заболела ли, может, врача вызвать? Если тебе плохо, сама на кладбище съезжу. Приберусь на могилке, цветы полью. Дедушка свежие любил, чтобы пахли. Помнишь, какие розы он мне подарил на день рождения? Вы еще все его ругали: столько денег угрохать, все равно завянут. А он на вас как цыкнет…
Бабка здесь же нарисовывается из-за двери: – Так там, поди, всё выгорело уже. И поливать нечего. Полтора месяца никого не было. Лежат они с Ноночкой, как беспризорные. Как Женька Гроб.
Наша бабка вечно затягивает одну и ту же песню. Другие вообще только на церковные поминальные праздники и навещают своих близких. И ничего, совесть их не заедает А здесь, что она ворчит Не полтора месяца, а даже месяца нет – и уже и забыли, и беспризорными они стали. Ещё этого несчастного Женьку Гроба приплела.
Решили полюбовно, назавтра она подъедет на конечную 15-го трамвая, я там её буду ждать, цветы заранее куплю, ну и рванём на кладбище.
– Баб, а у этого беспалого действительно фамилия – Гроб? Это же надо!
– Прозвище такое за ним, потому что в гробах спал.
Я только присела что-то перекусить, перед тем как упорхнуть из дома. Накануне познакомилась с парнем, и он свиданку мне назначил в Аркадии. Ложка выпала из рук прямо в тарелку, суп разбрызгался. Хорошо, что сидела за столом только в лифчике и трусах, а то бы платье испортила.
– Как в гробах? С покойниками, что ли?
– Зачем с покойниками, в новых гробах. Он там в конторе работал, сторожил и спал в гробах.
– Хохмил так, прикалывался?
– Хорошее прикалывание, жизнь у него такая везучая была. Этого Женьку Гроба, как называла его моя бабушка, я впервые увидела на дедушкиных похоронах. Он шёл сзади оркестра, в руках футляр с видавшей виды скрипочкой, и, когда оркестр отдыхал, быстро доставал инструмент, укладывал себе на плечо и начинал пиликать. Была ли там какая-то отчётливая мелодия, мне понять сложно было, но все начинали ещё больше плакать. Смотреть, как он играет, не хватало никакой силы воли. Дело в том, что Женька был беспалым, а те несколько пальцев, которые уцелели, скрюченные, торчали в разные стороны. Как он только умудрялся удерживать смычок, заставлять его мягко скользить по струнам, одному богу было известно. В эти минуты в глазах его застывали слезы – видно, от боли в руках и в этих оставшихся скрюченных обрубках.
– Баб, а как он вообще играл, без рук?
– Как, как… Сердцем он играл, это оно рыдало, а не скрипка. Тебе, Олька, бог дал руки целые и всё остальное, а толку-то что? Закинула всё. За одно взялась, за другое – бросила, терпения не хватило. Пианино зачем тебе купили, только деньги выбросили? Даже на свой волейбол через пень колоду ходишь. Ерунду всякую тарабанишь, кому такое надо? Правду говорят: на всё божий дар нужно иметь. Вот ему этот дар достался, так люди не смог ли ему этого простить. Искалечили, негодяи.
– Как искалечили?
– Так и искалечили. Сиротой он рос, из детдома в школу Столярского взяли, все говорили: большой талант. Может, еще один Ой-страх вырос бы или Грач. За этот талант его свои же ученики, которые постарше, избили. Позавидовали. И били, сволочи, ногами, специально только по рукам. Вот и ампутировали несчастному пальцы, а те, что уцелели, ты сама видела.
Я отставила в сторону суп, да он совсем остыл, пока слушала бабушку, и, забыв про свиданку нового кавалера, ждущего меня у входа в Аркадию, расстроенная, прилегла на свое раскладное кресло. Лежала и представляла себе этого верного своей скрипочке обездоленного музыканта. Смутно выхва тывала из памяти воспоминания о встрече с этим человеком. Как же я тогда не заметила, что он калека? Точно, это был он. Тогда памятник Ноночке, рано умершей младшей дочери моей бабушки, какая-то шпана, малолетки от нечего делать камнями забросала, разбили памятник. Когда мы прибежали, там играл этот человек, играл и плакал. И мы с бабушкой на два голоса заревели. Как будто бы нашу Ноночку второй раз хоронили.
– Баб! Этот Женька Гроб, стоило нам появиться, свою скрипочку быстро в футляр и как-то незаметно исчезал. Это ведь был он, да? Он ещё тогда в таком цилиндре чёрном ходил? Помнишь?
– Помню. Хорошо, что и ты помнишь.
– Баб, а родственники у него были, жена, дети?
– На всю жизнь у него лишь одна возлюбленная была – скрипка, с ней и похоронили.
– А как его фамилия, настоящая фамилия?
– Может, кто-то знал, я не знаю. Кликали его все – Женька Гроб. А зачем тебе его фамилия, в раю фамилию не спрашивают…
Конец школе – конец мучениям
С девятого класса нас отправили на практику на кондитерскую фабрику, благодаря чему быстрее сдружились с девочками, которые пришли к нам недавно. Их родителей-военных из-за границы перебросили на службу в Одессу. Сначала сколько гонора у них было, как они пренебрежительно относились к городу: что там ваша Одесса в сравнении с Германией или Венгрией. Мой дядька Леонид Павлович, когда я ему рассказала об этом, успокоил: не обращайте внимания, пусть не за даются, им там особо разгуляться не давали, торчали у себя в гарнизонах и не высовывались, а если и выпускали за ворота, то не часто, так что в Берлин или тот же Будапешт выбирались лишь по большим праздникам. Да и разве, Оля, сравнишь с чем-то нашу родную Одессу; дядька был большим патриотом города, даже когда ему предлагали генеральскую должность в Молдавии – отказался туда ехать.
Но постепенно этот взгляд свысока стал у полковничьих дочечек исчезать, а на фабрике и вовсе исчез. Все в одинаковых халатах и косынках, не отличишь, и к нашим одесским хохмам, выражениям и подначкам привыкли, сами охотно употребляли. На фабрике хвалили и ценили за умение работать, а какие у тебя оценки в школе или какие наряды, никого не волновало. А вот в школе всё было наоборот, учителя требовательны, но и сами выкладывались на уроках, старались, чтобы мы как можно глубже усвоили их предмет. Во всяком случае, в выпускном классе я налегла на учебу изо всех сил.
У меня был строгий надсмотрщик – старшая сестра Алка, она трудилась в СУ-51 «Термоизоляция» старшим инженером, а после работы сразу бежала домой, чтобы проконтролировать каждый мой шаг. Это не бабушка, которую ничего не стоило обдурить. Алка всё тщательно проверяла, объясняла, и как-то незаметно я подтянула все предметы. Сама себе не верила: контрольные по математике написала впервые на «отлично», а наша математичка думала, списываю, на классной доске заставила решать уравнения и доказывать теоремы. А потом возмутилась: так ты самая настоящая лентяйка, буду спрашивать тебя на каждом уроке, пока эту лень не выбью.
За меня сестра только черчение делала. Засиживалась с ним допоздна, спать пора, а она соберёт мои манатки с письменного стола и меня зовет за собой на кухню, чтобы смотрела, а я уже ни чёрта не соображаю.
Но на какие жертвы пришлось идти ради этих успехов. Сначала забросила волейбол в своей спортшколе, а следом и музыку. А подружек бабка отваживала; только заявлюсь домой, на ходу что-то поглотаю и сяду позаниматься, они начинают ломиться одна за другой: где Олька. Дома очень не хотели, чтобы девчонки знали, что я мотаюсь на Новый рынок помогать маме, она там работала в лаборатории, проверяла качество привозимого на продажу мяса. У ставала так, что еле живой приползала.
Но, слава богу, что были субботы – на всю жизнь самый мой любимый день недели. И уроки можно отложить на воскресенье, и Алки дома нет, они у Ленки Довбненко, ее подруги, пульки преферансные расписывали, до полночи играли. А я вечером ехала в клуб портовиков и каждый раз в трамвае сталкивалась с компанией бойких девчонок. Многие были из нашей школы, но меня моложе. Намазанные, разодетые, с патлами, взбитыми под «бабетту», они спешили на танцы в клуб медработников, не столько поплясать, сколько поприкалываться. Да и подальше от родительских глаз, чтобы не видели, что их детки курят. Еще с восьмого класса мы начали этим баловаться во дворе и грызли какие-то орехи, чтобы дома не учуяли запашок самых дешевых папирос, на болгарские сигареты денег не было.
Среди этих девчонок мне больше всего была по душе Галка Рогачка. Она была круглой отличницей, шла на золотую медаль и мечтала о факультете иностранных языков в университете. Её у нас дома называли «чертом в юбке». Галка умела убедительно врать и прикольщицей была неповторимой. При знакомстве с ребятами могла скорчить такую рожицу, что даже если не хочешь смеяться, все равно расхохочешься. Языку неё был, что называется, без костей, и при этом еще и картавила, и заикалась, и пускала слюни, наконец, подсовывала мальчишкам под самый нос изогнутую ручку для поцелуя: вы имеете честь познакомиться с настоящей красавицей, только без соплей, пожалуйста. Её папа работал в порту заместителем главного бухгалтера. В Одессе это кое-что значило, во всяком случае, наша школьная кочегарка без угля никогда не оставалась.
Галке позволялось в школе всё. Не понравились учителя, её тут же перевели в другой класс. Тоже мне проблема… В восьмом классе она какой-то химией вытравила волосы и перестала быть совершенно тёмной шатенкой, а маме сказала, что её волосы просто сами выгорели на солнце. А кто бы в этом сомневался? Однажды к нам нагрянула комиссия, увидели Рогачку во всей ее красе и навалились на директора: кто это? Он проявил завидную реакцию и, не раздумывая, выпалил: наша пионервожатая. После этого случая к её законному прозвищу «Рогатая» прицепилось еще и «вожатая».
И представьте себе, она действительно была хорошей вожатой в пионерлагере одесского порта, который находился за 16-й станцией Большого Фонтана и куда ее устраивал на лето папа. При моем дедушке, который всю жизнь проработал в порту я во втором классе пробыла там полсмены, пока мои длиннющие косы не превратилась в логово вшей и гнид. Алка с подружкой Майкой устраивали на моей несчастной голове бои с ними, их было полно на газете, разложенной под моей мордой на столе. Я кричала на всю Коганку пока битва не была окончательно выиграна при поддержке нашей бабки, которой не впервой бороться с этой напастью. Если честно, я мечтала, что мне отрежут эти на доевшие косы и тогда, избавившись от них, сделаю себе короткую стрижку, как у других девчонок из лагеря. И симпатично, и мыть голову можно прямо под краном. Но сестрица с подружкой все мои волосы разобрали, аккуратно расчесали, еще бантики вплели, совсем как у пионерок из младших групп. Еще успеешь быть взрослой, приободрила меня Алка.
Так вот, хорошая вожатая Галка умела построить всех как на до. У нее была полная свобода действий, совершенно без контроля со стороны родителей. Это-то её больше всего устраивало. Несколько раз после отбоя я к ней наведывалась пообщаться. Втихую пили вино, курили – с другими такими же вожатыми, «достойными комсомольцами, верными ленинцами». Эти патриоты такие травили анекдоты, хоть стой, хоть падай, бесплатный плацкарт на Соловки обеспечен, если бы среди нас завелся стукач. Но кто об этом думал тогда?
То, что Галка не продаст, в этом я не сомневалась. Вот поручиться за Лильку Гуревич не могла. Та всё докладывала своей мамочке. Рита Евсеевна, правда, её никогда не продавала, но я нутром чуяла. Что можно было требовать от маменькиной дочки? Она по любому поводу обижалась. Крикнешь ей: Лилька, иди сюда! Надуется и не подходит. Начинаешь выяснять, какая её муха укусила. Она с вызовом: я не Лилька тебе, у меня не кошачье имя, я – Лилиан.
Елки-палки, как в Одессе закричать: Лилиан! Засмеют, будут тыкать в нас пальцами. Убеждать её, чтобы была ближе к народу, и народ тебя не забудет, бесполезно. Но я уважала и любила её за присущие только ей одной из всех моих подруг качества. Она была патологически наивна и простодушна. И очень начитанна, страшно любила кино, коллекционировала фотографии известных артистов. Я уже не говорю о ее блестящей памяти, кроссворды щелкала только так.
А для меня она еще служила хорошим прикрытием. Когда я объявляла: иду к Лильке, вместе уроки будем делать, никто не сомневался, что это так. А у самой в портфеле вместе с книжками была припрятана юбочка с кофточкой. Прямо в парадной у Рогачки они менялись местами со школьной формой, портфельчик сиротливо пристраивали в коридоре Галкиной квартиры. После наведения полного марафета, завершавшегося завязыванием «конского хвоста» на голове, мы тихо уплывали и минут через сорок всплывали в центре, чтобы размять наши юные ножки на Дерибасовской или Приморском бульваре. И замечали, что ножки-то ребятам, что тут же пристраивались за нашими спинами, приглянулись.
Но были дни, когда я официально школьную форму переодевала дома. Это когда шла на музыку в портклуб, захватив папочку для нот коричневого цвета с тисненым изображением Петра Ильича Чайковского по центру. Никто из моих родных в музыкалку не наведывался. Им вполне хватало лестных отзывов учительницы в моём дневнике, и они без сожаления выделяли деньги на оплату на следующий месяц. Как можно жалеть, ведь я посещаю занятия для полноценного развития своей личности, ну, не стану музыкантом, но музыка в жизни всегда пригодится.
Папочка с нотами однажды очень помешала, когда после урока сольфеджио мы с Галкой и с ещё одной девчонкой Татьяной из соседнего дома засобирались, естественно, в строжайшей тайне, на вечер танцев для рабочей молодежи, там же, в портклубе. Однако нас, малолеток, вычислили и спровадили дружинники. Но мы так просто не сдадимся, прорвемся. Перед очередным уроком музыки я купила билеты, якобы для старшей сестры. И в субботу с подружками протырились вовнутрь – под шумок, смешавшись с толпой. Мы опешили, услышав, что играет настоящий оркестр. Исполнял он такое… Сначала для отвода глаз, как везде, пару вальсов, потом танго, легкий фокстротик, а потом, не останавливаясь, так что народ взмок, твист, хали-гали, чарльстон, «семь сорок», а под конец – рок-энд-рол. И конца этой не нашей музыке, непонятно как проникшей сквозь железный занавес, не было видно. Все просили повторить. В школе никому об этом, иначе затаскают по разным комсомольским бюро и собраниям.
Какое-то время мы не решались влиться в танцевальный круг, стеснялись, прилипли к стене, пока нас не оторвали от нее какие-то ребята: что стоите, пошли плясать. Одеты они были очень скромно, даже бедновато, наверное, обыкновенные портовые докеры и грузчики. С ними было весело, никто не приставал, наоборот, нам казалось, они оберегали нас. Тем не менее смывались мы оттуда по-английски, не попрощавшись, и на у лице притопили с такой скоростью к троллейбусной остановке, что нас только и видели.
В этом оркестре играл на флейточке паренек из нашей музыкальной школы, и меня он, естественно, знал. Так вот, этот флейтист грёбаный всё мне улыбался, раскланивался и как-то после урока увязался за мной. Я от него и так, и этак пыталась отделаться, чтобы замести следы, воспользовалась парадной соседнего дома. Не удалось, он вычислил мой адрес и прислал письмо, да ещё какого содержания. Я не знала, а то попросила бы у Алки под каким-нибудь предлогом ключ от почтового ящика и перехватила его послание. Сестра никому не доверяла ключ. Она выписывала кучу журналов, газет, ей приходили извещения на получение книг по подписке. И вдруг она извлекает письмо без штемпеля на моё имя. Вместо обратного адреса корявая подпись. Паренек решил излить свои чувства в письменном виде. И продал меня с моими подружками с потрохами убийственной последней фразой: Оленька, не ищите своё счастье на танцах в портклубе, там его нет.
Как на меня набросилась сестра, кричала, что мне только там, в портклубе, и место, среди разной грязи и отбросов общества. Мама попыталась за меня вступиться, но получила такой отпор от любимой доченьки, что только махнула рукой: ты ж её сама туда определила, что же ты хочешь теперь. Вердикт был вынесен однозначный: наказать меня полным молчанием, меня не замечали, я просто переставала дома существовать. «Оля, ты пойми, они ради тебя отказались от своей личной жизни, – внушала мне, заливаясь своим театральным смехом, наша соседка Зинаида Филипповна, – а ты заставляешь их так за тебя переживать. Для них ты всегда была и будешь маленькой, несмотря на то, что в десятом классе и вон какая дурдыла вымахала».
Раз так, я тоже покажу своей семейке коготки: вы со мной не разговариваете, и я с вами не буду. На работу к маме я продолжала ходить, но не произносила ни звука. Полный молчок. В школу уходила, не притрагиваясь к вечной бабкиной манной каше и чашке какао. Из школы вернусь, переоденусь, брошу портфель и к Галке. Отобедаем у нее по полной программе, пошепчемся. Не наговорюсь – от Галки к Лилиан перебиралась. Там веселье не переводилось.
Напротив её квартиры поселилась по обмену семья полковника. Они были осетинами, Гутиевы. На фоне остальных семья выделялась своей национальной красотой. Казбек – высокий, статный, его жена Аза – ему под стать, и дети, старшая Фатима и мальчик Тимур, – крупные, здоровенные. Фатима, хоть и была на два года младше нас, но внешне всё выглядело наоборот. Мы с Лилькой рядом с ней казались двумя малышками рядом с дородной мамашей. Казбек продолжал служить в Германии, Аза и Тимур были с ним, а за Фа тимой присматривала её бабушка, совершенно не говорящая по-русски.
Аза Борисовна не очень-то разрешала Фатимке с нами общаться. Как считала Лилькина мама, мы ей не подходили по рангу. Сама Рита Евсеевна с Азой, когда она приезжала, постоянно находилась в контрах. С ухмылочкой относилась к Азиным нарядам восточной женщины: видно, очень высокое общество окружало её в ауле, где она родилась. Но как только полковничиха уматывала в Германию, задарив дочку очередными подарками, Фатимка тут же объявлялась.
Лилькина единственная комната превращалась в девичий клуб. Все Фатимкины подружки, тоже офицерские детки, с утра до ночи торчали у Лильки. Всё, что не могли благопристойные девчонки позволить у себя дома, находило полный выход здесь, в коммунальной квартире со стенами, обгаженными клопами и тараканами.
Первыми кавалерами этих малолеток стали курсантики из училища напротив школы, такие же молокососы, ещё и кубинцы вдобавок. Их детский лепет, кто как на кого посмотрел, что сказал, меня приводил к тошнотворному состоянию. У них не было никаких проблем, они просто были помешаны на своих чувствах, шмотках и гулянках. Больше их ничего не интересовало. Мне в этой компании было, если честно, неуютно. Первой любовью нашей Фатьки был мальчишка из моего класса и нашего двора, Гришка Бирюков. Он после восьмого класса ушёл из школы и поступил в мореходку. У него были большие карие глаза. «Олька, у вашего Дружка точно такие», – говорила она мне, и под этим предлогом заладилась к нам хаживать в гости, лезла к псине с поцелуями. Могла часами торчать на моём балконе, выжидая, когда пройдёт Гришка. Ну, что тут скажешь!
Наша беспородная дворняга вовсю пользовалась этой Фатимкиной привязанностью, из всех моих подружек он обожал ее больше всех. От ее почёсываний и ласковых слов пес млел и описывался от счастья. Он даже пытался по-собачьи говорить, из его глотки вылетали удивительные звуки. Вот такая бывает взаимная любовь. От меня он получал легкий нагоняй тряпкой по морде и, прижав жирное тело к полу, боком удирал под мамину кровать. Смеялись все, Лилька говорила, что у собаки тоже могут быть чувства, кто его знает? Только Рогатая считала, что это ку-ку и крутила пальчиком у виска. Я, между прочим, полностью с ней была солидарна.
Моя бабка всем подружкам отвешивала комплименты по их достоинствам. Фатимке с ее ярко выраженной кавказской внешностью и на удивление при такой внешности ангельским наивным характером она говорила: Фатимочка, вы такая величественная, прямо, как царица Тамара. А наша Олька шантрапа шантрапой рядом с вами.
Единственной из подружек бабка к Фатимке обращалась всегда на «вы». Помню, я уже училась в институте, ко мне заглянули девчонки из моей группы, так она тут же высказалась: они такие сбитые, такими рельсы можно забивать. Ты бы кушала, как они, тоже на человека стала бы похожа.
Совсем другое дело Лилька Гуревич. Когда бабка злилась на нее, то ограничивалась характеристикой из одного слова: глистоногая. Но всё же жалела Лильку Подержит в дверях, пока она, заикаясь, выкакает:
– Олька когда придёт?
– А зачем она тебе?
Лилька долго собирается с ответом, бабка не выдерживает: кушать будешь? Заикания как не бывало, лишь утвердительное мотание головой, без слов.
– Только с одним условием, Олька в магазин выскочила, сейчас придет – и за уроки. Не дёргай ее, договорились?
Моей бабушке больше всех нравилась Светка Баранова. Когда она проходила мимо балкона, бабка всегда звала меня:
– Как она идёт, прямо, как раньше нас учили. Вся такая чистенькая, гордая. Со вкусом девушка. Весь наряд подобран, как на картинке. А ты ходишь, будто за тобой кто-то гонится. Голова впереди, задница сзади. Сколько раз учила, что девушка должна нести себя, как хрустальную бесценную вазу. Головку вниз не опускать, только глазками посмотреть и увидеть кончики сосков. Тогда и грудь красивая вырастет, и стан стройным будет.
– Баб, что ты сравниваешь? Забыла, что у Светки папа тоже в Германии служит, он все и шлет оттуда. А мне кто пришлет? Потаскали бы они картошки с мое, посмотрели бы тогда на их походочку.
Бабка здесь же ретировалась от окна, вздыхая, а я радовалась: очередную атаку успешно отразила.
В душе я немного завидовала, но сдерживалась, вида не подавала и, когда девчонки набегали на Лилькину квартиру с новыми тряпками, старалась сразу улизнуть. Не хотелось мне мерить чужие шубки, платья, шляпки. Они могли часами возиться с этими шмотками, меняться ими, потом намажутся, как чучела, и идут красоваться перед военными училищами. Женихов искать. Женихи все больше из Азии и Африки, дети разных народов. Сколько их – не сосчитать. Шныряют повсюду. Иногда на остановке черно, в трамвай сквозь строй этих курсантиков не пробиться, гулять едут. Когда же они учатся?
У нас с Галкой поджилки тряслись, когда они лезли познакомиться. Черт знает, что у них на уме. Рога тая сразу начинала энергично жестикулировать, в ход шел великий и могучий, благо обучились в нашем дворе. Действовало, дрейфливых загорелых кавалеров как ветром сдувало. А на страшилку вроде «я сейчас патруль позову» никакой реакции. Видимо, усвоили, что на нашей 6-й станции Фонтана сколько ни горлань, ни одна милиция не услышит.
Нет, мы лучше с Галкой и Танькой в своих задрипанных пальтишках мотанём в горсад или в другие злачные места, если юл одно, в единственное кафе-мороженое на Дерибасовской. Там своё кодло, там собиралась настоящая одесская юная шпана, дети коммуналок и одесских трущоб с Молдаванки и Пересыпи. Никого не интересовало, кто твои родители и откуда ты сам. Главное, чтобы не выпендривался и не корчил из себя графа Монтекристо. Сколько у кого было денег, столько вынималось из карманов и сбрасывалось в общую кучу на кофе, фруктовое мороженое, поскольку оно стоило копейки, самое дешевое столовое вино, которое пили по очереди из горла. Здесь же крутились мальчики – форцари. У них всегда можно было купить жвачку, американские сигареты. Они демонстрировали заграничное шмотьё, которое нам было не по карману И это были не тряпки соцлагеря, а настоящие Америка, Франция, Италия. По доброте душевной фарцовщики могли дать примерить клёвый прикид. Этого мы с Галкой не делали никогда. Самое большее, что себе позволяли, так это подобрать пустую пачку из-под «Мальборо» и напихать в неё дешевых отечественных сигарет. А потом с форсом доставать небрежно из портфеля или сумочки, якобы что-то ища. Разыгрывали на публике понты.
Часто, сдвинув несколько скамеек, просто сидели, болтали, травили анекдоты, а если кто приносил гитару, то под нее орали блатняк, особенно попу лярна почему-то была песня про девочек Марусю, Розу, Раю и примкнувшего к ним Костю – Костю шмаровоза. Шмаровозами были довольно симпатичные молодые люди, одетые по последнему писку моды. По импортным транзисторам ребята ловили клевую музыку. Турция через свои трансляторы вещала непрерывно, через море она долетала без помех. Наши глушилки вражьих радиостанций музыку не трогали, забивали речевой эфир, неважно, о чем они болтали, какую бы чушь ни несли. Да мы и не слушали и не понимали.
Девчонки в этих компаниях делились на две категории: «да» и «нет».
Девочки из разряда «да» внешне ничем не отличались, но вокруг них всегда крутились мальчишки, которые за них платили, их провожали. У них дела были и с фарцой, и со шмаровозами, и взрослыми мужиками. От этих девиц мы с Галкой и Татьяной старались держаться поодаль, сами причисляя себя к девочкам «нет». Да и, по правде говоря, никто ничего особо не предлагал, считая, что не доросли еще до серьезных дел. Наслушались, пошлялись и шлендрайте домой в свои пустынные и тёмные фонтанские высылки.
Я шлендрала и ругала себя, что теперь так придется напрягаться, чтобы сделать уроки, и вообще, какого черта меня потянуло туда. Галке хорошо, она уже всё выучила, пока я мордовалась у мамы на работе. Теперь придёт домой, умоется и дрыхнуть будет. А у меня в тетрадях ещё конь не валялся, а столько задано. И еще КВН или «Кабачок 13 стульев» хочется посмотреть у Лильки по телеку, себе до сих пор не купили, да и денег лишних нет, к зиме что-то надо прикупить. А там к весне, купальник к лету, туфли к осени.
Бойкот дома продолжался. Костер вражды сначала тлел, затем, когда этот хлюпик, который тяжелее своей флейты в руках больше ничего не держал, подлил зловонного масла в огонь, забушевало пламя. Однако я чувствовала, мама и бабка готовы уже сдаться, подлизывались, заговаривали со мной. Но Алка сдерживала их порыв к обоюдному миру. Придёт с работы, нажрётся и разляжется на своей тахте, кроссворды разгадывает и молчит. А как мне хотелось есть. Кишки орут на всю ивановскую, а я терплю, держу марку. Опять забыла на ночь тайно купить себе булочку. Мама специально поставила вазу с фруктами ко мне на письменный стол, и они, подлые, ароматно пахнут, нету сил, слёзы и слюни текут, так мне себя жалко. Но рот на замке, закаляю характер. Внутренний голос: и кому это нужно?
Сегодня, когда я вернулась домой, неожиданно застала маму с Алкой. Они меня не заметили и ругались напропалую в мой адрес. Мама уже была на моей стороне, защищала меня. Алка отвечала, что мы доиграемся и эта дура принесёт в подоле всем подарочек, если моё воспитание пустить на самотёк. А потом будет, как ты на рынке в своей мясоконтрольной, корячиться всю жизнь. Мама не выдержала и напустилась на Алку что толку от твоего института, для чего ты его кончала, чтобы просиживать все вечера на этой тахте? Лучше свою жизнь устроила бы, к тридцати приближаешься, пора бы мужа заиметь и детишек, а то так одна и останешься.
– Меня моя жизнь вполне устраивает, и не вмешивайтесь, я не желаю больше говорить на эту тему.
Нужно ретироваться, пока меня не обнаружили, иначе эти разъярённые львицы порвут меня на куски. Вернулась попозже, прихватила учебники на кухню, загрызая богатые знания чёрствой булкой, которую в Одессе назвали за глаза «хрущёвским лакомством». Потому что пекли у нас хлеб при Хрущёве из чего хочешь, только не из пшеницы. Галке Глазман из нашего класса мальчишки этой трёхкопеечной булкой сильно губу разбили. Случайно, конечно, перебрасывали ее, как мяч, и попали в Галку. Она от боли взвизгнула, с трудом кровь остановили. Вот такой в Одессе хлеб был.
Битву, в конце концов, я выиграла, первый раз отстояла своё право на полную, ну, почти полную, свободу действий. Однако заплатила это лишением и без того скудного гардероба одежды. На вешалке одиноко висела моя школьная форма. Все остальное Алка в ярости изорвала, в разговоре со мной перешла на официальный тон. Прежние доверительные отношения между нами прекратились. Свои личные секреты я ей больше не доверяла.
Яблоком раздора по-прежнему оставалась музыка, и не нашлось своего Тиля Уленшпигеля, который уничтожил бы его своей меткой стрелой. Наконец-то мне удалось им объяснить, что ничего у меня не выйдет. Мама с бабушкой это давно поняли, а Алка упрямилась, она во всем была такая, и переубедить ее было невозможно: я так считаю – и все. Первые два года, как мне купили пианино, еще наблюдались какие-то успехи, но потом мое продвижение к вершинам искусства затормозилось. Не то чтобы медведь совсем наступил мне на ухо, нет, способности какие-то проявлялись, просто я охладела, а главное – усидчивость, которую требовала музыка. Вот с ней возникала большая проблема. Я жила с шилом в одном месте. Сама себе удивляюсь, как села за эти заметки.
Вот у Верочки Беляевой, что жила в квартире рядом с нами, усидчивости было в избытке. Она закончила школу Столярского и поступила в консерваторию. С утра до ночи она могла разучивать один какой-нибудь такт или одну строчку, будоража весь дом. Все соседи их тайно ненавидели, но помалкивали, терпели, а вдруг у нас растет свой Эмиль Гилельс, прославимся на весь мир. Во дворе Верочка ни с кем не общалась. Мамочка её провожала каждое утро на занятия, гулять она тоже ходила только в ее сопровождении. Мало нам было в доме этого дарования, так еще под нами, на первом этаже, поселилась семья очередного полковника, и их дочка Иветочка тоже занималась музыкой в училище. А посреди этих девиц, которых поцеловал в темечко бог, жил такой падший ангел, как я, который, вместо того чтобы заниматься серьёзно музыкой, шлялся чёрте с кем по позорным танцулькам.
Но все-таки иногда я садилась за пианино на радость своим и вызывая ненависть у чужих. Как-то, вернувшись с прогулки, я застукала бабку за инструментом. Она одним пальчиком постукивала по клавишам и бубнила себе под нос что-то весёленькое.
– Бабуля, что это?
Вместо ответа она мне наиграла мотивчик песенки её молодости, которую исполняли в кафе-шантане, называлась песенка «Одесситка».
Одесситка – вот она какая! Одесситка – пылкая, живая! Одесситка вас взглядом обожжет, Сердце ваше приголубит, потом плюнет и уйдёт. Кто возьмёт на содержанье, Оберёт до основанья, Одесситка – это всё она! Обобравши всё до нитки, Заберёт свои пожитки. Одесситка – это всё она!Тут и я решилась поиздеваться над инструментом и подобрать эту мелодию. И настолько увлеклась, что за ней последовали другие музыкальные опусы, явно отличавшиеся от классического репертуара соседок-пианисток. Сквозь балконную дверь на весь двор звучало о шаландах, полных кефали, которые в Одессу Костя завозил, Мурке в кожаной тужурке, о том, что случилось в Неапольском порту из-за пробоя на борту и, конечно, о бедной японке, хранящей русский флаг, ведь ее отец русский был моряк! А под конец: так наливай, чайханщик, чай покрепче, много роз цветёт в твоём саду за себя, конечно, я отвечу, за любовь ответить не смогу!
Я и не заметила, как под моим балконом собрались ребята с нашего двора.
– Ольга, класс, – кричал мне Гришка, который так нравился Фатимке, – когда следующий концерт?
– Да хоть завтра.
На этот раз я и пела, громко, чтобы все слышали, и с такой же силой жала на педаль. Как говорится, вошла в раж, колотила по инструменту без перерыва, бацая двумя лапами сразу по целой октаве. Сама получала истинное удовольствие. Даже травмированная на волейболе подлая спина о себе не собиралась заявлять. Зато заявилась мамаша Верочки, с заламыванием рук, закатыванием глаз. Стала выговаривать моей бабке, что такое мое поведение недопустимо, и еще много чего неприятного. Бабушка не растерялась, дала ей отпор, как принято было на Коганке, то есть по всем статьям.
– От вашей Верочки весь дом скоро с ума сойдёт, девять часов подряд каждый день дрынчит, а тут бедная девочка только села за пианино и уже всем мешает.
– Ваша Олька кроме «опца-дрыца-оп-цаца» ничего играть не умеет, – не унималась уже из-за двери разъяренная соседка.
– А ваша один и тот же кусочек из Моцарта второй год долбит и никак выучить не может, – молодчина, бабуля, проявила завидное знание классики, даром что ли училась в институте благородных девиц. Когда она вспоминала об этом, то всегда говорила: в наше время там было чистенько, аккуратно, розочка к розочке, а сейчас все заплевано, грязно, и не хотела говорить, где это «сейчас».
Вообще эту семейку, мягко будет сказано, в доме не жаловали. Как говорила дворничиха: они много из себя строили. Верочкин папа работал в порту, в профкоме, и море видел разве что из окна своего кабинета. А его жена, я уже упоминала, только и делала, что сопровождала всюду и обслуживала единственную надежду всей своей жизни – свою доченьку. И Верочка эти надежды оправдала. Как только она поступила в консерваторию, здесь же сыскался достойный жених – «королевич Елисей». Интересно было наблюдать, когда семейка по вечерам совершала променад. Впереди вышагивала Верочка под ручку с мамой, такие одинаковые невысокие женские квадратики, с одинаковыми укладками на головках. А сзади их сопровождали такие же два мужских квадратика. Папу мы знали, а вторым был неизвестный плешивый мужчина, который, что-то рассказывая, оживлённо размахивал короткими ручками.
Сначала мы не верили, что это… Верин жених. Да, видно, хоть и мал золотник, да больно дорог. Юная пианистка скоропалительно выскочила замуж за профессора консерватории и вскоре родился очередной «киндер-вундер». Но и нашему дому счастье подвалило, может, ещё большее. Обменялись наши соседи, и к нам пожаловала Зиночка, Зинаида Филипповна. А вскоре и Иветочка выскочила замуж и переехала. Так что из играющих на пианино в доме осталась я одна. И внутри моей родни постепенно поутихли музыкальные страсти с укорами и сравнениями не в мою пользу.
Я все больше сближалась с Галкой. Девчонка была классная, не то что другие мечтательные барышни. Не витала в об лаках, жизнь принимала такой, какая она есть. Головка у неё работала хорошо. Ей бы мальчишкой родиться, бабка придумала ей еще одно прозвище, обзывала «оторвой», так, ласково, по-когановски. Сокрушалась, что доведёт она меня до беды, уж больно авантюрная. А я, когда вырывалась из нашей женской монастырской кельи и встречаясь с Галкой, испытывала состояние отчаянной радости, как будто бы мы наслаждались необыкновенным запретным райским плодом. Любили на ходу сочинять истории, которых и не было в помине, неслись чёрт знает куда, только подальше от этого, воспетого Утёсовым, мрачного и неосвещённого Фонтана. Чаще всего бывали на Дерибасовской, исхоженной мною с детства вдоль и поперёк. Ещё и ещё раз посмотреть какой-нибудь фильм, запомнить слова и мелодию, прибежать домой подобрать на фоно и горланить на всю у лицу. Лилька стремилась попасть в нашу компанию, а мы её не брали. С ней одна морока. Она, как попугай, «попка дурак», только и повторяла: это нельзя, то нельзя, ну, всё нельзя!
Нельзя на улице ржать, как лошади, нельзя спрыгивать на ходу из трамвая, нельзя строить глазки, как придурочные. Нельзя курить, пить вино, задирать прохожих.
Заваливаясь с шумом в трамвай, мы сразу вычисляли жертву. Упрямо пробивались к ней сквозь толпу Обычно ею становился молодой человек, сидящий у окна и упоённо поглощающий книжку. Естественно, он не замечал, хотя все, конечно, узрел, стоящих рядом пожилых людей, детей и женщин, чтобы не уступать им место. Такой местечковый кур кулёк. Галка, прищурившись, спрашивала: ну как, будем? Я утвердительно кивала. Мы вплотную нависали над жертвой, и Галка на полном серьёзе, громко так, чтобы слышал весь трамвай, возмущалась: вот времена пошли, уже беременным место никто не уступает!
– А кто беременный? – вопрошала я, подыгрывая подруге. А сама наблюдала, как у чтеца краснеют уши. Детские шалости, а действовали. Вагон подхватывал: так кто ж теперь уступит, грамотные нынче пошли, это он запоем правила читает хорошего поведения и ничего вокруг не замечает.
– Меня сейчас вырвет! – нагнетала ситуацию Галка.
Вагон от народного гнева и сочувствия к Галке еще больше накалялся. Каждый с злым б леском в глазах старался вставить свои пять копеек, отпустить нелицеприятные реплики в адрес сидящего бугая.
– Вы что там читаете, молодой человек? Там о беременных что-то написано?
– Галка, а когда ты успела? – не могла угомониться я, изображая максимум удивления на лице.
– Как его увидела, так и сразу, счас на часы взгляну. Ага! Уже как пятнадцать минут. Счас рвать начну.
Больше ни один парень не выдерживал, срывался с места, пробивался к выходу, пулей вылетая на ближайшей остановке. Народ наконец врубался, что это розыгрыш, и все начинали дружно смеяться: находчивые девчата, так и нужно с этими жлобами. От пошли мужики, всэ тилькы до себе, не проймёшь! Ото жлоба, кугуты понаехали. Разве раньше так было? «Ой, мадам, садитесь, внучка на колени, в ногах правды нет, да и стоять тяжело», – не менее дружно переполненный вагон усаживал на освобождённое место пожилую женщину с мальчишкой лет пяти. А мы с чувством выполненного долга выскакивали, правда, иногда с предупреждением, как бы мы не нарвались на неприятности.
Но это ещё больше нас распаляло, мы росли, и приколы наши становились всё более изощрённые. Любимым занятием стала опять же «работа» в трамвае. На 6-ой станции мы садились в разные вагоны, делали вид на остановке, что друг с дружкой не знакомы. Едва попадался какой-нибудь более-менее приличный парень, как мы начинали строить ему глазки. Один взгляд, и он на крючке. Можно больше не стараться, сам проявит инициативу, предложит познакомиться. И кто из нас больше узнает о новом знакомом, тот выигрывает пари. На конечной остановке выпархивали из разных вагонов, и устраивалась неожиданная встреча двух подружек, не разлей вода. Один кавалер или два, как повезёт, что попались в наш капкан, стояли и терпеливо, пока мы щебетали, обменивались наскоро информацией и решали, что делать дальше, подходят эти кадры нам или нет. Бывало, назначали им свидания, но чаще спроваживали пустышку. Главное – заключенное пари сработано, кто проиграл, тот покупает мороженое или билеты в кино. Конечно, это была злая затея, и мы могли бы без осложнений не выпутаться из истории, но кто всерьез задумывался об этом, когда тебе пятнадцать или шестнадцать и кровь играет. А на улице вокруг тебя бурная весна, не время года, а взрослая жизнь бурлит и хочется быстрее влиться в нее.
Бедная тихоня Лилька Гуревич для таких дел не годилась. Мы уже с Галкой проверили, раз взяв ее с собой: в её присутствии ни один парень не рискнул подойти к нам на пушечный выстрел, обходил, как говорили девчонки у нас в классе, двадцатой дорогой. Одно выражение лица Лиленьки чего стоило! Она гордо запрокидывала назад голову, выпячивала нижнюю губу, чтобы хоть немного прикрыть торчащие вперёд зубы верхней челюсти. Она, бедняга, выбила их ещё в чудном городе Краснотурьинске. Да и одежда её поражала воображение.
Чего только стоила её так называемая шуба. Старое выгоревшее красного цвета пальто Риты Евсеевны с громадными плечами, такие носили еще до Второй мировой войны, было подбито изнутри вместо ватина такой же облезшей лисой, поэтому и называлось шубой. Правда, Лилька настояла, и ей удалось по моде нашего времени отвоевать у матери право укоротить его выше колен. Ниже следовали две тоненькие ножки в нескольких парах чулок, чтобы выглядели потолще. Они торчали из широченных голенищ сапог, купленных в Москве. Завершался наряд шляпой, сшитой приятельницей Лилькиной матери. На шляпной болванке сначала сконструировали шерстяную шапочку, а потом на неё сверху нашили три старых песцовых хвоста. Поскольку пришиты они были параллельно, то шляпа напоминала треух времён Петра Первого. И в целом этот наряд и Лилька в нём напоминали знаменитую картину вышагивающего царя по строящемуся великому граду.
Паразитка Галка всё время просила Лильку дать поносить ей на время её шляпку, убеждая простодушную «Лиленьке», что эта шляпа полный атас. Все кавалеры теперь будут у её ног Доверчивость мамзель Гуревич не знала границ, не знала границ и наша любовь к шуткам. По очереди напяливали на себя ее шубу, напяливали треух и дико хохотали, глядя на себя в зеркало, пока у подружки не наворачивались слёзы и до неё не доходило, что это спектакль. «Чего ты, Олька, после семилетки не пошла в театральное училище, сейчас бы уже была артисткой», – услышала я как-то от Лильки после очередного нашего прикола.
Мы с Галкой подшучивали с таким же успех ом и над собственными персонами. Никому из нас и в голову не приходило обижаться, а вот Лилька вдруг затаила обиду на Рогачку. Галке, однако, все это было по барабану. Больше всего доставалось мне, приходилось балансировать между обеими близкими мне девчонками или – не хотелось употреблять это классическое выражение, но все-таки употреблю – болтаться «как говно в проруби».
С Лилькой мы посещали музеи, выставки, кино. Я бесконечно выслушивала о её любви к нашей знаменитости, балеруну оперного театра. Мы бегали к Лилькиной матери в парикмахерскую, чтобы поглазеть на него живьём. Рита Евсеевна всегда докладывала нам, когда он будет стричься у Изьки, известного на всю Одессу мужского мастера. Мой дядька Леонид Павлович иногда тоже стригся у него и выглядел после этого шикарно, ра дуя Жанночку и меня с Алкой, когда мы заглядывали к ним в гости. И вот же ирония судьбы: не без участия моего дядьки обожаемый Лилькой балерун получил причитающийся по нашим законам срок, наверное, дога дались за что. Леонид Павлович долго не мог успокоиться: была бы моя воля, я бы весь оперный театр посадил и ликвидировал в городе этот рассадник. Вот это да! А мы-то думали, здесь среди мужчин-танцоров одни дамские угодники, соблазнители красивых девушек, а они, оказывается, по другому делу…
И все же однажды мне с Лилькой повезло! После посещения парикмахерской, гуляя по Приморскому бульвару, мы подцепили двух кавалеров. Да каких! Сами от неожиданности растерялись, но держали хвост пистолетом. Кавалеры были совсем взрослые. Оба выглядели, как с об ложки зарубежного журнала. Если бы не неповторимый одесский говор, их можно было принять за иностранцев. Одного звали Юрием, он был высок, хорошо сложён, но чуть-чуть полноват. К одежде не придерёшься, так даже с одесского толчка вынарядиться не получится. Вся она на нём блестела, прежде всего невиданным качеством, не избитая, подобрана по фигуре, по последнему писку моды. Композицию завершали дымчатые очки в роговой оправе, как у Збигнева Цыбульского, в которого все девчонки были влюблены беспрекословно. Я шепнула Лильке: как денди лондонский одет, он наконец увидел свет.
Второй был одет поскромнее, но тоже с претензией на роскошь, по меркам того же знаменитого толчка. И очёчки на шнобеле были попроще, и выглядел он по сравнению с другом пожиже. Вот с такими кадрами свела нас с Лилькой судьба. Я так про себя подумала: день промозглый, холодный, кадрить особенно этим франтам не было кого. Мы случайно попали в поле их зрения, и они прихватили нас явно от нечего делать.
Тот, что пожиже, первый спросил: где же учатся столь очаровательные создания, если не секрет? Ответишь, что в школе, и конец игре, а так хотелось прошвырнуться в этой компании и ловить на себе завистливые взгляды. Если на них, то, соответственно, и на нас всеобщее внимание. Ничего умнее не придумали, наврали, что учимся в музыкальном училище на втором курсе, словом, уже не малолетки, а вполне взрослые. Кончилось тем, что молодые люди назначили нам свидание.
Боже мой, что делалось с Лилькой, она маме в тысячный раз рассказывала, что они говорили, что мы ответили. Мне от подруги досталась лестная характеристика: мама, Олька вела себя культурно, я так боялась, что она что-нибудь такое загнет и они не пригласят нас на свидание. Но обошлось. Она, когда хочет, может держать язык за зубами.
В этом Лилька была на сто процентов права. Этот Юрий втихаря приглашал меня одну к себе на свидание, так, чтобы подруга не услышала. Она в этот момент была увлечена другом. Но я отказалась, сославшись, что так поступать неприлично. Одна бы я к нему ни за что не пошла. Так, ради Лильки посмотреть, что дальше будет, ещё куда ни шло. Может, он давно женат и у него четверо детей, кто его знает? И вообще этот тип мужчин больше для Лильки и Риты Евсеевны. Только Алену Делону я прощаю, что он брюнет, в моём вкусе одни блондины.
К следующей субботе мы готовились целую неделю. Во-первых, мне нужно было освежить репертуар, вдруг случится такая оказия и мы вынуждены будем проявить свои таланты. Мало ли чего. Во-вторых, одеться по-человечески. Хорошо, что в день знакомства было уже темно, сыро, дождик накрапывал, и всё сошло. Но теперь они явно куда-нибудь нас пригласят, да и скоро праздник – октябрьские на носу. С учетом моего приличного поведения целую неделю и брехни, что с Лилькой идём на «Баядерку», Алка, увидев, как приоделась Лилька, разрешила мне надеть свою выходную кофточку и плащ. У Лильки еще причесались, надушились и, такими неотразимыми, выпорхнули из автобуса на площади Мартыновского, по-старому – Греческой.
Но увы и ах! Кавалеров наших не было в помине. Ни на что не надеясь, обошли площадь пару раз и решили: нет так нет, потопали куда-нибудь в кино. Как вдруг вдали замаячила шикарная фигура в болоньевом итальянском плаще. Это был мой кавалер, но, к сожалению, в гордом одиночестве. Лилька сразу запсиховала, сорвалась уходить. А мне этот ухажер, как мёртвому припарка. Да и он сам как-то подрастерялся, стал нести всякую чушь, что перепутал не то день, не то время назначенной встречи. И запутал приятеля. Сам вызвался позвонить ему из автомата, бросив на моё величество несколько плотоядных взглядов.
Довольно долго он, по всей вероятности, уговаривал своего товарища и наконец выбрался из будки и бодрым голосом сообщил, что его друг не совсем здоров и ждёт нас у себя дома. Такого оборота мы не ожидали, но уж очень интересно было посмотреть, тем более что Лилька рвалась на всех парах. По дороге в угловом гастрономе на Дерибасовской кавалер прикупил вино, спросил, какое мы предпочитаем, креплёное или сухое. Я объявила, что мы пьём шампанское. Юрий улыбнулся как-то ехидненько и пошёл в кассу выбивать чеки. У нас был последний шанс культурно слинять, но мы им не воспользовались. Любопытство не порок, а большое свинство. Оказалось, что пришли мы в гости совсем не к Лилькиному кавалеру, а к моему. Но это выяснилось попозже. А пока наши новые знакомые нарезали колбасу и сыр, открывали баклажанную икру, что-то еще сервировали, мы по очереди дрынькали на расстроенном отечественном фоно. Лилька исполняла с чувством единственную вещь, которую знала наизусть «На память Элизе». А мне пришлось отдуваться своим блатным репертуаром, прерываясь на шампанское, которое без устали подливал в мой бокал Юрий.
Как только я поняла, что начинаю косеть, выпорхнула на балкон покурить. Мой галантный ухажер набросил на меня свой пиджак. Не помню, что я там щебетала, но мой кавалер всё время улыбался, старался разглядеть из-за плохого зрения моё лицо поближе, при этом медленно, но уверенно загоняя меня в угол балкона четвёртого этажа. Когда расстояние между нами сократилось полностью, я с ухмылкой, показывая глазками на землю, буркнула что-то вроде того, что высоко падать. Кавалер оказался с зачатками юмора, стал смеяться и чмокнул меня в щёку в районе уха. Отступать он явно не собирался, но, думаю, и большой шум на собственном балконе ему тоже был ни к чему. Тем более, как он полушепотом сообщил мне, под ними живёт подруга его матери.
И тут на балкон вылетает Лилькин ухажёр и кричит на весь квартал, что мы их надули. Аферистки, никакие не студентки, а обыкновенные малолетки школьницы. Вот так номер, чтоб я помер. Юрий снял свои фирменные очки, протер их, вновь нацепил, посмотрел на меня вопросительно. Потом так же молча стянул свой пиджачок с моих прекрасных плеч и, не требуя никаких объяснений, распорядился: так, красавицы, мигом оделись и полный вперёд на выход до восемнадцати лет. Мы не сбежали вниз по лестнице в этой обшарпанной парадной, а скатились по перилам, а эти два хрыча свистели нам вслед с балкона. Да, прокол вышел. Лильку всю трясло, бедняжка долго не могла вымолвить ни слова, и только когда окончательно пришла в себя, стала рассказывать, что, едва мы с Юрой вышли на балкон, как Лилькин кавалер перешёл в наступление по всем статьям. Пересел к ней на диван и стал её заваливать. Тогда она и созналась, что мы школьницы и учимся только в девятом классе.
Хорошо, что ещё порядочные кавалеры попались. А мы, дуры набитые, сами ищем приключения на собственный за д. Только добравшись на свой Фонтан, мы осознали это и начали смеяться, но это был скорее нервный смех.
Эх, Юрочка Воронюк, знал бы он тог да, кого спустил с четвертого этажа! Да, дорогой, свой шанс ты упустил именно в тот день. Что ты только потом не вытворял, когда встретил случайно студентку-первокурсницу Как только меня не обхаживал. А за тем целых десять лет подряд настойчивых уговоров, с клятвами, признаниями. Но это было позже… Иногда, может, это чересчур смело, я сравнивала его с Онегиным, только место действия не Петербург, а Одесса, и столетие иное. А для меня это обозначало открытие новой главы, в которой за близостью окончания школьной жизни шло скорое вступление во взрослую жизнь.
Декретная мopeходка
Не хочу учиться, а хочу жениться! Но я ни того, тем более второго ни под каким видом не хотела. Врачихи с мясоконтрольной станции наперебой восхваляли свою профессию, доказывали мне все её преимущества. Обещали посодействовать при поступлении в сельхозинститут на ветеринарный факультет. Моя мама спала и видела меня в белом хала те. Бабка придерживалась того же мнения. Одна сестрица при моём появлении дома начинала приставлять пальчики к вискам в виде рожков и по-идиотски мычать: му, му. Ещё Алка тявкала, что мой удел «крутить коровам хвосты» и принимать роды у свиноматок хрю-хрю. Как я её за это ненавидела, один бог знает.
А вообще поначалу я сама подумывала, а почему бы и нет. Животных я люблю, с удовольствием лечила бы в клинике собак и кошек. А если куда-то на колхозную ферму пошлют работать или в сибирский зверосовхоз? Э, нет, это не входит в мои жизненные планы.
Так, сельхоз отпал. Алка права, когда ругает меня, что нужно было как следует учиться музыке, а не филонить, делать вид, что нотную грамоту изучаешь, а на самом деле под пианино книжки читать, разложенные на коленях. Пошла бы сейчас в училище, стала училкой. Чем плохо? Всегда в чистом классе, всё культурненько, словом, не коровам лазить под хвосты. Но куда-то всё равно поступать надо. Но куда? Я ничего не хочу. Теперь даже в театральный не тянет. В Одессе его нет, а кто меня отпустит в другой город? Да и сама не поеду, не могу оставить маму одну на ее мясоконтрольной. Худо-бедно, все-таки помогала, почти ежедневно после школы прибегала.
Вот так лежала бы целыми днями и книжки читала, а больше ничего не хочу. Даже гулять не тянет, надоело. Другие девчонки повыбирали институты, уже твердо знали, куда намылились поступать. Моя Леська помешалась на связи. Только и бредила телевидением. Бегала, всё узнавала – готовилась. Одна я чувствовала себя, как у разбитого корыта. Мозги без конца прокручивали басню «Стрекоза и муравей». Ну, точно, я как та стрекоза, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима стучит…
Гадали, решили по настоянию Алки податься в кредитно-экономический. Куда там, конкурс немногим меньше, чем в МГУ. Поступить на дневное отделение нереально, никаких денег и блата не хватит. Туда и на вечерний не пробиться. Везде одна система. На стационар принимать преимущественно направленцев со стажем работы не менее трёх лет. Им обучение оплачивает предприятие. А так для конкурса сорок человек на одно место, или гони тити-мити. А где их взять?
Этерия Фёдоровна, врач с маминой работы, предложила посодействовать в поступлении в Политехнический институт, где работает её муж. Но не безвозмездно, сумма маму потрясла. Да и инженерия – это не мое. Тогда все та же Этерия Фёдоровна сменила пластинку на уже упомянутый сельхоз, только на экономический факультет. Это было уже другое дело. И факультет подходящий, и никакой мзды не взималось. От меня только требовалось не провалиться на экзаменах и пройти по конкурсу. Впервые в жизни я так налегла на учебники, как ненормальная. Даже к маме не ездила, бабка вместо меня.
Предэкзаменационные дни летели с бешеной скоростью. По математике не осталось в задачниках ни одного примера, который я бы сама не решила. Как ни старалась Алка выискать что-нибудь потяжелее, позаковырестее, я всё равно решала. И химия наконец мне поддалась, главное, оказывается, вызубрить таблицу Менделеева и валентность, а потом всё идёт как по маслу.
Тяжелее было с сочинением. Как права была Серафима, когда высмеивала мои опусы. Откуда брался весь этот словесный понос, я не знаю. У бедной сестрицы рука уставала исправлять мои ошибки, особенно запятые. Как она ни долбила мне, что предложения должны состоять из пяти-шести слов, всё без толку. А уж о путанице русских и украинских слов в моей тупой голове и букв «и» и «ы» – так это вообще отдельная песня. Надежда оставалась на одно единственное сочинение, которое я написала на выпускном экзамене. Его принесла для меня Алкина подружка с работы Лена Довбненко, а написал его специально для меня ее муж, известный на всю Одессу авторитет в литературе и собиратель книг. Оно было уникальным, подходящим к любой вольной теме. Смысл заключался в возможности производить трансформирование текста. То есть переставлять предложения с места на место в зависимости от за данной темы. Я просто выучила его наизусть, со всеми запятыми, тире, двоеточиями и т. д. Оно спасло меня в школе, хотя Серафима и поставила за него четвёрку. Видно, придраться уж совсем не к чему было, да и не очень-то она любила меня за длинный язык. Подруга Лилька тоже им воспользовалась в своей вечерней школе рабочей молодежи. Осталось этому сочинению сослужить ещё одну добрую службу.
К поступлению готовилась не только я – вся семья готовилась основательно. Алка купила мне отрез на юбку из толстого домотканого материала непонятного цвета. Фасон продумала бабка, и модный, и удобный для шпаргалок. Впереди пристрочить два больших накладных кармана размером в лист. Их могли проверить, как пить дать, и если бы там нашли шпоры, выгнали бы в шею, не церемонясь. Однако, по бабкиному замыслу, они должны были выполнять роль ложной приманки, а оставаться пустыми. Настоящие же карманы для шпор находились под самым поясом, по бокам и застёгивались на ряд крючков. Я перед зеркалом тренировалась, как нужно сидеть. Как левой рукой подпереть голову а правой отстегнуть и достать шпору. И наоборот. Бабка контролировала весь процесс, обходя меня, как проверяющий, со всех сторон, и каждый раз каркала: «Олька, все видно, как достаешь, половчее нужно. И вообще, лучше напиши свои формулы на ногах, как в школе, и дело с концом».
Я так и поступила, привела себя в полную боевую готовность и понеслась на письменный экзамен по математике. Когда стали запускать в аудиторию, оказалось, я забыла экзаменационный лист и паспорт дома. У меня был такой вид, что преподавательница, симпатичная блондиночка, спросив мою фамилию, разрешила поехать домой, и, если успею, она допустит меня к экзамену. Господи, как я на тебя молилась! Видно, он, трамвай, услышал и подъехал сразу. Как мое несчастное сердце выдержало, пока он тащился к шестой станции. Я не взбежала, а взлетела на свой этаж и одновременно и звонила, и колотила в дверь. Бабка выскочила вместе с собакой и котом: что случилось? Не отвечая, я схватила свой паспорт с листом внутри, одиноко лежавший на моём письменном столе, и пулей назад. Опять повезло с трамваем, он был подан без задержки, как по волшебству, к тому же совершенно пустой. В это время отдыхающие ещё валяются на пляже, а одесситы давно вкалывают.
Я влетела в аудиторию, как раз когда на досках писали варианты. Все места были заняты, моя спасительница усадила меня на своё. Для этого отодвинула стол от первого ряда, и я очутилась совсем одна напротив проверяющих. Ни о каких шпорах даже речи быть не могло. Руки тряслись, мне казалось, что я ничего не знаю. И только улыбка и рука на моём плече этой доброй феи, которая меня успокоила, несколько раз повторила, что у меня в запасе целых четыре часа, привели меня в чувство. Когда решила первую, совершенно не сложную задачу, она заглянула в мой лист и утвердительно кивнула головой. Остальные примерчики я тоже пощёлкала, как семечки. И теперь, развалившись на стуле, вертела головой и рассматривала окружающих.
Я даже не заметила, как какой-то парень, сидящий сзади в солдатской форме, стырил мой лист. Заорать, что он украл, значило вместе с ним вылететь из аудитории. Попросить новый тоже страшно, ведь моя контролёрша видела, что я уже всё написала. Передо мной лежали только черновики, и слёзы уже застилали глаза. Не помню, как это у меня получилось, но, как только проверяющая ушла в конец аудитории, я развернулась и выхватила свой листок у этого негодяя. Меня всю колотило, лист был измят. Но он хоть был у меня – с печатью наверху.
– Сдавайте свою работу что вы её мнёте, не нервничайте, все хорошо, – вернувшись, проверяющая подошла ко мне вплотную. – Все, вы свободны.
Я вышла из аудитории, как во сне. Так же, в полной прострации, пришла домой. Бабка подумала, что я завалила экзамен или меня не допустили. Говорить не могла. Только после горячего чая всё по секрету выложила. Бабка поцеловала меня в темечко, вздохнула: вся в Соцкого пошла, тому в жизни не везло, да и твоей маме не очень. Тебе есть в кого невезучей быть. Но не сдавайся.
– Не дрейфь, Олька, – бабушка нежно гладила мои волосы, – в армию тебе не идти! На вечерний куда-нибудь поступишь, как другие. Иди лучше ноги мой, я воды нагрела. Смывай свои знания.
По письменной математике я получила четвёрку. Может, все-таки какую-то ошибку сделала или лист мой мятый не понравился, не знаю. На устную математику опять разрисовала ноги. Знакомая уже преподавательница предложила первой тянуть билет и снова усадила перед собой. Ни юбку задрать, чтобы списать нужную формулу ни достать шпоры из карманов. Я быстро стала строчить ответы.
– Вы можете без подготовки отвечать? – вдруг спросила она меня. Потом взглянула на мой экзаменационный, удивлённо подняла брови, но ничего не сказала.
– Не знаю… – еле слышно я пролепетала.
– Смелее, смелее, смелые города берут.
Она так по-дружески кивала головой, что я осмелела. К нам прислушивался ещё пожилой преподаватель, оказывается, профессор. Он тоже задал мне вопрос. Я ответила. Оба они улыбнулись, переглянулись между собой, и профессор поставил мне пятёрку. Потом быстро спросил: а почему вы выбрали этот институт? Я так растерялась, не знала, что ответить. Не сказать же, что ничего больше мне не светит. И непроизвольно ляпнула: он недалеко от моего дома.
Все три члена приёмной комиссии расхохотались, смеялась и я.
Когда вылетела из аудитории, на меня набросились со всех сторон другие абитуриенты: почему смеялись, какой дополнительный вопрос задали. Наперебой спрашивали, будто я какая-то всезнайка, как на это ответить, как на то. Наглый солдат тоже пристроился слушать. Хоть бы извинился за то, что мне на письменном пристроил. Он вообще целый учебник засунул себе под гимнастёрку, перехваченную ремнём. И сошло же гаду, но, видно, правильно скатать не смог, трояк получил. Ждал до последнего, когда члены комиссии устанут и сжалятся над демобилизованным. Потом я узнала, что такие, как он, хитрожопые, специально на экзамены напяливают робу, хотя к армии никакого отношения не имеют. Экзаменаторы, а многие из них прошли войну, и подумать не могут, что их так грубо обманывают, для них форма – святое. У кого поднимется рука бывшему защитнику Отечества поставить пару когда у того есть желание учиться. Вот они этим и пользуются, продумали вариант, в туалете по очереди переодеваются в старую поношенную гимнастерку, еще и значков незаслуженных понавешают: гвардеец, отличник боевой учебы, разрядник. Говнюки бесчестные.
Я была на седьмом небе – у меня пятёрка. Дома порадуются, Алка похвалит, но обязательно скажет, что Леська Никитюк в своём институте связи уже две пятёрки отхватила, днями забегала, рассказывала, что ей попалось на экзамене.
Химию я сдала тоже без проблем. Правда, немного запуталась и получила четвёрку. Оставалось сочинение. Здесь всё зависело от темы, будет свободная – значит, повезло, никаких проблем. Себя настроила писать только односложными предложениями.
Ура! Свободная тема есть и как по заказу вписывалась в моё выученное наизусть сочинение. Даже переставлять местами предложения ни к чему. Слово в слово я накатала его за час. Потом ещё почти столько же перечитывала. Хватит, больше от меня ничего не зависит. Вылетев из института на всех парах, понеслась сказать бабке, что все в порядке, чтобы не волновалась, а потом к маме, сегодня на мясоконтрольной надо будет помыть полы.
Плентухалась в переполненных трамваях, набитых очумевшими на пляжах отдыхающими. И отчего они такие недружелюбные, нервные, орут, как скаженные, ругаются? От давки или пережарились, может, на солнце. Вроде бы беззаботно валялись с раннего утра на море, на работу не надо, как мне. Сейчас пообедают и будут дрыхнуть до вечера. А потом наведут марафет и давай себе шлёндрать в центре со всем своим выводком. Скорее бы первое сентября, учебный год начинается, умотают отсюда. И одесситы, входя в трамвай, будут здороваться с вагоновожатой, а уж с кондукторшами многие пассажиры вообще заводят приятельские отношения. Они разговорчивые. Хочешь подробно про погоду, хочешь про политическую ситуацию в стране – обо всем сообщат, только спроси. Слышали, на гастроли в Одессу приезжает Аркадий Райкин. Или: вчера на Ланжероне хлопчик утонул. Шесть лет пацаненку С кем он был? Так с собственной мамашей. Вот такие теперь мамаши. Я б ту мать за ноги саму так и разорвала. Куда смотрела? Мужичка, наверное, себе приглядела?
Я балдею, где еще такое услышишь! Ездила в каникулы в Ленинград и Москву, там все намного строже, в трамваях или метро все какие-то замкнутые, унылые, в себя погружены, редко улыбаются.
«Ну, куда ты лезешь? Мужчина, вы куда смотрите? Сейчас дитё без головы останется, а он лыбится. От там написано, вам шо повылазило: Не высовываться! Ты мне ещё покрутишь у головы! Умный нашёлся. Видали мы таких. От как у таких умных голову снесёт, так будет искать виноватых».
Всё, патефон включился. Теперь эту музыку придётся слушать до самого Куликова поля. А я жду завтрашнего дня. Что день грядущий мне готовит? Только не эту арию. Завтра вывесят оценки за сочинение. Интересно, сколько получу. Даже если влепят трояк, пройду Но, если так уверена, тогда почему волнуюсь. Несправедливость какая-то получается. С привилегиями другой проходной бал, им лишь бы сдать, неважно, какая отметка, и они уже поступили.
Еду в институт, поджилки так и дрожат, мало ли чего? Вот и толпа до самой лестницы: кто-то плачет, кто-то радуется. Я с трудом протискиваюсь к стенду, ищу глазами свою группу. Вроде знакомый номер, но фамилии моей нет. Кто-то советует посмотреть в дополнительном списке. Все поступающие сочинение писали одновременно, поэтому путаница. Опять в который раз пробегаю уже все списки подряд, все факультеты – нигде нет. Всё, катастрофа, даже в такой сраный институт и то не поступила. Для нас проходной бал всего 13 баллов. У меня по трём экзаменам 13, а по сочинению, значит, пара. Кто-то дёргает меня, поздравляет. С чем? Ничего не вижу, реву. Пешком иду вдоль забора Зелентреста, который тянется до самой Среднефонтанской.
Как я могла сочинение написать на двойку? Что на меня нашло? Я ведь раз десять минимум его проверила. К чему они придрались, или я совсем полная идиотка? Что я иду домой, возвращайся, пусть они покажут мне моё сочинение. Если такие полуграмотные дебилы прошли, то что я могла отчудить такого?
Я потребую, пусть мне под нос сунут, всё равно провалилась, что я теряю?
А может, они затеряли? Тогда я при них здесь же новое настрочу Мне на всё плевать. Не знаю, с каким цветом лица я влетела в комнату приёмной комиссии.
Потом мои однокурсники говорили, что я так орала, что, наверное, слышно было за несколько километров от института.
– Меня нет в списках, почему? Какая-то тётка резко отчеканила:
– Значит, вы не написали сочинение, значит, у вас двойка. Как ваша фамилия? – Она быстро пересмотрела все списки: – Да у вас неудовлетворительно. Лучше подготовьтесь и поступите в следующем году.
– Что? Лучше? Покажите мне моё сочинение! Я хочу убедиться.
– Не собираюсь ничего показывать и отчитываться перед тобой не стану. И нечего здесь истерики устраивать, мы работаем.
– Я никуда отсюда не уйду пока вы не покажете мне моё сочинение.
– Девушка, ещё раз вам объясняю, ваши документы вам вернут сегодня же, они у председателя приёмной комиссии.
Я вышла, весь мой запал пропал. Вся зарёванная поплелась в указанный кабинет. У дверей собрались такие же обречённые, как и я. Когда подошла моя очередь, я опять закипела: я требую, чтобы мне предъявили моё сочинение. Не верю, что якобы написала его на двойку.
– Да кто вы такая, дорогуша, чтобы здесь что-нибудь требовать. Как ваша фамилия?
Я тихо произнесла. Председатель комиссии долго перебирал стопку документов: а вот и наша красавица. Да, математика и химия чудненько. Вот сочинение завалили.
– Прошу вас, нет, требую, чтобы мне его показали.
– Вы не поняли, что я сказал: требовать будете, дорогуша, у своих родителей.
– Я сейчас отсюда поеду в милицию и прокуратуру, надеюсь, им вы покажете.
– Застращала, сейчас тебе покажут твоё творение, – он стал лихорадочно крутить диск телефона. Там было постоянно занято. – Пошли, в прокуратуру она пойдёт, правдолюбка нашлась, вылетишь отсюда вон.
Он впереди, я за ним по лестнице летим на первый этаж:
– Эта красавица требует предъявить ей её шедевр. Как вам это нравится? Светлана Георгиевна, не надо нам лишних разговоров. Покажите, а то будет кляузы писать и чернить наш институт. Девочки, где двойки?
– Вот здесь, мы уже связали их, в архив отправим. Как её фамилия?
Стопка двоечных сочинений уменьшалась, однако моего там не было.
– Девочки, у меня уже от этих сочинений в глазах рябит, пропустила, наверное, поищем снова.
Моего злосчастного сочинения опять не нашли.
– Может, в списках её пропустили? – лицо председателя комиссии начало буреть.
Перебрали все троечные работы, они составляли основную массу, однако и там не оказалось. И в «пятерках» и «четверках» тот же результат. «А вдруг оно в отложенных», – подсказала одна из помощниц Светланы Георгиевны. Порывшись, она вытащила мое сочинение, оно, родненькое, лежало третьим или четвертым во внушительной стопке. Как я вырвала его из ее рук – не знаю, оно оказалось вообще без оценки, непроверенным. Эти сволочи отложили несколько сочинений, вероятно, неугодных абитуриентов, прикрыв их двоечными.
Как залепетала эта тётка: столько работы, все время отвлекают, возможно, автоматически это сочинение сюда попало. Выходите, я сейчас проверю, и вы получите свою заслуженную оценку. О, я вспомнила это сочинение, оно явно списано, поэтому я его и отложила. Да, да, оно списано. Вы не могли так сами написать.
Ну, всё! Больше я себя не контролировала. Я орала, чтобы мне дали чистые листки, и я здесь же напишу это сочинение. Она сунута мне в руку бумагу: пиши!
Даже не присев, я вывела первые предложения.
– Достаточно! – она недоумённо посмотрела на председателя комиссии. Он, не глядя мне в глаза, произнёс: – Видите, бывают и у нас ошибки. Разобрались, вы зачислены.
Уже выходя из комнаты, я услышала от Светланы Георгиевны в свой адрес почти комплемент: что эта девчонка забыла в нашем институте? Сами же приказали отсеять одесситов, а теперь, выходит, я одна виновата. В голове звучали Алкины любимые поговорочки: факир был пьян, и фокус не удался, жизнь – борьба, в борьбе счастье. Сначала нужно бабушку обрадовать, потом к маме поехать.
Бабка была вне себя от счастья и напекла, и наготовила.
– Спасибо Этери, дай бог ей здоровья.
– Угу, – я ела вкуснючее жаркое и запивала компотом.
– Беги, маму обрадуй! – она чмокнула меня в черепушку. – Рада?
– Очень.
– Очень… Сколько людей мечтают поступить, а ты что-то без энтузиазма говоришь.
– Баб, да не мое это, не хочу учиться в этом институте, и, пожалуйста, никому не говори, куда я поступила. Хорошо? На следующий год в другой буду поступать или переведусь.
– Ненормальная, вся в своего батьку. Тот всю жизнь метался. Матери не вздумай нервы портить. Люди ей помогали, а она теперь нос кверху задрала.
Я чувствовала, что могу сорваться в любую минуту. Всё во мне клокотало. С каменным лицом открыла дверь на мясоконтрольную. Завидев меня, все, кто был, на губах заиграл в мою честь туш. Кто-то из женщин воскликнул: она ещё не до конца понимает, какое это счастье поступить в институт. Мама, глядя на меня в упор, побледнела: что случилось?
– Всё нормально, мамочка, о'кей, я студентка. Бабуля знает, Алке позвонила.
– Анечка, я же говорила, все будет в порядке, даже думать не о чем, – Этерия Фёдоровна обняла маму. – Давайте лучше отметим. А ну, студентка, беги за шампанским, с тебя причитается.
– Оля, бежать никуда не надо, всё заготовлено.
Все дружно в кабинете заведующей накрыли стол, немного выпили красного вина, закусили домашним сыром, сальцем и кровяной колбасой.
Настроения, однако, у меня не прибавилось. Провожая, мама еще раз переспросила, все ли в порядке, мое лицо с выражением застывшего огорчения ей явно не нравилось.
– Да не волнуйся, я просто очень устала. Галка Рогачка едет в деревню к бабке на недельку. Недалеко, в Беляевку, там, она говорит, красавица речка Турунчук. Ты меня отпустишь?
– Ой, Оля, не надо на речку, опасно, там такое быстрое течение. Это там, где Днестр?
– Ну, мамочка, пожалуйста, я же плавать умею.
Так случилась в моей жизни первая встреча с дивной речкой Турунчук, которая меня просто очаровала, и я полюбила её на всю жизнь.
Ранним утром первого сентября я села в 18-й трамвай и впервые проехала мимо своей школы. Там уже собирались ученики и их родители, идут со всех сторон, все нарядные, с букетами. Как я мечтала скорее эту школу закончить, а сейчас защемило, больше никогда туда ходить не надо. Грустная, вышла на остановке, которая называлась «Переулок Александра Матросова», это в самом начале Большого Фонтана. На всём нашем потоке оказалось только трое одесситов, двое мальчишек Заг и Финкель и я. Все остальные – приезжие, они жили в общежитии и уже все между собой подружились. Лишь наша троица держалась особняком. Недолго думая, мы пошла во двор покурить, порассказывали друг другу, кто где живет, какую школу заканчивали, в общем, первое поверхностное знакомство.
В большой аудитории еле все разместились. Узнали, что декан нашего факультета будет читать нам политическую экономию. Потом подтянулись и другие преподаватели, в том числе и моя любимица математичка с профессором. Она даже мне улыбнулась, и я видела, как она всё время на меня посматривает. Самыми последними зашли преподаватели с кафедры физкультуры. Вот здесь я чуть не залезла под стол. Среди них был мой мучитель, бывший тренер по волейболу в 7-й спортшколе Бергер Михаил Иосифович. Только бы меня не узнал, я почти мордой уткнулась в стол, закрыв лицо руками.
Сначала они поинтересовались, у кого из ребят уже есть спортивные разряды, предложили записываться в секции и продолжать заниматься. Те, кто это уже сделал, освобождается от посещения физкультуры. И вдруг я услышала, как Бергер произнёс мою фамилию: а кто здесь Приходченко Оля? Мальчишки с двух сторон стали меня расталкивать. Пришлось подняться. Бергер хлопнул в ладоши: какими судьбами ты здесь, моя дорогая и любимая? Весь поток развернулся в мою сторону Выпучив свои и без того глаза навыкате, он улыбнулся: ну, вот, от меня никуда не скроешься.
Тут как раз прозвенел первый в моей студенческой жизни звонок, и Михаил Иосифович, поманив меня указательным пальчиком, ехидно улыбнулся:
– Так как ты здесь очутилась, дитя моё, что тебя сюда занесло? Только не говори, что из-за любви к сельскому хозяйству.
– А если даже так?
– Ольга, не выпендривайся! Чего ко мне не обратилась? В любой институт в Одессе устроил бы. Спортсмены всюду нужны, честь вуза защищать. Списки ректору подаём – и нет проблем. Как ты сюда прорвалась?
– К вашему сведению, не с чёрного вх ода, сама всё сдавала. Правда, пытались отшить, одесситов в этом сельхозе не балуют, но не получилось.
– Хочешь перейти? Куда ты хочешь?
– Никуда я не хочу Удобно, близко от моего дома, далеко тащиться не надо, а экономика всюду одинакова.
– Ну, если только рядом с домом… Важная причина. Знаешь, включу я тебя в список и освобожу от колхоза. Что тебе там делать? Дорогу в зал на Ласточкина не забыла? Все, жду тебя завтра на тренировке. За «Буревестник» будешь играть.
– Нет, Михаил Иосифович, я со всеми на уборочную. Некрасиво как-то получится, если не поеду. А на секцию обязательно ходить буду.
– Ладно, езжай, только руки береги и колени. Тогда до встречи через месяц.
На следующее утро из ворот нашего института дружно в рядок выехали грузовики со студентами. Мы, пока ехали по городу во всю глотку горланили песни. Маршрут был недолгим, нас ждал учхоз имени Трофимова. Выгрузились у двухэтажного здания общежития, потом долго ждали коменданта. Наконец она объявилась и открыла давно непроветриваемое помещение. На первом этаже, там, где размещались туалеты и душевые, все двери были заколочены досками. И на втором то же самое. Пришлось бегать на улицу, где в метрах двадцати стоял деревянный домик с яркими буквами «Ж» и «М». Ещё днём можно было изловчиться и не вляпаться в остатки человеческой жизнедеятельности, а попросту в говно. Но вот если приспичит вечером или ночью… Ни одной лампочки Ильича, даже патроны и выключатели для них не были предусмотрены.
За общежитием даже трава уже не росла. Комнаты располагались по обе стороны коридора, нам, четырём девчонкам, понятно, повезло, наше окно выходило как раз на это архитектурное сооружение, именуемое, опять же попросту нужником. Уж триста лет прошло со времени нашествия Мамая, но только не здесь, в этом сарае. Всё, буквально всё, начиная от пола до потолка, от окна до дверей, всё было выбито, поломано, измазано. На железных кроватях, наверное, спали ещё герои гражданской войны. Нам вручили истерзанные, вонючие и какие-то влажные матрацы с такими же одеялами и подушками с порванными наперниками. Белья нет, ещё не получено из прачечной. Пока без него обойдетесь. Еще получите по лампочке, 40 свечей, надо экономить, ввернете – да здравствует свет в комнате; тусклый, читать вечерами нельзя, ну и нечего глаза портить. Чай, не читать приехали, а работать, поднимать наше сельское хозяйство. В общем, мы этому коменданту были полностью до лампочки.
Кое-как мы более-менее навели порядок и отправились в столовую.
По широкой дороге, обсаженной гиганскими тополями, двинулись с сторону центральной усадьбы. Там был магазин потребкооперации и наша замечательная столовая. Солнце нещадно пекло, перламутровые листочки тополей играли и переливались на солнце и удивительно шелестели, как будто бы переговаривались между собой. Мы уже забыли о неприятном впечатлении от общаги, начали хохмить, девчата затянули удивительную украинскую песню. Я, не зная слов, им подпевала. Обед был еще тот, не разгуляешься. Назвать первое блюдо борщом – как только у этих коров-поварих необъятных размеров язык поворачивается. Многие только притронулись и отставили тарелки в сторону. Правда, мальчишки всё съели, особенно бывшие солдаты. На второе жирные тетки сготовили жаркое. Большие куски картошки плавали в черноватом томатном соусе с ломтями старого сала. Все это мы запили компотом из сухофруктов, хоть бы виноградом или яблочком угостили, Одесса же, сентябрь месяц.
Машины, которыми приехали, подкинули нас к громадному кукурузному полю, оно обрамлено было, словно помещено в рамку, с четырёх сторон высаженными деревьями. Нам вручили по мешку, выставили в ряды, и мы пошли ломать початки. Ребята наполненную тару относили и высыпали в прицеп к трактору. Так мы работали до самого вечера. Пешком, уставшие, еле доползли к столовке. Все то же жаркое с кашей из шрапнели не очень-то насытили студенческие желудки. Прикупить бы что-нибудь, да все уже закрыто. Чай наливали из борщевой кастрюли половником. Не знаю, из чего была заварка, но только не из чайных листьев.
В свою чудненькую общагу возвращались пешком и уже без песен, приседая по очереди между топольками. Мальчики направо, девочки налево. Не в загаженный же сральник тот идти. Завтра надо заставить почистить его.
Уснули все мгновенно, едва рухнули на кровать и дотронулись до подушки. Не почувствовали даже, как железные прутья впиваются в спину. Комары чудовищно выли всю ночь, а утром присоединились к ним кусачие мухи. Злые, мы опять потопали между топольками в сторону центральной конторы, прихватив с собой туалетные принадлежности. Снова мальчики туда, а девочки сюда. Удобрений в память о себе за этот месяц оставили предостаточно. Перед столовой умылись и почистили зубы. На завтрак нас ждала манная каша, кусочек сливочного масла, хлеб и какао. Под какао местные поварихи подразумевали воду, слабо окрашенную в кофейный цвет и разбавленную молоком. До поля, как и накануне вечером, добирались пешкодралом, медленно тянулись гуськом. А куда спешить: работа не Алитет, в горы не уйдет. Читали эту книгу?
Так и потянулись наши трудовые будни, сквозь которые одна мысль доминировала над остальными: успеть отовариться в маленьком магазинчике рядом со столовой, прежде всего прикупить «Червоне мицне» и рыбные консервы. Это вино по 52 копейки за бутылку опустошалось прямо из горла, оно заменяло нам воду. На вторую неделю наши желудки стали протестовать. Одна из девчонок совсем расклеилась, боли не проходили. В местной аптеке ни фталазола, ни других лекарств не было, кончились еще до нашего приезда, и я отпросилась у нашей преподавательницы сгонять за ними в Одессу, заодно и заскочу домой, переоденусь.
Пораньше рванула в столовку за едой для больной студентки. Поварихи налили в банки какого-то супа, и я понеслась в общагу. Но моя подопечная совсем раскапризничалась: ни за что не буду есть эту бурду, еще хуже станет, это же отрава какая-то. Не долго думая, я переставила банки в свою сумку и рванула на автобусную остановку. Уже тогда решила, что отвезу-ка я этот «аппетитный» супчик на первую станцию Большого Фонтана в ветеринарную лабораторию, я туда часто приносила из маминой мясоконтрольной свинину или говядину на проверку. Танюшка, лаборантка, очень внимательная и услужливая девушка, никогда не капризничала, если нужно, оставалась и после рабочего дня, только вздыхала: ладно, давай, что с тобой делать, не травить же людей.
Вот и сейчас я подумала: пусть на анализ возьмут это произведение кулинарного искусства, пробу сделают. Только бы успеть до закрытия. Мой видок потряс Танечку. Я всё ей подробно доложила, как у нас крутят желудки, вызывая рвоту а у некоторых ребят еще и температура поднялась. Договорились, как будет готово, Татьяна сообщит результат моей маме.
Как обрадовалась бабушка! Всё с меня сняла и сразу вываривать, потом вывесила мои вещи сушиться на балконе. А я полезла в ванную и уж наплескалась от души. Только вышла, звонок в дверь, пришла Лилька Гуревич. Я, лёжа на Алкиной тахте, расписывала ей все прелести колхозной студенческой жизни. Как мы ходим ночами на баштан и тырим арбузы, и виноградникам от нас достается. Какие у нас в группе замечательные пацаны, нет, это не одесские мальчишки – всезнайки и циники. Простые деревенские пареньки. Точно, Лилька, такие, как у Харитонова Иван Бровкин. С такими ребятами меня никогда ещё не сталкивала жизнь. Перед ними не надо играть комедии, что-то из себя воображать.
Не знаю, каким чувством, шестым или двадцатым, но я почувствовала, что они смущаются меня, хотя по возрасту я как минимум года на три младше, а то и вовсе теряются, особенно самый старший из них, Афанасий. Вот уж имя поимел, хоть стой хоть падай. Ему все в рифму: Афанасий восемь на семь, а он стесняется ответить. Лилька внимательно слушала. И вдруг, не пойму с какого бодуна, я предложила ей поехать со мной в этот учхоз на один день. Познает счастье колхозной жизни, а вечером посадим в автобус и отправим назад.
Только одна подруга отчалила (пошла советоваться с мамой), как заявилась другая, Рогачка. Бабка, открывая ей дверь, подивилась:
– Вы что, её по запаху вычисляете?
Галка, скорчив рожицу, пальчиком указала на балкон:
– Так вы сами же, Пелагея Борисовна, весь Олькин гардероб вывесили. Привет славным советским колхозникам, труженикам полей! – радостно воскликнула Рогачка, будто с трибуны на демонстрации. – Фу, подруга, что-то говнецом попахивает или конским навозом. Вы что, в конюшне ночуете?
– Да ладно, все выветрилось. А ты права: у нас не общага, а свинарник вонючий. Галка, у тебя сигареты с собой, выйдем на балкон, покурим.
Мы присели на приступок, и две тоненькие струйки дыма потянулись вверх к небесам. Голова закружилась, давно не затягивалась, отвыкла. Рогачка приболтала съездить в центр, немного прошвырнуться. Как ни возражала бабка, даже прикрикнула на меня, что редко с ней случается, мы уже через час прогуливались по Приморскому бульвару.
Как хорошо! Никаких забот, никаких хлопот. Я в лицах рассказываю о своих учхозовских приключениях. Здороваемся со знакомыми ребятами, то с одними посидели, то с другими. Насмеялись, накурились, даже немного выпили, самого легкого коктейля. Галка тянет еще на Греческую площадь, а сил никаких нет. Все, завтра буду дрыхнуть целый день. Так оно, возможно, и было бы, но я сболтнула, да еще в красках, что творится в этом учхозе, чем нас кормят. Мама моя пришла в ужас и наказала, как проснусь, сразу телемпаться к ней на Новый рынок, где уже стояли заготовленные с рассвета сумочки. Как только я с ними вернулась домой, бабка тут же взяла меня в оборот в полном смысле этого слова, она заставила крутить мясо через мясорубку и отбивать битки. «Сейчас нажарю котлет, с собой все возьмешь, на неделю хватит, потом, может, еще вырвешься», – объявила она мне, взбивая и колдуя над фаршем.
Лилькина мама разрешила ей на денек смотаться со мной в колхоз. Мы уехали первым рейсом. Овидиопольское шоссе было еще пустым, и водитель отводил душу, играя со скоростью. На первом сиденье маячила знакомая головка нашей преподавательницы, видимо, тоже на воскресенье смылась из колхоза. Утро было замечательным. Легкий ветерок задувал в верхнюю приоткрытую форточку, лаская лицо. Лилька отчего-то перевозбудилась, стала заикаться, порой не могла даже говорить. У неё это бывало, когда нервничала. Но на подъезде к учхозу успокоилась. Битком набитые сумки мы еле дотащили от остановки.
У девчонок боли в желудке так и не прошли, еще и один мальчик из другой группы мучился животом, вообще практически бредил. Вот дураки, что же не вызвали «скорую», с этим шутить нельзя. Я напоила их всех бабкиным отваром, у бабки был свой рецепт на этот случай, настой каких-то трав, специально покупала их на рынке и держала отдельно от других лекарств.
Ребят уже не было, наверное, в столовой. Но и там их не оказалось. Мы с Лилькой, не спеша, потопали следом. Я как бывалая рассказывала подруге, что к чему. Когда идёшь вместе со всеми, как-то не замечаешь расстояния, да и головой не крутишь по сторонам, всегда найдется человек, который знает дорогу. А сейчас у первой же развилки я не могла вспомнить, куда нужно повернуть. Озирались по сторонам и не заметили, как прямо на нас выскочил парень на лошади. Как мы заорали! Лилька даже перестала заикаться. Он промчался вперёд, но потом развернулся и медленно к нам приблизился. Я узнала его. Это был аспирант с винодельческого факультета, он уже угощал меня виноградом, название этого сорта – «дамский пальчик» полностью соответствовало вкусу плода.
– Девчонки, есть деловое предложение, работа не пыльная, срезать с одного куста все гроздья винограда, описывать их, взвешивать и проверять на сахаристость. А самое главное просчитывать количество виноградинок на каждой веточке: сколько полностью созревших, сколько недоразвитых, сколько засохших и поражённых какими-то личинками. Нужны две помощницы. Пойдете?
Он еще долго что-то объяснял, цепко впившись в нас глазами, уговаривал, работа очень увлекательная, исследовательская, но мы отказались: вот заплутали в этих кукурузных дебрях, а нас давно ждут, ищут уже, наверное. Мне было интересно быть со всеми, хотелось поближе познакомиться с ребятами из нашей группы, вполне современными девушками и парнями, которые знают много такого, чего мне, горожанке, совершенно не известно. Они знают жизнь, особенно кто прошел уже армию. Я поняла, они нарочно старались при поступлении в институт корчить из себя простачков, впервые увидевших трамвай.
Всадник спешился, привязал лошадь к дереву: давайте за мной, а то совсем заблудитесь. Мы с Лилькой заиграли накрашенными под Шехерезаду глазками и двинули следом за аспирантом-азербайджанцем, который повел нас к нашему полю напрямик, вечером приглашая на шашлык. Хорошо, а не потащить ли к нему на его виноградник всю нашу группу? Подлянка, конечно. Но нас ждали приключения покруче.
Афанасия, нашего самого взрослого парня, члена партии, избрали нашим старостой, по всей вероятности, ещё до поступления в институт. В деканате, очевидно, так решили. Нам же только оставалось дружно первого сентября за него проголосовать. Надо мной, похоже, он лично взял шефство, показывал, как ломать початки правильно, сам их ломал и сам относил. Пока я выкорчую один, у него уже их полмешка. Как здесь не спеть:
А я сыджу в кукурудзи, а я всэ сыджу, Бурлыть шось у пузи, а я всэ сыджу.А мы действительно сидели в той кукурузе, уже не стесняясь. Не до стеснений, если прихватывало. Бедные наши животики…
Какие все-таки мы были еще дети, вчерашние школьницы. Бесились, прыгая между рядами, приставив самые здоровенные початки к тому месту, что пониже пупка. Что было в этом смешного по большому счёту? Но вид ярко-жёлтого налитого кукурузного початка со свисающими нитями курчавых шёлковых вьющихся волокон заставлял хохотать буквально до упаду. Особенно всем девчонкам доставляло удовольствие идти строем за Афанасием с незабвенным атрибутом впереди. А может, сегодня у всех было особенно приподнятое настроение, поскольку я объявила о лакомствах, которые ждут нас вечером в общаге? Дорожку, где добыть хорошее вино, а также самогон недорого, наши мальчики уже протоптали.
Мою Лильку приняли очень хорошо, сошлась с коллективом, уговаривали остаться, это необъятное поле наконец кончилось, его обчистили до основания, уже даже комбайн наступал на пятки, перемалывая высохшие трёхметровые стебли на силос, но еще полно других полей, неубранных. Да и что в городе сейчас делать, жарковато и пыльно, купаться, конечно, еще можно, но вода все-таки не такая, как в июле или августе, а здесь воздух, природа.
Уставшие, мокрые от пота, подтрунивая друг над другом, с шутками-прибаутками мы плелись назад. Трудовой энтузиазм нагнал хороший аппетит. Но столовая была закрыта. Издали увидели тучу студентов, толпящихся у дверей. Меня как током пронзило. Наверняка дело моих рук, а может, и нет. В толпе пошли разговоры, кто-то сильно потравился, даже на «скорой» увезли, вот и прибыла срочно комиссия. И начальства разного столько понаехало. Берут пробы, шум, гам, крики, магазинчик тоже прикрыли, и в общежитии шмон. Грязнуль поварих повезут на медицинское обследование, вон их всех собрали около уазика, допрыгались наши кормилицы.
Я только увидела, как лицо нашего Афанасия покрылось пятнами, и он перемигнулся со своими товарищами по комнате Веселовским и Яковенко.
Те быстро рванули к общаге, наша дружная группа за ними. Тем более что ждать у столовки было нечего, её всю опечатали. Возле входа стояли беленькая и чёрненькая «Волги», а также замызганный «Москвич», который привозил обычно и увозил нашего коменданта. Мы разошлись по своим комнатам.
– Девчонки, у нас под кроватями пустые бутылки из-под вина! Сейчас сюда нагрянет комиссия и нам влетит по первое число, – закричала я. – За окно их.
Бутылки полетели вниз и, пронзительно звякая, разбивались на мелкие кусочки. Но не одни мы были такие умные, из других окон тоже летели винно-водочные снаряды, больше из комнат мальчишек, мы легко это определили по снайперской точности, скорости и дальности приземления. Когда с бутылками, а заодно и с пустыми консервными банками было покончено, я достала сумку мы с Лилькой быстро все ее содержимое разложили на столе. Комната наполнилась таким знакомым и родным мне запах ом бабкиных котлет. «Не стесняйтесь, девчонки, угощайтесь, биточки очень вкусные».
Мы хорошо подкрепились и теперь развалились на кроватях, ожидая гостей. Лилька прилегла рядом со мной. Когда в нашу дверь постучали, хором закричали: открыто! Первой показалась головка нашей преподавательницы, с которой мы вместе ехали в автобусе. Поскольку мы сидели сзади, а она впереди, вряд ли она нас с Лилькой вообще заметила. За ней потянулись остальные. Обозрели помещение, спросили, есть ли среди нас больные, и удалились. Девчонки молодцы, не растерялись, закричали им вслед: а постельное бельё когда будет, скот и тот лучше содержат, чем нас здесь.
– Да тише вы, всё получите, – обернулась наша красотка, – не подводите хоть вы нас.
Комиссия улизнула на своих «Волгах», а через несколько часов появилась вся взъерошенная комендантша и привезла постельное бельё. Оно точно было ровесницей моей бабушки, так вдобавок ещё какое-то сырое, рваное и от него сильно несло хлоркой. Стелить его было противно.
Мы-то своей комнатой утолили голод, бабуля, спасибо от внучки-колхозницы. Но ребятам каково! Несколько раз гонцы бегали к столовой узнать, собираются ли нашу группу сегодня кормить. Никто и не думал. И пошли они ветром гонимые по посёлочку заглядывая за калиточки зажиточных сельских жителей, пытаясь к хлебу насущному прикупить чего-нибудь покрепче. Насущного ни у кого не было, а вот второго, самогончика, даже в долг дали.
Бесились мы по полной программе весь вечер. Даже импровизированные танцы устроили. Моя Лилька была счастлива, она пользовалась таким успех ом у ребят, как никогда в жизни. Утром напялили на себя резиновые сапоги и двинули, как коровы на водопой, к нашей кормушке-столовой. Ее было не узнать, она сверкала чистотой. Уже другие тётки в белоснежных халатах выставляли на стойку манную кашу в глубоких тарелках с куском сливочного масла, и на выбор был чай с запахом чая и почти кофе. Хлеба бери сколько хочешь, правда, только какой-то серый, но свежий. Набирали его впрок, на всякий случай, вдруг сегодняшняя столовая это только показуха. Не каждый же день наезжает комиссия.
Нам для работы выделили новое поле. Подогнали вереницу грузовиков, на них с песнями по ухабам, без какого-то ни было намёка на дорогу нас привезли на баштан. Это очень странное поле. Вроде кроме сорняков ничего и не растёт. Только какая-то неведомая сила разбросала по необъятным просторам зелёные полосатые мячи разных размеров, от громадных до совсем маленьких. Дядька, то ли агроном, то ли сторож, объяснил, как на до, выстроившись в цепочку, перебрасывать кавуны, шоб, не дай бог, не побились, к краю поля, куда подъедет машина для погрузки. А для начала… Он приподнял один арбузик среднего размера, ловко ударил им о свою коленку, арбузик раскололся на две половинки. Думали, скажет, для начала попробуйте, а он вдруг глухо выдавил из себя: мойте руки. Мы стояли обалдевшие, как мыть? Тю, дядька выхватил серединку, раздавил и протёр мякотью свои грязные загорелые руки.
Афанасию он показал на здоровенный арбуз: от той, тащи! И так же, хлопнув о колено, только теперь о левое, повторил свой маневр. Разбить так не получалось ни у кого из наших. Да что там разбить, мы еле отрывали их от плетей. Хоть бы ножи раздали, но агроном сразу предупредил: ножи вам не положено давать. Хорошо, что наши припасливые парни, прошедшие срочную, захватили с собой перочинные ножички. Они шли впереди, отрезали, бросали нам под ноги, а мы дальше уже кто как. Во всяком случае, через полчаса, когда силенки иссякли, уже никто не бросал и даже не передавал, а еле катали, сидя на земле. С десяток, наверное, а то и больше, по месту назначения к краю поля не были доставлены, а перекочевали в наши рты. Спелые, сочные, ароматные, семечки все вызрели. Когда приспичило, дружно бегали в посадку облегчаться. Столько арбузов в своей жизни больше никогда не ела. Мы чуть не лопнули, но разве против этого сладкого слова «халява» можно устоять?
– Девчата, на обед поедете? – молодец заботливый наш староста, не забывает о своих общественных обязанностях.
Какой там обед, когда организм только и работает на срыгивание и слив.
Поле быстро пустело, только местами оставались островки, напоминавшие помойки из битых кавунов, как бы обагрённых кровью, с вырванными сердцами. На них набрасывались буквально полчища мух, пчёл и муравьев, а сверху уже пикировало отвратное вороньё. Неприятнейшее зрелище, какое-то поле битвы за огрызки.
– Может, нам все это собрать? – я всё же не выдержала и спросила сторожа.
– Та ни, нехай так будэ. Бабы свиньям та кролям все сёгодни вже перетягнуть. А на завтра трактор перепаше и пашня будэ.
Вечером нас кормили на убой макаронами по-флотски и… арбузами. На двоих полагался один. Каждый на дюжину килограммов, наверное, тянул. Те, что не могли осилить, забрали с собой в общагу вечер долгий, сгодятся под легкое столовое винцо.
У ямы в конце нашего общежития, когда возвращались, приметили странную машину. Когда она заработала, всем стало понятно без лишних слов. Лорка, смешливая девчонка родом из Раздельной, узловой станции в часе езды от Одессы, которую она иначе не величала, как город, как заорет: говно качают, говнокачалка приехала, к нам домой тоже такие приезжают.
Сплетни или слухи, что эта техника должна вот-вот нагрянуть, ходили уже не первый день, ползая от студента к студенту, набухая, как дрожжевое тесто – вот-вот оно перевалится через край корыта и растечется всё дальше и дальше. Кто-то, мол, просигналил, да еще так высоко, в санэпидемстанцию, что будут обязательно приняты меры. Но кто? И вот сбылось. Вонь стояла дичайшая, мы все задохнёмся, пока вычистят все эти сральники. Как их двери разом пооткрывали, так хоть беги, хоть падай, а лучше натягивай противогаз, но где его взять? Зато вскоре все заработало, и умывальники тоже.
А на завтра, в выходной, назначен еще субботник по уборке помещений и территории и начнут по очереди красить комнаты. Комендантшу нашу шуранули, еще и дело могут завести за повальное воровство. Копеечные стаканы и те украли, об алюминиевых вилках и ложках и говорить нечего. Целую неделю бушевали ремонтные страсти, от запаха краски мы просыпались в бессознательном состоянии и рады были любому колхозному полю. В общаге появился даже красный уголок со столом, покрытым тёмно-вишнёвой плюшевой скатертью, с портретом Ленина и знаменем победителя соцсоревнования. Афанасий должен был подводить итоги после каждого трудового дня: какая брига да отличилась, какая сзади плетется. Только вот бригад этих не существовало. Но раз на до, значит, надо. Бумага, как говорится, все стерпит, главное, правильно ее составить.
Хуже всего было то, что больше в самоволку никому нельзя было отлучаться. Зато нам поменяли матрасы, подушки и выдали новое чистое бельё. И кормить стали, как на убой, и вкусно, ничего не скажешь. Неужели сработал мой поход в лабораторию? Я молила бога, чтобы никто не узнал об этом. Девчонки между собой шушукались, что это работа какого-то шпиона, тогда побольше бы таких.
Как бы вырваться отсюда в субботу, хоть на один денёк, смоталась бы к Таньке и узнала что к чему.
Однако к Таньке попасть мне было не суждено. В один прекрасный день нас погрузили на машину, на полу которой валялись доски. Ехали стоя, держась за борта. На одном из поворотов придурок шофёр так резко затормозил, что все мы попадали. Моя нога попала как раз между досками, а сверху на неё всей своей тяжестью навалился Афанасий. Пострадала ещё одна девочка. Нас обеих отвезли в Овидиополь на этой же машине, только теперь лёжа в кузове и с нашей руководительницей. Там сделали рентген, у меня, слава богу, обошлось, перелома не было, только ушиб, а у моей подружки по несчастью выскочила пятка. В больнице забинтовали, как раненых на фронте, и отпустили на все четыре стороны. Шофер здорово передрейфил и отвёз нас в Одессу, я попросила, чтобы ко мне домой. Бедная бабка, как завидела двух хромоножек, стала причитать: что за медицина, так опухшую ногу бинтовать? Сейчас сделаю вам компрессы.
Вера, так звали девочку не хотела даже себе домой сообщать, что случилось. Нам выдали больничные на десять дней, они очень быстро пролетели, и мы опять оказались в учхозе им. Трофимова. Только сейчас, как пострадавших, нас отправили не на сбор арбузов, а бросили на виноградники, и, надо же, мы попали в лапы как раз к тому аспиранту. Вера дала ему на вид лет тридцать, мне казалось, что он моложе. Попробуй у бравых джигитов даже приблизительно определить возраст.
Никакая лафа нам не подвалила. Целыми днями под кустами чёрного винограда, набухшего соком, отмахиваясь от нахальных пчёл-трутней и кусачих мух. Работа муторная, нудная, зато в белых халатах, как у лаборанток. Наш начальник наведывался только с целью контроля за производственным процессом, постоянно тыкая нам на наши ошибки. А когда на ниве ухаживания темпераментный кавказец получил от ворот поворот, вообще превратился в надсмотрщика. Куда подевалась его широта души. Ругал он нас, вероятно, крепко, но хитрющий, на своём языке. Мы в ответ только улыбались и мстили ему, мухлюя с показателями, записывали, например, в журнал сахаристость пониже, чем на самом деле. Он ещё больше бесился, ведь это для него важный показатель. Отыгрывался на несчастной кобыле, когда запрыгивал на лошадь, так нещадно лупил ее по крупу, что нам невольно становилось больно.
Всё когда-нибудь кончается, и закончился этот, первый для меня в жизни колхоз. Удивительно, но учёба в институте мне даже очень понравилась. Я сдала все экзамены на пятерки и после первой сессии получала с ещё одной девочкой повышенную стипендию. Сдружилась с ребятами, не только из своей группы. Поскольку на одну меня в библиотеке не давали учебники, а давали их на комнату в общаге, то я почти ежедневно приходила туда, приобщалась к полноценной студенческой жизни. Ребята, как мне показалось, с удовольствием слушали, как я напевала им песенку Юрия Кукина: «Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак». Или: «Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак», вспоминала моего дружка детства Игоря Лучинкина с его незабвенной гитарой. Вот талантливый паренек! И поет замечательно, и прекрасно играет, а как в радиотехнике разбирается! С закрытыми глазами все может собрать и разобрать. Как в армии вслепую в секунды разбирают автомат Калашникова.
Я пыталась вытащить ребят прошвырнуться хотя бы по Приморскому бульвару, но не тут-то было. Сказали, что время даром терять, город уже видели, а вечерами только шлюхи там околачиваются. Ну как знать, кто что хочет, то и находит.
На новогоднем вечере я выплясывала с одним симпатичным парнем с четвертого курса и вскоре почувствовала, что он стал за мной приударять, на каждую мою тренировку в СКА приходил и сидел пялился. А потом и провожать заладился, оказалось, он тоже волейболом увлекается. Девчонки из моей группы предупредили, что у этого Володьки есть девушка третьекурсница, которая поклялась мне «все патлы вырвать и глаза выцарапать». Она с ним уже три года вместе, а здесь я объявилась, такая вся из себя первокурсница, и он её бросил. А ведь гад, уже ездил свататься к ней домой к её родителям. Что делать? Надо рвать подошвы на ходу, как говорит моя бабка. Но как? Когда куда бы в институте я ни пошла, как назло, везде встречаюсь с ним, с его собачьим преданным взглядом, этими горящими влажными глазами и щеками в красных пятнах на смут лом лице. Чтобы этого Дон Жуана отшить, пококетничала после игры (не помню уж с кем играли, кажется, с командой мединститута) с одним болельщиком, тот вызвался меня проводить до дома. Ждал у раздевалки, пока я переоденусь.
Он был, как выяснилось, на пять лет меня старше, одессит, звали его Борис Корепанов. Так я и патлы свои сохранила, и глаза, а главное – поняла, что нечего попусту тому Володьке голову морочить, у него есть девушка, пусть на ней и женится, к родителям не так же просто заявлялся. Ольга, внушала я сама себе, если не нужен человек, сразу отшивай и не давай повода, так честнее и порядочнее. А поговорка, что «на безрыбье и рак рыба», не для меня, в Одессе, правда, ее перефразировали: «на безптичье и жопа соловей». У нас и рыбы разной вдоволь водится, и птичек хватает, успевай только отмахиваться, когда тебе восемнадцать. В жизни только раз столько бывает, как поет Людмила Зыкина. И пусть, посмотрим, что дальше.
Новый кавалер мне всё больше и больше нравился. Личность интересная. Он, не в пример другим, был начитан и эрудирован. С ним можно было, не боясь, обсуждать этот показательный суд над Иосифом Бродским. Влепили несчастному пятилетний срок за тунеядство. За что? Какое тунеядство? Попробуйте хоть две строчки рифмованные сочинить, даже не целое стихотворение, это какой же каторжный труд. Я как-то пробовала, про весну, мою любимую пору, что-то хотела изобразить, корпела, корпела, впустую. Да, славный город Ленинград, колыбель революции…
Как Борис читал философские стихи Бродского, меня захватывало, но вот его теория о взаимоотношениях мужчины с женщиной, что прежде, чем вступать в брак, нужно со всех сторон проверить, насколько подходят особи друг другу и прочая белиберда, меня расстраивала. Никакого желания что-либо проверять я не испытывала. Парень завуалированно навязывался в любовники, но это не входило в мои планы. В последнее наше свидание заметно похолодало, даже снег крупными хлопьями повалил. Борис предложил мне сбегать домой переобуть полуботинки на сапоги, которых у меня в помине не было. Как смогла, соврала, что, если заскочу домой, больше меня не выпустят.
Я очень замёрзла и, конечно, простудилась. На тренировки и в институт не ходила. А когда поправилась и объявилась в зале СКА, ко мне подошёл его друг Виталик и сказал, что Борька тоже заболел и просил его навестить. Вместе и отправились в гости. Боря жил на первом этаже в доме на Пироговке, который построили пленные немцы. Его папа был военным, прошел всю войну, потом они жили в Германии, это сразу было видно по обстановке в комнате. Боря лежал на красивой софе, рядом с которой стоял высокий торшер с освещенным баром. Я, не подумав, ляпнула: Борька, ты как на картине «У постели умирающего Некрасова». Борина мама не оставляла нас ни на минуту, выпытывала у меня всю мою подноготную. К то, что, когда? Отпив чая с домашним печеньем в обществе благородного семейства, я поехала домой.
Через неделю Боря занял своё привычное место на трибуне, и опять начались провожания с прибалтыванием по всем статьям, снова эта приевшаяся теория взаимоотношений полов. Разоткровенничался, почему его родители очутились в Одессе. Все из-за него, его любовных связей с молоденькой учительницей немкой. Она, как кошка, влюбилась в Борьку, собственного ученика, даже вены себе попыталась порезать. Он признался, что хочет опять испытывать только такие чувства – настоящие, а не по печати в паспорте. Что он только не плёл, как ему после той любви жить не хотелось. А сейчас всё, видите ли, изменилось, он встретил меня. Я маме его пришлась по душе, когда ушла, она не могла успокоиться, такая чистенькая светлая девочка и еще играет на фоно.
– Я слово ей дал, что тебя не обижу. Знаешь, завтра у Виталика день рождения, пойдём к нему, – предложил Борис.
Отец Виталика был секретарём какого-то райкома, я так и не поняла какого. Компания собралась небольшая, всего несколько пар, никого из взрослых дома не было. После небольшого фуршета все разбрелись по комнатам и началось… Угомонить своего кавалера словами я не могла, пошли в ход руки и приличная мужская сила. Мы по-настоящему с ним дрались. На шум появился именинник, который попросил своего друга расслабиться и найти что-нибудь более подходящее, ему не нужны такие сложности. Я воспользовалась моментом и рванула к дверям. Борька, нагло улыбаясь, загородил мне дорогу:
– Ну так что, расстаёмся? Плакать не будешь? Я же знаю, что тебе нравлюсь.
Я оттолкнула его, сбежала по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек, и пулей вылетела из парадной.
И почему эти двуногие безрогие такого высокого о себе мнения? Сначала выпендриваются, как Юрка Воронюк, и думают, все растают перед ними, а потом сами втюриваются по полной. Юрка теперь унижается, до чего противно, взрослый же мужик, почти на двенадцать лет старше, уже и сестру мою довел до белого каления своими стенаниями. Влюбился. Бабка посмеивается и называет его не иначе, как «твой Евгений Онегин пожаловали». Сам же нас когда-то шуранул с Лилькой, молокососками называл, вслед ещё свистел, а теперь что, припекло. Всё вспоминает, как я маленькой была, вещи их в Лузановке на пляже сторожила. В волейбол с ними играла, в основном бегала за мячом. Как с нами, школьницами, познакомился ради забавы на Приморском. Как мы врали, что взрослые уже, но всё раскрылось, и они благородно нас, от греха подальше спровадили. Свяжешься с малолетками – потом себе дороже.
Что же теперь бегать? А, подросла, совсем другое дело. Да и тогда на то свидание я только ради Лильки пошла. Ей он понравился, так что полный вперёд, Воронюк, Лилька ждет. Я, конечно, хоть и тайно, но влюбляюсь. Только в артистов, а они далеко от меня, как на другой планете. Всё свободное время, и даже лекционное иногда, провожу в кинотеатрах. А зачем тратить его на пустые и никому не нужные свидания? Глупо. Что касается волейбола, то тут вообще наметился прогресс. Уже то, что тренировались мы в СКА, говорило о многом. Это был определенный уровень. За нашими занятиями, несмотря на поздний час, наблюдали молодые солдатики, которым подфартило служить, во-первых, в Одессе, а во-вторых, при армейском клубе, известном на всю страну. Кроме того, собиралась и гражданская публика, часто приходили посмотреть ребята из нашей институтской волейбольной команды. Их тренировка была после нашей, совсем поздно, но все они были из нашей общаги, которая располагалась рядышком через дорогу.
Еще здесь готовилась к разным турнирам команда нашего одесского «Буревестника». Бергер требовал, чтобы мы обязательно присутствовали в это время в зале, и не просто сидели, а запоминали, записывали, что и как они делают. Там, конечно, было на что посмотреть, все-таки уже мастера спорта. Иногда нам предлагали сыграть с ними. Принявшая слегка на грудь компания известных одесских тренеров веселилась от происходившего на площадке. Не стесняясь, они в открытую спорили между собой, за сколько времени нас разобьют в пух и прах, а самое главное, с каким счётом. Маленького росточка Ритка Могилевская, по прозвищу ещё с седьмой спортшколы Могила, была у нас пасующей, как она орала, это на до было слышать. Мы с ней отрабатывали финт: Ритка стояла спиной ко мне и пасовала через голову назад, громко крича: Нитка! В Одессе все всегда получали клички, меня в команде прозвали Ниточкой, или проще и чаще – Ниткой, так и закрепилось. Я с четвертого «номера» лупила левой со всей силой, что была в руке, и все хлопали. К сожалению, опытные гренадёрши из «Буревестника» довольно быстро нашу комбинацию раскусили и накрывали меня блоком.
А если честно, мне прозвище придумали незнакомые мальчишки. Мы с девчонками возвращались с тренировки, а сзади шли какие-то пацаны и прикалывались. Вдруг слышим: а вот у тебя, с конским хвостом, сзади две нитки на юбке висят, ты ими асфальт подметаешь. Все оглянулись, в юбке была я одна, и девчонки стали рассматривать ее. Никаких ниток на ней не было. А эти придурки ржут, заливаются: девушка, мы думали это нитки, а это, оказываются, ваши тонкие ножки. Отсюда и пошло: Ниточка, Нитка! Сначала обижалась, злилась, а потом свыклась. Раз у всех клички, пусть и у меня будет. Что, у Ритки лучше – Могила. От фамилии схлопотала. Вот у кого удар был зверский, убийственный, как выстрел. С закрытыми глазами можно было по звуку определить, кто это врезал так по мячу. Если попадет по башке, то вообще труба: звон в ушах на двое суток гарантирован. Маленькая нежная девочка, как котёнок. Ей бы еще росточек повыше – цены не было бы.
От Риты я узнала, что она сначала поступила в технологический, курс отучилась, почувствовала, что трудновато, и Бергер перевёл ее в наш сельхоз на второй курс. Но здесь она решила тоже не оставаться, а попытать счастья в Кредитно-экономическом институте. Вроде у Могилы уже есть договорённость с волейбольным тренером Степаном Оганженяном.
– Рит, а он меня тоже возьмёт? А что, сыгранная пара, – действительно, слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
– Ну, ты дура, Нитка. Что ж ты раньше молчала? Конечно, спрошу. В «декретной мореходке» учиться сплошная лафа.
– Где? – я выпучила на Могилу глаза.
– А ты что, не знаешь? Так в Одессе называют Кредитно-экономический институт.
– Почему?
– Вот поступишь и узнаешь!
Условились, до поры до времени всё хранить в тайне, пока не поговорим со Степаном. Свидание состоялось, чёрные глаза Оганженяна загорелись ярким армянским пламенем, нам с Могилой был обещан перевод, прямо перед первым сентября, когда нас никто не хватится. Правда, в качестве аванса, любвеобильный армянин попытался предложить себя в качестве ухажера. Ритка умоляла потерпеть эти навязчивые потуги, вот переведёмся, а там его шуранём по полной программе. Его приход на каждую нашу тренировку действовал на нервы, но особенно я за дергалась, когда увидела его торчащим на трамвайной остановке. Выручила Ритка, она, на удивление находчивая и смешливая девчонка, влепила ему прямо меж глаз: «Степан Иванович, а Ниточка ещё не целованная. Её дядька, начальник милиции, пасёт её по всем статьям. За ней всюду следят. Видите того мужика, – Ритка указала пальцем на какого-то незнакомого дядьку, стоявшего вдали под деревом, – так вот он её будет провожать к самой двери и потом ещё отчитываться».
Больше Степан Иванович на наших тренировках не объявлялся.
Мы, конечно, с Риткой переживали, а вдруг теперь не поможет с переводом. Не поможет, и не надо. А пока пришла в Одессу весна, и мы опять в учхозе, учимся работать на сельскохозяйственной технике. Получаем права на вождение гусеничного и колёсного трактора. Весенняя грязь, какой свет не видел, резиновые сапоги проваливаются в жирном чернозёме, распаханном нашими стараниями на метр глубиной.
Когда я в таком виде появилась домой, бабка ахнула и приказала идти назад и под дворовым краном смыть грязь хотя бы с сапог. Я стянула с себя комбинезон и куртку тоже смочила и понесла домой достирывать. Ох, в этот приезд и набесились мы. Полная свобода. Вождением были заняты только первую половину дня, а дальше кто во что горазд, образовавшиеся парочки по утлам, остальные… Я уматывала после обеда домой, а наутро первым автобусом возвращалась. Несколько раз брала Лильку с собой. Она тоща, в первый приезд, смылась перед самым набегом комиссии, мне даже не удалось ее проводить до остановки. Лилька уезжала с впечатлением, что хуже не бывает, это о том домике с буквами «М» и «Ж» и заколоченных туалетах в общаге, и сейчас удивлялась, как все изменилось. На посиделках Юлька Фомина, наша отличница, с которой я поддерживала самые близкие отношения, поинтересовалась, почему Лиля в институт не поступает. И действительно, чем она хуже тех дебилов, которые у нас учатся. Лилька попыталась объяснить, что она заикается, куда с таким дефектом. Дома я со своими посоветовалась:
– Мам, Лилька согласится к нам в сельхоз идти?
– Что ты выдумываешь, в какой сельхоз? Кто её возьмёт?
– Экзамены сдаст и поступит.
Мама замолчала, словно решая: задать следующий вопрос или нет. Вот Лилька закончила курсы машинисток-стенографисток и то хорошо. Плохо, что устроиться на работу никак не может. Неужели из-за проклятого пятого пункта. Когда это кончится и кончится ли вообще?
– Оля, у вас разве евреи учатся? – наконец вымолвила она.
– В нашей группе два парня, правда, они льготники, после армии.
– А где она родилась, ты что, забыла? Документы ее откроют, а там Тяньцзин, Китай. Хороший довесок к пятому пункту. Завалят к черту на первом же экзамене от греха подальше.
Бабуля только кивала головой.
– И ты, баб, так считаешь? Но попробовать можно, чем чёрт не шутит.
Я только глубоко вздохнула: зачем завела этот разговор, я ведь её даже не спросила, хочет ли она вообще учиться. Может, не стоит со своими идеями ни себе, ни Лильке морочить голову.
– Не поступит, и ты виноватой будешь. Пристроит её Рита куда-нибудь, – подвела черту бабка.
Но я ведь вижу, как она страдает, как рвётся ходить со мной в институт, ездить со мной в учхоз. Только пальцем помани, она тут как тут. Девочка начитанная, умненькая, какая это несправедливость, от этого еще больше нервничает. Все наши уже поступили или в этом году будут поступать. У Лильки в запасе несколько месяцев, чтобы подготовиться. Смалодушничаю, если откажусь от своей идеи, пусть Алка вместе с мамой и бабкой и считают это нереальным прожектом. Я шла к Лильке и думала, на какой козе к ней подъехать. У нас с ней сложились странные отношения. С одной стороны, я чувствовала себя старше её, а с другой, постоянно была как бы виновата перед ней. Пойду на какое-нибудь свидание, она обижается. Умчусь вдвоем с Рогачкой – это вообще предательство. Когда получается, я же таскаю её за собой. Не виновата, что мальчишки пока не кладут на нее глаз. Была бы моя воля, я бы ей всех своих кавалеров сдала оптом. Нет, некоторых все-таки для себя поберегла бы.
– Лилька, ты всем из нашей группы нравишься, и мы решили, ты к нам на наш факультет должна поступать, – приврала я на ходу.
– Я что того, чокнутая? А как я математику сдам? – Лилька чуть не заплакала.
– Сдашь, как все, поможем. Забирай мои программки, учебники. Устроила у себя дома проходной дом. Гони всех к черту Всё, подруга, поднимай жопу и грызи науку, каждый день буду проверять.
Лилька присела на диван и разрыдалась, я ушла, когда она окончательно успокоилась и пообещала, что уже сегодня начнёт учиться.
Афанасий «восемь на семь», староста и парторг, поддержал нашу идею. Обещал любое содействие. Я решала с ней задачки и уравнения, экзаменовала по всем правилам. Прошли, не без активного Лилькиного сопротивления, школьный весь объём по химии, она не любила этот предмет. Ну а то самое знаменитое моё сочинение Лилька зубрила сама.
В воскресенье забегаю к ней, а там опять сплошной хоровод, все подружки Фатимки толкутся у Лильки в комнате. Рассматривают и обмениваются кучей фотографий. К снимкам претензий никаких, хорошего качества, и девчонки выглядели на них как киноактрисы. Но цена? Десять рублей за одну. Лилька отобрала своих неотразимых поз целых пять. Но не это меня бесило. Выходит, почти всю неделю она ничего толком не учила, этой ерундой занималась. Своим появлением весь их шабаш я поломала, быстро похватав свои фото, все отчалили.
– Что ты уставилась, я только на пятьдесят рублей снялась? Мне мама разрешила, зато любоваться можно, – она сидела на диване и плевать хотела на меня. Столько месяцев я посвятила этой дуре, и вот на тебе – всё насмарку. Возмущению моему не было предела.
– Ты что, ненормальная, на пятьдесят руб лей? Где ты такие деньги возьмёшь? Лилька, ну и сволочь ты! Ради этих снимков твоей маме полмесяца нужно корячиться в парикмахерской по двенадцать часов в день. Что ты тянешься за этими соплячками?
Я стала говорить, что у них своя жизнь, у нас своя, их мамы никогда не работали. Что отцы у них обеспеченные полковники и разные начальники. А Лилькина мама должна всю жизнь тянуть доченьку на собственном горбу. У тебя совесть когда-нибудь проснется?
– На кой черт тебе эти фото, – кричала я, еле сдерживая себя, – хочешь любоваться собой – садись перед зеркалом и любуйся бесплатно, сколько влезет, хоть усрись. Только сначала вызубри алгебру, геометрию и тригонометрию.
Я ушла домой с одной мыслью: больше ни ногой к этой мадам. Столько времени зря потратила на нее. Своих забот по горло. Еще как следует не привыкла к институтской жизни. В школе все измерялось четвертями. Самая лучшая вторая, коротенькая, заканчивается Новым годом и каникулами. Третья самая ненавистная, тянется бесконечно, конца и края ей не видно. А четвёртая – весна, тепло, море, пляж. В институте всё изменилось. Мне не очень-то по нутру была поговорочка, что студенты отдыхают от сессии до сессии, а сессии бывают всего два раза в год. Можно, конечно, и так жить. Но я помнила, как мама говорила: не хочешь учиться – иди мыть полы, только учти, шваброй тоже надо уметь пользоваться. Словом, меня редко видели без книг и учебников, я училась серьезно, по-настоящему. В общежитие к ребятам приходила с единственной целью – заниматься, когда прерывались отдохнуть, не буду скрывать, выпивали, сжирали, что я с собой из дому приносила, анекдоты травили, косточки кому-то перемывали, и снова за конспекты.
Со своей самой близкой подружкой Галкой уже и не помню, когда последний раз куда-нибудь выбирались. Ей некогда, она «идёт на золотую медаль», так её родители говорили. С медалью, чтобы поступить в университет, нужно успешно сдать только один экзамен – по английскому языку, и Галка будет зачислена. Вот и зубрит его день и ночь. Я тоже измучилась в сомнениях: с одной стороны, очень хотелось перевестись в Кредитно-экономический институт, а с другой, уже привыкла и к своему сельхозу. Еще и отличница. Представляю, как Бергер разозлится. У нас сильная волейбольная команда, и женская, и мужская, в городе одни из лучших, а в «кредитке» женщины слабоваты.
Но, в любом случае, при всех вариантах, пока Лилька не сдаст экзамены, даже пикнуть о переводе нельзя. Я простила ее, не могу долго обижаться, да и воду возят на обиженных. Никто не должен знать, что я надумала, как говорится, не кажи гоп, пока не перескочишь.
Я так увлеклась Лилькиной подготовкой, что про свои экзамены в летней сессии даже не думала. И физику едва не завалила. Вместо повышенной теперь буду получать обычную стипендию, тридцать пять рублей. Дома поворчали и смирились. Теперь всё внимание Лильке. Писать формулы на ее белоснежных ножках не получилось. Она орала, как недорезанная корова. Сверхчеловеческая чувствительность у этой леди с голубой еврейской кровью. Её собственные шпоры тоже никуда не годились, почерк размашистый – никаких карманов не хватит. Моя экзаменационная юбка тоже на ней не сходилась в талии. Пришлось использовать резинку и кофточку навыпуск.
Несчастная Лилька так волновалась, что одновременно и обливалась потом, и колотилась в ознобе. Мы приехали заранее, чтобы ещё раз сговориться с ребятами третьекурсниками, поскольку они дежурили по коридорам. Там же суетился наш Афанасий, опекающий «свою протэжэ, якусь гарну дивчынку».
Наставляли Лильку сесть сзади в самый первый от двери ряд, но эта глупышка растерялась и полезла в средний ряд, почти к преподавательскому столу.
Двери закрылись, стали писать на доске задание. Одесская жара не собирается сдаваться, в аудитории стало жарковато, и двери пришлось распахнуть. Оттуда так и пахнуло спёртым воздухом и пеклом. Все мы по очереди начали заглядывать, выискивая глазами своих подопечных. Вот и моя подруга соизволила повернуть свою нежную головку и провести рукой по горлу, мол, всё, конец. Не может ничего решить. Афанасий организовал повязку, и я, стоя за его спиной, нахально списывала Лилькин вариант и, закончив, помчались в соседнюю аудиторию решать его. Особой сложности он не представлял. Тут же подсунули ещё один вариант, обработала и его.
Первый час пролетел, как одно мгновение, но передать Лильке листок с решениями пока не удалось. Что делать? Спасибо этой несусветной августовской жаре. На наше счастье двое преподавателей не выдержали и, обмахиваясь платочком, как веером, вышли на улицу отдышаться. Два оставшихся заняли позиции у открытых окон. Удачно, хоть бы ещё постояли так, молила я бога.
Была не была, я на четвереньках с крейсерской скоростью проползла к Лилькиному столу быстро сунула ей листок и, развернувшись, на тех же полностью согнутых назад. Ребята расступились, и я продолжаю в такой же позе нестись по коридору. От волнения не могу выпрямиться. Гомерический хохот сопровождает меня. Что смеетесь? Если меня поймают, выгонят же из института, только так, ведь сколько предупреждали. И не видеть мне никакого перевода.
Больше маячить под аудиторией не было никакого смысла, и я деру на улицу, села на скамейку. Еле сама пришла в себя. Только бы эта матрена правильно переписала. Я не заметила, как на до мной склонился Афанасий.
– Ну, ты, Ольга, отчаянная! На карачках ползаешь, как на ногах ходишь. Я просто остолбенел.
Что тебе сказать, Афанасий? Если бы тебя, как меня, наш тренер заставлял делать десять кругов по залу на согнутых, да ещё на вытянутых руках таскать по два железных блина, – так и ты тоже так научился бы. Зад в провисе и коленки в стороны. Этим упражнением Бергер укреплял наши ноги.
– Лиля вышла! – радостно воскликнул Афанасий. – Гарна дивчына.
Я вскочила, как ужаленная: ну как? Ответа пришлось ждать несколько минут. Мою подругу всю трясло. Я обняла ее за плечи, и мы медленно пошли по аллее.
– Вы куда, надо отметить, сейчас все соберемся в общаге и отметим, – заволновался наш староста и парторг. – Лиля, а где спасибо?
– Спасибо, ребята, извините, я растерялась, – она еще не совсем пришла в себя и продолжать дрожать. – Можно я с вами не пойду. Мама меня ждет, и не пью я.
– Ладно, ступай, готовься к устной математике, а Ольгины шпоры сохрани как исторический документ, – улыбнулся своей юной фаворитке Афанасий.
Мы не очень-то нарушили режим, страшное дело эта самогонка из свеклы, хорошо, что было приятное домашнее вино. Сообща решили переговорить с математичкой, что наша Лилька человечек хороший, умница, только вот этот недуг.
Лильке поставили за письменную математику «хорошо». Утром в день сдачи устной я караулила нашу математичку на трамвайной остановке. Культурненько подала ей руку, когда она спускалась со ступеньки, и сразу в бой.
– Юлия Николаевна, извините меня, у Лильки за письменный «четыре», а с устным будут проблемы. Она сильно заикается, а от волнения не сможет вообще выкакать, извините, вымолвить ни одного слова.
– Что я могу сделать для вашей подружки?
– Позвольте, чтобы она ответ письменно написала.
– Как её фамилия?
– Гуревич Лилиан Кивовна!
Математичка окинула меня строгим взглядом, покачала головой и, не произнеся больше ни слова, направилась к институту.
Из аудитории, где принимали экзамен, почти все уже вышли. Абитуриенты шумно рассказывали друг другу, кому какой пример достался, как решил задачу, ответил на вопросы. Афанасий из-за двери жестами показывает Лильке, что пора идти, но она истерически боится. Склонилась над листком и продолжает что-то упорно строчить. Что она там пишет? У неё такой размашистый почерк, как душа, в которой всё чисто и светло. Удивительная девочка, её обмануть ничего не стоит, всё принимает за чистую монету. Видит в людях только хорошее, и почему её обижают все кому не лень, никак не пойму. Живёт моя подруга, словно не на земле, а ще-то витает в небесах. Только иногда спускается оттуда, удивляясь сама происходящему и ещё больше удивляя всех окружающих.
А может, правильно, что выжидает, с последними пойдёт, вон еще один листок попросила. Преподаватели устанут, как-нибудь на дурачка проскочит. Наконец уселась напротив нашей. Профессор тоже на неё поглядывает, смотрит как на явление Христа народу. Ёлки-палки, берёт её писанину, просматривает, что-то на ухо шепчет нашей училке, и та оценку ставит. Я сама сейчас в обморок упаду, какие нервы нужны.
Лилька выскочила и затарахтела так, как будто бы она в жизнь не заикалась. «Хорошо»! Две четвёрки по ма тематике. На нервном накале не могла остановиться. Мы с ней дошли уже пешком до телецентра, а она ничего вокруг не видит и не слышит, только про свой билет тараторит. Как я её шарахнула, не помню, но, видно, больно, по всем статьям приложилась, как к мячу. Лилька остановилась, замолчала, потом разревелась: понимаешь, я сама, я сама всё ответила, если бы могла говорить, получила бы пятёрку. Давай отметим это событие.
– Лилька, какое событие, через два дня химия. Идём ко мне, поешь и засядем за нее. Что качаешь головой? Будешь эти два дня как миленькая ночью и днём писать формулы. И таблицу Менделеева зубри, чтобы знала, как таблицу умножения.
Химия поддалась Лильке хуже математики. Трояк. Одну задачку не решила, в валентностях запуталась. Но в любом случае 11 баллов, ближе к проходному, уже были в кармане. Теперь бы только божественное сочинение ещё раз сослужило добрую службу Лилька читала мне его вслух почти без запинок, словно декламировала любимого «Медного всадника». С «Петра твореньем» она справлялась хорошо и, господи, спасибо, и с сочинением все вышло удачно. Какие-то мелкие помарки, четверка, и Лилька наша студентка-первокурсница с положенной стипендией на первый семестр.
Вечером со своей мамой они заявились к нам с тортом и шампанским. Пока родители изливали друг дружке души, как тяжело мы им достаёмся, мы с Лилькой умотали к Галке. «Привет, я отстрелялась, пять за английский, – она была на десятом небе от счастья, – а ты, Лилька, как? Четверка, поступила? Поздравляю! Гуляем, девки!» Мы загуляли, как положено, по всем правилам. Долго провожались, и тут я, дурочка, не контролируя себя после выпитого вина, сболтнула Лильке, что собираюсь переводиться в другой институт. Подруга, как услышала, стала орать, что это я специально такую свинью подложила. Если б знала, ни за что не поддалась бы на мою авантюру.
– Что я буду делать без тебя в этом институте? Если бросишь меня, все, перестану выгораживать тебя перед девчонками. Знала бы, что о тебе говорят!
Так, от Лильки я узнала и какая я подлая, и какая мальчишница, ни одни штаны не пропускаю, и все вокруг меня ненавидят Кто все? Я обалдела, вот и делай после этого людям добро. Всю весну и лето этой паршивке посвятила, повышенная стипендия теперь не светит, а она меня теперь «знать не знаю и знать не хочу», Рите все расскажет. Что расскажет? Как я, идиотка, рисковала, ползая по аудитории со шпорами для неё. Меня душили слезы. Спасибо тебе, дорогая Лилиан Кивовна Гуревич. Получила благодарность по полной программе. Ты вовремя вывернула свою душонку наизнанку, а то я так и продолжала бы служить тебе верой и правдой, искренне выполняя свой товарищеский долг. Если ещё и сомневалась, переводиться ли в «кредитку», то сейчас сомнения отпали. Завтра же помчусь к Степану Оганженяну.
На кафедре Оганженяна не оказалось, пожилой мужчина спросил меня, по какому вопросу он мне нужен. Я помялась немножко и пролепетала, что хотела попытать счастья и перевестись в этот институт.
– Девушка, вы опоздали, мы уже укомплектовали все группы. Вы на каком курсе?
– На второй перешла.
– А учитесь как?
Я молча протянула зачётку. Увиденное его явно обрадовало: а зачем вам Оганженян?
– Он ходил к нам на тренировки и сам предложил. Я в волейбол играю.
– Но он уже взял Могилевскую и Дуракову. А где ты раньше была, милая моя?
– Так мне сказали, что нужно перед самым первым сентября прийти, чтобы никто не чухнулся.
– Садись, пиши заявление.
Этот добродушный дядька был завкафедрой. Целый день я проторчала в холле, пока он бегал по разным кабинетам, может, и по моему делу. Наконец он позвал меня: так, дитя моё, чтобы завтра у меня на столе были твои документы. Доставай, как хочешь. Гудбай, юное волейбольное создание!
Не помню уж сейчас в точности, что я несла, какую чушь в деканате, и что говорили мне. Но заявление мое на перевод подписали и отправили в отдел кадров. Там тётка тоже что-то бурчала, но я не слушала, поскорее бы выдала мне документы. Только к вечеру я влетела с ними на кафедру физкультуры, вся взмыленная, полусумасшедшая.
– Ну и настырная ты! Для спорта хорошее качество. В волейбол за институт будешь играть?
– А зачем я переводилась, конечно, буду, с Могилой на пару, – я показала на учётную карточку Ритки Могилевской у него на столе.
– С кем? Как ты её назвала?
– В нашей 7-й спортшколе кличка у неё такая была. Я тоже оттуда, и у меня прозвище было – Ниточка. Нитка.
– Это же за какие заслуги перед Родиной?
Я не стала вдаваться в подробности, что-то промычала, рассказала, как мы с Риткой еще в школе наигрывали свои комбинации и нас по ту сторону сетки не всегда успевали блокировать. Только вот «Буревестник» раскусил нас, но они же мастера, а мы даже еще не разрядники.
Завкафедрой не перебивал, внимательно слушал, только спросил, когда я начала играть.
– С детства, ещё у себя во дворе на Коганке. У нас первый подарок ребёнку был мяч. Целыми днями лупили им о стенку, пока не лопнет. Не стенка, а мяч. Вы знаете эту игру? Нет? Я покажу это просто. Всё по десять раз. Первые десять двумя руками одновременно, потом вторые десять по очереди – сначала одной рукой, затем другой, далее еще десять, чередуя левую с правой. Вот здесь поначалу все заваливаются. А потом уже идут самые разнообразные финты.
– И какие же?
Я увлеклась, разошлась не на шутку, раскрывая секреты дворовых тренировок. Мне бы мяч в тот момент, показала бы все, что мы делали, все наши упражнения. Они, конечно, отличались от классических, как я уже позже поняла, всерьез занявшись волейболом, но они были наши, мы их придумали.
– Нас взрослые научили, только чтобы мы со двора никуда не линяли, а были у них на виду. Я музыку из-за волейбола бросила, руки после мяча дрожали, я только бацать ими могла.
– Ну, все достаточно, урок окончен, – прервал меня завкафедрой. – Ладно, иди, первого сентября не забудь в институт прийти.
– Так вы меня берёте?
– Уже взяли на учётно-экономический факультет.
– Как на учётно-экономический? Оганженян обещал на планово-экономический.
– Я не Оганженян и ничего тебе не обещал. Не хочешь – возвращайся обратно, если примут, – он усадил меня на стул напротив себя. – Ты разницу между специальностями понимаешь?
Если честно, я не очень-то разбиралась, только то, что закончишь плановый – работать будешь где-нибудь в плановом отделе, учётный – в бухгалтерии, а кредитный – в банке. А вообще все эти специальности мне по самому большому барабану, просто нужно получить хоть какое-то высшее образование и чтобы весь белый свет отстал от меня. Я бы целыми днями валялась на кровати и читала романы и ходила бы в кино. Просто все считают, что плановый самый лёгкий факультет, не то что гибельный учётный. Алка говорит, плановики это белая кость на предприятиях, а бухгалтерия – вечные рабы, как мыши в норе, не поднимая головы, копошатся над своими документами, прикованные к стулу Кто-то что-то накрутит, а им расхлебывать и отвечать. У Галки папа работает в порту заместителем главного бухгалтера, он вообще считает эту профессию мужской. Как она может быть мужской, когда в этом ОКЭИ одни девчонки. Ещё он меня поучал, что из экономиста бухгалтером не станешь. А вот из бухгалтера экономист хороший может получиться. Но я ни тем, ни этим не хочу быть. Поживём – увидим, вдруг что-то изменится. А пока других вариантов нет. Я тих о ответила: я согласна.
– Молодец! Завтра к двум за студенческим билетом, будешь зачислена на второй курс. Рада?
Больше всех обрадовалась Алка, она даже меня расцеловала, что случается не часто. Мама обозвала меня неблагодарной: люди всё для тебя сделали, а ты их так отблагодарила. Бабка держала нейтралитет. Лишь утром, когда мы остались вдвоём, сквозь зубы процедила: а этот институт лучше того? Я, честно, сама не до конца разобралась: лучше или хуже, может, еще ругать себя буду, шило на мыло променяла. Бабка стала говорить про Лильку, что ей без меня будет тяжело, что она за мной, как за каменной стеной, и теперь стена эта порушилась, наверное, обиделась.
– Обиделась. Но не должна же я до пенсии её опекать! Хватит школы. И вообще, я больше с ней дружить не буду. Слышала бы ты, как она на меня орала своим истошным писклявым голосом. За что? За все хорошее? Горшок разбит, и вряд ли удастся его склеить, слишком мелкие кусочки.
Я уставилась в морщинистое бабкино лицо, такое родное, сколько же она пережила за свою жизнь, и я вот еще добавляю, то одно, то другое, сейчас Лилька, ни с того ни с сего коршуном набросившаяся на меня. Бабка ведь за каждый наш с Алкой шаг волнуется. А еще мама, Ленька. Как сердце выдерживает?
– Не торопись, склеится. Но раз у нас зашел такой разговор, то давно хотела сказать: девки, с кем ты водишься, себе на уме. Поменьше им доверяй. Используют тебя, когда ты только это поймёшь?
– Но это же неправда. Галке от меня ничего не на до, у нее все есть.
– Правда, не спорь. Я не о Рогачке твоей, другие есть. Я жизнь прожила, людей насквозь вижу. Глазками шныряют, так и норовят что-то от тебя поиметь. Ты же сама мне говорила: стоит тебе с кем-то познакомиться, они тут как тут, пристраиваются.
Я чувствовала: бабуля моя закипает, вот-вот как плита раскаленная будет.
– Гони их всех в шею, сама стесняешься отшить – я погоню, – ее было уже не остановить. – Заделалась у Лильки бесплатной гувернанткой. Ты хоть сейчас возьмись за ум, в новом институте подружись с нормальной девочкой. И пора уже парня хорошего присмотреть, не шалопая какого-то.
Кого бабка имеет в виду? Но уж точно не моего первого кавалера Витьку Ксензовского. Торопясь в институт, я шла мимо его дома и невольно посмотрела на знакомый балкон, старый велик, как стоял там раньше, так и стоит, хотя Витька говорил, что хочет его загнать и купить новый. Первого сентября я топала в новую для себя жизнь. Интересно, а где Ксензовский ее начинал, в какой институт поступил? Он должен быть уже на пятом курсе. Последний раз мы виделись, когда я была в седьмом классе, а Витька в девятом. Но он заканчивал десятилетку, а я 11 классов. Теперь я каждый день буду проходить под его балконом, может, и увижу. Симпатичный мальчик, всё писал записочки мне, приводя в смущение. Никогда не забуду ту нашу встречу, такую неожиданную и печальную. Я бежала к маме на работу в своём старом паль то, из которого настолько выросла, что оно превратилось в полупальто. К рукавам бабушка умудрилась пришить бархатные манжеты, но длиннющие руки всё равно свисали клешнями. И вдруг Витька на полной скорости, со свистом и скрежетом перед самым моим носом тормозит. Его симпатичное личико с нежным румянцем лучилось от счастья. Я сама жутко обрадовалась. Он спрыгнул с велика и так смутился. Мы год, как не виделись, и за это время я так вымахала, что стала выше его на целую голову, а он был все такой же маленький, щупленький, совсем как подросток, ни на сантиметр не подрос.
Тогда мы перебросились несколькими ничего не значащими фразами. Привет – привет! Как учёба? Нормально! А у тебя? Тоже нормально. Пока – пока! А сейчас мне так захотелось его увидеть. Интересно, подрос ли он? Наверняка подрос, мужчина уже. И я тоже не сопливая семиклассница, а студентка-второкурсница, вот иду в новый для себя институт. На ступеньках у входа весь в белом, чтобы его было видно издалека, стоял Оганженян Степан Иванович. Возле него крутились Могила и ещё одна здоровенная девица Ирка. Я подошла и поздоровалась. Степан блестел набриолиненной курчавой чёрной головой с пробивающейся серебристой сединой. Днем на улице мне раньше не доводилось его видеть, тем более так близко. Тщательно выбритые щёки были с синеватым оттенком. В отворотах рубашки вилась чёрная шерсть с проседью. Я улыбнулась, он очень был похож на ловеласа Тарзана – учителя физкультуры из моей старой 105-й школы, что на улице Пастера. Точь-в-точь такие же манеры.
Степан просиял, завидев меня, как старый медяк на солнце. Ещё бы не сиять такому молодцу когда вокруг такая оранжерея, девицы, как цветочки, на любой вкус, и он весь из себя, красавец, специально взобрался на самую верхнюю ступеньку, чтобы его все узрели и он не упустил бы какую-нибудь смазливую юную жертву. Жертва, наверное, обозначилась, ибо вдруг, позабыв о нас, Степан сорвался с места, только мы его и видели, и рванул в толпу, которая его тут же поглотила. Мы вздохнули с облегчением, большинство девчонок-волейболисток мне были знакомы. Играли или вместе, как с Риткой, или друг против друга в соревнованиях спортшкол. Но теперь мы одна команда и нам вместе пахать за наш Кредитно-экономический институт.
В моей группе, сплошь проживающей в общежитии, была ещё одна новенькая девушка. С ней и невысоким пареньком по фамилии Горин Толя мы уселись за один стол. В ожидании преподавателя мы весело беседовали, когда вдруг в дверях аудитории появился высокий юноша с африканского континента. Он тоже присел к нашему столу, улыбаясь во весь рот белоснежной улыбкой и обнажая красивые ровные зубы-клыки. Девушку звали Аида, она была высокого роста и с необыкновенно красивым благородным лицом. Она уже не впервой переводится из вуза в вуз. Похоже, ищущая натура, сначала поступила в технический вуз, потом ушла в университет, досдавала кучу экзаменов, но и там не понравилось, решила найти своё призвание здесь. Так мы с Аидой и держались вдвоём до окончания института. Хотя обе не очень баловали его своим посещением.
Она тоже жила в общежитии, и вообще на весь поток помимо меня была еще только одна одесситка. В этом институте своих собственных подсобных хозяйств не было. Но теперь учхоз имени Трофимова сменила глухая дыра с символичным названием «Чёрная грязь», куда мы добрались к вечеру, хотя отъехали от института рано утром. Как-то раньше до меня не доходило, что одесская область такая здоровенная. Село, в которое мы попали, можно было увидеть только в кино начала двадцатого века. Те же хатки-мазанки с соломенными крышами, с земляными полами, нищета, голо, нет деревьев, неуютно, но зато жгуче-чёрная земля. Нас, несколько человек, поселили у одинокой старухи с царским именем Екатерина, доживающей свой век с пожелтевшими фотографиями на сырых, в подтеках, стенах.
– Баба Катя, а почему у вас нет сада вокруг дома? – спросила ее Аида. – Такая богатая земля, а ничего вокруг дома кроме мелкого винограда. У нас в селе такой только на кислое вино годится.
– А на кой ляд мне он нужен, ваш сад? Я сажать его буду, горбатится, а вы приедете и всё обчистите. Были и у нас сады, а как платить за каждое деревцо усатый приказал, так всё и вырубили. И виноградникам бедным досталось. Чем они ему мешали, пил бы и наше вино, а не свое грузинское, наше вкуснее. Дед, царствие ему небесное, заместо воды потреблял. Под трактор попал, а черт здоровый был, по нескольку мешков картошки зараз таскал.
Видно, Аидино любопытство задело старуху за живое, да и поговорить захотелось, одинока, за целый день не с кем словом перемолвиться.
– А засуха яка была? Всё ж здесь сгорает без воды. Нупосажу Так пока то дерево вырастет, я уже на том свете буду. И не для кого. Насажаешь на свою голову, а потом прийдуть и всё подчистую сгребуть, а ты як хочь, так и живи, хочь живи, хочь помирай. Все на этом чернозёме подохли с голодухи. Кладбище с краю бачилы, так там усе в один год. Так хай они опять приходют и браты нема ничого.
Нам было жаль эту бедную крестьянскую женщину, сгорбленную под тяжестью лет. Она передвигалась с трудом, опираясь на толстенную палку. Кто эти люди на фотографиях, если живы, почему не помогают, или тоже влачат жалкое существование в такой ужасающей нищете. Где же наш чертов социализм со всеми благами для простого народа, который, как эта баба Катя, угробил свою жизнь на его процветание. Но цветочки-то с ягодками кому-то всё же достаются?
Как баба Катя похожа была на нашу с моей Коганки, бабу Женю, торговку семечками, с её каморкой с земляным полом, такую же одинокую и несчастную, схоронившую своих двух сыновей ещё в гражданскую. Если бы тогда не мы, дети, так она бы и лежала мёртвая в своей комнатке. Никому ненужная. Случайно обнаружили ее, когда, заигравшись своими шалостями, мячом разбили окно. И нашу хозяйку может ждать такая же участь. Избушка на отшибе, редко кто сюда заглядывает, особенно поздней осенью в непролазную грязь или зимой. Село метко названо – Черная грязь. Жизнь здесь теплится лишь в летнюю страду, когда уборочная в разгаре.
– Баба Катя, а спать нам на чем? – после целого дня работы на току и приблизительно километра до ее хатки очень хотелось прилечь отдохнуть. В доме или домике – язык не поворачивается назвать так это покосившееся строение на курьих ножках – ничего не было, кроме продавленного временем дивана, касавшегося выгнутым днищем пола.
– Идите до сарая, там найдете.
Из сарая мы таскали разобранные старые ржавые железные кровати, пытались их собрать, но спать на прохудившихся дырявых сетках было невозможно, и отнесли весь этот хлам обратно. Пошли набивать соломой дырявые чехлы матрацев, усаживаясь все вместе на один для утрамбовки. Умываться, стираться бабка предложила нам на ставке, а если в ха те хотите, то таскайте оттуда воду. А для питья она открывала нам крышку неглубокого колодца, предупредив: без кипячения нельзя. Пошли искать тот ставок. Два раза проскочили мимо загаженной лужи, в которой плескались утки, разукрашенные хозяйками во все цвета радуги, для опознания, где свои, где чужие. Больше всех было окрашенных зелёнкой, у кого хвосты, у кого шеи, у других кресты на спине. Даже не подумали, что это и есть тот самый ставок, в котором можно помыться и постираться.
Баба Катя залепетала, что только с пятого сентября ей будут за нас платить, а она рассчитывала, что сразу, поэтому особых угощений не припасла. Ни коровы, ни даже задрипанной козочки она не держала. Попили непонятного чая с серым хлебом и улеглись на боковую на соломенные тюфяки, не раздеваясь. К утру еле встали, так отдавили себе все места. Кляня всё на свете – и эту бабку жадную, и эту деревню, – неохотно поплелись на ток. Ко всем радостям заморосил дождик. Стало холодно и сыро, похоже, ночью вообще подморозило. На току нас ждала громадная гора кукурузных початков, которые нужно очищать от уже подгнивших скользких листьев и мокрых вонючих волос голыми руками. Очищенные початки перетаскивать поближе к громыхающей дробильной машине, под навес. Эта зараза с такой скоростью перемалывала качаны, что за ней мы просто не поспевали.
В полдень привезли обед. На первое редкая жижа, в которой непонятно что плавало, кости без всякого намека на мясо, видно, обглодали еще до нас. На второе макароны, здесь мясо было, очень тонкий кусок, залитый подливой, жесткое, еле разгрызли. Никаких кружек, тем более стаканов, в эти же немытые после супа миски нам налили компот из сухофруктов. Мужик с дробилки, глядя на нас, ухмыльнулся: ну что, девчата, рубай компот вилкой, он жирный. Где он вилки увидел, хорошо хоть ложки дали, а эту жирную гадость пить было неприятно.
Дождь продолжал нудно хлестать, работавшие вместе с нами колхозники оставили остатки обеда нам на ужин вместе с кастрюлями, а сами смылись. Ещё пару часов мы зачищали эти початки, дядька на дробилке матюкался на нас – медленно все делаем, не обеспечиваем ему фронт работ. «Жрёте больше, чем робите», – и погнал нас с тока. Только через два дня выглянуло солнышко, немного подсушило верхний слой этой необъятной горы, полегчало, но рук и пальцев все равно мы не чувствовали. А тут еще подкатил трактор с прицепом забирать зерно. Сидят два бугая в кабине, курят, а мы ломаемся, грузим. Одна из девчонок, которая постарше, стала шуметь: женщинам больше пятнадцати килограммов поднимать не положено. А им по фигу трудовое законодательство: давай – и все. Раз так, мы мешки заполнили на треть, терпимо закидывать, и улеглись загорать. Они нас с молотильщиком отборным матом и стращать, что хер нам жрать будут возить. Здесь уж и мы не выдержали, вовсе сорвались и открытым текстом послала их на х… и еще кое-что добавили. Решили вернуться в институт, и пусть наш деканат с этими сволочами-бездельниками разбирается. Нашли дурочек, сами палец о палец не ударяют, на чужом горбу хотят в рай въехать, деньжат заработать. Хер вам, а не деньги за наш счет.
Устало плелись к своей хозяйке, но и тут нас ждала очередная порция неприятностей. Рядом с её хаткой был небольшой огородик, полностью перекопанный и даже грабельками проутюженный. Полсоточки чёрной земли под граблями были так художественно оформлены, что мы подолгу ими любовались. Про себя подумала: старухе нечего делать, вот она этим и занимается. Чуть поодаль начинался её виноградник с пожухлыми уже листьями и гроздьями чёрного мелкого винограда. Она нас, когда мы только приехали, им угостила и предупредила, чтобы сами не тырили и вообще туда не шастали. Мы ещё посмеялись, попробовав этот подарок природы, его есть можно только со страшной голодухи или по приговору самого сурового суда, не иначе. Так и стояла тарелка целый вечер в сенях, к ней никто не притронулся. Бабка её унесла и больше не предлагала.
Только подошли к домику, а она нам навстречу с вилами и воплями, что какая-то курва из наших лазила в её виноградник, по следам обнаружила. Вот, оказывается, для чего она после каждого дождя и утренней росы шлифовала граблями землю вокруг своего виноградника. «Снимайте сапоги, сейчас посмотрю», – орала хозяйка на всю деревню, хорошо, что поговорка «наша хата с краю» имела здесь прямой смысл, а то, не дай бог, сбежался бы народ. Мы поснимали с себя обувь и всучили ей, пусть ищет вора.
Вор нашёлся, подошёл след сапог моей тёзки Оли Дымовой. У неё была самая маленькая из всех нас ножка. Что здесь началось! Старуха набросилась на нашу Дымову еле отбили. Старая карга оказалась такой сильной и злой и не хотела ничего слушать. Такую ценность у нее украли. Поскольку у хозяйки нашей не было даже туалета, то нужду справляли прямо за ха той в старое корыто. Оно воняло, как помойное ведро. Поэтому стали отходить чуть-чуть подальше. Ну и Дымова ночью нечаянно пересекла запрещенный рубеж, попала на полосу неприятеля, который здесь же по ней открыл огонь на поражение. Пошли все вместе изучать Ольгины следы, они закончились ещё до окопа противника, метров за пять до охраняемого бабкой виноградника. Убедившись, она успокоилась, сняла обвинения с подследственной, но мы потребовали компенсации за нанесенный моральный ущерб: где хочет пусть достает, но вкусный и обильный ужин должна нам сварганить.
На вид простодушная, но, как выяснилось, хитрющая старуха специально, конечно, брала нас на понт, чтобы извлечь свою выгоду, да не получилось. Она расплакалась, пустила сопли, давила на жалость, одиночество, канючила, чтобы мы ей помогли. Никакой сытный ужин баба Катя нам не сготовила, а мы, чтобы скоротать время до сна, пошли собирать её ценный урожай винограда. С песнями и танцами, раздевшись до трусов, грязными голыми ногами прыгали на этой черной мелкоте сначала в корыте, выжимая первый сок, а потом перебрасывали под пресс видавшей виды давилки. Бабка на радостях подливала нам своего самого лучшего вина, жуть, какой кисляк. За то все-таки на закусь пожарила на утином сале утиные же яйца. Они воняли, но мы, заткнув нос, слопали все.
Рухнули лишь под утро и спали так крепко, что прибывшие разбираться с нами за саботаж представители колхоза не могли до нас добудиться. Но до чего же подлая старуха, сказала, что в таком состоянии, пьяненькие, мы каждый день с тока являемся. И шоб от неё забрали этих городских шлюх. Видимо, эту пьесу весёлое колхозное начальство проигрывало в сентябре со студентами каждый год. Стали предлагать перебраться к другой хозяйке на постой и выходить на работу, а иначе сообщат в институт о нашем поведении. Девки сразу приуныли, глазки опустили, мокрые шмотки стали собирать. Меня уже бил знакомый с детства озноб и отрыжка с блевотиной подступила к горлу. Прямо на пороге я выдала первую порцию, чем усугубила ситуацию. Других девчонок от бабкиного кисляка тоже начало тошнить, но они забежали за угол дома. Отдышавшись, разозлившись, я открыла свой нежный девичий ротик. Я начала кричать: где наш руководитель, почему не с нами? Почта здесь есть? На центральной усадьбе? Пошли все вместе дадим телеграмму в институт.
– Сама давай, умная нашлась. Откуда ты к нам спрыгнула?
– А чего испугались? С вами по-скотски, а вы боитесь. Ладно, без вас обойдусь, от себя отправлю и письмо, и телеграмму. Подыхать из-за этих куркулей не собираюсь. И валяться на земляных полах, и помои жрать не хочу. Вам нравится – оставайтесь, продолжайте чесаться и гнить оттого, что негде даже подмыться. Хватит.
Мой страстный монолог, видно, пронял, девчонки вызвались меня сопроводить до станции. Мы несколько километров тащились под дождем и все вымокли, еще заболеть не хватало. Эта станция только называлась станцией, здесь заканчивалась узкоколейка, какой-то аппендикс неотрезанный, с давно проросшими травой шпалами и ржавыми рельсами. Сюда, вероятно, в эти хранилища вдоль железки и перевозят кукурузное зерно и сдают государству. В здании вокзала, которое смотрелось немногим лучше, чем ха та нашей хозяйки, была узкая комнатёнка с решётками, ее отвели под почту. Сама она ничего не отправляла, а только работала как передаточное устройство. Позвонить по межгороду тоже не получилось. На все наши просьбы был один ответ: линия занята, езжайте в райцентр.
Девчонки ждали меня у сельпо, пока я строчила две телеграммы и написала пару писем, которые опустила в висящий на стене ящик. Большой надежды, что мои послания буду вовремя отправлены, не было. Но не это главное, надо было этой кугутне показать, что и на них можно найти управу они не хозяева нашей жизни. То, что тётка с почты прочтёт и телеграммы, и письма, хотя я тщательно заклеила конверт, и передаст содержание кому следует, а уж своему начальству тем более, я не сомневалась. И начнут нам еще больше угрожать. Но что-то все-таки зашевелилось. Пока мы добрели обратно к месту нашей постоянной дислокации, уже наметились кое-какие движения. Те два тракториста пытались починить железные кровати, это им почти удалось. А бабка вытащила наши матрасы сушиться на солнце, весь свой завалившийся тын обвесила дерюгами, которыми мы укрывались. Подъехал ещё один трактор, два незнакомых хлопца привезли нам обед. На третье вместо едва подслащенного компотного варева был целый ящик сочных желтоватых яблок и несколько спелых дынь цыганочек. Совсем другое дело.
Хлопцы жадными глазами наблюдали, как мы ели, мы поняли, они голодны, и пригласили к столу, нескольким сколоченным доскам на подпорках, прижавшимся к стене ха ты. Старуха принесла своего вина, но уже другого, вкусного, правда, немного терпкого, наверное, специально припасенного для важных гостей. Если это были хлопцы, то спасибо им. Мы подружились, и теперь почти каждый вечер они заезжали к нам с бутылями вина, арбузами, дынями.
А уж о винограде и говорить нечего, любого сорта, не то что бабкино говно. Везли всё, что удавалось им на тырить для невест из Одессы. Под свет фар устраивали импровизированные танцульки, пели, курили, мололи анекдоты. Спьяну, в последний вечер пребывания, наши кавалеры так напровожались и укушались, что чуть трактором не завалили бабке хату, пробили дырку в стене.
Утром нас погрузили в машины и отвезли в соседний колхоз, где работали ребята с другого факультета, и оттуда уже на автобусе отправили в Одессу прямо к общаге на у лице Чернышевского. Когда я заявилась домой, моя бабка, скривив лицо и выдавив из себя улыбку радости от встречи с любимой внучкой, воскликнула, что такое она видела в фильме про Освенцим. Ну, бабуля, перегнула ты палку, хотя, когда я разделась, сбросила с себя грязные вонючие лохмотья, которые бабка тут же вынесла на помойку, не пытаясь даже привести в порядок, а затем стянула майку, то под ней углом торчали худые лопатки и выпирали ребра. Бесясь от счастья, что я наконец дома, позволила бабушке измерить сантиметром все три параметра моего скелета, важные для женщин. Явно не добираю до нормы. «Олька, раз в неделю обязательно буду измерять, как телёнка на откорме, и маме докладывать, пока свой вес не наберешь. Это ж никуда не годится, одни кости да кожа», – пригрозила бабка, и это был тот случай, когда я ей не сопротивлялась. Уминала с удовольствием все, что бы она ни приготовила, и в таких количествах, что даже сама удивлялась. У бабки настроение поднималась выше, чем на седьмое небо: аппетит хороший, не то что Алка, три ложечки проглотит и тарелку в сторону отставляет. Еще бы рыбьего жира попила. Но попробуй заставить ее.
Вечером, когда мама вернулась с работы, они с бабкой, плотно прикрыв дверь в кухню, о чем-то шушукались, порой переходя на шепот. Я мыла в это время голову в ванной, и, когда приглушала воду, через окошко до меня доносились обрывки их разговора. Разобрать все не получалось.
– Анька, что-то с Олькой неладное. Даже по воскресеньям дома торчит. Иногда, слышу, запрется в ванной и хнычет. Может, там, в колхозе, что-то случилось или институт этот ей не нравится, зачем она в него только перевелась?
Ну, бабка мастер масла в огонь подливать. А мама тоже хороша, ей вторит:
– Так ты же сама грозилась всех ее подружек в шею гнать, и Алка наказала поменьше шастать. Может, просто повзрослела. Зачем она только перевелась в эту «Декретную мореходку»! В институте все уже замуж повыскакивали и беременных полно.
– Нет, тут что-то не то. Анька, а может, влюбилась в кого, время подошло.
Мама продолжала:
– Ты что-нибудь заметила, кто-то ее провожает? Выпытай у нее, как ты умеешь, аккуратно. Или брось на карты.
– Уже бросила. Не получилось, путаница какая-то. Пойду на седьмую, новую колоду куплю, в постель ей подложу, должно показать.
Конспираторы хреновы. Я тихонечко выползла из ванной, быстро прошмыгнула в спальню, просунула руку под подушку, затем пошарила под простыней. Ничего не было. Вот две клуши, конец двадцатого века на носу, а они картам верят. Ладно еще бабка, а выходит, и мама… Никого и ничего у меня нет, так, ни к чему не обязывающие приключения. Я опять вспомнила загорелое и обветренное лицо этого совсем взрослого мужчины, и мне стало и страшно, и весело, больно и хорошо. Как мне приятно вспоминать о нём.
Капитан
Мой Кредитно-экономический институт одесситы, как всегда с юмором, именовали «декретной мореходкой». Это название неспроста приклеилось к этому, на 99,9 % девчоночьему вузу. Если у нас был вечер или какое-нибудь другое мероприятие, то, начиная от памятника маршалу Малиновскому по ул. Советской Армии и до самого института, переливались морскими волнами фуражки курсантиков всех одесских мореходных училищ. Уже на первом курсе пошли комсомольские свадьбы и, как следствие, быстро округлялись животики у студенток. В нашей группе две девчонки за четыре года учебы умудрились родить даже по два ребенка. Но я для себя изначально решила – серьёзных романов до окончания института у меня быть не может.
Вот я уже третьекурсница, только накануне сдала очередную сессию, и до сих пор не представляю, как это можно влюбиться до потери пульса, никаких опасных приключений у меня не намечалось. Так просто, от нечего делать покрутить «динамо», поприкалываться, побеситься – это моё, а если начинают морочить голову о большой и великой и каких-то серьёзных отношениях, – то линять нужно немедленно.
Впереди целое лето свободы, наше одесское лето. Это бархатное солнце, которого ждёшь с ознобом каждое утро, а в обед уже прячешься от него в тенёк, к вечеру оно и вовсе утомляет тебя до изнеможения. Где ты, спасительный свежий морской ветерок? Он задувает поздним вечером, ласково щекочет тело, заигрывает с юбками, старается задрать их повыше. На радость мужчинам, которые, чувствуешь кожей, жаждут этого момента. Так и хочется спеть: «Дует, дует ветерок, ветерок, ветерок. Поддувает между ног, между ног – да…»
Однако петь такое не очень подобает барышне моего возраста. Ещё к тому же студентке, комсомолке, спортсменке. О красавице я вообще молчу. В Одессе все женщины считают себя красавицами. Кто поскромнее в запросах – интересными, но уж в самом крайнем случае – просто привлекательными. Никто не против: раз женщине приятно так считать – пусть считает, ходит с таким видом, денег ведь это совсем не стоит.
Я не такая, я жду трамвая. Но и отставать от других не хочется. Только красавица – и никаких гвоздей. А как иначе? Из подкладки старого плаща, ярко-красного шёлка в белый крупный горох, бабушка (я ей помогала) сшила мне первую в жизни узкую юбку и кофту по фигуре. Ходила в них – боялась глубоко вздохнуть, а то еще треснут по швам. Ещё и широченный пояс, чтобы подчеркнуть талию, крепко затягивала. До Людмилы Гурченко я, честно признаюсь, не дотянула совсем немного, какие-то несколько сантиметров. Слухам о том, что у неё талия вроде всего 42 сантиметра, в нашем солнечном городе не очень-то верили. Если даже у такой «шкили-макароны», как я, – 49, но 42?! Совсем, что ли, ничего не кушала, изводила себя голодом или природа так щедро одарила?
О декольте я вообще молчу, стоило бабке отвлечься по каким-то делам, я ещё его увеличила. Щёлкнула ножничками, и декольте как у Брижит Бардо. Бабка ужаснулась, корила себя, как это она не рассчитала? Вроде примеряла. А мне так в самый раз, ну точь-в-точь, как у Анжелики, маркизы ангелов. Только где теперь добыть бюстгальтер под такое «дэкольтэ». На нашем одесском толчке я видела подобные у спикульш, да больно цена кусачая. За что платить такие деньжищи? За две чашечки с поролоном и застёжку? Через пару часов, призвав на помощь известную пословицу о голи, которая на выдумку хитра, я уже крутилась перед зеркалом с причёской Анжелики и бюстом Софии Лорен в новом бюстгальтере. Наряд дополнили новые босоножки на каблучке. Подкрашенные глазки и губы; все, можно топать на седьмую станцию Большого Фонтана заправлять сифоны. Но не это главное, на кухне было про запас еще несколько полных сифонов, главное – выгулять новый наряд, достойный королевы. Бабка как увидела меня при полном параде, руками замахала:
– О, господи, разве можно в таком виде на у лице появляться? И я, старая дура, тебе потакаю, на удочку попалась. Алка с мамой меня прибьют. Снимай, не позорься. Тебе ж проходу не будет, засмеют.
– Бабуля, ты лет на сто отстала. Юбку, по большому счёту, хорошо бы ещё подкоротить.
– Куда ж ещё? И так скоро колени наружу выползут.
– Вот и хорошо, теперь так модно, все носят выше колен.
– Куда же ещё выше? Ты как верста длинная.
Прикид действительно был вызывающий. Я долго крутилась перед зеркалом, и так, и сяк, и всё же решилась: будь что будет. Кто меня здесь увидит, на наших фонтанских «высырках»?
Подхватив авоську с сифонами, я рванула на седьмую станцию, внутренне борясь сама с собой, со смущением от явно экстравульгарного одеяния. Гордо топала, стараясь не обращать ни на кого внимания. Впрочем, мне повезло, людей на у лице не было, попрятались от пекла. Навстречу попался лишь какой-то дядька с пивом и бычками, да раскалённые железные трамваи проносились, обдавая жаром. Дядька тот, правда, посмотрел на меня косо, даже, мне показалось, зло ухмыльнулся, но я метеором проскочила мимо него. Очередь на заправку сифонов растянулась вдоль всего магазина и змейкой сворачивала в переулок. Собрав за получасовое стояние пристальные взгляды толпы на своей неотразимой персоне, особенно самого заправщика, я отправилась на рыночек купить себе пару персиков. Тут уж меня ждала еще более пронзительная оценка – сверху вниз и наоборот. Наряд производил эффект, которого я не предполагала. Особенно оживились торговцы свежей рыбой, в большинстве своем местные рыбаки, все как один, они стали предлагать связки с бычками и глосиками.
– Оце рыбка так рыбка, скумбрия качалочка. Куды ж ты плывёшь? Бери за полцены. Та шо, бери за так, я тебе до дому йи прынесу сам почищу и пожарю сам. Ох, и вкусная ты рыбка!
Они дружно ржали, как лошади, буквально пожирали меня глазами. Больше всех усердствовал мужичок в линялой тельняшке с грязным фартуком поверх, в подранных галифе и галошах на босу ногу, перед которым на прилавке лежала разложенная по кучкам тюлька. От их наглых взглядов я сначала растерялась, а потом быстро рванула на противоположную сторону улицы, не оборачиваясь и едва не плача. Про персики я и забыла, поскорее бы смыться. Вот идиоты, в центре никто бы на меня и внимания не обратил, там такие мадам, в таких одеяниях прогуливаются – и ничего. А здесь эти деревенские придурки… И этот мужик противный в грязном фартуке, он даже пытался прикоснуться ко мне.
– Девушка, извините! Девушка! – громко окрикнул меня кто-то. – Подождите, не убегайте.
Я летела, как угорелая, но спиной почувствовала, человек меня догоняет. Вот он уже поравнялся со мной и вдруг перегородил дорогу. Передо мной стоял невысокий мужчина неопределённого возраста, но явно не юноша. Белая рубашка с погончиками говорила о том, что её хозяин – водоплавающий в каких-то чинах. Я по правде в этом не очень-то разбиралась. Смотрела на него и не могла понять, где я его уже видела. Лицо его мне показалось знакомым.
– Разрешите представиться: Всеволод Иванович. Можно вас проводить…
Только этого мне и не хватало, ему бы о вечном уже думать, а он просится провожать меня, да ещё лыбится. Ну, хоть не хамит, как другие. Напхать ему мне как-то неудобно, не за что пока, хотя и стал посреди дороги.
– Не нужно меня провожать, я и без вас дорогу знаю. Не заблужусь. Но дядька, видно, не собирался отступать.
– Извините, я вас приметил, еще когда вы на заправку торопились. Вы меня поразили, честно скажу сразили, что называется, наповал. Я за вами по рынку ходил. Как вас зовут?
Вот нахал, что он мелет? Зачем?
Я стала рассматривать его так же нахально. Интересно, сколько ему лет? Светлые, очень тонкие волосы, скорее пепельные, чем седые, ничем не примечательное лицо, обыкновенное, простое. Глаза тоже светлые, голубые, как будто бы немного выцвели, тонкие губы, и золотая фикса поблескивает с краю рта. Не толстый, живот подтянут, от моего пристального взгляда смутился, приподнял плечи, румянец залил загоревшую на лице кожу. Я мысленно отметила: загар заканчивается на уровне шеи, дальше кожа белая. Значит, не отдыхающий, те всем телом загорелые. Похоже, он ровесник моего дядьки Лёни.
И тут вдруг слышу, меня зовёт моя подружка Галка и машет рукой: «Оля! Оля!»
– Ну, вот, я теперь знаю ваше имя – Оленька! Оно вам очень идёт, – улыбка залила лицо незнакомца, и сам он весь засиял, будто сделал какое-то важное для себя открытие. – А это ваша подружка?
– Да, до свидания.
Но Галка уже бежала через дорогу нам навстречу продолжая что-то орать и махать руками:
– Привет! Здравствуйте!.
– Здравствуйте. Меня зовут Всеволод Иванович. Если вас не смущает, можно просто Сева, – он галантно расшаркался перед ней.
Галка, похоже, сразу учуяла весь комизм положения и с ходу парировала:
– Здравствуйте, просто Сева, а меня зовут просто Галя.
Она скорчила свою и без того лукавую рожицу, на его приветствие ответила балетным реверансом и протянула кокетливо ручку для поцелуя. Новый знакомый, однако, никак не отреагировал, только как-то неестественно улыбнулся и вновь нахально оглядел меня. Галка не смолкала:
– Я от тебя иду, бабушка сказала, что ты с сифонами умотала в новом наряде. Ну-ка покажись. О, просто Сева! – продолжала тарахтеть она. – Как вам моя подруга? Мондель, как есть мондель! Как вы считаете, она больше на кого похожа – на Клаудию Кардинале или Мэрилин Монро? Как по-вашему? Не можете определиться. Я, знаете, тоже. Сейчас мужиков штабелями будем укладывать. Вы нам поможете?
Мы медленно двигались в сторону моего дома и со стороны, наверное, напоминали семейное трио: заботливого папу с двумя взрослыми дочерьми за обсуждением каких-то проблем.
– Между прочим, платьишко надо обмыть, подруга, чтобы хорошо носилось, – заголосила вновь Галка. – Повернись, сзади посмотрю. Полный отпад, молодец, кто придумал, классно получилось. Всеволод Иванович, хороша у меня подруга, а? Все женихи фонтанские теперь ее.
– Женихи точно будут, пожалуй, первая жертва уже есть. Я согласен обмыть такой наряд в любом ресторане. Но, по-моему с вашими ножками можно юбочку и покороче. Сейчас вся Европа носит юбки Мери Куант. Не слышали? Известный британский модельер. Правда, мини не всем рекомендовать можно, но вы, Оленька, приятное исключение.
Мы с Галкой переглянулись, поддержать разговор на эту тему не решились, поскольку ни о какой такой Мери знать не знали. Правда, в Одессе уже давно пошёл бум на дико короткие юбки, напяливают их все подряд, идет, не идет, мода – и все, а какие там ноги, какая фигура – неважно. У Галки вон тоже юбка длинновата, она её в парадной в талии несколько раз подкручивает, кофточка навыпуск – и не видно.
Мне, конечно, только ресторана не хватало в его компании и в этом наряде. Я сразу наотрез отказалась: мне возвращаться надо, сифоны отнести, и вообще, меня давно дома ждут.
Хитрющий «просто Сева» достал из заднего кармана брюк блокнот, оторвал листок и, быстро, красивым почерком написав номер телефона, протянул мне:
– Домашний, звоните в любое время.
– А у меня телефона нет, пусть у Гали будет листок.
– Девочки, я живу в этом доме, вот мой балкон на втором этаже. А здесь, в кустах, я оставил пиво и бычков. Не с ними же бежать за этим милым созданием. Обалдел, как ее увидел идущей навстречу в солнечном сиянии. Она прошла, а я стою и смотрю ей вслед. Помните, как в песне: «А я всё гляжу глаз не отвожу». Оторопел, потом опомнился: что я стою, как истукан, уйдет же. Ну и рванул. Ждал, когда вы заправите сифоны, а потом на рынке следил.
Всеволод Иванович глубоко вздохнул, затем обернулся к раскидистому кусту перед домом, где были припрятаны бычки. Сейчас выловим их… Он отогнул ветку, оттуда послышалось шипение.
– Брысь, сволочи! – он вытащил связку с обглоданными кошками рыбками. Под веткой лежали лишь несколько бутылок «Жигулевского».
– Наловил, называется… Хорошо, что пиво кошки не пьют Не велика потеря, зато вот познакомились.
Мы так смеялись, просто до слёз, а больше всех наш новый знакомый. Этот взрослый мужчина был настолько с нами прост, за несколько минут общения расположил к себе.
– Девочки, приходите ко мне, пивка попьём, поболтаем. Можно я вас провожу?
– Нет, не надо. Мы вам обязательно позвоним.
– Я буду ждать, не обманите, – он помахал нам рукой и, подхватив свое пиво, скрылся за углом своего дома, а мы, смеясь и толкаясь, как дети, развернулись и двинули в мой двор, решили еще погулять или посидеть на лавочке, только я занесу сифоны домой. Я даже забыла, что у меня такой развратный наряд.
– Ну что, Олька, будем Севульчику звонить?
– А зачем? Что мы с ним делать будем?
– Да просто поприкалываемся. Интересно, кем он плавает? Он тебе не говорил?
– А я и не спрашивала. Хотела сразу отшить дедушку Севу, а тут ты нарисовалась, перебила. Сейчас бабке газировку отнесу и этот наряд сниму а то кошмар, дышать нечем, чересчур перетянула, крючки перешить надо. И может, действительно рванем куда-нибудь. На Приморском давно была?
Потом мы пошли к Галке и, конечно, позвонили нашему новому знакомому. Галка разговаривала с ним от моего имени. Мне бы такой смелости ни в жизнь не хватило, а она выпытывала, женат ли он (врал, наверное, что нет), кем плавает? Его ответ поверг нас в шок: капитан!
– Олька, ты подцепила капитана! Пойдём к нему в гости. У нас ещё не было капитана. Ну, ты даёшь, подклеила капитана, подруга!
Сомнения (а вдруг это прикол с его стороны?) нас мучили совсем недолго. На Приморский в следующий раз, а сейчас – стеснение в сторону, почесали. Пусть даже «любопытство и не порок, а только большое свинство». Сдуру, конечно, но ребячья радость, поиск приключений на собственную ж… победили.
Дверь открылась сразу, едва позвонили. На пороге нас встретил Всеволод Иванович. От неожиданности он явно был растерян, предложил пройти в его кают-компанию, стал говорить, что не успел ещё надраить палубу: матросы у него кончились. Однокомнатная квартирка выглядела явно запущенной, жильё холостяка. Мебель самая простая, набор из разных опер. На окне и балконной двери не было занавесок, от солнца часть окна закрывалась изнутри серебристой отражающей солнцезащитной плёнкой. Зато в углу на полках над письменным столом красовалась японская техника: телевизор, приёмник. А самое главное – магнитофон и целая стопка бабин с плёнками, пластинок, географических атласов и книг по судовождению.
Почти по всему подоконнику были разбросаны фотографии, большинство, судя по надписям с обратной стороны, сделаны в других странах. На некоторых сам Всеволод Иванович. Больше всего поразили его снимки при полном пара де в тёмной и белой морской капитанской форме в фуражке с крабом. Мы с йлкой только переглянулись и положили фотки обратно. Хозяин дома действительно был настоящим капитаном. Пока он суетился на кухне, Галка нацепила мне на голову его фуражку которую стащила со шкафа. В ней, как две обезьяны, покривляли рожицы перед зеркалом гардероба, нам было так весело, покатывались со смеху. Зачем мы ему понадобились? Нам-то он ни к селу, ни к городу. Наверное, одиночество мучает, по-видимому, очень скучает. Поставил нам пластинку, ещё спросил, догадались ли мы, кто это. Я хоть и закончила музыкалку однако понятия не имела. Не можем же мы всё знать; когда нам будет столько лет, как ему то тоже наберём соответствующий багаж. А сейчас мы отдыхаем, сессии сданы, до первого сентября мы вольные казаки.
– А вот это, девочки, вы просто обязаны знать, они на весь мир известны.
И он поставил пластинку «Битлз». Её-то мы, слава богу, сразу узнали, даже стали подпевать.
Тем временем круглый стол посреди комнаты начал наполняться разной вкуснятиной. Наш кавалер надел фартучек и, как заправский шеф-повар, орудовал на кухне. Всё было так красиво сервировано. И нарезано. Видно, ничего не пожалел, всё, что было, выставил. Особенно напитки… Мы с Галкой только перемигивались. Из буфета он достал целый блок сигарет «Честерфильд», потом «Мальборо» и ещё какие-то. У нас глазки загорелись.
– Девочки, а вы курите? – А как же!
– Только на балконе, хорошо? Я не переношу запаха табачного дыма. Бросил. И вам советую. Целовать курящую женщину – всё равно что вылизать пепельницу.
Слава богу, поцелуи отменяются, захихикали мы.
Всеволод Иванович умотал на кухню, а мы с Галкой собрались было на балкон, но тут же спохватились: какой балкон, там нас ещё кто-нибудь застукает.
Я толкнула подругу: ты более смелая, попроси у Всеволода Ивановича по пачке сигарет нам в подарок, когда уходить будем. Мол, раз вы нас угощаете и не терпите запах, так мы возьмём с собой, ладно? Всеволод Иванович не возражал: «Да, конечно, я привёз их для друзей, а мы с вами, я надеюсь, подружимся». Он пристально посмотрел на меня. Мне стало неловко. Наконец он снял свой фартучек и пригласил нас к столу.
– Что будете пить, подружки?
Выбор был богат: коньяк «Наполеон», виски, кока-кола и пиво в банках.
– Я, если можно, это, – я ткнула пальцем в коку-колу Признаться, до этого никогда её не пробовала.
– А я попробую баночного пива. Можно?
– Вам всё можно, вы сегодня мои гости. Я, пожалуй, тоже на пиве остановлюсь, – он по-хозяйски открыл банку пива. – Так захотелось разливного нашего, но попробовал и всё вылил. Бурда какая-то.
Я, конечно, не выдержала и напхала ему по первое число:
– А мы в этой бурде так и живём и не замечаем, плох ое или хорошее. Пиво как пиво. Вечно эти мореманы только нюхнут один раз заграницу, так сразу и начинают хаять всё отечественное.
Капитан на мои слова никак не отреагировал, даже бровью не повёл. Выдержал первый выпад, как в фехтовании говорят. Я попыталась открыть свою банку с водой, но только надломила ноготь.
– Давай, Оленька, помогу, – однако вместо того, чтобы взять у меня банку, он двумя руками обнял мою руку. Руки его были не то чтобы тёплые, а просто горячие, хорошо, не потные, чего я совсем не переношу. Паразитка Галка сделала вид, что ничего не заметила, закатила глазки к потолку. Наконец он взял в руки эту банку с колой и показал, как её открывать. Так легко и просто, вот загнивающие капиталисты до чего додумались. Из дырочки в банке пошёл не то дымок, не то лёгонький пар, вода заискрилась, приятно запахла.
– Так что, за знакомство!
То ли я сделала чересчур большой глоток, то ли приторная жидкость попала мне не в то горло, только я так поперхнулась, что газ пошёл у меня через нос. Я закашлялась, подавилась, да так сильно, что слёзы полились из глаз. К чёрту эту кока-колу. Для меня всегда было проблемой пить из горла. Когда с девчонками покупали вино, всегда тырила в автомате с газировкой гранёный стакан.
Всеволод Иванович засуетился, побежал за полотенцем, вытащил из буфета импортные салфетки с каким-то рисунком; даже жалко было их портить, такие они были красивые. Пока я приходила в себя, он достал бокалы, помыл и тщательно протёр их, перелил из банки в один из фужеров остаток этой коричневой воды. Но мне уже расхотелось её пить, по правде, она мне совсем не понравилась, может, как Галка, лучше пива попробовать?
– Всеволод Иванович, лучше пива, – и я первый раз пристально посмотрела ему в глаза. Это продолжалось какое-то мгновение, но я почувствовала к нему расположение. Мы пили вкусное пиво, закусывали чёрной икрой, намазанной на импортные галеты. Потом он открыл банку с моими любимыми крабами и подкладывал их мне на тарелочку. Так же обходителен он был и с моей Галкой.
Чтобы опьянеть от пива в Одессе, это нужно выпить пол Чёрного моря, как минимум. А здесь от двух баночек я почувствовала, как меня покачивает. В голову стукнула такая дурь; не знаю, как Галка, а я что только не несла. А наш кавалер только улыбался и всё ближе ко мне подсаживался, стараясь положить руку на плечо, притянуть к себе, погладить. Я чувствовала его горячую ногу, и это меня еще сильнее забавляло. Я толкала подружку, она шептала мне, что кавалер поплыл, но, по-моему, мы сами уже куда-то уплывали, в какую-то неизведанную морскую даль.
– Пора сниматься с якоря, – вдруг громко объявила я, – время дома заступать на вахту.
Всеволод Иванович аж подпрыгнул:
– Ещё не капитанша, а уже как командует!
– Так у неё есть пароход, собственный, между прочим, – заявила Галка. – Смеетесь? А зря. Самый настоящий пароход.
Капитан как-то недоверчиво посмотрел на меня, очевидно, посчитал, что гостьи нализались и несут всякую чушь.
– Видим, вы не верите, – Галка буквально впилась в капитана своими карими глазами. – Нет, честное слово, зачем нам вас обманывать.
– Как же он называется, этот пароход? – он уставился на меня парализующим взглядом.
– Как надо, так и называется. Олькину фамилию носит. Олькиного деда. Правда, правда! «Старшина Приходченко». – Галка выдержала паузу, словно давая Всеволоду Ивановичу прийти в себя от неожиданного известия. – У нашей Ольки будет муж капитан, и ходить он будет на этом пароходе, – прилив фантазии накатил на Галку, словно вал крутых морских волн на берег. – А она с букетом его встречать. В день по двадцать раз. Как так? А вот как! Он пришвартуется на 10-й Фонтана, Олька с букетом на пирсе ждёт, как положено. Потом попрощаются, расцелуются, помашет она ему платочком – и бегом на трамвай до 16-й Фонтана. Там опять с цветочками встречает. И так целый день. Рейсов ведь сколько, сейчас сосчитаю: Одесса-порт – раз, Ланжерон – два, Аркадия – три, 10-я Фонтана – четыре, 16-я Фонтана… Да ещё заходы в «Черноморку», Лузановку Это только туда, а еще и обратно.
Галка разошлась не на шутку, не остановить, продолжала заливать:
– А потом ещё и деток целый выводок сквозь шум волн с берега заголосит, представляете такую бурную жизнь? Всеволод Иванович, нужно соглашаться. Такой шанс раз выпадает. Да, самое главное забыли. Вечернее турне по бухте, целых три часа, при огнях, это уже на сладкое.
На Галку словно снизошло вдохновение, она еще долго фонтанировала разными идеями, что теперь за подругу спокойна, сделала доброе дело, пристроила в хорошие руки, на душе приятно. Словом, сплошная радость, мечта поэта, Ассоль такое и не снилось.
Наш бедный хозяин уже не смеялся, а откровенно ржал. Я чувствовала, что сама от смеха сейчас, простите, уписаюсь, и первой рванула в капитанский совмещенный туалет. Немного бы задержалась – было бы поздно… «Быстрее, Олька, я тоже хочу!», – в дверь уже барабанила подруга.
– Галка, зачем ты все это затеяла, мою фамилию назвала?
– Та хрен его знает, как-то к слову пришлось, сама не понимаю, откуда. Это же несерьёзно.
– Боюсь, вдруг приставать начнёт.
– Нет, не думаю. Если что – остудим его пыл. Мужик не нахальный, не жадный, приятный, будем с ним дружить. Жаль, что для нас старый. Интересно, сколько ему лет?
– Думаю, до сраки, не меньше. Тебе нужна дружба с ним – мне нет. Если хочешь, можешь взять его себе.
– Ты, Олька, меня знаешь, я у подруг хахалей не отбиваю, – гордо закинув голову и изобразив обиду, она завалилась на диван.
– Галка, куда ты опять садишься? Пора сваливать.
– Так ещё рано, детское время, домой неохота.
– Покурим ещё по дороге, ты только про сигареты не забудь.
– Не забуду мать родную. Надо бы выклянчить ещё хоть пару пачек.
– Ну и клянчь, я не буду, на хрен он мне сдался, – я начала немного злиться на Галку, чего раньше за собой не замечала. Все нас считали подружками не разлей вода.
Диалог наш прервал объявившийся с бутылкой ликера в одной руке и коробкой конфет в другой сияющий во все свое загорелое лицо капитан. «Где он все это вылавливает? – подумала я. – Запасливый дядька, чем еще удивит, пока мы не смоемся?»
– Девочки, хватит кокой и пивом баловаться, давайте что-нибудь покрепче и повкуснее за знакомство выпьем.
Галка согласилась попробовать, сделала несколько глотков. Я едва пригубила. Ликер был настоящий итальянский, ароматный и приторный. Как будто помадой сладенькой губы помазала. От коробки конфет, которую открыл Всеволод Иванович, нельзя было оторваться, до чего же красиво и аккуратно все в ней было уложено, а на крышке Венеция, канал и гребец в гондоле. Мы здесь же стали наперебой рассказывать, как бесились на кондитерской фабрике, когда десятиклассниками проходили там производственное обучение. Он хохотал от души и тоже вспомнил пару баек из своей, наверное, молодости. Как в первый раз за границей купили кокосы. А на борт нельзя было их заносить, запрещалось. В каком-то парке пытались их разбить, молочка попробовать, ножичком тыкали-тыкали, ничего не получалось. Один утопили с досады в туалете портовой харчевни; представляете, как хозяин нас крыл за эту подлянку Матросик на судне был, шебутной хлопец, он все же решился пронести с собой кокос в штанах. Пока по причалу шёл – все нормально, а по трапу стал взбираться – орех этот у него съехал набок и торчком торчит на этом самом месте… Вахтенный на него уставился, хочет что-то сказать – не может, дар речи потерял. В общем, понимаете, и смех, и грех…
Всеволод Иванович вдруг смолк, лицом покраснел, видимо, постеснялся продолжать, неудобно стало.
– Ладно, я вам о другом случае лучше расскажу.
– В следующий раз, нам пора, уже поздно. Провожать не надо, мы сами, вам ещё прибраться нужно. Насвинячили мы здесь, извините.
– Оля, можно тебя на минуточку.
Ну вот, сейчас начнется. Отказывать, глядя прямо в глаза, неудобно. Сколько уже раз бывало: познакомишься с парнем, он загорается новым свиданием, а я стесняюсь сразу отказать, не хочется портить человеку настроение, пусть хоть немного помечтает. Да и у самой есть время подумать: стоит или не стоит тащиться на эту встречу, хотя чаще всего заранее знала, что не пойду. Но то были мои ровесники или чуть постарше, а сейчас…
– Оленька, я тебя ещё увижу? – капитан смотрел мне прямо в глаза, и врать было почему-то стыдно.
Так я и знала. Что ответить? Человек со всей душой, но что делать. О каких встречах он говорит? Кому они нужны?
– Конечно. Мы же соседи, рядом живём, телефон я знаю, обязательно созвонимся.
Господи, что я несу. Зачем без зазрения совести вру? Я не хочу его обманывать. Он мне и вправду симпатичен, только не в этом смысле. Был бы хоть наполовину моложе, а то седой – и туда же. В кавалеры набивается, целует руку, покраснел, как ясна девица. Выдернуть, не выдернуть руку, другого уже бы давно оттолкнула, все-таки спортом занимаюсь, в волейбол за институт играю. А этот и в щёчку чмокнул, да так громко, что подруга на шухере закашлялась.
Тикать скорее отсюда. Перепрыгивая сразу через несколько ступенек, мигом оказались на улице. Радовались выцыганенным сигаретам, а я больше всего, что такое странное свидание закончилось.
В нашем дворе было пусто. Мы с Галкой уселись на прикрытую со всех сторон от любопытных взглядов скамейку и зашмалили. Сигареты крепкие, настоящие, затягивались ими на весь запас лёгких и возвращались к только что закончившемуся приключению. Утром вдвоем почапали в Аркадию на пляж. Только поплавали, улеглись на подстилку под обрывом, как услышали: «Теплоход «Старшина Приходченко» прибывает в порт Аркадия. Стоянка 15 минут. Теплоход следует до Черноморки с заходом на 16-ю станцию Большого Фонтана».
Галка ткнула меня в бок: – Олька, везуха, твой пароход, может, махнем на нем на 16-ю, там песок почище, тебя бесплатно должны катать, и меня как-нибудь пристроишь.
А объявление продолжалось: «Сегодня теплоход «Старшина Приходченко» в 20.00 совершит трехчасовую морскую прогулку по береговой акватории города-героя Одессы. К услугам отдыхающих буфет, открытая и закрытая палубы, концертная программа и танцы. Капитан судна и экипаж ждут вас».
Так, у Галки сегодня есть очередной повод подшучивать надо мной, сейчас начнется. И действительно, Галка, как заправская гимнастка, махнула ногой в сторону загоравших рядом отдыхающих: – Вот эти люди и не догадываются, с кем лежат рядом. И вообще, Олька, какого черта этот старый хрыч капитан рулит твоим пароходом. Ему лет восемьдесят еще в прошлом веке стукнуло, он бабке твоей в женихи годится. Лучше нашего Севульчика вчерашнего пригласить, у него и команда своя есть.
Хватит, это перебор. Надоело. Свертываю свою подстилку и ухожу.
– Обиделась? Ладно, всё, больше не буду, – пошла на попятную моя закадычная подружка.
– Галка, а давай с тобой стишки посочиняем, я вот вчера вечером пыталась, но в рифму плохо укладываются, талант нужен.
Галка перевернулась на живот, раскинула руки, будто крылья: слушаю.
– Нет, не буду, ерунда какая-то.
В свете солнечного дня Вся сияя и блестя, дева юная пред кэпом проплыла. Ах, девчонка высока, и красива, и стройна, Не заметила седого моряка.– Теперь, Олька, я, – воскликнула Галка. – Запоминай.
Возвращался капитан, как влюблённый мальчуган, К своим брошенным в кусты бычкам. Но хвостатые коты съели все его бычки, И остался он голодным, капитан.– Ничего себе – голодным, весь холодильник забит, – среагировала я на Галкин экспромт. Мы еще долго дурачились, но стишки всё никак не получались, примитивные какие-то, наконец нам надоело, и мы завыли песенку про японку:
Так наливай, чайханщик, чай покрепче. Много роз цветет в твоём саду. За себя сегодня я отвечу, За любовь ответить не смогу…Мне всегда доставляло удовольствие, просмотрев очередной фильм, наиграть по памяти мелодию из него и горланить, правильно-неправильно – значения не имело. Вот и сегодня, вернувшись домой с пляжа, начала мурлыкать песенку про капитана, пытаясь втиснуть в нее наши с Галкой корявые строчки. Бабка, хорошо знавшая все настоящие слова, заругалась: что за хохма, зачем такую песню портишь, дед ведь как ее любил. А мне было смешно и радостно. Как всё-таки приятно, когда в двадцать лет кого-то покоряешь наповал. Как он на меня смотрел! Какие у него глаза! Как у того кота, который сожрал его бычки, хорошо еще, что кошки пиво не пьют. Рассказать бабке, похвастаться? Нет, не буду, воздержусь, с моими предками шутки плохи, не поймут, еще скандал закатят.
В общем, через несколько дней забылся и моряк, и его добыча. Я вечером выфрантилась и поплентухалась к подружке – пора в таком прикиде в центре себя выгулять, мы же собирались тогда с Галкой на Приморский бульвар, да капитан перебил. Мне ничего пока не надо, кроме как наряды показать. А почему только наряды? А я сама? Вот какая я! Смотрите, любуйтесь, завидуйте!
Да, это я! Мне двадцать лет! Я не хожу по этой грешной земле, я летаю над ней. И первые жертвы моей неотразимости уже есть. Хочется покорять, нравиться всем. Пусть видят, как я хороша! Какая классная у меня фигура! Смотри, как вон тот парень пристально за мной наблюдает, весь изворачивается, чтобы лучше разглядеть. Явно хочет подрулить. Пусть только попробует, так и получит от ворот поворот.
Галки дома не оказалось, умотала без меня. Куда бы это, утаивает от меня, подружка называется! Осталась я с большим носом, как говорит моя бабка. Идти к Лильке Гуревич или Фатиме, потом с ними куда-нибудь переться что-то нет желания, будут нагружать меня своими проблемами. Приморский подождет, посижу в своем дворе, покурю с мальчишками, в пинг-понг поиграю.
И надо же. Едва так про себя решила, а навстречу, чуть ли не нос к носу, капитан плывёт, никак не перебежать на другую сторону улицы. Он от радости в ладоши захлопал.
– Здравствуйте, милое создание. Такой девушке, как ты, ходить без конвоя опасно, хороший рулевой нужен.
– Это неизвестно ещё кому грозит опасность, – моментально парировала я.
Он как рассмеётся:
– Молодец, внучка капитана! Далеко плывёшь? Домой? А может, куда-нибудь сходим?
– Я со взрослыми дядями не гуляю, рановато ещё.
– Оглянуться не успеешь – поздно будет. Это только кажется, что молодость долгая. Я себя только в качестве охраны предлагаю.
Что это я кипячусь? Уже ведь совсем не маленькая. Мне всё равно делать нечего. Лето летит, после экзаменов две недели промелькнули как один день, а так толком никуда еще не выбралась. Про себя решила: не шастать же с ним по Дерибасовской, ещё Леня, мамин брат, или еще кто-нибудь узреет. Может, в парк Шевченко двинуть. Там всегда что-то интересное происходит.
Но капитан предложил послушать у него дома музыку Наивный в свои дремучие годы, за кого он меня принимает?
– Спасибо, мне музыка в музыкальной школе на доела. Я сама концерт могу исполнить по заявкам телезрителей.
Он смеялся, смеялась и я. Стало так весело. Мы оба понимали, что просто играем в какую-то загадочную игру, и внутри у меня проснулось соперничество: кто кого переиграет.
– Тогда вместе поужинаем. Какой предпочитаешь ресторан?
– Мы девушки скромные, неиспорченные, по ресторанам не шляемся, в основном по кустам, – от своей неудачной хохмы я смутилась, а капитан, наоборот, оживился. А он симпатичный, когда улыбается, даже молодеет.
– Что ж, придётся и мне молодость вспомнить. По кустам так по кустам».
– Извините, Всеволод Иванович, я неудачно пошутила.
– А я нет. Не могу припомнить, когда последний раз вот так просто гулял по улице, да ещё с такой коварной собеседницей.
– Наверное, до моего дня рождения. Он остановился:
– А ведь ты, Оленька, недалека от истины, может, даже и раньше. Я ведь войну прошёл, с четырнадцати лет на флоте. А после войны плавал, учился. Особенно ухаживать за девушками не было возможности. Так всё пролетело, всё думал, успею…
– Так вы, выходит, настоящий морской волк?
– Не знаю, как насчет волка, но море – вся моя жизнь, я другой не знаю.
– И мой дедушка тоже, – я глубоко вздохнула, веселость мигом улетучилась. – Он ничего в жизни кроме воды и шторма за бортом не видел. Через три войны прошёл, и все на море. Тонул, горел, чудом спасся. Оно его вторая родина.
Незаметно мы добрались до Аркадии. Разговор то клеился, и тогда оба живо включались в него, находя общие темы, чаще всего связанные с морем, Одессой, либо умолкали, думая каждый о своем. Я все пыталась разгадать тайну жизни Всеволода Ивановича – пока что он не очень приоткрывал ее, так, общими штрихами. Ну и я не буду распространяться.
– Не знаю, как ты, Оля, а я очень жрать хочу, – как-то по-простому совсем неинтеллигентно выразился капитан. – Целый день учился, повышал квалификацию, перекусить некогда было. Пошли в ресторан. Боишься, нас увидят, что-то нехорошее подумают? Я соображу что сказать: вот собираюсь на тебе жениться. Не возражаешь?
Он озорно посмотрел на меня, и взгляд был такой теплый, теплый. Этот совсем чужой и взрослый мужчина так умел расположить к себе, что мне вдруг почудилось, что я знаю его тысячу лет. Мы поднялись на освещенную балюстраду и вошли в зал. Он был полностью заполнен, я немного стушевалась и машинально сделала шаг назад, наступив своему кавалеру на ногу. Всеволод Иванович по-хозяйски огляделся вокруг и, подхватив меня под руку уверенно подвёл к дальнему, у окна, столику за которым сидели какие-то мужчины.
– Пришвартоваться к вам можно? Я не один, с дамой сердца, – и для убедительности, что ли, поцеловал в щечку. От внезапности у меня мурашки по телу побежали. Мужчины уставились на меня, как будто никогда в жизни женщин не видели.
– Что за разговор, Всеволод Иванович, конечно, проходите, – они засуетились, повскакивали со своих мест, где-то раздобыли два стула и усадили нас. Я оказалась у самого окна, оно было приоткрыто, задувал приятный ветерок, не так душно. Да и как с капитанского мостика хорошо все наблюдалось.
– Всеволод Иванович, вы давно в Одессе?
– Два месяца уже. Если бы не эта красавица (он показал на меня пальцем), давно бы в рейс ушёл. А так, она меня не пускает Говорит, люблю, жить без тебя не могу. Ах, да, познакомьтесь: это моя Оленька.
Я занервничала, мы так не договаривались, подумала даже: может, встать и уйти сразу, но вместо этого выпалила:
– Не верьте, Всеволод Иванович друг моего дедушки покойного.
– А мы и не верим, – дядьки сидели, как пришибленные, и только переводили взгляды то на меня, то на капитана. – Вы, девушка, на него не обижайтесь, он шутить любит. Но не со всеми. Он знаете, какой строгий! Давайте выпьем. Всеволод Иванович, что Оленьке налить?
– Ситро. Шампанское может пузырями из носика выскочить, да ей шампанское ещё рано, если только ближе к вечеру…
Я успокоилась, почувствовала, что напрасно волновалась, мне ничего не угрожало в этой мужской компании. Я только молила бога, чтобы никто из знакомых меня не запеленговал. Сидела и наблюдала, как они все стараются ему угодить, даже понравиться. А капитан, разговаривая с ними, не переводил с меня своего взгляда, впивался в меня излучающими ласку глазами. Где-то мелькнула мысль: неспроста все это, но зачем ему студентка, когда столько вокруг свободных и ухоженных женщин? Пофорсить, вспомнить молодость? Они всё говорили о каких-то рейсах, штрафах, других неприятностях, у какого-то судна сильным штормом перебило мачту. Я пропускала всё мимо ушей. Один, который сидел напротив, строил мне пьяные глазки. На салфетке что-то написал и незаметно положил под руку. Не разворачивая, я скомкала бумажку и бросила в тарелку. Мой ухажер дождался, пока доела мороженое, и громко произнёс:
– Все, мужики, спасибо, что приютили. Нам пора баиньки, в теплую постельку.
Вот сволочь, коварный гад, как он меня уел. Я тебе покажу, где раки зимуют, теплую постельку. Правильно бабка причитает, не верь мужчинам, обманщики все. Пофорсил перед этими водоплавающими, что такую девчонку подцепил. Мол, смотрите, каков я. Вот никуда не пойду, возьму и приглашу танцевать этого молодого, что напротив, кто он там – вроде моторист задрипанный. Но капитан уже расцеловался со своей старой командой и крепко ухватил меня под ручку: «Пойдём, дорогая». Я чуть не взвыла от злости. Как мне хотелось в ту минуту развернуться и врезать ему свободной левой, но он ловко перехватил её.
– Вы что, – взвизгнула я, – мне больно! Синяки будут, что за шутки идиотские? В каком свете вы меня выставили? Что они подумают обо мне?
– А что они могут подумать? Нравишься мне ты, я им честно сказал об этом.
– Но это же неправда! Вы же унижали меня перед ними. Зачем?
– Правда, Оленька, сущая правда. Вот такой я старый дурак, влюбился в тебя. Запомни, девочка, любовью нельзя ни обидеть, ни унизить.
– А меня вы спросили? Я же не член вашей команды. И терпеть этого не желаю.
Он отпустил мою руку и молча плелся сзади, попросил не спешить – устал, день был сложный, предложил жвачку Я взвинтилась: ничего не хочу, только домой, ух и влетит мне сейчас по первое число.
– А ты скажи, что выходишь замуж и задержалась с женихом.
– А жених это вы, что ли?
– Я! А что, не подхожу? Я сегодня, между прочим, экзамен на пятёрку сдал.
Я, конечно, знала все ругательства, кто в Одессе их не знает, еще и свои есть, чисто одесские, похлеще остальных будут, но сейчас про себя выдавила самое мягкое: придурок. Совсем крыша у капитана поехала. Однако странное дело: отвращения к нему не испытывала. Внезапно меня охватил такой смех, будто только что новый анекдот услышала или клоун в цирке остроумием удивил, а цирк я обожала с детства. «Жених» не сдержался и тоже захохотал.
– Открой лучше рот, ругательница, – он протянул мне жевательную резинку. – Обожди, откуси мне немного, не будь жадиной. Она у меня последняя. Я как курить бросил, подсел на эти жвачки. Не могу уже без них. Правда, вкусная? Будешь моей женой, на всю жизнь жвачками обеспечу.
Ну как на него обижаться? Ещё ни с одним парнем я так здорово не свиданьичала. Полдня сплошная ржачка и приколы. Почему он так рано родился? А он как будто бы мои мысли читал, чем не Вольф Мессинг, о котором днями передачу по радио слушала. Говорит:
– Почему ты так поздно родилась, хорошо, что сейчас встретились. Зачем так много куришь?
– Я не курю.
– Не ври, весь вечер на балконе сигарету изо рта не вынимаешь. Бабушка, наверное, ругается?
– А вы что, следите за мной или по компасу адрес мой вычислили?
– Компас – мое сердце, оно подсказывает: это твое, люби эту девушку. Я буду любить.
– Всеволод Иванович, но я замуж не собираюсь, институт надо закончить, на работу хорошую устроиться. Не всю же жизнь маме меня тянуть.
– И ладно, мешать не буду, учись, наоборот, помогать во всём буду. Чарли Чаплина знаешь? Он, когда женился, на сорок лет был старше жены, и дети у них здоровые росли. Счастливая семья. А у нас разница в двадцать лет, понимаю, немало. Но давай попробуем?
Капитан почти вплотную приблизился ко мне, я чувствовала его приятное дыхание с запахом не то земляники, не то малины. И стала отступать назад, пока спиной не упёрлась в акацию. Хотела обогнуть дерево, но ноги с двух сторон обхватили толстый ствол, его крепкие руки меня прижали к нему, я даже не успела защититься. Темнота, глаза в глаза, его губы нежно прижались к моим, не целуя. Мы так стояли долго, целую вечность. У меня онемели и руки и ноги. А он всё не давал мне сдвинуться с места и молчал. Потом нежно стал целовать лицо по кругу – глаза, нос, подбородок, уши. Меня никто так никогда не целовал. У меня стали подгибаться ноги. И, наконец, он потёрся своими губами о мой плотно зажатый рот. Первый же вдох, и он прильнул к моим губам. К своему ужасу, я поняла, что сама хочу и жду этого поцелуя. Мне нечем было дышать, я задыхалась. Я чувствовала биение его сердца, оно громыхало в моей груди. А может, это так стучало моё собственное сердце?
Он больше меня не удерживал, а я не вырывалась. В голове гудело, я чувствовала, как его руки сжимают мою грудь. Кофта съехала под самое горло вместе с лифчиком. Он нагнулся и стал целовать мои соски. Я только шептала: не надо, не надо! Врала сама себе, интересно, что будет дальше?
А он опять впился в мой рот и стал мерно раскачивать меня своим телом. И самое ужасное – его руки, как змеи, нежно ползали по моему телу, а я их не отталкивала. Ждала. Только бы он не прекращал этот поцелуй. Я плыла, я летела, я сама на него навалилась.
Как приятно он говорит: девочка моя, я знал, я знал, что тебе будет хорошо, ты никогда не пожалеешь, пойдём ко мне домой. Он поправил на мне лифчик, кофту заправил, одёрнул юбку, подобрал пояс, весь затоптанный нашими ногами. Сам отряхнул брюки.
– Ну что ты, родная моя, пойдём домой. Ну ну, приди в себя. Ты где? Он обнял меня за плечи, и мы тихо, не проронив ни слова, шли по пыльной улице. Временами останавливались и целовались. Постепенно я начала приходить в себя, словно очнулась. В голове застучало: что я, придурошная, творю, совсем рехнулась? Бежать надо немедленно. Но ноги меня не слушались, стали какими-то ватными, отёкшими. Лицо горит, пылает от небритых колючек на его лице. Я хотела поправить сползавший мне на живот самодельный бюстгальтер, попросила его отвернуться. Но он и не подумал:
– Оленька, теперь между нами не может быть никаких тайн. Давай я вообще его с тебя сниму, он только мешается. Без него лучше. – И полез под кофту.
– Нет! – заорала я. – Не подходите больше ко мне, я буду еще громче кричать.
Всеволод Иванович пытался опять прижать меня к себе, шептал в ухо:
– Успокойся, я люблю тебя, никому тебя не отдам. Мы поженимся, я свободный человек. Ты не представляешь, что ты со мной делаешь. Я больше не могу без тебя.
Рыдая, я отмахивалась от него руками: «Не нужно это всё говорить, я не хочу ничего слышать». Но он продолжал настаивать, и от его слов мне становилось всё более мерзко.
– Тебе же было со мной хорошо, я же чувствовал. А будет ещё лучше, поверь. Только доверься мне, девочка моя.
Эти слова окончательно повергли меня в шок. Скорее убежать и никогда не видеть. Как стыдно, какой позор, боже мой, что я себе позволила? Он всю меня облапал.
Я неслась, как угорелая, капитан отстал. Добежав до угла, оглянулась, его не было. Перелезла через забор соседнего двора к себе и мигом к крану, подставила под него пылающее огнём лицо. Меня всю колотило. Хорошо, что сестра Алка с мамой на лето переехали в Черноморку а то бы сразу учуяли неладное. От меня ведь пахнет его одеколоном, провонялась вся запахом его тела. И хороша же я, скромная студентка, не могла сразу бортануть этого приставучего морячка. А вдруг и это случилось бы, ещё немного, и мне был бы каюк. Фу, как противно. Я ещё и ещё полоскала рот до рвоты. Юрка, дворничихи сын, с дежурства по тропинке под самым домом идёт. Я тихонько свистнула, стрельну у него сигаретку перебью этот тошнотворный вкус.
– Сеньорита, у меня только «Прима». Пойдёт?
Такую кличку мне дали наши дворовые парни, после того, как я, балуясь, на занятиях по музыке выла под Имму Сумак или Сару Монтьел, но чаще под Лолиту Торрес, тогда очень популярен был фильм с ее участием, а уж какая у нее была талия… Ребята поджидали меня под балконом, пока я добивала два часа урока, чтобы потом вместе совершить набеги на местные сады или отправиться беситься на турбазу в Аркадии.
– Пойдёт.
Я жадно затянулась этой дрянью, «Прима» в тот момент показалась мне настоящим «Мальборо».
– А что за видос у тебя, на море и обратно. Как из сумасшедшего дома сбежала. Кофта вся мятая. Волосы растрепанные, дыбом, ты себя в зеркало видела?
– Юрка, посиди здесь со мной, пока я подымлю.
– Что ты всё оглядываешься? Что-то случилось? Ревела вижу, тушь размазана, – тарахтел Юрка, придирчиво меня разглядывая. – Если кто обидел – не молчи, кому в харю дать или шею намылить – обращайся. Мы, портовые, своих в обиду не даём. Колись, сеньорита, в какое дерьмо вляпалась, что-нибудь серьёзное?
С Юркой все ребята были по корешам. Он самый старший в нашем дворе и самый заводной. А то, что безотказный, так это и говорить нечего. Как только его в армию заарканили, так и наша дружная дворовая компания распалась. Без него стало всё не то. Служил он где-то в России, кажется, под Воронежом, и привёз оттуда деревенскую конопатую кацапочку. Юркина мамаша сначала хвасталась, услужливая, добрая. А потом они так разосрались, что разбитый горшок вонял на весь дом, благодаря стараниям дворничихи. Поносила она свою сноху по всем статьям. Оказалось, и женился Юрка на брюха той, и готовить не умеет, и учиться не заставишь. Не знаю, как раньше, а теперь Юркиной жене стало всё до лампочки, она целый день в грязном халате и порванных тапочках пропадала на улице, грызла семечки в компании неопрятных вонючих теток, от которых несло за версту. Они с утра и до самого закрытия магазина торчали у его дверей, галдели, ругались. Противно в магазин заходить.
Вечерами, поужинав после работы, за столом под вишней шпанкой собирались мужики постарше и забивали козла. Как только Юрка появлялся на углу дома, обязательно начинали его подначивать.
– О! Молодожён пошёл. Счас щи горячие будет рубать. Вчерашние, та не позавчерашние. Какой позавчерашние, неделю, как сварили, у Юрки срачка от них. Ему хоть говна насыпь, он все съест. Такую жинку за патлы каждый день таскать надо, а он только по выходным.
Юрка, добрая душа, еще подходил к этим идиотам, за руку со всеми здоровался, не догадывался или не обращал внимания, что это над ним мужики посмеиваются. А мы тоже хороши, ржём, как лошади. Отзывчивый парень, простой, честный, на таких, говорят, воду возят. Вкалывает в порту от зари до зари и домой его совсем не тянет. Что хорошего, если мать со снохой постоянно скандалят.
– Ты, сеньорита, колись, когда замуж выскочишь? – не унимался Юрка. – Хотя в вашем женском монастыре это не принято. Или ты исключение из правил? Что-то этого твоего Ляща не видно, разбежались?
– Давно уже, женился он.
– Вот это номер, чтоб я помер, отшила, значит! – Юрка слегка присвистнул. – А все только и талдычили в одну дуду: Лящ не отстанет, добьет Ольку. Все штаны здесь на лавке просиживал. Не может быть!
– Может, Юрка, ещё как может. Женился сразу, как в Новороссийск на танкер попал. Там судьбу свою нашёл. А здесь только прикидывался, дружок его выдал, думал его место, наверное, занять.
– А у тебя сейчас каникулы. Гуляешь? Ну и гуляй на здоровье. Не засидись, как твоя Алка, девчонкам надо пораньше замуж выходить.
– Спасибо, я учту. Топай, Юрка, домой, отдыхай после работы.
– Сейчас попрусь. Устал, как собака. Судов много под разгрузкой. Не слышала, мои сегодня не лаялись?
– Не слышала, я теперь во дворе редко бываю. Ладно, я пошла. За «Приму» спасибо.
Юрка скрылся в своей парадной, а я лишь посочувствовала ему. Мужики, хоть и вредные, злые, а ведь правы, опять ему придется жрать эти кислые щи. Моя бабка давно бы вылила их на помойку.
Хорошо, что заждавшаяся меня бабка не повесила цепочку на дверь, видно, боялась: заснет крепко и не услышит звонка. Куковать бы мне тогда на лестничной клетке, пока не проснется. А «волкодав» наш на что, он кого хочет разбудит, к нам вот так, тихонечко не войдешь. Я ещё на первом этаже, а он уже воет. Бабка из спальни старается пса перекричать:
– Олька, ты? Где тебя носило так долго? Вот Анька с Алкой объявятся, я им расскажу, целыми днями где-то шляешься. Не ври, что с Лилькой или с Галкой. Они уж не знаю сколько тебя ищут.
– С Танькой Ковальчук в Аркадии гуляли, – быстро нашлась я.
– Сама с ужином управишься? Молоко на окне в кухне, с вертутой попей.
Как удачно получилось, бабка не вырулила на кухню. Я быстро сняла с себя помятый наряд, легла на своё кресло-кровать и долго-долго не могла уснуть, лежала с закрытыми глазами, переваривала. Всю следующую неделю не могла прийти в себя от страха, даже уехала на несколько дней к маме и Алке в Черноморку.
Вот уже и месяц каникул позади. Приближался мой день рождения. Двадцать лет! Первая взрослая дата. Домашние разрешили мне устроить небольшой сабантуйчик. Ничего серьёзного, поболтаем, посмеемся. Ни у одной из девчонок, кого пригласила, не было ещё постоянного кавалера. Впрочем, подружки и без дня рождения почти каждый день приходят. Мама подкупила мне фруктов, дала десятку на веселье. На удивление, и бабка приняла самое активное участие, честно, я от неё такой прыти не ожидала. Сама составила потрясающее меню, как в лучших домах Филадельфии, сама все и сготовила. Вообще, у неё последнее время было приподнятое настроение. Она даже вдруг запела. Если моя бабка запела…
– Олька, я здесь с одним чудаком познакомилась. С Дружком гуляла, и такой дядька хороший, добрый, нашего Дружка колбаской угощает. Вроде неженатый, для Алки самый раз. Я его пригласила к нам.
Меня словно и громом, и молнией пронзило одновременно.
– Ты что, с ума сошла?
– Я думала, ты меня поддержишь. Такой симпатичный, серьёзный мужчина. Холостой. Алке давно пора замуж.
– Где его подцепила? – сердце в странном предчувствии сильно забилось. А что если… Нет, не может быть.
– Здесь, прямо у нашего дома, сам он ближе к седьмой живёт. За границу плавает. Бабка ваша еще не совсем старая, ещё может. Как вы теперь говорите – закадрила.
Сомнения отпали, кто этот загадочный жених, а бабка еще больше масла в огонь:
– И зовут красиво – Всеволод Иванович.
Я так и выронила блюдо с жареной скумбрией.
– Черт, ничего нельзя доверить. Не руки, а граб ли кривые. Что стоишь, поднимай!
Дружок с Булькой в момент бросились к рыбе. Бабка их отгоняла, а я, вся дрожа, принялась собирать с пола разлетевшиеся кусочки рыбы.
– А ну постой, посмотри на меня. Кому сказала – смотри сюда. Ты чего? Ты его знаешь? – бабка сбросила собранную скумбрию на пол. – Пусть дожирают, а ты давай, всё по порядку выкладывай. Так ты с ним знакома? И как давно?
– Две недели, – еле слышно пролепетала я. – Он очень хороший, умный, заботливый, может, действительно с Алкой познакомить. Попробуем, что мы теряем. Только как бы нам боком эта затея не вышла. Закатит сестрица моя дорогая скандал, с ее характерцем.
Но по всему чувствовалось: бабку не остановить, она явно взбодрилась.
Теперь как Алку вытащить с Черноморки в город? Как познакомить с Всеволодом Ивановичем? Если ничего не получится, нам всё – хана, она сожрёт нас с потрохами. Бабке что, а вот мне будет полный абзац. Я ещё раз рванула в Черноморку ласкалась к сестре, как маленькая собачонка, но соблазнить её своим днём рождения выбраться в город не удалось.
Девчонки все собрались вовремя, мы уже расселись за столом, как раздался звонок. Дружок с радостным лаем бросился к дверям, бабка пошла открывать и в коридоре долго шушукалась с гостем. Наконец в проёме появился и он, строгим взглядом окинул присутствующих.
– Опана! Вот это фокус за три копейки! А почему не было штормового предупреждения, – ляпнула, нарушая полную тишину, Галка. – Здравствуйте, просто Сева.
Капитан никак не отреагировал на Галкин выпад; он положил на стол передо мной громадный букет и подарок и стал поздравлять с днём ангела. Громким, хорошо поставленным голосом, будто на партсобрании выступал или из рубки команды отдавал. Говорил, говорил, девки все обалдели, особенно когда он прислонился с поцелуем. Праздник на удивление был весёлым. Бабка от своих щедрот выставила целый бутылёк прошлогодней вишнёвой наливки.
Сначала мы разбавляли её с водой из сифона, а затем уже так пили. Потом принялись за принесенное капитаном шампанское, закусывая тортом.
Никакой музыки кроме пианино у нас дома не было, и девчонки, каждая по очереди, присаживались к инструменту и играли, что умели. Заключительное отделение досталось мне. Что я только не несла… Весь свой богатый блатной арсенал вперемежку с концертными школьными вещами. Меня подмывало уделать этого самоуверенного капитана, ох, как подмывало. И я выдала, лепила всё подряд, не заботясь о рифме, не совсем попадая в мелодию. Конечно, и песенку из «Детей капитана Гранта», с переиначенными словами, придуманными с Галкой на пляже.
Все дружно аплодировали, а громче всех наш гость капитан. Когда я иссякла в своем репертуаре и обернулась, чувствуя себя маленькой негодяйкой, он вытирал платком прослезившиеся глаза. Однако (или мне так почудилось) взгляд его, несмотря на улыбку, был холодным. Он открыл ещё одну бутылку шампанского, бабка пыталась остановить, но поздно, ее никто не слушал. За шумом наш гость потихонечку вышел из-за стола и направился к дверям. Бабка мне кивнула головой: догони. В дверях Всеволод Иванович тихо сказал:
– Ещё раз поздравляю. Проводи меня, пожалуйста.
Мы неторопливо шли в сторону 7-й станции Фонтана. Солнце уже упряталось за густую крону платанов и акаций, духота спала, стемнело, самое приятное время прогуляться. Навстречу попалась какая-то компания, по всей видимости, приезжие курортники, наверняка решили вечером искупаться. Я даже позавидовала им.
– Твоя Галка просила сигареты, я обещал. Сейчас вынесу.
Мне стало неловко, что мы, нищие какие, не в состоянии купить себе БТ или «Варну», Галка явно перебарщивает.
– Не надо, вы сами же говорите: курить вредно. И кто будет нас целовать после этого. Целовать курящую женщину – всё равно, что вылизать полную пепельницу. Фу! – съехидничала я.
– Как хочешь, моё дело предложить, твоё отказаться.
– Раз вы ей обещали… Сбросьте с балкона, я поймаю.
– А зайти не хочешь, больше не доверяешь, боишься?
– С чего вы взяли, я уже много раз вам говорила: никого и ничего не боюсь, – от шампанского я некрасиво икнула.
Чего только не отчебучит подвыпившая женщина. Он первым зашёл в комнату, я осталась стоять в коридоре. Он долго рылся по всем полкам, потом открыл шкаф, там что-то перекладывал, искал. Я уже поняла, никаких сигарет Галка у него не просила, да их у него, по всей вероятности, нет.
– Куда они все подевались, подожди, на кухне ещё погляжу. А ты знаешь, ни одной пачки не осталось, извини, – он подошёл к двери, я отошла, давая возможность её отворить. Но капитан вдруг всем телом меня к ней прижал. Отпихнуть его не удалось, а он, пользуюсь случаем, целовал и целовал меня. Поймал обе мои руки и распял, как на кресте, на обитой коричневым дермантином двери. Все моё нетрезвое тело распял. До чего же он, паразит, сильный.
– Всё, сдаюсь на милость победителю! – выдохнула я. – Только освободите из-под стражи.
Он отпустил мои руки:
– Давай поговорим, нам есть о чём поговорить.
– Поговорить, это называется поговорить? – внутри меня поднялся бунт. – Между нами никогда-никогда ничего общего быть не может. Вы понимаете это или нет? И вообще, как вам в голову пришло мою бабку обманывать?
– Да сам не знаю. Хотелось тебя ещё раз увидеть, стоял под балконом, ты курила, меня не замечала, а бабушка тебя ругала, чтобы за тушила сигарету. Вот я ее тоща и увидел. Потом на прогулке встретились, она дворнягу на аркане тащила. Я колбаской псинку угостил. Рассказал, что покупаю специально бычки для кошек и вешаю их в кустах.
Я слушала, как он подкатывался к бабке, втирался к ней в доверие, скорешился так, что она выложила ему все наши домашние секреты, что вот никак внучку не выдаст замуж, а она упрямая, ни с кем встречаться не хочет, и накопившийся запал злости во мне постепенно угасал.
– Я-то думал, что бабушка об Оленьке говорит, а когда побывал у вас дома и увидел фотографии, только тог да понял, что речь о твоей старшей сестре. Вы совсем не похожи, вы разные.
– Она хорошая, а я плохая?
– Не знаю, какая она, а ты просто ещё никакая. Сегодня я понял, что, пока не поздно, мне нужно ноги уносить от тебя подальше. Вот так, Оленька, ты сама о себе ничего не знаешь. В артистки тебе наго было идти, а не в бухгалтерши.
– Во-первых, не в бухгалтерши, я буду экономистом.
– Ну да, как Карл Маркс. Он экономист, а ты будешь – старший экономист…
– Язвите? А во-вторых?
– А во-вторых, никогда не доверяйся подружкам. Они без тебя ко мне в гости приходили…
Мне не очень-то был приятен этот разговор (вот заразы, девки, а мне ни гу-гу, партизаны из катакомб, завтра выскажу им все, что о них думаю), и я мучительно искала способ, как уйти от него.
– Всеволод Иванович, вы очень на меня обиделись за песенку про капитана? Я так, по дурости, не со зла. Импровизатор из меня никудышный.
– Извини за откровенность, баш на баш, это юмор идиотки без мозгов. Талант у тебя впустую пропадает. Хочешь в Москву поехать учиться или в Киев? Могу помочь. Моряку всё равно, где у него семья. Жёны всё равно едут в тот порт, в который приходит судно. И ты будешь приезжать ко мне, или я к тебе. Решай свою судьбу и мою заодно. Бабушка твоя не против.
– У меня ещё мама, и старшая сестра, и дядька милиционер.
– Мы распишемся, а потом им скажем. Я это организую по-быстрому. Как, согласна? Оленька, я сделаю всё для тебя, всё, что ты только пожелаешь. Иди ко мне, я не трону. Так меня, наше поколение, воспитали: до свадьбы ничего лишнего, если только сама захочешь…
Опять двадцать пять. У меня в страхе за дрожали коленки. Он смотрел на меня, как змея на кролика.
– Сколько ты будешь меня мучить? Я безумно хочу тебя и не скрываю этого. Я ведь не мальчик, и женщин с моей профессией не часто встретишь. Вот на тебя напоролся, как на айсберг в океане. А ещё одесситка называется: пылкая, живая. Льдинка ты холодная. Наслаждаешься своей победой? Над старым больным одиноким моряком.
– Всеволод Иванович, я сейчас заплачу как в том анекдоте. У неё такие ручки тоненькие, ножки тоненькие, я её… а сам плачу: жалко так.
Он как оттолкнёт меня, открыл дверь и выставил вон. Я бежала домой, стыдно было, переборщила с этим анекдотом. Дура набитая. А с другой стороны, какое право он имеет требовать от меня улечься с ним в постель.
Лето 1966 года, покатилось дальше, ближе к осени, жара постепенно спадала, приезжих стало заметно меньше, на пляжах посвободнее, да и море больше бодрило, чем ласкало теплой волной. Одесситы наконец вздохнули, цены на Привозе уже не так страшили. Мы с Галкой, прогуливаясь по Фонтану, невольно заворачивали на седьмую, посматривали на капитанский балкон, но он всегда был наглухо закрыт, кухонное окно не светилось, капитан был в плаванье.
В сентябре занятия в институте отложили, нас отправили в очередной колхоз «Червонэ дышло» собирать урожай. Когда вернулись, было уже совсем прохладно. Шли дожди, хотя деревья ещё не сбросили посеревшую листву, которая их совсем не украшала. Скорее деревья были похожи на опустившихся пьющих женщин, которые в молодости были хороши, но с тех пор наряды свои не сменили, не стирали, не гладили. Вечера стали длинными, тёмными, беспросветными.
Я стояла на балконе, набросив на хала т плащ, как всегда, с пачкой сигарет в руке. Теперь, когда курила, я всегда вспоминала Всеволода Ивановича. Тучи плотно укрыли небо, во всю ширь горизонта, как будто его и вовсе нет. Наверное, таким его видит капитан. Интересно, где он сейчас? И от этих мыслей становилось так тоскливо, даже плакать хотелось. Капитан сейчас стоит там, на скользкой палубе, и тоже ничего кроме темноты и дождя не видит. Мне за него стало страшно. Завтра сбегаю, посмотрю на его окно, нет, лучше позвоню из института. А что я ему скажу? Вдруг не узнает спросит: какая такая Оля? Не знаю никакой Оли, и не звоните сюда больше. Все же позвоню, услышу его голос и сразу повешу трубку.
Я приподнялась, хотела выбросить бычок подальше от балкона и услышала, как кто-то окликает меня. Внизу стоял капитан. При полном параде, в фуражке с крабом и чёрном блестящем плаще, который от дождя ещё больше блестел. Только бы сейчас никто из моих домашних не выполз на балкон, тогда мне капец. Махнула ему рукой, мол, идите, я сейчас.
Погасила сигарету, сказала Алке, что сбегаю к Лильке Гуревич за книжкой, скоро вернусь. Для наглядности даже не одевалась, так и помчалась. Капитан всё понял, прошёл вперёд, я его догнала.
– Ты куда, совсем раздетая, простудишься, дождь ведь ледяной! Быстрее в парадную, согреешься немного, вся дрожишь от холода, – продолжал Всеволод Иванович, – или беги домой, оденься как следует.
– Меня больше не выпустят. И так их обманула, а в парадную нельзя, меня же все здесь знают.
Мы были как заговорщики какие-то. Он взял меня за руку, осмотрел с ног до головы.
– Ты с ума сошла, у тебя голые ноги. Господи, детский сад. Пойдём скорей ко мне. Под теплым душем согреешься.
– Неудобно, лучше домой вернусь, только к Лильке забегу. Алке же соврала, что за книгой иду.
– Оля, мне завтра снова в рейс, да не бойся ты меня, обещаю, всё будет по-честному.
Как не поверить, глядя в эти пронизывающие меня любовными лучами глаза. Дождь как назло усилился, рванул ливнем, ещё и с косым ветерком. Мы взялись за руки и побежали, один старый, другой малый. Влетели к нему в квартиру, мокрые, как после стирки, хоть выжимай, особенно я, без головного убора, без чулок. Вода в лодочках хлюпала. Капитан суетился, сбросил мой плащ, туфли отнёс в ванную, воткнул в радиатор. Включил кран с горячей водой. Но вода из него лилась такой же ледяной, как ливень, под который мы попали. Капитан достал из комода шикарное махровое полотенце и стал им вытирать мои волосы, затем усадил на диван и принялся растирать ноги. Диван был разложен и покрыт смятым постельным бельём. Комната была не прибрана. Он старался навести хоть какой-то порядок. Потом плюнул и уставился на меня.
– Какая ты смешная, ненакрашенная. Господи, тебе сейчас можно дать от силы лет пятнадцать. Сильно похудела, бледная такая, заболела? Я несколько раз поджидал тебя, но напрасно. Где ты была?
– Весь сентябрь в колхозе ошивалась. Битва за урожай. Раньше колхозникам было по барабану как студенты работают. Мы и работали, особенно не перетруждались. А сейчас не просачкуешь.
– Почему, что изменилось? Ну-ка, товарищ Карл Маркс, объясните.
Я взбрыкнула: паразит, опять над бедной девушкой надсмехается, Маркса вспомнил, сейчас покажу вам этого бородача. Вам как – доходчиво или по-научному? Лучше по-научному все-таки на экономиста учусь. Мне вдруг так захотелось блеснуть своими знаниями, удивить его взрослыми грамотными объяснениями.
– В колхозах – всё, палочки-трудодни кончились. Прошлый век. Деревня сейчас тоже производство, теперь там каждый месяц платят зарплату. Сколько потопаешь, столько и полопаешь. Есть нормы, каждый день наряды закрывают, всё честь по чести, как на заводе. Вот и все нами заработанное им в наряды зачисляли. Тёток сволочных в надсмотрщицы приставили, целыми днями командовать нами и следить, чтобы не волынили. Еще бы хоть кормили по-человечески, кормёжка ужас какой была. Выручали кавалеры трактористы.
Я озорно посмотрела на Всеволода Ивановича.
– Так, значит, трактористы, на механизаторов потянуло. Задушу, как Дездемону!
– Зазря, товарищ капитан, я, к сожалению, была не в их вкусе. На мои кости никто не клюнул. Один рожу скривил: «А вы случаем не чахоточная, уж очень худая и длинная». Надсмехались над бедной девушкой, но арбузами и виноградом угощали. А вот их кислючее вино я не могла пить. От голода кишки каждый вечер марш играли, уснуть не могла. Всё, колхоз кончился, отбыла наказание. На следующий год учебная практика, говорят, в Николаеве. Там строят корабли, и вы, товарищ капитан дальнего плавания, будете на них плавать. А я практиковаться в корабельном вычислительном центре. Всё лето. Правда, здорово!
– А меня в своем колхозе совсем забыла?
– Нет, страдала от любви, как Дездемона, – пыталась я отшутиться. – Или Джульетта.
– Ну, я на Ромео по возрасту не тяну. А вообще, как знать, влюбился же в вас, дорогая моя Оленька.
Капитан продолжал суетиться, растирать мне ноги. А я, полулежа на диване, себя точила: «И ненормальная же я, в таком виде рванула. С какого бодуна?» Я действительно прилично промокла и начала чихать. Еще не хватало загрипповать.
– Оля, какой у тебя размер обуви?
– Тридцать седьмой. А что?
– Маленькие такие ножки, как у ребёнка, – и вдруг он прижал мой большой палец на ноге ко рту. – Откушу и возьму на память. Тебе жалко, для меня же?
Он продолжал целовать мои холодные ноги в мурашках, которых становилось всё больше и больше.
– Всеволод Иванович, перестаньте, я сейчас же уйду, если вы не прекратите, – мой халатик без пуговиц разъехался, обнажив тело в таких же мурашках.
Он поднял на меня глаза:
– Я больше не буду честное слово. Осел, не смог сдержаться. Сейчас чай поставлю, с ромом попьешь и не заболеешь. Я иногда так лечусь, помогает.
Ром оказался и крепким, и сладким. Сделала один глоток и отдала ему стакан. Он допил до дна, присел рядом. Я сидела на диване, поджав укутанные в полотенце ноги, и продолжала корить себя: дура, полная дура, теперь нервничай, как выбраться отсюда. Кроме байкового халатика и трусиков на мне ничего не было. Умоляюще глядя на него, что-то лепетала, просила прощения. За бестактность и безрассудность моих поступков.
Капитан продолжал прижимать меня к себе:
– Я не обижу тебя. Никогда. Маленькая глупенькая девочка.
От этих его слов у меня даже слёзы выкатились и закапал нос. Я попросила еще чаю, он добавил в него немного рома. Стало тепло и хорошо. Вот только бы не приставал. Тогда бы я никогда от него не ушла. Капитан и не приставал, притулившись к моему плечу рассказывал, что сходил в короткий рейс, теперь предстоит долгий, на полгода минимум.
– Меня не будет, а ты за это время выскочишь замуж. Что старика ждать, так?
– Не волнуйтесь, я же сказала: пока не закончу свой кредитный, ни о каком «замуж» речи нет.
– Да не выдержишь ты. Зацелует до смерти какой-нибудь сопляк, и привет и твоей учёбе, и свободе. А со мной хоть всю жизнь учись. В рейсе думал: всё забудется, не вышло. Ты всё время перед глазами: как идёшь навстречу в красном платьице по фигурке и солнышко тебя освещает. Так и бросало в жар.
Я повернулась к нему лицом.
– Какая ты всё-таки смешная без косметики. Реснички светлые, длинные, густые. Мне казалось, ты их приклеиваешь, они у тебя искусственные. За границей все клеят, а у тебя свои. Знаешь, ты ненакрашенная мне еще больше нравишься, только вот худючая до ужаса.
Вот бабка тоже стонет от моей худобы. В этом колхозе «Червонэ дышло» ничего есть не могла. Будет зима – я жирок свой нагуляю, как медведь. А насчёт краски? И мои предки терпеть не могут, когда я крашусь. Правда, сейчас успокоились. Куда деваться, если все вокруг красятся.
Волосы никак не высыхали. Он гладил и целовал их кончики. Потом я почувствовала его губы на своей шее и спине. Халат свалился с моих плеч. Я его не поправляла, не протестовала. Я просто не дышала. Его руки мягко легли на обе мои груди. Он развернул меня к себе и медленно своим телом уложил меня на диван. Мы целовались, я не сопротивлялась. Ждала… Пусть уж всё будет. Но мой капитан не раздевался. Легонько оттолкнул меня, лицо его было бордово-красное, крупинки пота проступили на лбу Он прогладил рукой по груди, по животу, по ногам. Я думала, сейчас снимет с меня трусики, но Всеволод Иванович поднялся, поправил на мне халатик.
– Вставай, Оленька, пора возвращаться, я тебя провожу. Только вот что… Носки мои надень и свитер, – он напялил их на меня, принёс из ванной мои мокрые туфли. – Чёрт побери, не подсохли на батарее, совсем мокрые. Застужу я тебя, дурак старый, – от досады он со всего размаха хлопнул рукой по столу.
– Да ерунда, я быстро пробегу.
Мне в который раз стало стыдно. Я чувствовала себя, как какая-то шлюха, которую отвергли и нужно немедленно уйти и больше никогда-никогда этого гада не видеть. Не вешаться же мне самой ему на шею. Неужели капитан и впрямь считает, что я без него не проживу.
– Оленька, мне завтра нужно быть на судне к шести утра, за мной придёт машина. Ты что, Оля, обиделась? Ну что ты, успокойся!
– Сева! А капитаном быть страшно?
– Нет, а почему ты спрашиваешь?
– Мне страшно, я бы не смогла.
– Как тебе сказать, ответственность большая, за экипаж, за судно, за груз. Не столько уже моря боишься, как политической ситуации… я иду с опасным грузом… Всё может случиться.
– Не ходи туда, я не хочу, я боюсь за тебя, – я от напряжения расплакалась. Он стал целовать меня в зарёванное лицо: – Я из рейса вернусь через полгода, дождись меня, хорошо? Оставить тебе ключи от этой берлоги?
– Нет. Не надо. Не надо ничего оставлять.
– Если не выдержишь, не дождёшься, я пойму. Никаких обязательств с тебя не беру. Если бы знал, что так будет у нас, никогда не пошёл бы в этот рейс. Такая судьба у моряков. Вечные расставания.
Что на меня нашло, сама не знаю, стала клясться: «Я буду ждать, сколько нужно. Обещаю ждать всю жизнь. Я люблю вас… тебя». Ноги меня совсем не держали, подламывались, как спички. Не помню, сколько мы стояли у двери, тесно прижавшись друг к другу, и целовались до крови. У меня лопнула губа, и солёный вкус крови мы почувствовали вместе. Потом мы быстро добежали к моему дома. Дождь кончился, светили звёзды, и мне было совсем не холодно, наоборот, бросило в жар. Под балконом опять целовались, нежно, ласково. Я гладила его такие мягкие, шелковистые, пепельного цвета волосы, чисто выбритые щёки. Потом настолько разошлась, что тихонечко рукой пролезла к нему под рубаху и прогладила волосы на его груди.
– Оля, вернёмся обратно! Решай! Больше не могу, пойми меня.
– Не сейчас, Сева, Севочка. Через полгода, я буду тебя ждать, сколько понадобится, буду ждать. Клянусь. Не бойся за меня, я всё выдержу.
Он отпустил меня и, не оборачиваясь, исчез в тени раскидистых деревьев, дружно стряхивавших с густой кроны остатки ливня, который не казался мне ледяным. Мои любимые платаны и акации дышали в след капитану воздухом, напоенным счастьем и первой моей настоящей любовью.
Эти полгода я жила как в тумане. Бранила и ругала себя, что не спросила, на каком судне он ушёл в рейс и куда. Я даже не знаю его фамилии. В конспекте каждый день проставляла новую цифру: 180 дней, 170… Поскорее они бежали бы, приближая день нашей встречи. Каждый день я по-новому представляла ее, с каждым днём сердце моё всё больше и больше страдало. Все конспекты были разукрашены в разных вариациях буквами «В» и «И». Господи, что со мной делалось. Я была и счастлива, от наполнявших меня чувств, и ужасно несчастна от нахлынувших на мою душу страданий. Сколько пролила крокодиловых слёз в свою подушку, сколько прочитала за это время любовных романов. С «Письмом незнакомки» Цвейга вообще не расставалась. Я была на грани полного истощения. Самое главное, не могла никому признаться, что испытываю. С утра надевала знаменитую маску Георга Отса из «Принцессы цирка» и до самой ночи мучилась в ней.
Дни ползли так медленно: 120, 90, 60, 30, 10, 0. Потом они пошли со знаком плюс: 10, 20, 30… Я гуляла с подружками, ходила даже на свидания несколько раз, но забыть своего капитана не могла ни на минуту. Всё его лицо, до малейших подробностей, мелькало перед глазами. Раз за разом вспоминала эти три дня наших свиданий. Как в кино, повторяла и повторяла, что он сказал, что я ответила. Как он улыбнулся, как менялся цвет его глаз – от голубого до тёмно-стального, когда он целовал меня. Как разглаживались его морщинки, когда он говорил мне о любви. Я даже во сне слышала, как он меня зовёт: «Оля, Оленька моя!» Как безумная, срывалась с постели, выбегала на балкон, всматриваясь в темноту: вдруг стоит внизу, ждет, когда я выгляну. Коченела от холода, стуча зубами, скорчившись от невыносимой боли, повторяя бесконечно, заглатывая слезы, симоновские стихи: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда пройдут дожди…» О, эти дожди, тот наш ледяной ливень.
Так пришла весна. Капитан не появился ни через полгода, ни через год. Бабка, как всегда, была права: «Не верь мужчинам, мой дружок». Жизнь продолжалась, я знакомилась с новыми ребятами. Но я никогда больше не чувствовала себя молодой девочкой, а совершенно взрослой женщиной, как будто бы уже прожила одну тяжёлую, полную неприятностей жизнь. Мучила себя: упустила свое счастье, вини только себя. Сколько за это время я отфутболила хороших и наверняка достойных ребят. Больше не поддавалась ни на какие ухищрения мужчин, веру в их честность потеряла навсегда.
О моём романе с капитаном все знали. Но только то, что я его бортанула (а ведь и сама оказалась за бортом). Что же случилось на самом деле, так и не узнала ни одна живая душа. Эту первую свою любовь я не удержала, выпустила из собственных рук, так теряет воздушный шарик ребёнок. Он улетает навсегда, далеко ввысь, его уж не вернуть, он там просто лопается. Зачем только приходит к человеку это чувство, эта мука, с которой человек борется один на один. И никто не может ему помочь, даже сам господь бог наградивший нас этими страданиями.
Лекарство от любви
Ах, эти свадьбы, и я, вечная свидетельница на них, когда все мои подружки выходили замуж, сама осталась совсем одна, с носом. Накаркала все-таки моя дорогая Пелагея Борисовна. Но при чем тут бабка, ты же сама решительно была против, чтобы покушались на твою свободу, и летай себе дальше вольной птицей.
Последний год учёбы пронёсся, как вихри враждебные. Удачно досталось мне назначение на последнюю производственную практику. Другие студенты разъехались по своим малым родинам, к обоюдной радости и институтского начальства, и собственной. А мне, как одесситке, подвалило счастье отправиться в любое хозяйство нашей области, лучше поближе к городу или даже в самом городе. Вот и славненько, обоюдная выгода. Институт экономил на мне, не нужно было раскошеливаться на проездные, суточные, платить за жильё, а мне мотаться в какую-нибудь дыру.
Опять помогла мамина работа, один звонок, и судьба моя была решена: еду на практику в знаменитый, гремящий на всю страну колхоз Макара Посмитного; до центральной его усадьбы, то бишь конторы в Черноморке, аккурат 29-м трамвайчиком. Но ехать долго, пока добираешься, страниц тридцать, а то и все сорок успеешь прочитать. Меня определили в бухгалтерию. Боже, какая скука. Моя начальница, заместитель главного бухгалтера, с утра пораньше мечет гром и молнии по телефону, на прием к ней целая очередь, полдня, это еще хорошо, надо угробить, чтобы решить какой-то вопрос. Я от неё слышу лишь одно: выйди на минуточку. Не знаю, что за секреты, но покорно выхожу. Да и еще который уж день обещание: видишь горячка, мне после обеда нужно отъехать в третье отделение, я с тобой завтра начну разбираться. Подойди к Глафире, она тебе покажет, как карточки складского учёта заполнять. Начни с этого.
К Глафире тоже не подступиться, очень занята, весь стол завален бумагами: подожди, давай чуть позже, через часок. Начальство смылось – мыши здесь же разбежались. Кто за чем, кто за мясом, там сегодня колют кабанчиков, как же такой случай упустить. Даже мне предложили. Но зачем, скажите на милость, мне их свежезаколотый кабанчик? К тому же краем уха услышала, что он почти сдох и его полуживого прирезали. Сдавать такой товар государству опасно, не дай бог, болячку обнаружат. А так между собой поделят и подольше проварят. Какие дела! Где ещё раздобыть такое мясо, да ещё по таким бросовым ценам?
И опять я свободна, дочитываю на обратном пути свою книжку. Дни бегут, в отчёте по курсовой практике «дуб ль пусто». Начинаю настойчиво приставать к своей наставнице, но она имеет меня в виду. Ноль внимания, фунт презрения. И вдруг, уже почти в самом конце моей блестящей практики, бросает на мой стол три папки: переписывай, это моя дипломная работа, сдирай все подряд, никто проверять не будет. А это моя рецензия на твою работу. Все готово, довольна? Только не отвлекай меня больше и расстанемся друзьями. Жизнь по кругу движется, еще пересечемся когда-нибудь.
Зато на личном фронте наметилось оживление, и моя свобода, возможно, под угрозой. Галка влюбилась в курсантика из высшей мореходки, похоже, подруга глубоко запала. Такого за ней ещё никогда не замечалось. Но по какой-то непонятной причине или что-то случилось, вдруг их встречи прекратились. Галка в панике: как его найти? Мы сами привыкли крутить мальчишкам динамо, как хотели. А здесь, выходит, наоборот, и нам могут. Решено было не сдаваться и подрулить на танцы в «вышку». Может, что случилось с парнем, мало ли чего.
Знать бы только тогда, что это мои последние студенческие танцы. Её кавалера мы так и не встретили, зато меня пригласил танцевать паренёк с четырьмя лычками, значит, мой ровесник. Галка сразу его заметила, как его, рыжего, не заметить. Я поглядывала краешком глаза на его сияющую шевелюру, и меня раздирало коварство что-нибудь этакое загнуть. Ничего умного, однако, в голову не лезло, только обидная частушка: «Рыжий папа, рыжий мама, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосам». Дальше просто неприлично.
Мы протанцевали весь вечер. Он был строен, как кипарис, хорошо сложён, лицо его при ближайшем рассмотрении было очень даже приятным, с задатками мужественности. Со своим несколько вытянутым подбородком он походил на американских или английских моряков, которых я видела в хроникальных кадрах времён Второй мировой войны. В мореходке, что в средней, что в высшей, встретить коренного одессита – это, конечно, большая редкость, учиться в них было престижно, вот сюда и съезжались ребята со всего Союза, те, кто с детства грезил романтикой моря. Юноша оказался эрудированным, целеустремлённым, чем и привлёк моё внимание. Подруга подшучивала: в моей коллекции женихов не хватало ещё только рыжего. «Галка, прекрати, не такой уж он рыжий, просто неудавшейся блондин», – злилась я, защищая своего нового знакомого, которого звали Стас. Так это прозвище «неудавшейся блондин» и пристало к нему.
Потом он мне признался, что первый раз за все четыре года учёбы пришёл на эти пляски, и то не по собственной воле. Их группу назначили в этот день дежурить, следить за порядком, чтобы никаких посторонних. Девушек столь строгое указание не касалось. Нас с Галкой Стас вычислил еще на КПП и не упускал из вида. Мы признались, что разыскиваем одного парня из «вышки», был и внезапно исчез, не случилось ли чего, Галка вся извелась, разыскивая его. «Любовь с первого взгляда?» – Стас хитро ухмыльнулся, подруга отвела глаза.
После танцев Галку посадили в трамвай, а меня, отпросившись у старшего, Стас вызвался проводить к самому дому. Мы стали встречаться, правда, не столь часто, один, максимум два раза в неделю. Он редко приходил на свидания в форме, ненавидел ее всеми фибрами своей души, хотя ему она очень шла. Мы целыми вечерами бродили, разговаривали, смеялись, и нам никогда не было скучно. Время стремительно пролетало, как одно мгновение, все мои прежние любовные страдания стали казаться такой детской глупостью. На себе чувствовала верность афоризма, что лекарство от любви – новая любовь.
Учеба на его электротехническом факультете ни в какое сравнение не шло с моей занятостью в «кредитке». От такой строгой дисциплины и жестких требований я бы мигом сбежала. Стас был аккуратен, упорно грыз гранит своей профессии, не в пример мне. Однажды, когда он примчался на свиданку после экзамена, Алка, которая, как мне показалось, была неравнодушна к парню, игриво попросила его зачётку. Бледная кожа на лице Стаса вспыхнула, что за проверка, а у меня дыхание перехватило. «Пожалуйста». Я бросилась наперерез, но сестрица успела вырвать эту темно-синюю книженцию из его руки. Алка сначала вслух произносила название предмета, а потом оценку. Чаще всего звучало «отлично». «Поздравляю, курсант Бел Озеров Станислав, с такими отметками вам место на «России», – улыбка на ее лице сменилась одобрением. Круиз на этом самом известном в ту пору нашем морском лайнере по Крымско-Кавказской линии, от Одессы до Сухуми, было неосуществимой мечтой, а попасть туда на работу практически невозможно.
Не знаю, Алкина ли глупая выходка с зачеткой повлияла, но в тот вечер Стаса словно подменили. Мы больше молчали, а если разговаривали, то на совершенно отвлеченные темы или перебрасывались ничего не значащими фразами, он даже не поцеловал меня на прощанье. Новый год я сидела дома, встречала, так сказать, в кругу семьи. Звали в разные компании, однако я отказывалась, до последней минуты ждала его появления, но бесполезно. Отсмотрела «Голубой огонёк» и завалилась спать. Проснулась рано и не нашла ничего лучшего, как раскрыть учебник по бухучёту.
Как можно запомнить почти сотню счетов или эти идиотские проводки, когда башку сверлит только одна мысль: почему он не пришёл? Подсмеивалась над Галкой, когда она, как угорелая, носилась за своим Витькой. А сама? Что делать? Ответ знаю наперёд: ничего делать не буду, как поется в песне, ничего никому не скажу. Как я правильно поступила, что не свистела о своей первой влюблённости. Прошла, как с белых яблонь дым, а поделись с кем-нибудь, насмешек бы не пересчитала. Со второй тоже выдержала, не растрезвонила всему свету по секрету. Я даже не знаю, что это на самом деле было. Как отличить просто привязанность и увлеченность от настоящего чувства? Да не хочу я быть в Стаса влюблённой, как будто бы зависимая какая-то. Всё кончено! Теперь только учёба. Мне двадцать один год, какие мои годы. Осталась последняя сессия, ближе к лету госэкзамены, торжественное вручение диплома. Получу куда-нибудь назначение и укачу в новую жизнь. Ещё пожалеет что меня потерял.
Я почувствовала, что засыпаю вместе с моими думами-размышлениями, но Алка, тихо подкравшаяся из-за спины, меня растолкала: где витаем, в каких об лаках любви? Смотришь в книгу, а видишь фигу. Выбрось все из головы, набивай ее этими счетами.
Она удалилась на кухню приготовить новогодний завтрак, но опоздала, там уже копошилась бабка, и нас ждали вареники с вишней и картошкой и лимонный пирог к чаю. Я с ненавистью захлопнула учебник. Как людям может нравиться эта профессия? Вызубрю эту муть, сдам и больше в жизни этим заниматься не буду.
Стас, как ни в чём не бывало, заявился через месяц. От него прилично пахло выпивкой. И сам он не совсем твёрдо держался на ногах. Мои как сбесились, чтобы его ноги в нашем доме больше не было. Я пыталась их успокоить, объяснить, мало ли что в жизни бывает, всё напрасно. Ну и черт с вами, мы со Стасом продолжали видеться, и не обязательно знать об этом моему женскому ансамблю, раз у них такое отношение к парню.
Весна в Одессе, это не просто время года, это нечто особенное, одесская весна. С ума можно сойти, вдыхая воздух, наполненный ароматом цветущих гигантских акаций. От них невозможно отвести глаза. Такая картина, как будто бы все одесские женщины красавицы оделись в воздушные белоснежные одеяния и закружились в вальсе. Так кружится голова у всей Одессы, и только лёгкий бриз с моря немного к утру отрезвляет людей.
У меня крышу несёт, каждый вечер бегаю на свидания, опаздываю к положенным одиннадцати вечера возвращаться домой. Мама с бабкой закипают, вот-вот взорвутся, Алка на их стороне. А сами же до упора, до полночи торчат на балконе, наслаждаются этим весенним великолепием. Ну, приду позже, ведь всё равно не дадут улечься спать, заставят ещё как минимум час взирать с ними на эту необыкновенную сказочную красоту. Я согласна, они правы: разве можно уснуть в Одессе, когда цветёт акация. А как хочется любить, а быть любимой ещё больше. Неужели, как я, подобные чувства в это время года испытывают все люди на земле? Лицо моё горит от поцелуев Стаса всю ночь до самого утра.
А здесь ещё представился такой случай, какой выпадает, быть может, раз в жизни. Галкины родители собрались на два дня в деревню, помочь собрать урожай. План созрел молниеносно: упросить маму, чтобы разрешила мне всего одну ночь переночевать у подруги, сжальтесь над бедняжкой, ей страшновато одной. На удивление, не только мама, но и бабушка, переглянувшись между собой, согласились. С одним только условием: никуда не шастать, сидеть дома. Конечно, дома, кто бы сомневался. Мы честно врали. Но как смышленая и вечная моя опекунша Алка попалась на эту удочку?
Такой шанс оторваться, не упустить же. Не успела за Галкиными родителями закрыться дверь, как мы начали готовиться к приему гостей, протерли бокалы и рюмки, вытерли пыль, в прихожей все прибрали. Стас обещал прибыть к семи вечера, прихватив с собой, естественно, товарища для Галки. Мы накрыли стол и стали ждать. Семь часов, никого нет, восемь – тоже. Вышли на балкон покурить. Я нервничаю, теперь Галка меня успокаивает, советует плюнуть и растереть: что ты в нём нашла, в этом рыжем, лучше нет, что ли, да очнись, вокруг столько шикарных парней! Ну и дальше в таком духе, а на «десерт»: не от большого ума вляпалась.
Звонок в дверь прекратил нашу перепалку. Галка побежала открывать, а я осталась на балконе, пусть увидит, что я страшно сержусь. Меня на самом деле уже прилично колотило: столько усилий и хитростей – и все насмарку. В коридоре послышался смех и звон бутылок. Стас заключил меня в объятия, стал целовать, от него разило выпивкой. О, дорогой и долгожданный друг, да ты пьян, и товарищ, которого прихватил с собой, тоже прилично подшофе.
– Девчата, извините за опоздание, я к тебе, Оля, заходил, хотел, чтобы мы вместе пошли к Галке, одной ведь скучно.
– Как заходил? Зачем? Мы ж договорились, вы прямо сюда катите.
Стас побледнел и выругался матом, что от него я редко слышала.
– Послушай, Оля, я тебя, по-моему спалил. Выпили немного с Сережкой, и совершенно забыл о нашем уговоре.
– Что? – взорвалась я. – Что спалил?
– Да спросил сдуру твою бабку: а Оля уже к Гале пошла? Фраернулся, ты уж прости.
Галка стала тоже нервничать, ей моё свидание могло принести неприятности. Одно успокоило нас: никто из моих родных не знал точно ее адреса. Новых домов понастроили до чёрта, все одинаковые, запутаться легче легкого. Ладно, была не была, где наша не пропадала, если что, как-нибудь выкрутимся. Мы уже уселись за стол, только подняли бокалы, как звонок в дверь. Все замерли, звонили настолько настойчиво, что не вызывало сомнения, кто жмёт на кнопочку. Галка вернулась из коридора бледная. В глазок она увидела мою маму и предательницу Лильку Гуревич. Я прижалась к двери и слышала, как Лилька убеждала тетю Аню, что она не ошиблась, это квартира Галки, а с той стороны дома у них балкон.
Ничего умней не придумали, как рвануть на выход со второго этажа. В кино так любовники убегают от своей пассии, когда вдруг нагрянет муж, не в шкафу же отсиживаться, это мгновенно раскусят. Решили, можно спуститься по виноградной лозе, благо она достаточно прочная. Мальчик Сережа, которого привёл Стас, мне поможет, и мы с ним, как ни в чём не бывало, пойдём навстречу моей мамочке и этой предательнице. Как только парень перелез через перила, на углу дома нарисовались мама и Лилька. Находчивым оказался Сережка, замахав руками, он стал орать: хватит лить воду! Сейчас выйду и с вами разберусь! А это мы с Галкой, когда еще ожидали кавалеров, от нечего делать полили цветы и на балконе и виноград под ним.
Воспользовавшись моментом, мы со Стасом пулей вылетели из квартиры.
– У твоей мамы не все дома, ты уже институт заканчиваешь, а боишься их, как малолетка, – выговаривал мне Стас.
– Это у тебя не все дома, зачем ко мне попёрся? Всю конспирацию нарушил. Да ещё выпивши.
– К тебе спешил, любимая. Давай топай, если выкрутишься, буду у Галки тебя ждать.
Я молча пошла навстречу своему позору. Мама, ни слова не вымолвив, наотмашь врезала мне по щеке, я даже не успела увернуться, развернулась и пошла быстрым шагом домой. Лилька еле нагнала ее. Как нашкодивший ребёнок, я ползла за ними.
Утром, дождавшись, пока мама с Алкой упрутся на работу я рванула якобы в институт, а на самом деле к Галке. Меня молча встретила печальная компания. Но и мое появление не принесло особой радости. Мы со Стасом выясняли отношения на балконе, а Галка с Сережкой пили кофе на кухне. Никто из них так и не прилёг, всю ночь спорили о происшедшем событии. Потом ребята вспомнили, что у них сегодня зачет по плаванию в бассейне СКА. У же на подходе услышали, как объявляют их фамилии в списке сдающих и номер дорожки, по которой они стартуют. Стас с другом спустились в раздевалку, а мы с Галкой потопали на трибуну присоединились к другим болельщикам.
Как мы с ней орали, когда наши кавалеры в плавочках вырулили на стартовые тумбы. Нас поддержали другие парни мореходы. Норматив был сдан, Стас финишировал первым. Как он сложён, его даже не портила чересчур светлая для одесситов кожа.
Вдвоём мы пошли к морю в Отраду, и на всём побережье были только мы одни. Видно, люди испугались прохладной, не по одесской весне, погоды. Какая-то тоска разъедала душу. Меня мучило плохое предчувствие невесть откуда надвигающейся, как сильный шторм, беды.
Потом он ушёл в море на практикуя, конечно, его ждала. Но когда Стас, такой смешной, худющий, вернулся и рассказывал о своём очередном приключении, меня просто бросило в жар. Это случилось в Варне, их выпустили в город, и они там хорошо вздрогнули, обрадовались, что «Плиска» дешевая, всего четыре лева за бутылку. Все вернулись на борт, один мой Стас всю ночь где-то промышлял, на подвиги потянуло парня. Как красочно он поведал мне, что, когда рано утром проснулся, услышал, как птички поют, розы вокруг цветут, то решил: ну, в рай попал. Небо отливает яркой голубизной, солнышко приятно припекает, шум какой-то, наверное, это волны мягко плещутся о берег, вроде живой. Встал и замер. Он проснулся в огромной клумбе посреди большой площади с круговым движением. В четыре ряда безостановочно двигались машины. Дорогу перейти невозможно. Отряхнулся, сразу отрезвел, поискал своих однокурсников в цветничке. Никого. Понял, что попал в историю.
Я смотрела на него и поражалась, он рассказывал об этом, как о каком-то необычном приключении или, того хуже, героическом поступке. А ведь за свое дурачество заработал гауптвахту как положено, больше его на берег не выпускали, мог ли выгнать из мореходки, но сжалились, дело замяли, кому нужны такие неприятности.
Этот второй звоночек прозвучал, как колокол, но я его не услышала или не хотела услышать, похоже, влюбилась и представляла себе эту историю, как смешной анекдот, юношеские шалости. Опять бегала к Стасу на свидания, прощальные поцелуи в парадной и все такое. В выходной поехали на 16-ю станцию Большого Фонтана к его другу, вернувшемуся из армии. Он тоже попал в ситуацию, которая меня поразила, когда Стас рассказал о ней. Это случилось на первом курсе института инженеров морского флота, куда его приятель Вовка поступил учиться. Дело было в новогоднюю ночь, гуляли в общежитии, веселились от души. Стас, изрядно перебрав, уснул на чьей-то койке, уточнять с кем, из скромности не стала. А Вовка, в стельку пьяный, закрылся с какой-то девчонкой в комнате, и они подрались, девочка, видимо, отбивалась от его настойчивого ухаживания. Ничего между ними не было, да и что могло произойти, когда кавалер в таком состоянии, но в общаге поднялся шухер и кончилось всё довольно печально. Сначала исключили из комсомола, потом из института, и загремел в армию. Там парню отбили почки и выплюнули калеку, комиссовали. Из всех друзей у Вовки один он, Стас, и остался.
На 16-й в магазине Стас купил бутылку водки. На мои протесты, только зло огрызнулся: отцепись, что я пойду к нему с пустыми руками?
Вова жил в собственном доме; когда мы объявились, засуетился на кухне, начал доставать из холодильника какие-то продукты. В общем, накрыли поляну, посидели, выпили, потрепались. Все, как обычно. Потом хозяин ушёл к себе в комнату, а Стас стал тащить меня в другую. На моё счастье или несчастье, кто его знает, громко залаяла собака во дворе, вернулись родители Вовки. Как его мама ругала Стаса и меня за компанию, когда обнаружили своего спящего пьяного сына. Откинула одеяло и заорала на всю округу: видишь, он весь обоссанный, ему нельзя пить, ты можешь это понять? Или у тебя нет сердца.
На меня она вообще никакого внимания не обращала. Я была в ужасе и бросилась напролом к калитке мимо громадного пса. До остановки чесала, не оглядываясь. Трамвая не было, наконец появился Стас. Злой, предложил пройтись на берег, попить пивка, раз так получилось неудачно.
Он так ничего и не понял, я не хотела с ним разговаривать. Мы сели в подошедший трамвай, на шестой я вышла, он поехал дальше. Всё, это конец. И прекрасно, что так всё закончилось. Больше он не появится. Домой идти не хотелось, понеслась к Лильке Гуревич, с которой к тому времени, как и говорила бабка, уже помирилась, склеили разбитый горшок.
– Лилька, со Стасом финиш, он пьет, я больше не могу это выдержать. Надо расстаться навсегда.
– А как же – с любимыми не расставайтесь. Все мужики пьют ты где-нибудь непьющих видела? – поразила меня своим спокойствием Лилька. – Тем более моряки, как из рейса возвращаются, так и не просыхают. Нашла чему удивляться. Мне бы так влюбиться, то ни на что не посмотрела бы.
Я уже и сама была готова простить своего рыжего, но на этот раз он вряд ли вернётся.
Последний семестр несся с бешеной скоростью. Уже и майские праздники прошли, Стас не объявлялся. Экзамены на носу, бегу на последнее подготовительное занятие через городской сад на Дерибасовской. А там, под стеночкой, открыли стеклянное кафе со столиками под зонтиками прямо на у лице. Его сразу облюбовали курсантики мореходных училищ, ведь мимо проплывает такое количество симпатичных студенточек из университета, нашего института и технологического пищевой промышленности. Только успевай забрасывать удочку, чем и занимались юноши, пребывавшие уже в полдень под газом шипучки или шампанского. Один только быстрый взгляд, и я улавливаю эту солнцем объятую голову. От ярких лучей она по цвету волос в золотой серединке – не полностью рыжая, но и не песочная, как у блондинов. Делаю вид, что в упор его не вижу, несусь мимо, однако Стас перехватывает меня, словно коня на скаку останавливает: привет!
– Привет, Стас, говорить не могу, опаздываю на консультацию, у меня выпускные. Пока!
Черт побери, что я делаю, какая кошка пробежала между нами, у меня был такой шанс, и я сама его отбросила.
Просидела на консультации как глухонемая. Другие какие-то вопросы задавали, мне всё было до фонаря. Интересно, он дождётся меня на обратном пути, я ведь хочу, чтоб дождался. Скорее бы эта тошниловка закончилась. Перед глазами возникло его лицо. Почему не остановилась? Кому, спрашивается, нужен мой выпендрёж? Идиотский характер, сама себя ненавижу.
Несусь обратно, у ступенек в городской садик перевожу дыхание и топлю скорость, будто давлю на тормозную педаль, до полной остановки. Курсантов ещё больше прибавилось, но золотистой головки среди них нет. Зато слышу радостный голосок Галки. Сидит моя красавица со своим Витькой и с девчонками из иняза.
– Олька, а здесь твой Стасик где-то торчит. Объявится, если не слинял. Сегодня он в форме, хорошо в ней смотрится. Как Жан Маре. Присаживайся с нами, что-нибудь будешь? Мы по коктейлю заказали.
– Какой будешь! У меня последний экзамен, я пошла.
Страх перед экзаменами выбил из головы все душевные муки. Неделю назад политэкономия, позавчера анализ хозяйственной деятельности, еще спихнуть бухучет – и все. Неужели в моей жизни всего этого не будет больше? Какое счастье!
Иду опустошённая, как выжатый лимон. Вдруг чувствую, кто-то сзади меня догоняет, нежно берет за локоток. Стас! Он действительно красавец в своей форме. Я понимаю, почему он ее не носит. В ней не выпьешь, можно налететь на патруль, опять тогда неприятности, как после Варны. У говорил, паршивец, выпить шампанского, и этот бокал на пустой желудок так ударил по мозгам, что только и могла странно так хихикать. Стас затащил меня с улицы в какую-то подворотню, прошмыгнуть незаметно не удалось, дядька, наверное, дворник, разорался на всю глотку: совсем стыд потеряли, целуются средь белого дня. Только в полночь вся истерзанная, прокуренная и прилично набравшаяся я заявилась домой. Наврала, что в общаге отмечали день рождения парня из параллельной группы. Сошло. Как всегда, после любой дозы спиртного пришлось пообниматься с унитазом, но это уже мелочи жизни.
К последнему экзамену по бухучету готовилась с особой тщательностью. Этого предмета боялась больше всего. Волновалась, срывалась на домашних, особенно на бедной бабке, все вокруг мне мешало, нервировало. Накал страстей понижала Алка, она взвалила на себя роль экзаменатора и раздел за разделом проверяла мои знания. В общем, пронесло, сдала этот ужасный бухгалтерский учёт.
Стас все эти дни меня не отрывал от последних институтских забот, я даже соскучилась, и когда наконец встретились, охотно приняла его предложение пойти на свадьбу к его сокурснику куда-то на Молдаванку. Мне как раз к окончанию института пошили такой красивый, бледно-розового цвета со слегка сиреневым оттенком костюмчик, с Алкой купили английские лодочки, полный отпад.
Свидание я назначила ему возле нашей общаги. Так мне было удобно, своей группой, мы обсуждали, как лучше провести выпускной вечер, чтобы запомнился на всю жизнь, собирали деньги на сабантуй, уложиться бы только в наш скромный бюджет. Из окна я увидела выскочившего из троллейбуса Стаса. Мы купили цветы. Товарищ Стаса Серёжка, ещё при поступлении в «вышку» сразу стал с этой девочкой встречаться, практически у неё жить, поскольку был иногородним. Ну и подрастающий животик подтолкнул молодых расписаться.
Все в городе знали, что невесты двух районов Одессы – Молдаванки и Слободки пользуются особенной популярностью у курсантов «вышки». Ездить далеко не надо, провожаться удобно, всё под боком. Я сразу поняла, что мать этой располневшей невесты всех ребят знает по именам и называет: мои сыночки.
Как только мы появились в воротах, на нас со всех сторон набросились какие-то тётки и дядьки с полными бокалами вина на подносе. Пришлось выпить, все требовали до дна, иначе счастья молодым не будет. Меня рассматривали буквально в упор, все кто сидел за столом, стоял. Особенно оценивающий взгляд был женщины, которая нарезала хлеб, при этом она еще перемигивалась с матерью невесты. От такого повышенного внимания к своей персоне меня сковало. Все подвинулись, уплотнились, нам поставили чистые приборы и опять налили по полной.
Столы накрыты были во дворе буквой «п», подсчитать гостей не представлялось возможным. Одни стояли, другие куда-то исчезали в каких-то калиточках, проёмах дверей. Я так поняла, что бракосочетание было ещё утром и уже целый день отмечают это событие. Севший рядом со мной отец невесты пытался объяснить, кто есть кто, потом начал говорить о том, «шо эту комнатку они только сейчас достроили для молодых. Все хлопцы помогали, дружные ребята, уже четыре года ходют до нас, как к себе домой. Ты не переживай, шо сделать, не ревнуй, он же тебя выбрал. У кого из хлопцев не бывает. Ты выпей, не переживай».
Я сначала не поняла, о ком и о чем он говорит. Кого ревновать, кто меня выбрал? И вдруг до меня дошло, как до жирафа, это он ведь о Стасе. Так вот почему он временами пропа дал, и на Новый год я его зря прождала. Шерше ля фам. Ищите женщину Неужели это свидетельница со стороны невесты?
Стас бесконечно чокался с ребятами и со всеми родственниками, закусывая всем подряд, а мне на тарелку мой сосед от щедрот своей души навалил расплывшийся холодец, салат оливье, противно называя его «оливэ», ещё огромные голубцы. Всё у него падало из рук Я так боялась, что он мне посадит сейчас пятна на мой новый костюмчик.
– Так ты кушай, мы ж кабанчика специально к свадьбе нагуляли, – он никак не мог угомониться. – Я ж плакал, когда пришлось заколоть. Спробуй колбаски домашней, ты ж такую сроду не ела. Вы, одесситы, всё к магазинному привыкли.
Паразит Стас подмигнул мне: потерпи, скоро отстанет. А что оставалось делать, как не терпеть? Но еще немного, и я стала толкать Стаса: я сейчас уйду или уйми этого дядьку, он меня уже так достал.
«Теперь свидетель танцует со свидетельницей, просим!» – кто-то громко рявкнул на весь двор со стола, где сидели молодожены, наверное, тамада. Мой сосед, положив мне на плечо руку стал толкать Стаса: шо, свидетель, сидишь, иди танцуй, вас с Ленкой зовут. Стас поцеловал меня в щёчку: я сейчас, и пошел за свидетельницей, но ее нигде не было. Ага, все верно, это та самая девушка, о которой отец невесты намекал. Стас, не найдя партнершу, немного растерялся, еще раз оглядел столы и стал протягивать ко мне руки. Радуясь, что наконец я освобожусь от своего соседа, воняющего потом, как его прирезанный кабанчик, я рванула к нему.
Первый раз в жизни я вообще так танцевала, полностью прижавшись друг к дружке, все время целуясь. В голове моей всё звенело и играло. Потом он потянул меня на крышу сарайчика. Как мы не зацепили электрические провода, я до сих пор не знаю. Стас уверял меня, что это он сам всё придумал, чтобы во дворе светло было. Потом на крышу потянулись другие гости. «Вот сволочи, другого места, что ли, нет. Давай смоемся, я знаю куда», – он потянул меня за руку, помог спрыгнуть, и я даже не заметила, как мы очутились не пойми где, не то это был сарай, не то комната. Стас на здоровенный крючок закрыл дверь и стал ко мне приближаться, завалил на тахту зажатую по бокам грязными узлами, пахнущими плесенью. Мне стало мерзко, не по себе: эта вонючая постель, совершенно пьяный Стас. У меня внутри что-то сработало, я с силой его оттолкнула: не смей ко мне приближаться, я тебе не твоя бывшая свидетельница.
– Да ладно ломаться. Или сейчас, или никогда! Пока не закончу мореходку, жениться не собираюсь. Не рассчитывай. Ложись и не рыпайся или давай отсюда. Я из-за тебя со всеми и так разругался.
Вдруг свет погас. Я в потёмках старалась отыскать этот проклятый крючок, ломая ногти. Сорвала всю кожу на руке, пока открыла. Вернулась к своему столу, схватила сумочку и, не обращая ни на кого внимания, кинулась к воротам.
За ними кто-то стоял, я слышала, как они присвистну ли мне в след. Я неслась, не разбирая дороги, в полной темноте. Ее разрезал свет фар приближающейся машины. Я буквально бросилась ей навстречу. Это оказался милицейский уазик.
– Ребята, умоляю, скажите, как поскорее выбраться отсюда, какой-нибудь трамвай здесь поблизости ходит?
Растерянный вид и зареванное лицо заставили милиционеров, когда они усадили меня на заднее сиденье, подробно поинтересоваться, что со мной случилось, как зовут, где живу.
– Вас кто-то обидел?
– Никто не обидел, сама сбежала со свадьбы. Ненавижу всю эту компанию. Если можно, до 6-й Фонтана довезите.
– Не получится, девушка. Нам район патрулировать. До вокзала добросим, а дальше уж сама на трамвае.
– Тогда к Леониду Павловичу на улицу Ленина, вы же с Ильичёвского района?
Оба милиционера от моей просьбы опешили. Водитель включил внутренний свет и пристально посмотрел на меня, второй даже фонариком посветил.
– Вот это номер, чтоб я помер. Вы што, его знаете?
– Да! Это мой родной дядя.
– А на шестой Леонида Павловича мать живёт.
– Это моя бабушка Пелагея Борисовна.
– Так куда вас везти?
– На шестую.
По дороге милиционеры еще раз переспросили, что же все-таки произошло и надо ли навести порядок с моими обидчиками? Я возразила: у них кишка тонка, чтобы меня обидеть, и попросила, чтобы они ничего Леониду Павловичу не говорили, я туда случайно попала, по глупости.
Водитель развернулся ко мне лицом: надо бы, девушка, поосмотрительнее быть, вот от таких случайностей и выходят разные неприятности. Не волнуйтесь, дяде ничего не расскажем. Всё приехали, Коля, проводи до самой двери.
Коля подал мне руку, помог выйти из машины.
– У вас во дворе кран есть? Так вы бы умылись, прежде чем домой идти, я подожду, – посоветовал он.
Роман со Стасом окончен, так я считала, анализируя его поведение. В нём сочетались два совершенно разных человека: умница, симпатяга, когда трезвый, и совсем другой, когда выпьет. У него омерзительно тогда подгибаются коленки и становятся такие противные мутные глаза. Словом, забыть раз и навсегда, отдохнуть с месяц и собираться ехать по распределению в солнечную Молдавию.
Но ровно через неделю Стас заявился прямо к нам домой. Мы вместе с Леськой собирались на пляж, а потом ещё куда-нибудь рвануть. Его появление было настолько неожиданным, что я растерялась. Леська тоже смутилась, когда я их стала знакомить. Стас внимательно оглядел ее и спросил: не та ли это Леся, которая в институте связи учится? Я тебя узнал.
– И я тебя тоже, – Леська нахмурилась и резко направилась к двери. Наши планы накрылись медным тазом – ни пляжа, ни гульки.
Устраивать допрос при бабке не хотел ось. Я попросила Стаса выйти в коридор, сама переоделась, и мы вышли на улицу. Стас шёл быстро впереди, я, получалось, его догоняла. Внезапно он остановился, схватил меня за плечи и стал тормошить: откуда ты знаешь эту Лесю?
– Мы с ней подруги со школы, с восьмого класса. Талантливая девочка, во всём с неё стараюсь брать пример.
– Вижу, и ты такая же.
– Какая? Можешь по-человечески объяснить?
– Это она!
– Кто она? – я так разозлилась, что, не стесняясь, на всю у лицу завопила: – Ты ненормальный, сумасшедший, пить надо меньше!
Стас вплотную приблизился ко мне и по-змеиному зашипел:
– Ты Вовку с 16-й помнишь? Так это твоя Леся ему устроила. Недотрога. Из-за нее парня выгнали. И ты такая же. Ненавижу! Сначала глазки корчите, а потом мстите.
Я уже сама не выдержала:
– Да иди ты сам к чёртовой матери! Дуй в эти вонючие сараи к своим подружкам с Молдаванки. Пей с ними самогонку, тебе там самое место.
Как я ненавидела себя в тот момент, проклинала, что опять вляпалась в дерьмо. Когда же у меня заработают мозги, не маленькая ведь, дедушка в мои годы в Первой мировой войне два Горгиевских креста заслужил. Завтра же у Леськи все разузнаю, что там с этим Вовкой, этот алкоголик внятно ничего не объяснил, как с цепи сорвался. В голове была сплошная мешанина, одна мысль выбивала другую. Почему я должна страдать? Почему не могу встретить нормального парня, их столько за мной увиваются, а мне психи недоделанные нравятся! Он не прав, он меня совсем не знает. Если бы знал, как я его люблю!
Вдруг вспомнила, как на каких-то посиделках у Леньки мама говорила, что в нашем роду женскому полу не светит счастье. И правда, отчего такая несправедливость. Сколько лет уже Юра Воронюк сватается, дома все уши прожужжали: иди за него, мы не против. Они не против, а я? Нет, это счастье не для меня, лучше удавиться заживо.
Я, лежа на диване и закрыв глаза, пыталась заставить себя успокоиться. Хватит, возьми себя в руки, но не смогла. Изнутри распирала ненависть. Я тебе, Стас, не половая тряпка, об которую ты, когда захочешь, можешь ноги вытереть, а потом за ненадобностью и саму тряпку выбросить. Как противно! Забыть! Нет, поскорее уснуть и больше в этот мир не возвращаться. Пусть душа летит высоко в небо, к звездам.
Никогда не думала, что астрономия такая интересная наука. Как Стас увлекательно рассказывал мне о звёздах, о планетах. Столько легенд придумано о них, как о богах или людях из будущего. И я тоже лечу сейчас туда, только об этом никто не знает Это моя тайна. Я напрягаю своё тело до хруста во всех суставах, главное вытянуть носочки на ногах, прижать руки плотно к телу. Интересно, звёзды, когда я к ним приближусь, обожгут меня? Или они холодные, безжизненные, как теперь я вся. Где земля? Что я переживаю, она больше для меня не существует, и мне совсем не страшно. Вокруг темно и тихо.
– Оля! Олька, проснись! – где-то далеко, далеко слышу голос сестры.
Меня расталкивают, бьют по щекам, обливают водой. Воет Дружок, надо мной склонились бабушка с мамой. Родные мои, отчего у вас такие обезумевшие лица? Я обалденно смотрю на них и не могу ничего понять. Мама растирает мои омертвевшие ноги, они просто онемели и теперь покалывают, согреваясь. Тело всё дико болит, голова раскалывается. Что они все от меня хотят? Так хорошо было, зачем они мне помешали у лететь? Как опять от них всех сбежать?
Алка сидит рядом, расчесывает мои волосы, гладит, целует: ты как, детишка? Как ты нас напугала этим стоном. Ты глупостей никаких не наделала? Скажи!
Я знаю, она меня очень любит, и от этой её любви я уже задыхаюсь.
Все родственники только и твердят, сколько себя помню: если бы не Аллочка, не жить тебе, Олька, на белом свете. Ты родилась в такое тяжёлое время, голод, разруха. Мама на целый день уходила в поисках куска хлеба, а тебя оставляла на десятилетнюю Алку На Коганке её так и называли – «маленькая мама». Сидит на полянке, сама «шкелетик», тростиночка, а тебя с ручек не спускает. У других старшие у малышей заберут и сами съедят, а твоя сестричка даже к тому кусочку хлеба, что мама для неё оставит, не притронется, все тебе. Вот характер!
Мама придёт поздно, а Аллочка ждёт её, и кусочек хлеба в полотенечке так и не развёрнут. Ее ругают, что не съела за целый день, а она поднимет свои синенькие глазки и скажет: мамочка, а вдруг ты ничего бы не принесла, чем тогда завтра Оленьку накормить?
Вот такая у меня сестра, личной жизнью ради меня пожертвовала. И я, выходит, теперь ради неё тоже обязана своей личной жизнью пожертвовать.
Алка продолжает меня целовать, обнимает, шепчет: пройдёт, детишка, всё пройдёт, мы сильные, прорвёмся. Будешь кашку кушать? Тёпленькую, реденькую. Она меня кормит, помогает подняться, провожает в туалет.
Леонид Павлович привёз врача, какого-то светилу, тот задавал непонятные вопросы, стучал молоточком по рукам, ногам и водил им перед глазами.
– Нервишки не в порядке, сильное перенапряжение, стресс. А что вы хотите? Выпускные экзамены, веса набрать бы не мешало, истощилась наша юная леди. Ну и индивидуальные особенности молодого организма, все по-разному развиваются. Замуж выйдет, родит, и всё пройдёт.
Доктор еще долго что-то советовал, а у меня внутри разрастался протест. Никого и ничего не хотела видеть и слышать. Всё кончено. Очухаюсь и уеду, куда глаза глядят, навсегда. Дружок мой, рыжая дворняга, лижет мне руки и ноги. Зачем ты завыл той ночью, всех поднял на ноги? Я ведь так далеко от всего этого была, как ты почувствовал? Ты единственный преданный до конца мой друг. Пописываешь от счастья, что я жива и тебя глажу? Глажу и молча плачу.
От Венеры до мегеры
После окончания института мне было уготовано как минимум три года отработки-обязаловки в солнечной Молдавии – таков был тогда жесткий закон. Вас учили – будь те добры, куда пошлют. Но зачуханные, с позволения сказать, Каушаны после Одессы не оказались городом моей мечты. Не знаю, они ли так подействовали либо лоснящийся от пота и жира директор местной плодоовощной конторы с липкими чёрными глазками, но с моей мамой, сопровождавшей меня, произошло что-то сверхъестественное. Всегда спокойная, уравновешенная, она как схватила меня там за руку, так и не выпускала весь обратный путь. В общем, сбежали – и директор-то не очень возражал, скорее, рад был избавиться от лишних хлопот, я на него свалилась, как обильный снег на голову в жаркий августовский день. Спасла меня опять же мамина мясоконтрольная станция. Тайно. Ни под каким видом, никто не должен был знать, как обстоят на самом деле дела с моим распределением.
Мамина коллега, одна из лаборанток, предложила: если Ольга хочет, она попросит своего б лизкого родственника, он, оказывается, командовал плодоовощной базой, тайно взять меня к себе на работу. Как свою племянницу. Конечно, я согласилась, и в тот же день он распорядился, чтобы меня зачислили учетчицей. Оформление заняло немного времени – тут уж расстарался начальник отдела кадров, который и проводил меня на мое рабочее место.
База находилась на улице Хуторской, что на Молдаванке, недалеко от Алексеевского рынка. Добираться туда можно было несколькими путями. Первый, как обычно принято в Одессе, – трамваями. Сначала с 6-й станции Фонтана до Куликова поля. Пешком пересечь его и железнодорожный вокзал, потом штурмом взять всегда переполненный трамвай 10-го номера. Так я плентухалась около месяца.
Удовольствия оказалось достаточно, чтобы эта музыка мне окончательно надоела. Я изменила маршрут, взяла руки в ноги и теперь доезжала 18-м трамваем до 3-й станции Фонтана, до телецентра и пешедралом вместо зарядки топала по Артиллерийскому переулку, прижимаясь поближе к забору одесской тюрьмы. Почему-то на этой стороне чувствовала себя поуверенней, чем на противоположной, где находилось заброшенное старое еврейское кладбище. Я старалась туда даже не смотреть. Постепенно среди других прохожих, таких же, как и я, спешащих ранним утром на работу обрела постоянных попутчиков.
На пересечении с Черноморской дорогой меня встречал большой поток транспорта и людей, становилось как-то веселее, но дальше снова предстояло идти по безлюдному переулку с покосившимися старыми домишками, вросшими в землю, обрызганными грязью по самую крышу никогда не мытыми маленькими окошками. Напротив, за старым забором из ракушечника, располагался маслозавод. Подсолнечным маслом пахло на всю округу. Из-за забора видна была громадная куча шелухи от семечек. Она напоминала гору только живую, постоянно двигающуюся из-за облепивших её птиц. Пожалуй, вся пернатая фауна нашего южного края обитала здесь и уж от голода не страдала.
Спугнуть и согнать с насиженных хлебных мест мог ли своими гудками только паровозы, подававшие вагоны под отходы производства или доставлявшие сырьё. О, что тогда творилось! Эта безумная стая, поднимая клубы пыли с ветром, с таким шумом и гамом взметалась вверх, что становилось темно и жутко, как в каком-нибудь фильме ужасов. Но недолго было это кружение над Вторым христианским кладбищем со сбрасыванием отходов своей жизнедеятельности на местный ландшафт и головы таких же прохожих, как я. Едва гудки стихали, как бедные птички, мерную жизнь которых потревожили эти проклятые паровозы, возвращались к себе на базу, отчаянно дерясь за место под солнцем у столь щедрой кормушки. Впрочем, я не сомневалась, что всем перепадало. К слову, среди пернатых были отважные твари, которые вообще ничего не боялись – ни вагонов, ни гудков, они просто жили на этих тарахтящих и гудящих монстрах.
Но это еще не все впечатления. Кроме летающей, была еще и мерзко ползающая живность. Первый раз, когда, не спеша на обратном пути с работы, сдуру внимательно присмотрелась к местным обитателям, меня чуть не вырвало. Страх и омерзение сковали ноги. Меня всю хорошо протрусило; больше этой достопримеча тельностью я никогда не любовалась, старалась миновать этот зловонный участок бегом, не дыша приторным до отвращения прогорклым жареным маслом. На общем маршруте это сказывалось приходом на работу на три минуты раньше. Еще несколько минут выигрывала, шагая не через проходную, а пользуясь удобными лазами в заборе между заводом и нашей конторой. Проскочишь – и сразу на своей территории. Их, правда, постоянно заделывали, думаю, только для галочки. С утра замажут, а к вечеру иди хоть в полный рост.
Моей начальницей была пожилая дама громадных одесских размеров с залежавшейся пыльной «халой» на голове. Сама прическа состояла из несвежих сбитых волос от крашеной блондинки. Свои же собственные, забранные в пучок под этой «халой», были всех цветов радуги, переливались от совершенно седых от самих корней до почти оранжевого оттенка. Каждый день она меняла платья, они были одинакового покроя и фасона, но в любом случае с понедельника, строго по расписанию, она объявлялась в очередном кримпленовом квадратике. На третьей неделе я поняла, что её наряды никогда не стирались, не гладились, оставались такими же неопрятными, как и она сама.
Август, жара несусветная, в нашей комнатёнке нечем дышать. Моя начальница больше всего на свете боится сквозняков, поэтому дверь изнутри она закрывает на щеколду. Со всеми, кто несет разные документы на переоформление транзита, приходится общаться через форточку. Пустишь в помещение – редко кто, ух одя, дверь за собой закроет. Шум, гвалт, ругань вдогонку: сколько можно говорить…
Я стараюсь по мере сил вообще не смотреть на свою мучительницу. Она дико потеет, пот капает прямо с носа. Под мышки она всовывает большие мужские платки, которые через несколько минут вынимает и вешает просушить рядом на спинку ступа. При этом она не забывает каждые полчаса извлекать из своей сумочки залапанное зеркальце и пудру, приговаривая: только носик и лобик, а то я ужасно выгляжу. Да? Мне ничего не остаётся, как отрицательно качать головой и поддакивать: жара, все потеют.
От этой смеси перемешанных запахов пота, несвежей одежды и её косметики в комнатке постоянно затхлый воздух. Я сама чувствую, как у меня по спине катится пот и прилипает к груди бюстгальтер. Каждый перерыв вылетаю на улицу отдышаться. Но это ещё не самое страшное. Впереди меня ждёт обеденный перерыв, вот это настоящие муки и испытание. К этому времени заявляется её супруг с громадной сумкой. Он по-хозяйски открывает наш шкафчик, достаёт из него видавшее виды полотенце, которое выглядит грязнее тряпки, лежащей у входа на полу. Стряхивает его здесь же и накрывает этим полотенечком её стол. Пока супруга сбегает в туалет, он сервирует, ни на минуту не прекращая причмокивать неприятно губами. Всё содержимое сумки перекочёвывает на стол. На полотенечке появляются одна за другой баночки с остатками их домашних обедов за последние несколько дней: куски жареной камбалы и полуфаршированной щуки, завернутая в газетку селёдка с луком, а еще какие-то салаты непонятно из чего. Запах неприятный, мягко говоря.
Я стараюсь выскочить из комнаты поскорее, пока заботливый супруг не открыл банки с «дэликатэсами», неизвестно когда приготовленные фирменные паштеты его незабвенной супруги. При этом он постоянно поглядывал в окно, карауля машину замдиректора базы Лейбзона. Видели б вы, что происходило, когда на какое-то время тот исчезал с базы. Беготня трудящихся по всей территории, от склада к складу, а потом с полными корзинами на выход. Наш благоверный супруг тоже поджидал этот час. Он выскакивал с пустой сумкой и парой сеточек навстречу супруге, и они вдвоем мчались по известному адресу. Через полчаса раскрасневшаяся моя начальница объявлялась уже без супруга и с чувством выполненного долга приступала к трапезе. Наблюдать за ней при приёме пищи не было никаких сил. Я никогда раньше не видела ничего подобного.
Она набрасывалась на еду как животное. По-моему пишу совсем не прожёвывала, запихивала в рот большущие куски, которые частями падали вниз и оказывались на её необъятном бюсте. Она напоминала мне куклу театра Образцова, поющую прима донну. Я стараюсь как можно быстрее разнести свои накладные, схватить завтрак, приготовленный бабушкой, и унестись с этой территории подальше. Только когда немного отдышусь, в один миг проглатываю свою котлетку с хлебом и несусь на Алексеевский рынок. Он совсем маленький, не то что Привоз или Новый рынок, так, базарчик. Зато всегда есть мороженое.
За обеденный перерыв я успеваю съесть любимое абрикосовое, это просто замороженный сок. Как только зубы согреваются после льда, следующий удар наношу по эскимо в шоколаде. Это лакомство растягивала бы подольше, но, к моему сожалению, оно очень быстро таяло и начинало капать. Чтобы никто не видел, отворачивалась к стене и облизывала деревянную палочку. Огорчительно, но всё приятное в жизни очень быстро кончается. Вот и обеденный перерыв пролетел как одно мгновение, нужно возвращаться к себе. Я уже знаю, что меня ждёт. Куча вонючих банок на окне с моей стороны. Всю волю беру в кулак, а как хочется напхать этой «лэе», глаза бы мои её не видели. И так стараюсь на неё не смотреть, а у нее еще, как назло, рот не закрывается ни на минуту Что-то спрашивает – надо отвечать.
Всю её биографию я уже знала наизусть. И как она любила какого-то, а потом узнала, что он бегает к другой. И назло ему вышла замуж за этого – инвалида с детства. Ничего себе инвалид с детства – в день умудрялся делать с базы по три ходки с такими тяжестями, что не всякий здоровяк выдержит. Эта сладкая парочка Зинуля с Фимулей доили контуру целеустремлённо и беспощадно, без всякого зазрения совести.
Как только я окончательно освоилась, моя начальница стала заявляться на работу с опозданиями, в лучшем случае к десяти утра, а начинали мы в восемь. Вид у неё был измождённый и усталый, как будто она всю ночь вагоны разгружала. Через пять минут вся комната наполнялась знакомым амбре, хоть нос затыкай. Я готова была сделать все сама, весь транзит переоформить, лишь бы не видеть эту Зинулю. Особенно доканывали её стенания по поводу того, как она устала от этого графика работы. Как она с шести утра уже на ногах и какой ее ждет каторжный труд. Мне хорошо, мое счастье, что ни в какие комиссии не включают, а она, бедняжка, и в одной, и в другой, и всюду нужно крутиться-вертеться. Давила на жалость, и иногда мне действительно становилось её по-настоящему жаль. Придет откуда-то запыхавшаяся, не успеет попить чайку, как тут же нарисовывается Фимочка со скрученной сумочкой под мышкой.
Его она усматривала в боковое окошко и подхватывалась, чтобы отодвинуть щеколду, причем так стремительно, что я каждый раз вздрагивала. Фимочка, застенчиво улыбаясь, бочком протискивался в комнату, усаживался на место жены, снимал свою панамку с головы, обтирал ею потное лицо и шею, приговаривая: ох, Зинуля, и разогрела ты стульчик, как на печке сижу. Зинуля тем временем проверяла, какие кошелки он прихватил, и исчезала. Я уже знала, куда, и, пользуясь случаем, моментально распахивала окна. Муженек сначала пробовал протестовать, но, наверное, побаивался меня, выходил из комнатки и прятался за диспетчерской, которая одновременно служила и весовой, а то и вовсе где-то исчезал за углом.
Теперь можно спокойно поработать, если что неясно, например, с переоформлением транзита, особенно летом, связаться с бухгалтерией, там опытные сотрудницы, всегда подскажут, как поступить. В летнее время магазины получали из совх озов и колхозов Одесской области продукцию напрямую, мину я базу. Экономически было выгодно всем, но учитывать поступление приходилось нашему транзитному участку бухгалтерии. Не буду скрывать, с моим появлением количество завмагов овощных магазинов города, желающих переоформить транзит и оказать мне своё личное внимание, росло. На молоденьких тянуло. Директора возле моего окошка крутились целый день. А вместе с этим и увеличивался объем завозимых на базу овощей и фруктов, и что особенно важно – его величество товарооборот.
Леонид Михайлович Лейбзон только ручки потирал: сам визжал поначалу, что ему всучили безрукую, даже на счётах считать не может, а теперь расхваливать стал, шо такую гарну дивчину давно надо было сюда посадить, как приманку для зверя на охоте. Вон как вокруг диспетчерской закрутилось. До него еще тогда не дошло, что за глаза острые на язык местные шутники прозвище мне придумали соответствующее: Венера Милосская (кое-кто добавлял – безрукая), и пошло-поехало гулять по базе: Милосская, Ольга Милосская. Многие считали, что у меня и впрямь фамилия такая. Потом уже, когда стала показывать свои коготки и характер, Венера превратилась в Мегеру Милосскую. Кончилось же все тем, что ко мне в конторе приклеилось прозвище: Мегера Иосифовна, но об этом позже.
Первые рабочие дни запомню на долго. Я действительно не умела считать на счётах. Ещё складывать могла более-менее, но умножать… Раз десять меня пыталась научить Зинуля, но я продолжала по-школьному на листочках, в столбик. Возвращалась домой, не чувствуя спины, рук, ног, шеи. Спросила маму вечером: я что, теперь каждый день буду считать?
Мама пристально на меня посмотрела, как на больную на всю голову.
– Оля, а ты какой институт закончила?
А ведь правда, за всё время учёбы я ни разу даже не подумала, что ждет меня после нархоза, с чем моя профессия будет связана. Сплошные цифры, которые надо складывать и вычитать, умножать и делить. Сдала сессию и гуляй.
Отросшие за лето ногти ломались один за другим. Кончились мои потрясающие длиннющие ноготки, их самый главный враг, волейбол, остался в истории, но появился новый – треклятые старые счёты. Спиливая очередной, в сердцах выпалила: мама, не хочу там работать, скучно и не мое это.
Мама бросила ложку на пол: не твое, бросай, иди мой полы. А не хочешь мыть полы, так добейся уважаемой работы. Сама добейся, без чьей-либо помощи, да и ждать ее неоткуда. Сама себя за уважаешь. Алка, старшая сестра, предложила логарифмическую линейку но, когда я её принесла, меня все засмеяли. Но правильно говорят: усердие и труд всё перетрут. Через некоторое время я уже лупила по счётам, как Анька-пулемётчица из своего «максима».
А пока я молча наблюдала за жизнью этой конторы «Рога и копыта». Особенно меня потрясало поголовное воровство. Кто как умудрялся, так и тащил: начальство в машинах, работяги на себе. И всё это происходило круглосуточно.
Предупреждение мамы, чтобы я ни в коем случае, ни под каким видом и разными уговорами не смела ничего брать, я выполняла беспрекословно. Мама напрасно волновалась, я из этой комнатки никуда не выходила, и меня никто не угощал. Я только ждала тот день и час, когда мне оформят трудовую книжку и я умотаю отсюда на все четыре стороны.
О, боже, если бы кто знал, как на диспетчерской происходил товарообмен. Рабочие с маслозавода тащили подсолнечное масло в полцены, кондитерская фабрика – конфеты, ликёроводочный завод – спирт и остальное. Обменивалось все это на свежие овощи и редкие для Одессы фрукты, апельсины или бананы, или еще на что-то более ценное. На базе можно было достать всё. Честные труженики, строители коммунизма, за свой самоотверженный труд тянули всё подряд. Но и им нужно отдать должное: все пахали как проклятые с утра до ночи. Ни выходных, ни проходных, только одни вагоны выгрузят, а уже следующие на подходе. А еще машины в очереди на разгрузку километра на полтора…
И кто так умно рассчитал, что вагон по нормативам выгружается за два часа. Вот того бы умника поставить на эту операцию – пусть покажет класс.
Меня включили в приказ, и я несколько раз была членом комиссии по приёмке. Это когда вагоны прибывали с повреждёнными пломбами и была недостача. Я пыталась честно выполнять за дачу, но что я видела? Да ничего! Смотреть на грузчиков, как они упираются на дикой жаре, как треща т их спины. И при этом они ещё мне успевали подмигивать. После выгрузки ребята в изнеможении ложились на пол, даже отборный мат бригадира не мог их сразу поднять на новый подвиг во имя светлого будущего: хлопцы, тут вам не халява, хрен разлёживаться, переключайтесь на второй вагон, а то простой пойдёт по всей секции, штрафы за простой вы будете платить?
Бригадир знал, как заставить людей подняться. В руках он держал бутылку запотевшей холодной водки – поощрение от зав-склада. Прямо из горла хлопцы делали по нескольку глотков, с трудом вставали и, как бурлаки на Волге, медленно плелись к другому вагону, обкладывая не менее сочными матюками всех подряд. Меня они не стеснялись: привыкай, дочка. Привыкнуть было непросто, хотя я и не такое слышала от бухнувших свекольного самогона мужиков в нашем дворе. Здесь же, у платформ, суетились завмаги, ожидая, когда грузчики освободятся, чтобы загрузить машины товаром для розницы. Совсем уставшие, они соглашались и на эту работу, знали, что пару рубчиков им перепадет.
Летом время деньги, а скоропортящийся товар – деньги втройне. Большинство соглашающихся обслужить магазинный транспорт и еще немного подзаработать – женщины-разнорабочие, привычные к такому тяжкому труду. Или жизнь их заставила привыкнуть. С семи утра и до десяти вечера на ногах, итого на круг пятнадцать часов. Как муравьи, не останавливаясь, чтобы передохнуть, они накидают полную машину увесистых двадцатикилограммовых ящиков. И за целый месяц такой работы получат свою ставку 70 рублей, плюс за сверхурочные первые два часа в двойном размере, последующие – в одинарном. Но заплатят им официально только за четыре часа. Больше никак, иначе это нарушение трудового законодательства. А про ущемление прав трудового народа на труд и отдых, о заботе о трудовом народе, значит, забудьте.
Поначалу я не могла спокойно глядеть на этих трудяг, ругающихся матом, когда работают, ещё хлеще мужчин и не отстающих от них в выпивке. Но когда они после работы уходили, все как одна чистенькие, умытые, прилично одетые, сложно было представить, что за плечами этих женщин такой убийственный рабочий день. Когда же они видят своих мужей и детей, у кого они есть, и вообще дома хозяйничают?
В руках у них были плотно набитые товаром сумки, они не крали втихую – нет. Начальство само им разрешало затовариваться, но не несло ответственности, если их поймает местная инквизиция – ОБХСС. Поэтому выход в город был для них спецоперацией: одни стояли на шухере, другие проносили полные кошёлки – и всё быстро, без шума и пыли. Счастливые лица рабочих, передового класса нашего социалистического общества, смотрели на это всё радостно с громадных плакатов, развешанных по всей территории и призывавших к доблестному труду во имя Родины – верной дорогой идёте, товарищи!
С утра прохладно, ночью прошёл настоящий ливень. Бабка, кормя меня манной кашей, напомнила, что сегодня, 2-го сентября, у Одессы именины, день рождения. Никто не хочет признавать это как праздник, бурчала она, будто бы наша Одесса какое-то незаконнорожденное дитя. Она выглянула в окно: в этот день всегда непогода, это Одесса злится. Завтра нас простит, она долго на нас не обижается, как мать на детей. Что бы они ни нашкодили, всё равно простит.
Каждый год я слушаю одно и то же, не каждая внучка выдержит, но бабку не хочется обижать, пусть себе талдычит. А мне хорошо, в этом году не надо ехать в колхоз, кончились для меня все эти сессии, институтская лихорадка: все на уборку. Вот только выпишут мне трудовую книжку, и сбегу с этой вонючей конторы. Алка обещала пристроить в какой-то НИИ, там кто-то из её бывших сокурсников в начальниках.
Вечный мой кавалер Юрка Воронюк опять объявился и с маниакальным постоянством ждёт своего часа. Лучше уж в Молдавию сбежать, но только не за него замуж. А Лильке Гуревич он нравится, ей все мои отставные нравятся. Воронюк до сих пор не может простить себе, что в девятом классе спустил с дружком нас с лестницы. Во как влип, однако мне это по барабану, уже тошнит от его воспоминаний. Семь лет пролетело, а он всё никак не может успокоиться. Выжидает своего часа, как хитрый зверь добычу.
В обеденный перерыв я сбегала на рынок, купила себе пару персиков, помыла их под краном и только, отвернувшись к стенке, надкусила, согнувшись почти пополам, чтобы соком не об литься, как кто-то шлёпнул меня по заднице. Я чуть не подавилась, как ошпаренная подпрыгнула: Стас?
– Привет! – передо мной стоял не парень в форме высшей мореходки, а шофёр замдиректора Алексей с куском парного мяса. – Ты шо такая пугливая? А хто ж у нас Стас? Нема таких. Та ты шо вся дрожишь?
– Так неожиданно, напугали.
Назвать его Алексеем у меня язык бы не поверну лея. Ему было далеко за пятьдесят, но все обращались к нему просто по имени. Они с нашим Лейбзоном были женаты на родных сестрах. А вообще он прошёл всю войну от звонка до звонка водителем полуторки. Нужно было видеть его за рулём, как он сидел в машине. Лицо склонилось над баранкой, которую его руки сжимали что есть силы. Лбом чуть ли не упирался в стекло, взг ляд одновременно и на дорогу, и под колёса. Так его приучил фронт, и далеко не идеальные, а часто более похожие на проселочные одесские дороги тоже требовали к себе не меньшего внимания. А как он, летая на большой скорости по городу на «Москвиче»-пикапе, успевал в открытое окно отматерить всех подряд, кто мешал его движению, даже если ехали по всем правилам. Никто не хотел с Алексеем связываться, пугаясь страшенного лица мордоворота-уголовника, хотя на самом деле он был мягким человеком с отзывчивым сердцем. Все постовые знали его как облупленного и отдавали честь.
– От ты даёшь, девка! Наши же персики с базы на базаре за гроши покупаешь. Ступай умойся и пойдём. Что ты заладила: куда? Сейчас узнаешь. Идём, кому сказал.
Я как нашкодивший ребёнок поплелась за ним и покорно плюхнулась на продавленное сиденье рядом с водителем. Когда он завёл свой тарантас и влез головой в стекло, я непроизвольно последовала его примеру, вцепившись рукой за ручку двери. Он так быстро пролетел эти два квартала, что я и глазом не успела моргнуть, как оказалась перед диспетчерской.
– Топай к себе, – резко бросил он мне, а сам двинул к весам. – А ты, хренов начальник, все для себя, красавца, стараешься, сам жрешь, и не лопнешь, а девчонку заставляешь за фруктой на рынок бегать, лишние деньги у нее откуда? – Алексей не говорил, а орал. – Давай сюда, разговор до тебя есть.
Окошко было открыто, и я слышала и наблюдала, как шофёр обкладывает бедного мужика. Тот только пожимал плечами и несколько раз посмотрел в сторону нашей комнатки. Алексей, сама не ведаю почему, часто потом притягивал моё к себе внимание. В городе, когда ловила «тачку» и попадались мужчины с такой манерой руления, всегда спрашивала: вы машину на войне водили?
– Так точно. А вы откуда знаете?
– Догадалась. У нас на работе шофер тоже фронтовик. Кажется, до Праги дошел, до Берлина уж точно. Награды от маршала Конева имеет.
У моей непосредственной начальницы как раз была середина обеда. Перед ней на газете лежала громадная горячего копчения рыбина. Я обожала черноморскую нашу скумбрийку Как только начинался сезон её отлова, все магазины Одессы торговали ею в разных видах – и свежей, и солёной, но больше всего мне нравилась горячего копчения. Рыбки выкладывали в небольших ящичках, такие они были желтенькие, перламутровые, по три руб ля шесть копеек за килограмм. Полбатона, помидор с крупное яблоко и копчёная скумбрийка. Что ещё нужно для полного счастья?
Но начальница, чавкая, наслаждалась луфарем. На столе эта махина выглядела, как скумбрия под громадным увеличительным стеклом. Своими толстыми пальцами в кольцах она стаскивала с рыбины тонкую кожу, обнажая розовое копчёное мясо. С рук капал жир, превращаясь в расплывшееся по всей газете масляное пятно.
– Хочешь попробовать? – спросила Зинуля и, легко отломав от хребта нежные куски, так что обнажилась белая косточка, протянула их мне.
Наверное, на мою начальницу что-то нашло, с чего вдруг такая щедрость. Я с удовольствием поедала эту вкуснятину и в качестве платы за угощение слушала Зинулины причитания.
– Не пошла бы на переоценку, так бы и не знала, что наши магазины такой рыбой торгуют. Сидишь как проклятая целый день за такие копейки, кому только сказать. Все думают, здесь золотое дно. А здесь ни хрена не заработаешь.
В дверях, как обычно, появился её муж. Он хотел было схватить оставшийся кусок луфаря, но Зинуля одернула его: дома нажрёшься, пусть девочка покушает. Лучше тащи сумку из-под стола, осторожно, там персики. И быстро дуй отсюда, обед кончается.
– Такого больного, – сокрушалась она, провожая взглядом мужа, – заставляю тяжести таскать. Этим всем на машинах развозят с доставкой на дом (она кивнула в сторону нашего диспетчера). Целый день песни поёт и девок лапает. Смотри, Олька, не клюнь на его красивые глаза. Не поддавайся. Привык в колхозе, что все бабы его, и здесь руки распускает.
Меня чуть не разорвало от смеха.
– Не смейся. Помнишь поговорку: смеется тот, кто смеется последним. И до тебя очередь дойдёт. Если что – сразу Лейбзону жалуйся, тот ему вмиг обрезание сделает. Лейбзон всех предупредил, чтоб к тебе никто даже думать не думал клеиться. С ним дело иметь будет. – Она хитро улыбнулась. – А может, для себя присмотрел? Девушка ты видная. А вообще не думаю, он не по этому делу, он по электричеству. Перед своей Манькой на задних лапах ходит.
Что-то моя командирша сегодня очень разговорчивая. И щёчки красные. Не махнула ли в магазине на переоценке? Вон как её разморило, и носик не пудрит. Шмат рыбы упал ей на грудь, она и не пытается сбросить. Больше не могу, сейчас вырвет.
– Я всё уберу и помою. Запах на всю комнату давайте проветрим.
– Убирай! Проветривай! Я ещё за персиками рвану, не всё кладовщикам одним жрать – подавятся. Ты, Олька, если что, прикрой меня, я сегодня не вернусь уже. Сил моих больше нет. Нагорбатилась.
Скорее бы. И завтра её с утра не будет. Счастье.
Утро. Как я люблю раннее одесское осеннее утро. Небо высокое, уже прохладное, голубого цвета. И солнышко светит, играя своими лучиками, слегка греет, но не печёт, а ласкает лицо, соревнуясь с лёгким ветерком. Он пытается прошмыгнуть под пиджачок моего костюмчика, я его чувствую от талии до лопаток, и как ласково обдает ноги. Голове моей от него достаётся. Сзади ветерок волосы дыбом поднимает, через лоб их перебрасывает вперёд, застилает, нет, бьет в лицо моими неровно подрезанными прядями. Невозможно идти, на ходу хвост перехватываю резинкой. Теперь сколько хочешь дуй! А вот и она надвигается, куда без нее, громадной тёмной тучи с севера. И ветерок из озорного подростка превращается в демона. Всю летнюю пыль с мусором одним взмахом кверху поднимает, забивает в нос, все глаза, уши в ней. Успеть бы добежать до начала ливня. Скорее рванул бы, может, не так омерзительно пахли бы сгнившие овощи и фрукты. Ощущение, что ты на конюшне со свежим навозом.
Но не повезло. Так, покапало немного. Туча, что еще несколько минут назад такой страшной казалось, утихомирилась, видно, в море дальше понеслась. Там бед наделает, шторм вызовет. А вдруг где-то там, далеко, в пучине волн, мой Стас на практике, а капитан у него Всеволод Иванович. Я так увлеклась своей выдумкой, что чуть не попала под машину. Только скрежет тормозов и ругань водителя меня встряхнули. Так рванула через трамвайные пути, что только пятки, оторвавшись от босоножек, сверкали. Отдышавшись, медленно плелась, любуясь разгулявшимся небом. Сейчас приду к себе и покемарю за столом, пока Зинули нет. Лишь бы не разрешать мозгам переваривать заново свои печали. Не думать о моей, в который раз безответной, любви. Стас, когда только ты повзрослеешь? Я ведь жду тебя! Хоть бы ничего плохого с тобой не случилось. Сама ни за что к тебе первая не приду. Никогда!
Галка Рогачка предлагала мне вступить с ним в переговоры, но я категорически отказалась. Почему? Не знаю. Я даже признательна, что так много работы, и некогда ни о чём другом думать. Да и сколько ни думай – ничего не изменится.
Мои мысли сейчас о том, что я в этой тесной комнатенке в чистоте сижу, за столом, почти как начальство, а за окном рабочие тётки и молоденькие девчонки, не поступившие после школы никуда, пашут из последних сил, лишь бы как-то продержаться на плаву, не утонуть в этой противной жизни, когда ждешь, что тебе расщедрившиеся завмаги или заведующие складами подкинут несколько рубчиков или удастся что-то стащить, порадовать поздним вечером, вернувшись домой, буквально сбившись с ног, своих близких. Неужели это стимул, нет, плодоовощной ад.
А разве не так же было и на кондитерской фабрике, где проходила учебную практику в школе, или у моей мамы на мясоконтрольной? И в СУ у Алки не лучше. Весь город так жил, больше существовал, переплетаясь своими проблемами, как клубок змей. При дорогом Леониде Ильиче нам вообще перекрыли кислород, так считает Лейбзон, и я ему верю. Город с миллионным населением, а в летние месяцы оно увеличивалось, по разным подсчётам, вдвое, а то и втрое, перевели в четвёртую группу по продовольственным фондам. А Днепропетровск и Днепродзержинск, естественно, в первую, и, конечно, туда же впихнули соседнюю Молдавию. Не знаю, как с Казахстаном, куда тоже ступала нога горячо обожаемого всеми вождя. Одессу, мягко сказать, не жаловали. За свободолюбие и острый язык. Киев обходил ее стороной, видя, как в спорте, конкурента, которого сложно обыграть. Украинскую столицу больше заботили западные области, да и себя родимую нельзя же обижать. Как ударить в грязь лицом перед Москвой.
Что остается в подобной ситуации? Уметь выкручиваться. Одесса, мой город родной, умела. Бог всегда посылал ей героев-одиночек. У которых в черепной коробочке размещался настоящий «сейхал». Лейбзон Леонид Михайлович был из таких. На всё на до иметь талант, еще лучше – уникальный. Лейбзон им обладал. В продмагах почти пустые полки с мясом или молочкой, и только овощные прилавки переполнены плодами богатой земли и садов круглый год. Дешёвая плодоовощная продукция была спасением для одесситов. Все торговые точки старались иметь плодоовощную секцию, чтобы хоть что-то продавать и делать план, который ежемесячно спускали «сверху» из соответствующих исполкомовских и райкомовских отделов, заранее зная, что они невыполнимы.
Отсюда и любовь одесситов к вареньям и консервированию, заготовке овощей и фруктов. Чего только не придумывали! Не пропадало ничего. Из арбузных корок и дынь варили джемы. А рецептов из корочек апельсинов, мандаринов и лимонов была уйма, как говорят в Одессе, – тебе не передать. Даже у мужчин тема для обсуждения на пляже после футбольных новостей, красивых ножек у девушек и похождений налево – только где достать пожрать. Ну, еще анекдоты были впереди – Одесса все-таки. Но самая большая слава досталась от одесситов баклажанам, любовно называемым «синенькими». Уж очень они напоминали нам давно забытый вкус мяса.
Толпы покупателей окружали наши магазины, любой товар только подвози, все разберут. Права моя бабушка, она где-то вычитала, что так повелось ещё с незапамятных времён. Бабушка вообще была погружена в историю, многое мне рассказывала. И об этом тоже. Как Потёмкин князь Таврический считал, что это мёртвое место, как он называл Хаджибей, только и годится для добычи соли и производства из неё дорог. Екатерина Великая, по выражению моей бабки, «умнейшая женщина», подумала: вот и хорошо, согласилась с преданным ей человеком, исполняющим всякие тайные и деликатные личные поручения императрицы, и подписала указ о строительстве соляных складов. Ну а дальше дело было за Дерибасом с Десметом. С божьей и испанской помощью родилась Одесса, и в казну государыни потекли денежки.
А как отблагодарили? Забыли? Намарали от зависти клевету, вызвали в Санкт-Петербург и угостили водичкой, отравленной холерой. И всё тихо. Одни одесситы остались верны своей народной памятью и благодарностью отцу-основателю города Дерибасу. И так уж повелось, что один исполин передавал по наследству это красивое южное дитя другому, пока сама Одесса не повзрослела и стала сильной, волевой независимой женщиной – под стать Екатерине. И величали нашу Одессу не иначе, как «южная столица Российской империи».
Так, едва не засыпая, развалившись, в отсутствие своей начальницы, верхней половиной туловища на столе с транзитными ведомостями, которые дожидались моего прикосновения, я размышляла об Одессе. В тот момент она сузилась для меня до Хуторской улицы, плодоовощной базы, с которой началась моя трудовая биография.
– Доброе утро, спящая красавица! От жары сморило?
Меня как током пронзило. Передо мной стоял сам Лейбзон Леонид Михайлович.
– Извините, сводку передала, всё разнесла, сидела и думала, может, что-то еще недоделала, – пыталась я выкрутиться из неловкой ситуации.
– А где эта королева шантеклера, Зина Марковна? По складам носится?
– Нет. С утра в магазине на переоценке.
– Где ты сказала? На какой переоценке?
– Телефон вот оставила на всякий случай.
– Тогда звони, а трубку мне дашь.
Дрожащими руками набрала номер и краем глаза увидела подслушивающиху окна снаружи диспетчера и весовщика, оба что-то энергично жестикулировали. Долго ожидала, пока кто-то подойдет, наконец, услышав «алло», попросила срочно позвать Зину Марковну и добавила, что это с базы, Леонид Михайлович её спрашивает, срочно. Лейбзон вырвал у меня трубку Судя по всему на той стороне провода возникло какое-то замешательство. Наконец женский голос ответил, что никакой Зинаиды Марковны у них в магазине нет.
– Кто говорит? – орал, как разъяренный зверь, в трубку Лейбзон. – Где заведующая?
– Так нету их, это рабочая. Начальства нету, на базу поехали.
– Передай, на базе им больше делать нечего. Пусть в суфлёры в театр устраиваются, а ты в артистки.
Я стояла ни жива ни мертва, совершенно ничего не понимала. Похоже, сама того не желая, заложила свою напарницу по всем статьям.
Этот невысокого роста мужчина лет пятидесяти с полулысой головой, с торчащими по краям вьющимися рыже-седыми волосами в своей застиранной рубашечке и коротких широких брюках, скорее напоминал клоуна. Напарника Юрия Никулина, с которым они в цирковой пантомиме таскали бревно.
– А ты там что прячешься? – Лейбзон выглянул в окно. – Иди сюда, Иван-царевич!
Как метко. Диспетчер действительно чем-то походил на героя русских народных сказок.
– Где твоя подчинённая промышляет? Ну?
Далее Леонид Михайлович слово в слово, будто за ученное стихотворение, повторил то, что я уже слышала от Зинули. Про песни, колхозных баб, предупреждение мне, чтобы не поддавалась на его уловки, и, конечно, про обрезание. Разумеется, все наоборот, но молодец Зинуля, хорошая память, раз так его цитировала.
– Слушай, как тебя? Оля? А это правда, что ты персики на базаре покупаешь? Я Алексею не поверил, такой позор! А ты, поц, как себя ведёшь, а? Какой же ты парень очень ценный… Чтоб у Оли каждое утро были фрукты. Вазу побольше подбери. И чтобы мытые. Слышишь, Дон Жуан?
Бедный диспетчер был бледен, как мел, и только кивал головой.
– Скажи Венере Милосской спасибо, что план выполнили. Видел, к ней все завмаги переоформлять транзит, как на срачку, бегали? Смотри, чтоб никто не привязывался. За неё лично отвечаешь, меня правильно понял? А королеву шантеклеру как только появится, с пожитками сразу ко мне.
– Леонид Михайлович, не волнуйтесь, – он так противно весь согнулся, что вся его мужская красота пропала моментально. А Лейбзон, посвистывая, понёсся дальше наводить порядок. Как я услышала потом от диспетчера, сегодня у Лейбзона зверский аппетит на человечинку. Вазочка с фруктами, тем более с мытыми, у меня так и не появилась. Правда, с каждой прибывающей на весовую машины Иван-царевич демонстративно отбирал лучшие плоды, приговаривая: «Это для той, как её там, Венеры».
Моя начальница так и не объявилась, вместо неё прискакал муж и сообщил, что Зиночка сильно заболела, у неё давление. Так я больше её не видела.
Я пересела на место Зину ли, откуда еще лучше, через открытое настежь окно, просматривалась вся территория. Мои познания трудового процесса стали значительно шире. Возглас диспетчера, что к Лейбзону пожаловал сам «полтора жида», особо привлёк моё внимание. Такую личность ещё не лицезрела. Я много чего ещё не видела, поскольку мы были только филиалом, а главная контора располагалась на Моторной, 8, за всеми заставами. Там же находилась и резиденция большого начальства, как величал её Лейбзон. Его часто вызывали туда, и тогда у нас начиналось то, что можно в двух словах изобразить, как кошка из дома, мыши в пляс.
На «полтора жида», безусловно, мне было интересно взглянуть. Я выглянула в окно и увидела «скорую помощь». К кому она приехала?
– Та то ж «полтора жида» прикатил. Сейчас побачишь, як выползать будет, не пропусти. Сейчас его хозяин отпустит. О, о, дывись! – удовлетворил мое любопытство наш диспетчер.
Действительно, было на что посмотреть. Никогда в жизни ничего подобного я не видела. Он от своей полноты уже не был похож на человека. Еле сполз с трёх ступенек и, с трудом перебирая трущимися друг о дружку толстенными ногами буквой икс, плёлся в нашу сторону. При этом его громадное брюхо телемпалось из стороны в сторону, не совпадая в такт с головой и жирнющим подбородком. Уж очень неприятное это было зрелище. В принципе больной человек.
– Привет, Володя! – завидев диспетчера, «полтора жида» протянул ему руку. – Что не появляешься у меня? Разбогател? У меня для тебя всегда припасено. Говорят, у тебя здесь новая пассия завелась? Стоящий кадр?
Пыхтя как паровоз, что подвозит на базу вагоны, он протиснулся к моему окошку, пытаясь что-то рассмотреть. Диспетчер бросился ему наперерез.
– От только этого мне не надо! Здесь всё схвачено. Под личным контролем самого…
– Та ладно, Володенька, всё сейчас продаётся и покупается. Только от цены зависит. А знаешь, она того стоит, аппетитная деваха, молоденькая. Какой твой процент? Подумай и позвони, свои же люди, разберёмся. Договорились?
Перебирая своими слоновьими ногами, необъятный толстячок дошкандыбал к «скорой помощи» и с помощью шофёра и врача в белом халате еле втиснулся через заднюю дверь ЗИМа.
Едва машина с визгом вылетела за территорию, как у моей кельи объявился Володя:
– Ну шо, ты всё слышала?
– Я не подслушиваю, это не мое, противно.
– Ага, такая, значит, политика. Ничего не вижу ничего не слышу никому ничего не говорю. А, между прочим, тебя лично касается. Тот еще удав. Заглотнет – и выплюнет.
– Меня? Я его не знаю.
– Зато он на тебя настроился.
– А кто он?
– Заведующий винным складом в городе, их у него несколько, в подвалах. Денег куры не клюют. На тебя запал. У них как состязание, у кого мошна больше, так тот и в дамках. В шашки играешь? Поставил он на тебя.
– Что поставил?
– Ты как с небес свалилась. Тебе сколько лет-то?
– Уже двадцать два.
– И не кумекаешь? Он тебя озолотит, у него цых грошей, як у бездомной собаки блох. И то больше, и девать некуда.
– Пусть он засунет их себе в одно место, можете так и передать ему. Будь он хоть «четыре жида» сразу.
– Я тебе передал, Венера Милосская, а там сама решай. Между прочим, раз ты такая неприступная, то двери зачиняй. Здеся желающих много, я тебя отбивать не буду.
Он вышел, и я на защёлку сразу закрыла дверь. Вот так номер, чтоб я помер. Только этого мне не хватало. Может, признаться и сказать им, кто мой дядька. Тогда их аппетит поубавится. Господи, такой урод и туда же. Фу, как противно. Еще и победитель соцсоревнования. Смех и грех. Боженька, родненький, дай продержаться ещё немного и получить эту сраную трудовую книжку и сбежать отсюда подальше.
Дня два прошло. Даже краситься на работу перестала. На все комплименты особо нахальных вообще не реагировала. И вдруг звонок из планового отдела, спрашивают: какой товар я в транзитной ведомости написала, не могут разобрать.
– Раки.
– Какие к черту раки? – трубку разрывал противный женский голос. – Сраки ещё напиши! Откуда они взялись?
Слышу как на том конце отчаянно лаются между собой. Мат-перемат, ищут какие-то накладные, крики – не наша продукция, афера. Где Зина?
– Не знаю.
– А что ты знаешь, – меня грубо обрывают, – передай телефон диспетчеру.
– Его нет на месте.
– А ты кто? Новенькая?
– Да.
– Как зовут?
– Оля.
– Кто принёс тебе эти накладные? – голос в трубке продолжал настойчиво выспрашивать.
– Мужчина какой-то. Он много сразу принёс, просил, чтобы я их ему проштамповала. Последняя была с этими раками. Я всё разнесла, копию, как положено, подшила.
– Наберут дур малахольных, и потом мучайся с ними. А под суд, если что, нам идти.
В трубке раздались короткие гудки.
Что же я такое натворила, чего не доглядела? Убей бог, догадаться не могла. Еще прознают, что на шоколадку купилась, зачем взяла? Не прошло и нескольких минут, как увидела несущегося на всех парах Лейбзона. Его брючки на тонких кривых ножках трепетали как паруса, волосы стояли дыбом.
– Рассказывай, что здесь произошло. Тихо, спокойно, смотри на меня, я тебя ругать не буду. Хто тебе подсунул эти бумаги? Как не знаешь? От это да, шлёпать нашей печатью она знает как, а кому и на что, не знает.
– Честное слово, не знаю, думала, раз принёс, так все знают.
Лейбзон развернулся к высоченному диспетчеру который от его грозного вида стал на глазах уменьшаться до размера карлика.
– Та чёрт её знает, кому она шо нашлёпала.
Эта наглость меня взбесила: как?
– Вы с ним шушукались, за руку здоровались, как хорошие знакомые. Ещё спросили: какими судьбами, какое дело у него до вас?
Лейбзон скосил на меня свои лучезарные глазки и с ехидством доканывал диспетчера:
– Володенька, ну и какими судьбами?
– Так разве усех упомнишь? Усе крутятся, уся шоферня. Понятия не имею.
Лейбзон подтолкнул диспетчера ко мне поближе: вот так лучше будет.
– Припомни, деточка, что тот тип ещё говорил. Кто еще был?
Я совершенно растерялась, в голове крутилась только эта проклятая шоколадка.
– Он сначала Зину Марковну спросил, я ответила: ее нет, и она уже не работает. Тогда он достал из портфеля свои бумаги, сказал, что спешит очень, и просил быстро проштамповать.
– Да, Володенька, интересно получается, как бы из-за этих раков нас всех раком не поставили бы. Пошли-ка, красавчик, со мной, разбираться будем.
Диспетчер понуро поплёлся за Лейбзоном, я выскочила вслед и громко крикнула:
– Леонид Михайлович, а как мне, ещё работать или за расчетом бежать?
– Трудись дальше, деточка, только повнимательнее будь, а то тут ушлые ребята, быстро вокруг пальцев обведут. А раки как-нибудь вместе попробуем. Под пивко. Какое пиво любишь? «Жигулевское»?
Он рассмеялся и так быстро скрылся за дверью конторки, что я не успела ему ответить, что никакое не люблю.
На следующий день на пороге нашей комнаты появилась гром-баба, так в Одессе называют очень крупных женщин. Крашеная блондинка с громадной халой, залакированной под цемент, и с ещё большим бюстом.
– Меня зовут Лилия Иосифовна, я из планового.
А я-то подумала: тетка солидная, наверняка директор какого-нибудь магазина, их же много по городу, еще не со всеми познакомилась. А оказалось, та самая, которая вчера орала на меня по телефону.
– Я не обязана тебя учить, но Леонид Михайлович поручил тебя просветить.
Первая ее лекция затянулась часа на полтора. Она рассказывала живо, интересно, с примерами, не занудно, как преподаватели с институтских кафедр, которые смыслили в теории, но, наверное, ни одной базы живьем не видели.
Я стала задавать вопросы и почувствовала, что ей моя любознательность по душе.
– Ты где-то учишься, на каком курсе?
Я хотела смолчать, что летом закончила нархоз, но вопрос моей новой наставницы прозвучал настолько неожиданно, застал меня врасплох, что, покраснев, честно призналась. Мы оказались однокашниками, только я занималась на дневном, а она, как большинство одесситок, на вечернем, а на работу сюда, на базу, пришла в семнадцать лет.
Искорка дружелюбия сверкнула между нами. Я ей как на духу призналась, что избранная профессия меня совсем не увлекает. Лилия Иосифовна посмотрела на меня поверх очков, у лыбнулась: это потому, что ты ничего в ней пока не кумекаешь, иначе не допустила бы промашку с раками.
– А как вы ее так быстро узрели?
– Вот это и есть профессия. Сумма товарооборота резко увеличилась, раки же не огурцы с помидорами, дороже. Стали искать: откуда подарок судьбы? Оказалось, из самого Парижа.
– Откуда? – я обомлела.
– Того самого, французского. В Измаиле ловят и в Париж самолетом отправляют. Это им раки кушать, а не нам. Мы картошечке с квашеной капустой рады. В общем, Лейбзон сам разберётся, куда уходят наши сраные фонды. А этому измаиловскому кадру я не завидую, за такие махинации и в тюрьму угодить недолго. Где раки зимуют, он теперь точно будет знать. Подставить нас хотел, говнюк паршивый.
В окошко постучал водитель Алексей. «Это за мной», – Лилия Иосифовна поднялась из-за стола, подхватила свои здоровенные сумки, полные документов, и уже в дверях, улыбнувшись, предупредила: печать забирай с собой домой, без присмотра не оставляй и никому никогда не доверяй! Здесь друзей быть не может. Если что, в чём сомневаешься, звони мне. Не стесняйся, всё спрашивай.
Я смотрела вслед этой женщине и чувствовала себя такой жалкой, такой беспомощной. Господи, куда я попала?
Зинулино место недолго пустовало. Его занял Юра Морозенко, он на базе отвечал за железнодорожный транспорт. Так распорядился Лейбзон: а то этого швыцера никогда поймать нельзя. «Сильно умный, когда захочет, тогда объявляется, – укоризненно покачивал Лейбзон головой, – деловой нашелся, думает, меня пальцем сделали. Под боком пусть сидит и никуда не рыпается без моей команды».
Это был молодой человек, на вид явно похож на человека с пятым пунктом, понятно каким, но постоянно подчёркивавший своё украинское происхождение. Небольшого роста и очень худенький, с узкой полоской усиков под носом. Они на его маленьком личике, возможно, и были единственным украшением. Он, по всей видимости, корчил из себя Сальвадора Дали.
Как только над ним не подшучивали – и личным моим охранником называли, и бесплатным слугой. Парень оказался только внешне смахивающим на пацана, на самом деле ему давно было за тридцать. Начитан, увлекался театром и кино, в общем, достаточно эрудирован, что в этом зверинце мне показалось исключением из правил. Я в момент сориентировалась: с Юрой можно дружить по-честному, без всяких там ухаживаний и приставаний. Призналась ему, что очень боюсь, что мне не нравится эта шарага и я очень скоро отсюда уволюсь. Он, в свою очередь, не скрывал, что работает здесь только из-за денег. Нигде даже с высшим образованием не заработать, как здесь.
Со своим скользящим графиком Юра постоянно в бегах. Такой неуловимый Фигаро, который то там, то здесь. Сейчас на товарной, позже на расцепке вагонов, затем в очереди на получение документов. Шустрик неугомонный, за рабочий день успевал обтяпать все свои дела. Ему не нравилось, что теперь он под личным контролем начальства и привязан к стучу в этой комнатенке. Спустя некоторое время я ощутила, что парень ко мне неравнодушен. Как такое не уловить, когда на моём столе появилась вазочка с цветочками. Морозенко стал таскать редкие книги, настоятельно рекомендовал их почитать, так что мне было чем заняться в свободное время. Он словно за руку водил меня по лабиринту этого гадюшника, рассказывал, кто чем занимается, за что отвечает. Постепенно я начала различать всю эту ораву друг от друга. А когда представляешь who is who, появляется больше уверенности в собственных силах. Тем более, когда тебя всюду сопровождал такой идальго. Диспетчер исходил на говно, как только он не комментировал нашу дружбу «Мороз, ты ж на тот Монблан у жизнь не взберёшься. Купи себе ходули!» – кричал он нам вслед и при этом идиотски ржал.
Юра взялся провожать меня домой после работы. По этим глухим и опасным переулкам, особенно осенью, когда темнеет рано, это совсем не мешало. На третьей станции Фонтана я садилась в трамвай, а мой кавалер возвращался в приподнятом настроении назад. Если он был занят, то я пристраивалась к базовским тёткам. На удивление они ко мне нормально относились. Они топали все на трамвай или троллейбус в сторону Молдаванки. Как-то одна из этих женщин, едва мы вышли за проходную, схватилась за бок.
– Давайте я понесу вашу сумку, а вы постойте, передохните, – предложила я.
– А потянешь, тяжелая дюже?
– Не переживайте, я к тяжестям привычная.
Сумочка была действительно не из лёгких. Да ещё тетка всем весом повисла на другой руке, шепча, что у неё не всё в порядке по-женски, а сегодня чересчур натягалась и просто доходная. Доплентухались с ней до самого ее дома. Она оказалась бригадиром рабочих со склада мелкого опта, который снабжал школы, детсады и прочие мелкие учреждения. А вот с кем у меня явно не скла дывались отношения, так это с грузчиками. Может, потому, что я не раз, особенно когда пролезала через дыру в заборе и пробегала мимо разгружающихся вагонов, видела, как они занимаются шахером-махером, явно что-то химичат или откровенно воруют. Однажды один из них, здоровенный детина, пригрозил мне своим громадным кулаком: молчи, мол, а то… Иногда даже становилось страшновато топать коротким маршрутом мимо разбитого старого еврейского кладбища, лучше от беды подальше, мало ли что, спокойнее через главную проходную.
Ко всем этим страхам добавилась ещё одна. Бабка вынула письмо из почтового ящика на моё имя из прокуратуры. Мне предлагалось явиться в такой-то кабинет такого-то числа. Мы с Алкой, не ужиная, рванули к дядьке домой. Он, не зная, что к чему, начал разводить антимонию, что я сама виновата, наверное, вот вляпалась, дыма без огня не бывает, крутила хлопцам хвосты и осталась после всего на бобах. В общем, наслушались с Алкой всякого. Но, конечно, он позвонил кому-то, и мне велено было обязательно пообщаться с этим прокурором, да еще со строгим указанием не краситься, не мазаться, напялить на себя юбку подлиннее.
Возвращались обратно пешком, молча. Погода была под наше состояние: тёмная сырая ранняя осень. Алка закашлялась, уткнувшись в старую кофту. Так у нее часто в эту ненастную пору.
Показывать на работе повестку из прокуратуры означало полный крах. Накануне я зашла к Лейбзону и попросила отгул, сославшись на острую зубную боль. Леонид Михайлович не возражал, сказал только, чтобы с зубами не тянула, обязательно завтра же пошла к врачу. Мне показалось, что ему явно не до меня, они вдвоем с нашим инженером рассматривали какой-то чертёж.
Утром бабка вытаращила на меня глаза. Видос у меня был ещё тот, как, наверное, у колхозника, первый раз попавшего в город, где грохочат трамваи. Мандраж такой, что тряслись не только ноги с руками, но и все кишки. Предъявив на входе милиционеру свой паспорт и повестку, я поняла, что совершила промах. Моя внешность ничего общего с паспортным фото не имела. Он подозрительно на меня уставился, переспросил фамилию, имя, отчество. Сверил, затем еще раз осмотрел меня со всех сторон и наконец пропустил. Больше часа я сидела под кабинетом и ждала. Наконец меня пригласили. За столом сидел какой-то шкет, выглядел почти как я сегодня, недоделанный, с одной разницей: я косила под деревню, а он честно к ней относился. Говорок выдавал. Интересно узнать, как такой «кавелок» в Одессу попал, да ещё в городскую прокуратуру.
С умным видом, изучая меня с ног до головы, он уставился в скоросшиватель, что-то читая.
– Ознакомился я здесь с вашим делом, – ни тебе здравствуйте, ни до свидания, хотя бы присесть предложил, чего это я стоять перед ним должна. – И что будем с вами делать? Понимаете, это преступление, государство бесплатно вас учило, вы получили с предприятия подъёмные, проездные и исчезли, стали тунеядкой. Вот так за все отблагодарили Родину. На вас висит несколько статей. Гляньте в окошко на улицу, может, еще долго не увидите белый свет.
Он поднялся из-за стола, явно корча из себя вершителя человеческих судеб. Ну и удружил же мне Леонид Павлович, я бы по собственной воле в жизни сюда не попёрлась. Дура набитая. Из института тоже ведь сразу пришло такое же письмо. Испугавшись, прибежала к себе в деканат. Секретарша как увидела меня, замахала руками: брысь отсюда, чтобы никто тебя не видел, я отписала, что ты вышла замуж и уехала с мужем военным к месту его службы, а фамилию твою новую не знаю. Быстро верни подъёмные, обязательно заказным письмом с уведомлением отправь и не показывайся. К то тебя будет искать, кому ты нужна? Диплом у тебя? Ну и гуляй. Устраивайся, только сначала помалкивай, что у тебя высшее.
А сейчас я стояла перед этим заморышем и выслушивала его поучения и угрозы. Какая я на самом деле ужасная. Каким-то казенным языком он лепил из меня преступницу, каких белый свет не видел. Говорите, говорите, прямо сейчас раскаюсь, как Мария Магдалена.
Отвернувшись и глядя по совету прокурора на улицу, я страшно злилась: зачем мы с Алкой ходили к дядьке милиционеру и выслушивали его нотации? Вот помог так помог. И даже не заметила, что в комнате появилась какая-то дама.
– Где наша отличившаяся? Как ты похожа на Леонида Павловича. Что там приключилось?
– Я не могу поехать по назначению, у меня мама болеет, бабушка, старшая сестра совсем слабая. Как я могу их оставить. Подъемные все вернула, до копеечки. А они всё пишут, не успокаиваются.
– Понятно. Поезжайте с Леонидом Павловичем в Кишинёв, в этот «Молдплодоовощ», и поговорите. Думаю, они не будут устраивать шум из-за тебя. Пару писем для проформы ещё, возможно, пришлют и успокоятся. Привет Леониду Павловичу и Жанночке.
Я вышла из кабинета, блюститель закона ходил по коридору взад-вперед. Так хотелось скорчить ему рожу, еле сдержалась. Все-таки не девчонка уже. На улице в витрине магазина увидела своё отражение. Какой страх! Распустила волосы и помчалась домой.
Никогда не думала, что стану такой трусих ой. На работе меня трусило от любого стука, каждого происшествия. Казалось, я во всем виновата и наказание неминуемо. Увидев «скорую помощь», у меня чуть не началась истерика. Я спряталась за тоненькую шторку и наблюдала, как к Лейбзону ввалился «полтора жида». Интересно, а если бы этот человек был русским, как бы его тогда прозвали – «полтора русского»? Здесь на базе все перемешались, как у Лермонтова в «Бородино» кони и люди. Русские, украинцы, армяне, евреи. И, как говорит моя бабка, «на одну гиляку повесить, один другого не перетянет». Но почему-то внимание всегда при любых обстоятельствах акцентировалось на евреях.
Сегодня почти нет машин, диспетчер мается от безделья, однако боится оставить свой боевой пост. Склоняется к моему окошку комментирует: уже расцеловались, куш передал, сейчас ругаться начнут не встать мне с этого места.
– Откуда вы знаете?
– С моё здесь продержишься и тоже соображать начнёшь, а може, и нет. Такие, как ты, здеся надолго не задерживаются. О, о, слухай. Думаешь, они по-настоящему? На публику пузыри пускают. Запомни: если два еврея ругаются между собой – значит, шо они уже договорились. То мансы, на дураков рассчитано.
Я слышу, как истерические крики Лейбзона глушатся не менее мощным, как иерихонская труба, басом заведующего винным складом. Пусть грызутся, по-настоящему или прикидываются, лишь бы этот пузатый горилла сюда не полез.
– Как такой план выполнить можно? – рычал «полтора жида». -У меня же склад не резиновый. Мне что, всю Греческую бочками заставить? Сколько можно повышать? И так верчусь, как белка в колесе.
– Это ж яке колесо треба до такой белки! – язвит диспетчер на смеси русского и украинского. – Ольга, погляди на этого Ромео. Та иди сюды.
Я раздвинула пошире шторку.
– Дывись, на ремень дывись, бачишь ту скобу, це вин два ремня сцепил, а може, все три. Так и рубаху з трёх однаковых сшивае.
– Откуда вы знаете?
– Та все знають, портниха, шо его жинку обшивает и его, тут на базе работала. Она его любовница, да спилась зовсим. – Диспетчер окончательно раззадорился: – А видела бы ты, как он, бедняжка, питается, голод утоляет!
– И как?
– У него в подвале здоровый двухтумбовый стол. В верхнем ящике хлеб, целый круг российского сыру, палка колбасы и стакан. От это усё за день сжирает и запивает пятью литрами вина. А сам кажет, что целый день на диете.
Выждав мою реакцию, он так противно захихикал и полушепотом, по-свойски, словно знает меня сто лет, сообщил:
– А под столом у него между ногами ведро стоит, и он туда сцыт. А Манька ему баб поставляет. Какие красотки к нему хаживают, о-го-го.
Слушать его хоть и было противно, но для общего развития полезно.
– Я сам вот этими очами бачив. Он и мне предлагал. Я как-то у него в подвале был, выпиваем, а он всё крутится и хихикает а потом как застонал и кричит: Володька, подожди, сейчас кончу! Под столом у него девка работала. Такая баба, тебе доложу. Ты тоже симпатичная, но против неётьфу, ни впереди, ни сзади. Не веришь? Шоб я так жил.
Меня чуть не вырвало, я на Володю больше без отвращения смотреть не могла. Потом эту историю в разных вариациях от разных людей слышала и не обращала на все эти мансы никакого внимания. Это первый раз волосы на башке дыбом встают, а потом привыкаешь. У них своя жизнь, у меня своя. Через несколько лет, когда я сама выбилась в начальницы, убедилась, что все байки о нашем великане самая настоящая правда.
Ко мне в кабинет ввалилась известная всем мужчинам нашей конторы дама, в простонародье известная как «манда пергидрольная», с заявлением на издевательства небезызвестного «полтора жида». На полном серьёзе она в письменной форме описала все издевательства её начальника. Как после работы он заставляет её лезть под стол и… никаких за это сверхурочных не платит. Какой там Жванецкий или Аркадий Райкин, они и рядом не стояли. Я чуть не рехнулась, пока дочитала этот шедевр до конца. Как он надел ей на голову парашу, в которую целый день дюрил, это её больше всего возмутило. А она, не выдержав издевательств, в порыве гнева это ведро сама натянула ему на голову и кулаками лупила по нему Столь велика была ее обида. Так что вы думаете? Этот гад снял побои, и теперь её будут судить. Вот она и просит у меня как у женщины, способной понять другую женщину простую рабочую, защиты. Мне, мол, все бабы доверяют, зарекомендовала себя, не зарываюсь, хоть и начальница.
– Но я тоже не промах, – продолжала она, – на экспертизу сбегала, все зафиксировали – и побои, и изнасилование.
Вероятно, я всё же не удержала мимику на своём лице, и хотя старалась ржачку буквально заглотнуть вовнутрь своего организма, пусть там клокочет, она все равно подло вырывалась у меня из груди.
– Ты мне не веришь, подруга? У меня и свидетели есть, всех он не купит.
Я представила себе на минуточку этих победителей соцсоревнования в суде и каким пышным цветом расцветёт вся эта история в Одессе.
Рабочая женщина продолжала:
– Он у меня ещё попрыгает, я ж всю его кухню знаю. Сама вёдрами воду в бочки сливала, сцаками он торгует, а не вином. Там такие аферы крутят, тебе не передать.
Пообещав во всём обязательно разобраться и обязательно быть на её стороне, еле выдворила жалобщицу из своего провонявшего кабинета. Здесь же позвонила в кадры, чтобы перехватили её в коридоре и божью искру справедливости погасили на месте.
Но тогда, в начале своей трудовой деятельности, мечта сбежать из этой помойки, уволиться, из-за вызова в прокуратуру рухнула на неопределённое время. Я как мышка сидела и не рыпалась, стараясь угодить всем и вся. Лейбзон нагружал меня всё больше и больше. То я заменяла ушедшую в отгул Женьку, его секретаршу, то с другого склада учётчицу заболевшую, или фактуристку Язык держала за зубами, но уши не заткнешь. Когда Лейбзон разговаривал тет-а-тет с кем-нибудь, я выходила. Меньше знаешь – лучше спишь. Но и того, что познавала, расширяло мой кругозор дальше некуда.
Самые разные вопросы он решал, насколько возможно, оперативно. Любимое словечко – задолбали – не сходило с его уст после каждого разговора. Но, поднимая в очередной раз телефонную трубку, заливался игривым соловьем, как будто бы только и ждал целый день этого самого главного звонка всей своей жизни. Голова его откидывалась назад, глазки лучезарно сияли, изо рта вылетали брызги счастья, которые в одно мгновение могли изменить своё направление прямо на противоположное, если в трубке сообщалось нечто такое, что превращало этого игривого человечка, рыжего котёнка, в озверевшего тигра. Как он орал, как обзывал всеми словами алфавита своего собеседника на другом конце провода, и что тот будет у него делать, и куда тот пойдёт. Оправдываться не было никакого шанса. У этого человека была не голова, а настоящий Дом Советов, он держал в уме огромное количество номеров телефонов, другие нужные цифры, моментально перечислял все варианты дальнейших действий. Разговор заканчивался всегда одними и теми же словами, как приговор судьи: после работы у меня – и бросал трубку.
– Вот ты мне скажи, Ольга, ну как можно матом не ругаться. Всю жизнь корпит над одной бумажкой и такую херню порет, – это уже годы спустя, когда он увидел во мне соратницу и помощницу, а то и родственную душу, откровенничал Лейбзон.
Моя бабка таких, как Леонид Михайлович, называла «чертями». Фактически он один управлял всей этой конторой. Я не всегда могла разобрать, что он пулеметной скороговоркой выстреливал, но весь набор его выражений, которые магически действовали на собеседника, помогая решать любой вопрос, заучила. Не стану утомлять перечислением всех, вот только некоторые: «Это Лейбзон! Да, я, дорогой, кто ещё может тебе звонить. Пустяки, не стоит благодарности. Мелочи жизни. Ты же знаешь, для тебя Лейбзон расшибётся в лепёшку. Какие могут быть между нами счёты? Чтоб я этого больше не слышал».
Если они не производили впечатления, тут же импровизировал, находил другие, но смысл был один: ты мне – я тебе. Для того времени очень актуально, особенно когда такая база одна на всю Одессу и собственными ресурсами надо кормить овощами и фруктами миллионный город. От усталости он так трахал трубкой по аппарату, что разбивал его вдребезги. Дежурный телефонист почти ежедневно склеивал его или обма тывал изоляционной лентой, а чаще всего заменял на новый.
– Ты, Ольга, это, ушки закрой или пошла бы подышать свежим воздухом, – ко мне он обращался по-дружески. – Нет, что впустую время терять, счас бумажку на третий склад отнесешь. Пусть сразу ответ черкнут, я жду. Давай, одна нога здесь, другая там. Ты же, слышал, спортом занималась?
И я от такого доверия неслась с удовольствием выполнять его распоряжения и по дороге думала: а отчего Лейбзон у нас не директор, с таким сейхалом? Не раз слышала разговоры, что нынешний директор не того поля овощ и ягода. Заставили, мол, его принять контору, когда убрали предыдущего. Живет себе не сказать, что припеваючи, но спокойно, глубоко в дела не лезет, сверху начальство не дергает. А что особенно волноваться с таким заместителем, как Леонид Михайлович, он во всем его прикрывает Когда присутствие директора на каком-нибудь важном совещании обязательно, папочка разбухает от аккуратно подготовленных Лейбзоном документов, да еще с сопроводительной речью. Ты только с умным видом читай по бумажке, не запинаясь, – и все.
Если бы еще внешний вид этого бессарабского еврея соответствовал его мозгам. Мне было интересно наблюдать за этим типом. Невысокого росточка, невзрачный, кривоватенькие ноги, напялил на себя карикатурные штаны, широкие, коротковатые да ещё подранные, нитки висят. Белая косточка на ноге всегда видна, потому что сползает простой дешёвый носок с растянутой резинкой. Его сандалии имеют такой вид, как будто ему купили их ещё в пионерском лагере. Рубашки он меняет, но все они на один цвет и фасон – в клеточку рабоче-крестьянского типа. О видавшем виды пиджачке вообще сложно что-либо сказать, одним словом – на выброс.
Его рабочий стол напоминал помойку Только он сам мог, как фокусник, моментально извлечь нужную бумажку. С любым своим посетителем сначала раз пять ругался, потом мирился, обнимался, клялся в вечной дружбе, провожал с миром. Такой необычный ритуал общения. На собеседников вытаращивал бесцветные глаза; приподняв плечики, пошарив руками в безразмерных карманах, извлекал мятый несвежий носовой платок, протирал им свою лысину, потом шмаркался в него тщательно, двумя пальцами углублялся в обе ноздри, осматривал добытое содержимое и аккуратненько складывал и убирал свой платочек обратно до следующего использования.
– Ну, как вам этот засранец? Внаглую врет и глазом не моргнет. Так я ему и поверил, – крик из кабинета Лейбзона заглушал пыхтение паровоза, въезжавшего на территорию. – Свиноматке пусть своей голову морочит, она теперь в театре в кресло не помещается. На приставной стульчик полжопой усаживается, другая половина на весу, вот ей пусть и вставляет. Умный!
Театр абсурда какой-то, да и только. Мне любопытно, я раньше никогда с такими вещами не сталкивалась. Как тут удержаться от смеха, но Лейбзон мгновенно успокаивал ржущего своим презрительным взглядом: что ржёшь, мой конь ретивый?
Все сразу замолкали. Его боялись, никому не хотелось попасть под его горячую руку Он всех вокруг держал в напряжении, обо мне и говорить нечего. Когда я сидела у него в кабинете, никто даже не приносил транзит на переоформление, боялись лишний раз напороться на неприятности.
А с виду весёлый человечек! Шутник. Но шутки его были какие-то недобрые, злые, легко мог высмеять природные недоста тки, ни за что человека обидеть и при этом клялся:
– Ты уж извини, я тебе, как никому, доверяю. Так, проверял тебя на вшивость, понял? А шутки для безмозглых поцев. Понял? Правильно понял? Тогда будем работать. Удачи!
И хлопал собеседника дружески по спине. У того после таких слов крылья вырастали за спиной. Наблюдавшая за этой сценой озорная Женька хихикала: от действительно безмоз лый, нашёл кому верить!
Наблюдать за этим зоопарком с рычащим леопардом и робкими косулями, знающими о своей участи, было одновременно и поучительно, и противно. Но куда деваться, пока с Каушанами окончательно не улажено.
Дома я ничего не рассказывала об этой конторе «рога и копыта», хотя и подмывало. Зачем лишний раз нервировать. Ну, ещё месяц, другой – и вырвусь на свободу. Вот прокуратура бы отцепилась, тогда почувствую себя полностью вольным казаком.
Мой родной дядька Леонид Павлович нашёл ходы в Кишинёве, и в один прекрасный день с его водителем и начальником ОБХСС мы рванули в молдавскую столицу. Бабка нам всего наготовила, как на именины. Оба моих сопровождающих похрапывали по дороге, а я любовалась из синенького милицейского «Москвича» местными красотами, напевая: по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд, чтобы с боем взять Приморье – белой армии оплот. Сдастся ли теперь под нашим натиском другой оплот – «Молдплодоовощпром»?
Вокруг действительно был холмистый пейзаж, так что песня соответствовала. Все эти пригорки и долины, буквально каждый сантиметр площади использовались под сельскохозяйственные угодья. На этой некогда пустынной безводной и нищей земле выросли, как по щучьему веленью, по божьему хотенью, пальметные сады по итальянской технологии. Они ровными рядами тянулись до самого горизонта, чередуясь с виноградниками и полями с трёхметровой кукурузой, баштанами и опять садами. Небольшие деревца, сплошь усыпанные красными сочными плодами, представляли сказочное зрелище.
А я не хочу даже в этом цветущем райском крае жить, хочу в своей Одессе! Может, и совершаю очередную в жизни ошибку, нужно было бы отработать здесь. Но как вспомнила Каушаны и того директора местной базы, так мигом патриотические чувства улетучились раз и навсегда.
К началу рабочего дня мы уже были на месте, околачивались под вывеской нужной организации. Начальник ОБХСС позвонил кому-то из телефона-автомата, доложил о нашем прибытии. Сопровождающие оставили меня на у лице, а сами скрылись за массивной дверью, предупредили, чтобы я не рыпалась никуда. Время тянулось до бесконечности. Наконец появился обэхээсэсник и кивнул мне головой: пошли! Через минуту мы оказались в кабинете начальника отдела кадров. Он ехидненько улыбнулся, оглядел меня с ног до головы, даже привстал для этого из-за своего стола. Дядька мой встретился с ним взглядом, и тоже лёгкая улыбочка скользнула по его обычно неприветливому лицу.
– И что, молодой специалист, прикажете с вами делать? Не желаете в Каушаны, могу предложить работу, например, в Бендерах. Там большая контора, нужен заместитель главного бухгалтера. Хорошая работа. Ну, как?
Я скосила взгляд на своего родственничка. Его лицо ничего не выражало.
– Извините, я просто не ту профессию избрала. Не мое это, хочу поступить в другой институт.
Все от неожиданности уставились на меня. В какой ещё институт? – Леонид Павлович от возмущения толкнул меня в плечо.
– В библиотечный.
Наступила гробовая тишина. Первым в себя пришёл кадровик.
– Понятно. Ну, мы, Леонид Павлович, с вами, я надеюсь, решили наши проблемы. А вам, девушка, желаю успехов на новом поприще. Учитесь, учитесь, ещё раз учитесь, как Владимир Ильич советовал. В Молдавию в любой момент милости просим, нам библиотекари тоже очень нужны.
Назад ехали молча. На берегу Буга машина за тормозила, и мы присели позавтракать. Мужчины достали бутылку «Рислинга», выпили по стакану и чуть-чуть плеснули мне.
– Будешь? – Буду!
– Давай! Так, куда это ты навострила лыжи? Ты что, совсем дурново нести такую чушь? С кадровиком же говорила, уперся бы он – и что тогда?
– А что я должна была ему ответить? Что в гробу видела его солнечную республику? Что наплевать мне и на Ка ушаны, и на Бендеры, и на Тирасполь, какие там еще города? Гори пропадом этот диплом, и вообще не знаю, зачем закончила этот нархоз? Ты же, Леня, помнишь, я же в театральное училище хотела поступать. И поступила бы, если бы Алка не вмешалась, бучу дома не подняла.
– Правильно, Оля, – наливая по следующему стакану поддержал меня Лёнькин подчинённый. – Шо девчонке делать в этой помойке? К ревизорам нашим её надо пристроить, в контрольно-ревизионное управление. Там будет шо надо. Так шо потерпи чуток, мы провернём это дело. Такую дивчину этим цыганам отдавать? Выкусят.
Он икнул и допил стакан, закусывая бабкиной вертутой.
– От, Леонид Павлович, все ваши бабы, женщины так готовят, просто цацоньки. А ваша мама! – после каждого проглоченного куска пирога он сочно причмокивал. – Ты, Оля, так научись готовить, я своего сына за тебя замуж отдам. А то сам разведусь, и на какой-нибудь бабе с вашей семьи женюсь.
Мы дружно смеялись и всю оставшуюся вертуту с вишневой начинкой ему отдали. Такой свойский дядька оказался, откуда кличка «кудрявый» при лысом черепе? Почему его все так боятся? Непонятно.
Рабочие дни покатились дальше. Одним словом – осень. Солнце ныне особенно не балует, все больше противный мелкий дождь, на улицу при такой нудной погоде выглядывать неохота. Торчать на открытой весовой холодно, и в нашей маленькой комнатке уже с утра набивалась куча народу. Все обсуждали ЧП, случившееся на складе БВГ. Там не выдержали перекрытия первого этажа, и пол вместе со всей продукцией провалился в подвал, придавив загруженный там по самое никуда другой товар, более дорогостоящий. Еще хорошо, что никто не пострадал. Меня срочно перебросили на этот участок. Прибежала отчего-то радостная Женька и протараторила: собирай свои монатки – и на БВГ, Лейбзон приказал.
Я еще не расшифровала эту аббревиатуру все очень просто: бакалея, вино, гастрономия. Но на базе, это ведь Одесса, кругом одни шутники, расшифровывали по-своему: Будешь Всегда Голодным.
Заведующий складом Эдельман, бодрячок-старикан на вид лет восьмидесяти, запамятовала его имя-отчество, встретил меня по-доброму а его заместительница, она и старший кладовщик, тут же распорядилась отметить это событие. Судя по её цвету лица, она уже сегодня приняла на свою грудь, не очень-то большую, до моей Зинули как до неба. В какой-то каморке на лист фанеры, заменивший стол, выставили самые деликатесные консервы дальневосточного производства. Открывал баночки красавец грузчик по имени Артем. Я узнала его и боялась встретиться с ним взглядом, его увесистый кулачок, которым он грозил мне тог да у лаза в забор, хорошо запомнила. Граненые стаканы с импортным коньяком, кажется, болгарской «Плиской», быстро были осушены, и все уставились удивлённо на меня.
– А ты что сачкуешь, у нас не положено. У нас, как у Д' Артаньяна, один за всех и все за одного. Так что не брезгуй нашей компанией.
«О, они начитанные, «Три мушкетера» знают», – усмехнулась я про себя и выпила. Все не смогла, полстакана.
– Ладно, не будем придираться, она новенькая в нашем коллективе, еще не вечер, научится, – Артём отвел от меня полупрезрительный взгляд и прямо в руку сунул банку с крабами: – Закусывай! Все ешь, не стесняйся. Небось не каждый день крабами питаешься.
Я запуталась в этих вафельных белых бумажках, в которые были обернуты дольки бело-красного мяса краба, лихорадочно тыкала в них вилкой. Наверное, следуя совету Артема, съела бы все, но тут почувствовала, как этот проклятый вонючий напиток начинает возвращаться обратно. Бросила банку и метнулась к выходу со склада. Кто-то подставил мне под нос ведро и наклонил над ним. Без остановки, как влилась, так и вылилась эта отрава.
– Ты этим блядям не поддавайся, – услышала шепот в ух о, это был Артем. – Пойдем, чайку попьешь и промоешься.
Так, неожиданно для себя, я приобрела надёжного друга, правда, еще долго относилась к нему всё равно осторожно.
Пили на этом складе постоянно, начиная с утра. Повод находился всегда: любой праздник, особенно работника сельского хозяйства, тещин день рождения, шторм на море, плохая погода, птичка обкакала голову Ришелье. Особняком были День освобождения Одессы, День Победы и дни взятия нашими войсками городов Европы, они отличались расширенным ассортиментом закусок. Выпивка же была постоянной – коньячок, реже ром, иногда ликер для женщин, водку не так уважали. Мне не предлагали больше, я съедала банку крабов и запивала кофе.
Мои обязанности на складе были те же, что и раньше: переоформление транзита и складской учет. Объем транзита уменьшился, зато приходных и расходных документов вагон и маленькая тележка. Я помнила наставление Лейбзона: повнимательнее. Как только на меня не орали, возмущались: где только этих неумех берут, черепаха и та быстрее ползает, чем она работает. Но стоило появиться кладовщице – все умолкали. Помогая мне, она то и дело выбегала проверять нагруженные машины, самолично убедиться, все ли так, как в бумагах. Вот здесь начинался разбор полётов. Шофёру приказывала открыть сбоку борт и моментально вычисляла, что украли. Не стеснялась порыться и в кабине; на складе становилось тихо, как на кладбище.
Сумасшедший дом был обычно с утра, потом, когда машины отправлены в сеть, то можно и передохнуть. От напряжения, навала шоферни и количества бумаг я так уставала, что не было сил уже бежать за мороженым. После обеда появлялись завмаги, и все начинало крутиться-вертеться с удвоенной скоростью. Завмаги и выложили с радостью историю обрушения первого этажа. Лейбзон невольно постарался. Осенью с завозом овощей и картофеля пошла ещё бахча. Вот он и распорядился под выгруз арбузов использовать склад БВГ. Склады старые, полы на подпорках, два вагона освободили, а на третьем автокар с полным контейнером обрушился в подвал с соками в трёхлитровых бутылях и разными консервами.
Убытки были огромными, особенно пострадали вина и коньяки. Сплошное стеклянное месиво, запах как наутро изо рта после хорошей накануне пьянки. Склад опечатали, Эдельман сидел на его ступеньках, обсыпанный пылью, и плакал. Все сочувствовали ему: несчастный человек, все слышали, как он предупреждал Лейбзона, что пол не выдержит, умолял отказаться от затеи. Ноль внимания. Теперь расплачивайся, на старости лет – тюрьма? Но ни тюрьмы, ничего такого не было. Составили акты, что здание ветхое, старое, капремонт давно требуется. В этом сезоне как-нибудь выкрутимся, укрепим полы, новые подпорки поставим.
Своих рабочих на базе катастрофически не хватало. По разнарядке райкомов присылали на помощь сотрудников научно-исследовательских институтов. Но на склад БВГ их всё же боялись пускать, не дай бог что-то случится, лучше перебдеть, чем недобдеть. А вот заключённых женщин из одесской тюрьмы можно. На территорию въезжали два «воронка» с вооружённой охраной, женщин пересчитывали и спускали вниз, где они разбирали завал, спасали уцелевшие бутылки, мыли их, протирали и укладывали в новые ящики. Бой сваливали прямо у забора.
Мои новые начальники продолжали веселиться в компании с членами различных комиссий. Выпивка настолько застилала им глаза, что они не замечали, а может, старались не замечать, как растет число актов на списание продукции. Особенно по бумагам много разной хорошей выпивки побилось. В актах менялись только да ты, члены «независимой комиссии» и количество битой продукции.
Заключенным женщинам с удовольствием помогали грузчики. Кому, кому, а им доставалось, у них сегодня работы непочатый край – столько баб обслужить, подшучивал заведующий складом. Игорек, помощник бригадира, прихрамывает, ходить не может, яйца опухли. Куда-то с позором сбежал, но свято место пусто не бывает. У него объявился сменщик Жорик, который, кажется, никогда не просыхал, но в соцсоревновании грузчиков был далеко не последним, природа не обделила парня силой. Он смело в подвал полез, собственным телом закрыл амбразуру. Над ним смеялись: это ему не телят гонять в своей деревне, эти коровы кого хочешь сами загоняют, оголодали бабы без мужиков.
Артём, выяснилось, тоже был не промах, все старые ватники туда перетягал, винца с собой прихватил, наугощает сейчас тюремных красавиц.
– Фигу, он привык, что ему все даром дают, – рассеяла предположения заведующего кладовщица под смех и чоканье стаканов. – Что-то случилось, Вера? Заходи, коньячка выпьешь с нами или ликера? «Шартрез» очень вкусный.
Заглянувшая в каморку женщина была из АХО.
– Не. Я к Ольге, охранница меня попросила. Одна из осужденных говорит, что знакома с вами.
– Со мной? – я аж ручку выронила.
– Охраннице она сказала, что вы у них в Николаеве на судостроительном заводе студенческую практику проходили. А она там тогда главбухом была. Если так, можете поговорить с ней, охранница приведет.
– Это правда, в вычислительном центре, после третьего курса. Раскрасневшаяся заместительница Эдельмана вытащила меня на улицу и в упор спросила:
– Ты что, в институте училась? В каком?
– В нархозе.
– И за что вышибли?
– Никто меня не вышибал, я его закончила в этом году.
– Опана, с высшим образованием учётчицей, с какого х..? Тысячу раз моя бабка права. Мне нельзя врать, ну не могу я, всё обязательно вылезет наружу. Никакие тайны не могу сохранить.
– По распределению не поехала, куда-то надо было устроиться, вот сюда и пришла. Диплом могут забрать.
– От курвы! Дитё училось, и они диплом могут отнять. А что эта вертухайка от тебя хочет?
– Там в подвале женщина, у которой я практику проходила в Николаеве. Узнала меня. Она была главным бухгалтером.
От старшей кладовщицы несло перегаром так, что я отшатнулась. Она достала из кармана маленький баллончик, запихнула себе в рот. Зажмурилась, брызнула и, что есть силы, дунула мне в лицо запахом ментола.
– Заграница сраная придумала, а мы ее все хаем. Пшикаешь, и вони нет. Шо, есть ещё? Сейчас лимончиком закушу. Знаешь, если это она, то покормим. Жизнь такая: сегодня ты тут, завтра на ее месте можешь оказаться.
Из подвала сначала вылезла охранница, а следом женщина, замотанная в шерстяной платок, который она сняла с головы, повязанной белой косынкой.
– Вы меня помните? Вы у нас на заводе были.
– Конечно, только забыла, как вас зовут. Проходите, садитесь.
– Спасибо, я и так уже сижу, – она заплакала, вытирая слезы ладонью.
Признать в этой похудевшей пожилой женщине цветущую самоуверенную главную бухгалтершу практически было невозможно.
– Руководителем у вас был молоденький преподаватель. Фамилию запомнила – Диордица. Станислав Фёдорович, кажется. Мы с ним у вас экзамен принимали по вычислительной технике. Узнаете, я тогда была блондинкой.
– Не только помню, но еще долго, как вернулись в Одессу, о вас тепло говорили. Вы столько с нами возились, столько нам дали. Почему вы здесь?
– Пошла за компанию, – она оглянулась на охранницу – Раз мы увиделись, послушайте моего совета: никогда не соглашайтесь быть главбухом и вообще держитесь от бухгалтерии подальше.
– Я и не собираюсь. Хотите кушать?
– Нет, спасибо. Мне бы только позвонить домой детям.
Охранница не возражала.
У женщины так тряслись руки, что пришлось мне самой набирать межгород. С раза третьего я дозвонилась. Она плакала, задавала обычные вопросы детям-школьникам, а потом попросила меня, чтобы я продиктовала наш телефон и адрес. Завтра, наверное, их опять сюда привезут, может, муж подъедет повидаться, а если не случится – будет ждать звонка. Добрые люди разрешат поговорить.
Ранним утром на следующий день я заметила солидного мужчину с сумками в руках в окружении двоих детей. Мальчику на вид было лет пятнадцать, девочке не больше десяти. Сразу сообразила, кто они. Склад был ещё закрыт, Артём курил на цементной эстакаде, подложив под зад кусок доски.
– Привет! Вот приехали к твоей знакомой, спозаранку крутятся здесь. Ты бы, Ольга, завела их на склад к Валентине, с глазу долой, а то «воронок» вычислит, будут неприятности. Если её привезут, мы туда же, к Вальке, отведём. Она так вчера выла, душу всем вывернута.
Я уже знала, что он в молодости сам сидел. На базе, как послушаешь, все грузчики и, наверное, половина рабочих срок мотали.
Валентина ни слова не сказала, открыла им бытовочку и впустила. «Воронок» появился минута в минуту Артём вышел встречать, буркнул мне: «Что застыла, очнись, не маячь, без тебя управимся». Вокруг него целый день толпились люди, приехавшие повидаться со своими близкими, которых не видели уже давно, по нескольку лет. Молодец, отважный парень. Не побоялся собрать у арестанток телефоны и адреса родственников, успел кому позвонить, кому кто недалеко от Одессы жил, телеграмму послать. Подарил такое неожиданное свидание.
Две охранницы и охранник не очень-то утруждали себя слежкой, по очереди заходили в коптёрку поугощаться. Было чем. А с родственников заключенных, не стесняясь, собирали чаевые, расчищавшие путь в подвал. Первый раз я так близко прикоснулась к судьбам других людей, иногда просто ужасных, трагичных, или, наоборот, анекдотичных, даже смешных. Я как могу судить, по делу они арестованы или нет, скажу только: разные истории и по-разному они заканчивались. Но что совершенно точно, работали они хорошо, за три дня управились с подвалом, вычистили полностью от стекольного боя, хоть босиком ходи, как по песочку в Аркадии на пляже.
А вот мужчины наши… Ну и самцы, им, похоже, всё равно с кем, где, когда. Еще в положение этих женщин, давно не ощущавших искренней любви и ласки, как-то можно войти. А вы-то куда, гады ползучие? Ладно бы только работяги в подвал лезли, но и остальные не лыком шиты. Столько юбок за проходной, сплошной голяк на море, а им все мало, еще и этих бедных женщин отоварить хочется. Полное отвращение. Неужели все одинаковые, кобели паршивые? И Стас такой же? Алка моя права, когда определила для себя ни от кого не зависящий образ жизни. Без грязи, без боли, без любви, которая, как она считала, надуманное явление. Видно, и мне такая судьба уготована.
В институте некоторые наши преподаватели тоже не блистали хрустальной чистотой нравов, студенточек симпатичных цепляли на раз. Поблажки на экзаменах и все такое. Но там всё же было не так омерзительно, напоказ. А здесь… Никакого стеснения. Гребаные строители коммунизма. Фото этого грузчиков командующего, Игорька, Игоря Владимировича на Доске почета. Любуйтесь, берите пример. Передовик по бабам. Эти передовики вон пачками кучкуются у диспетчерской, глазки так и стреляют по задворкам, где что плохо лежит, припрятать бы в тайничке, а вечером унести незаметно, с чувством выполненного долга, затоваренные, чесать домой. Руки у них медом, что ли, намазаны, что все подряд прилипает, как магнитом притягивает. Самое омерзительное, этот авангард, партийное жульё, заседает в товарищеском суде. Раз в месяц вывешивают новое объявление, кого демонстративно будут сечь, чтобы не повадно другим было. А другие-то, двуликие – они сами. В тот вечер, когда свистнуть нечего (случались, но редко, и такие дни), гордо стоят с красными повязками на проходной, проверяя рабочих.
Сегодня за целый день голову некогда поднять. Поднакопилось много документов, надо расписать и разнести. И вдруг вижу в окне знакомую личность. Я так и окаменела. А этот аферист преспокойно здоровается со всеми за руку Выходит, он здесь за своего, знают его как облупленного. Слышу, как с наглой улыбочкой, играя глазками, он говорит:
– А мне к этой суровой барышне. Переоформить транзит на до. Сейчас нагоняй буду получать. Коробочку трюфелей припас на всякий случай, чтобы не очень базарила.
И с шумом вваливается в нашу комнату, доставая из портфеля вместе с документами конфеты.
– Я все слышала и базарить с вами, как вы выразились, не собираюсь. Дадут указание – сделаю. Так что можете разворачиваться со своими трюфелями. Жене подарите. У меня ваш шоколад вот где застрял, поперек горла, подавилась им.
Анна Павловна, так звали старшую кладовщицу забыла ее раньше представить, рассмеялась:
– Он с разрешением и явился, Лейбзон очень раки любит, особенно крупные, ему уже их варят. Зелёная ты у нас ещё. Толик, а мы тоже раков уважаем. А ты, Олюшка? Равнодушна? А я обожаю. Под пиво еще так уплетаешь. Пальцы только наколоть можешь, если чистить не умеешь.
Толик пожал плечами:
– Нет проблем, сейчас машину подгоню.
Анна Павловна замотала головой:
– Э, нет, сюда не надо, на дом с доставкой. Сейчас черкну адресочек. Договорились. Не удастся пару ящиков, хотя бы один, в следующий раз долг отдашь.
Толик обрадованно вывалил почти полный портфель накладных вместе с коробкой конфет и шоколадкой «С праздником».
– Уберите к черту, себе в рот запихните, – каюсь, была грубовата, нарушила правила обходительного обращения с посетителями, но злости моей в тот момент не было предела.
А этот Толик скорчил рожу и начал хохотать: – Что, влетело тогда? Ты о раках не пиши, никто ж не заметит и не проверяет Зинка так штамповала. Мне без разницы, лишь бы ваша печать была.
В транзитной ведомости таких наименований не было, какие притащил этот аферист. Какая клубника в конце ноября? А лягушки меня вообще добили, глаза на лоб полезли.
– Какие ещё лягушки? – меня раздирала еще большая злость, она подавляла рвавшийся изнутри наружу смех.
– Олечка, живые пухленькие, очень даже съедобные, особенно попка с ножками, – облизав свои противно пухлые, не по возрасту, губы и шмыгнув носом, вкрадчиво произнес великовозрастный Толик. – Не про нашу честь, Оленька, продукция, как и раки, тоже раз в неделю её отправляем в ресторан на Эйфелевой башне. Про такую слышала? Иногда и Москве перепадает, там тоже люди приличные живут. Киев москалями их обзывает, а они в ответ нас – хохлами. Вот так и дружим.
– А где вы столько лягушек ловите?
– Места знать надо, правда, Павловна? – он весело подмигнул нам обеим. – Олечка, ты слышала когда-нибудь о таких городах, как Килия, Рени, Измаил? Там местные жители их выращивают, а мы, потребкооперация, закупаем и продаём. Пока соберём на целый самолёт, сколько хозяйств надо объехать, – продолжал он, – потом туда-сюда с документами, везти в аэропорт, продукт скоропортящийся, надо все быстро. Да гори всё пропадом, вторые сутки на ногах, не знаю, когда домой доберусь, на диван рухну. Здоровый вроде мужик, а сил уже никаких. Вчера такой футбол пропустил: «Черноморец» со СКА.
Анна Павловна терпеливо ждала, когда бедняжка Толик выговорится.
– А ты сам-то этих жаб пробовал? – спросила она.
– Девчата, пальчики оближешь, как женские попки, все одна в одну – нежные, беленькие, с соусом.
Он от удовольствия и, наверное, сравнения с женскими задницами даже причмокнул, и от этого причмокивания меня чуть не вырвало. Я больше не могла смотреть на этого раково-лягушачьего снабженца. У Павловны он прикупил пару бутылок кубинского рома и сделал тётям ручкой.
– Какой хороший хлопец, от не повезло в жизни, так не повезло. Жена при родах окаменела.
– Как это?
– Та кто его знает, такие сложные роды, ой сложными были. Двойня, то ли тройня. Двое выжили, а жену парализовало. Хороший мужик, очень хороший, не сдал её в дом инвалидов. Сам ребятишек поднимает и за ней ухаживает.
– А дети маленькие?
– Артём, у Толика сколько лет девчушкам?
Артём почесал затылок:
– Моим двенадцать, значит, его пацанкам по десять. От хлопец влип, – огорченно вздыхала Артем. – Ему все сватали баб, хороших баб, а он всё за своё: лучше моей Танечки нет! Хоть ты убейся. Анюта, давай понемножку, сердце щемит, когда этого хлопца вижу.
Грузчик Артём, когда на складе не было посторонних, обращался к Анне Павловне по-свойски. Мне стало так неудобно за собственную грубость:
– А я его обидела, хорошо бы извиниться.
– Ишь, какая жалостливая, ещё неизвестно, кто кому больше сделал! Ты ему или он тебе, – сказала Анна Павловна, передавая бутылку с ромом:
– Артём, наливай.
– Что вы имеете в виду? – у меня мороз по коже пробежал.
– А тебе лучше и не знать, твоё дело маленькое. Сказали штамповать – штампуй, скажут разносить, регистрировать – делай, как скажут. И выбрось всё из головы.
– А с планового отдела тётка сказала, если что – мне отвечать.
– Лилия Иосифовна? Та слушай её больше, их только как с планом справиться интересует. А людям на жизнь нужно заработать.
– А что по бумажкам этим заработаешь?
– Артём, плесни ей в стакан, чтоб отстала с дурацкими вопросами. И когда начнешь соображать, не тупая вроде, выпьешь – расскажу.
Артём плеснул прилично и со злорадством спросил:
– Барышня, за ведром идти?
Я всё выпила, правда, немного потекло по подбородку, и прямо кипяток ворвался в кишки. Галантный Артем на вилке поднёс мне наколотый кусок консервированного ананаса. Только прожевав его, я выдохнула.
– Анюта, ты погляди, – одобрительно кивнул грузчик, – из неё ещё человек может получиться.
– Ну? – икнув, вымолвила я.
Кладовщица высокомерно подняла голову:
– Ты меня ещё не запрягла, а уже решила погонять.
Встала и ушла. Артём вытянул в дверь, убедился, что её действительно нет, быстро вылил остаток рома к себе в стакан и опрокинул, не глотая.
– Слушай сюда, не болтай лишнего. Ты со своими вопросами когда-нибудь собственным языком подавишься. Здесь каждый на своём месте имеет свой ломтик хлеба, а кусочек масла нужно ещё уметь выкрутить. И добровольно никто с тобой не поделится.
Он поискал глазами, нет ли еще чего-нибудь махнуть, увидел в уголке бутылку коньяка, но она была пустая, сам допил ее вчера.
– Я тебе скажу одно, сам был поцем и погорел со свистом. Отсидел червонец ни за х… Тикай отсюда по-тихому как ты вообще сюда попала? Куда твои родычи смотрят?
Я молчала, про себя думала: а парень-то мне добра желает, смываться надо. Я устала каждое утро тащиться сюда, находиться здесь целый день без солнечного света в этом леденящем душу разваливающемся склепе-коптерке. Я даже названия такого раньше не слышала. Точно катакомбы, о которых дядька столько рассказывал, как почти мальчишкой попал туда под землю, партизанил. Только здесь еще живут крысы и голуби с воробьями, а кошки от этого смрада сбегают. А с кем я дружбу веду? С урками и пьяницами, насилующими, благо выпал такой случай, «зэчек» в подвале. Подонки. Ну не будет этих болгарских персиков по десять копеек за килограмм, потому что своим их отпускают по цене пищебрака, а это почти в двадцать раз дешевле, чем на базаре. Расстрою, конечно, бабку, она из этих персиков вкусное варенье варит, до следующего лета хватит.
Я одна в коптёрке, по совету Артёма закрываюсь на за движку. Плановый отдел срочно потребовал отчёт по томатной продукции, ее, разной, накопилось на складах очень много, пришлось выйти на работу в выходной.
– Оторвись от своих ведомостей, познакомься, – Артем подвел ко мне какого-то широкоплечего моложавого мужика в желтой с голубым воротничком тенниске. – Это К остя Хипиш. А ты, брат, запомни: на этой гитаре играю только я. Уловил? – показывая на меня, предупредил Артем. «Брат» молча кивнул.
Артем был хорошо поддатый, с красными, навыкате глазами.
– Скажешь ещё мне спасибо, это же Костя Хипиш, – выдавил он из себя.
Я ничего не могла понять: кто такой этот Хипиш и при чём тут моя персона.
– Глупая, – Артём сел, закурил и сплюнул себе под ноги, – теперь тебя на Молдаванке никто не тронет, ни днём, ни ночью. Ну что дрожишь? Ты мне в жизнь не нужна, не трусись. Я тебя здесь прописал. Понимаешь?
В раздумьях, что за прописка, возвращалась домой. Бабка с порога сообщила, что меня ждет сюрприз. Тяжеленных два ящика, плотно забитых гвоздями, стояли на полу в коридоре. Между дощечек проглядывали виноградные листья. Они были влажными и, казалось, дышали, что-то в них шевелилось.
Бабка, как заведенная, повторяла, что раздался звонок и какой-то мужчина сказал, что это ты передала. – Олька, твоя работа? Дружок как взбесился, я его от этих ящиков отогнать не могу. Посмотри, что с ним делается!
Дружок действительно был сам на себя не похож, и лаял, и безумно вращал глазами.
– Баб, успокойся, это раки.
– Какие ещё раки?
– Настоящие, живые! Все покупали, и я решилась, дешевле, чем на Привозе. Леньку угостим, он же любитель. И сами душу отведем. Ты когда последний раз раки ела? Помнишь, они на 7-й сколько стоили, не подступись.
Только оттащила ящики на балкон, как явилась – не запылилась Алка. Она у нас после работы пока все магазины не обойдёт, домой не возвращалась. А вдруг где-то что-то выбросят. Сапоги себе на зиму уже целый месяц ищет.
Дружок бросился к ней с лаем, начал метаться от балкона к её ногам.
– Что, мой мальчик, хочет сказать? Наша красотка опять что-то отчудила?
– Выглянь на балкон, полюбуйся, – бабка взмахнула руками, – нашей красотке уже ящиками товар тащут. Смотри, Олька, чтоб тебя аферисты не обкрутили вокруг пальца.
– What is it? – по-английски переспросила Алка. – Раки? О, я вовремя поспела. Давай дождемся маму и устроим себе праздничный ужин.
Справиться с ящиками было непросто. Впрочем, мы с сестрой привыкли быть в доме за мужчин. Когда еле вскрыли первый ящик и отогнули дощечку посередине, уловили движение и хлюпанье. Алка улыбнулась: живые.
Настоящий сюрприз, а не тот, которым меня пыталась удивить бабка, ждал после того, как сорвали еще одну дощечку и приподняли виноградные листья. На нас пристально смотрели уложенные в ровный рядок глаза пучеглазых зелёных жаб. Недолго думая, одна из них, почуяв свободу, надулась и прямо прыгнула на нас.
Мы отпрянули, заорали в обе глотки и бросились с балкона наутёк. Следом за нами эти отвра тные создания, как циркачи, стали выпрыгивать из ящика. Нам оставалось, стоя за закрытой дверью, наблюдать через стекло, как весь балкон наполняется крупными лягушками.
Бабка была в ужасе:
– Что будем делать? От аферист, сукин сын, этот, что привез нам. Я сразу его раскусила, не хотела пускать. Олька, ты когда-нибудь поумнеешь? От тебя уделали! Хлыщ деревенский, посмеялся над тобой.
Что действительно делать? Решила попозже, когда народ схлынет с улицы, этих тварей переловлю и унесу подальше. Вот сволочь, этот Толик, неужели специально подшутил надо мной. Если бы надо мной только, еще полбеды. Я уже почти привыкла к этому гадюшнику. Самое противное, завтра вся база будет потешаться. А я тормозну: дураки, что ржете, это как приготовить, мы их съели, они очень даже вкусные, и гостей угощали.
Бабка орала, чтобы я вывела собаку, давно лает, просится на двор. Пришлось пойти с Дружком погулять. От огорчения всей этой лягушечьей историей, что ли, для начала я надавала ему подсрачников (нашла, зараза, на ком отыграться), он взвизгнул, потом жалобно потявкал и тихо пошёл делать свои дела, постоянно оглядываясь, подтягивая свой толстый зад, чтобы ещё не досталось. Со мной он любит гулять, я с ним бегаю. Промчалась с ним до 7-й станции и назад, больше некогда, мне ещё жаб ловить.
Алка наотрез отказалась помогать мне. Я надела варежки и сапоги и выползла на балкон. Ничего на балконе не увидела, в ящике тоже. Неужели расползлись по дому? Только в самом углу сидела одна уродина. Как только я к ней подкралась, она нырнула в щель и плюхнулась со второго этажа на асфальт. Ёлки-палки, все сами сбежали. Как их теперь собрать?
– Алка, жабы вниз попрыгали. Давай второй ящик вынесем подальше.
– Тебе привезли, ты и тащи. А вообще, чего корячиться, вскроем его, волю почувствуют – сами разбегутся.
Руки у меня дрожали, пока я отковыривала дощечку. Вытащила пару листиков и увидела серую клешню, перевязанную чёрной аптечной резинкой.
– Раки! – обрадовано воскликнула я. – Алка, неси кастрюлю. Смотри, какие громадные!
Таких больших красавцев, как на подбор, я видела только когда отдыхала с Галкой Рогачкой на Турунчуке. И то такие экземпляры попадаются очень редко, даже на Привозе.
Душу отвели сполна. Мама сначала отказывалась но не до ваших раков, нагорбатилась за целый день, пойду пораньше прилягу, – не выдержала, полакомилась несколькими шейками. Парень, который принёс ящики, был реабилитирован. Только бабка долго не успокаивалась: зачем все-таки он приволок ящик жаб?
Алка смеялась:
– А может, мы, дуры набитые, такой деликатес прошляпили. Французы не глупее нас, всюду читаешь, кухня у них изысканная, жрут жаб и не давятся. Нужно было отварить. Баб, а до революции жаб ели?
Бабка проглотила кусочек раковой шейки: – Люди готовы съесть все что угодно, даже друг друга. Детей собственных пожирают. Все, банкет окончен, уберите и спать ложитесь.
Рано утром я выскочила из дома. День уже так уменьшился. Ходишь на работу – темно, приходишь с работы – темно. Дворничиха тётя Люба метёт упавшую листву, всюду собраны кучи, которые плохо от сырости горят, только тлеют, и воздух пронизан неприятно дымом. Этот чад в Одессе всегда в эту осеннюю пору и ранней весной. Я иду медленно, вглядываюсь в кусты, впереди женщина из соседней парадной.
– От посмотрите, другим людям манна небесная сыплется с неба, а до нас жабы полетели, – обращается к ней дворничиха. – Он гляньте, усе трамвайные пути в жабах. Он як подавило. Кошки их в кустах жрут.
Я быстро по внутренней дорожке свернула к магазину, краем глаза продолжаю просматривать кусты. Никаких лягушек не вижу. Интересно, а сколько их вообще штук было?
Вечером бабка в лицах пересказывала, какое впечатление произвели наши жабы на жильцов. Все бежали смотреть на них – и взрослые, и дети. На трамвайной остановке две жабы, вырвавшись на свободу, не обращая внимания на бесплатных зрителей, азартно лезли одна на другую, приводя всех в восторг.
– Олька, я сама таких здоровенных жаб, только когда с дедом на Дунае плавала, видела, ещё до войны. Вот жабы так жабы, где их понабирали? И зачем столько?
– Мы ж тебе говорили, французы их обожают, деликатес, им самолетами и отправляют. Наверное, своих не хватает, или у них они тощие, невкусные.
– В Одессе тоже раньше ими баловались, не все, конечно, кто побогаче, они и тогда хорошо стоили. Мне было не до жаб. Выжить бы с Анькой и Ленькой на руках.
– Баб, а что ещё о жабах слышала?
– Что больше всех кошкам подфартило, они и наигрались вдоволь, и обожрались. Один чудак такое плёл, что они не иначе, как с какого-то лимана, или Хаджибеевского, или с Куяльницкого, их ураганом подхватило и в тучах до нас унесло. А здесь ветер стих, тучи разгулялись, и они попадали на землю. Муж дворничихи даже на крышу слазил, обследовал там, орал сверху что здеся ничого не мае, несколько дохлых голубей – и усе.
Мы с Алкой не знали – смеяться или плакать от людской глупости.
Нашлись энтузиасты, которые целую охоту устроили на несчастных тварей. К морю отнести бы, может, и выжили бы. Раздавленных трамваями дворничиха снесла в ЖЭК на Петрашевского как доказательство, что она сама, своими глазами бачыла, як ци жабы прямо летели утром с неба. Та ещё сочинительница, ей, конечно, не поверили и пошли проверять наш подвал. А там воды полно, комаров миллион. Комиссия постановила, жабы не с неба упали, а развелись от Любкиной плохой работы. А сбежали из-за крыс, которые побольше кошек. Машину специальную пригнали с гофрированной трубой и стали откачивать тухлятину с нечистотами. Смра д стоял жуткий. Задраили все окна и двери – слабо помогало. Потерпим, зато подвал приведут в порядок, а то с нашими катакомбами и бесхозяйственностью рухнуть дом может. У нас на работе ещё хуже воняет, а крысами меня теперь не удивить. Сидит, зараза, на коробках сверху и смотрит, не боится. Пока палкой по коробкам не стукнешь – не убегает. Бабка каждый раз, побледнев, меня допытывала:
– Олька, и ты не боишься?
– Противно, но не боюсь.
Одна Зинаида Филипповна, наша соседка, бабкина подружка, спящая на балконе до настоящих холодов, сопротивлялась этим сказкам.
– Полина Борисовна, а не ваши ли девки покидали жаб с балкона?
– Зина, что вы такое сочиняете?
– Да успокойтесь, своими глазами видела, никому не скажу. И разговор ваш слышала с тем дядькой, который на машине эти ящики привез.
– Ой, Зиночка, вам бы сыщиком быть, а вы в артистки подались. Через два дня на работе Анна Павловна поинтересовалась:
– Как раки? Хорошие? Я кивнула головой.
– Мне тоже два ящика перепало, так мы один тут же оприходовали, родственнички помогли, пива притащили. А второй не осилили, накушались, племянник заедет заберёт. Ой, слушай, Ольга, а тебе сколько лет? Двадцать два? А жених есть?
– Нет и не надо. Пока мне не до них, другие заботы.
– А что так, жизнь же нужно устраивать? Семья, дети. Хочешь с племянником познакомлю? Парень хороший, красивый, армию отслужил, учиться, правда, не хочет. А кому нужно теперь это учение? Чтобы инженером на сто рублей вкалывать и в протёртых штанах всю жизнь проходить? Жалко смотреть на этих учёных мужиков с вечной дыркой в кармане, – продолжала она. – Ну что с них взять? Никуда пригласить даже бабу не могут. Только утюжить улицы с ними да считать звёзды. А мой племянник шофёр в общепите, так свою тыщу каждый месяц имеет и на девок спускает. Курень у них на Каролине-Бугазе, туда их возит. Сестра моя хочет его женить, чтобы угомонился. Так, смотрю, ты можешь ему подойти… А что ты такая сегодня не в настроении? Что-то случилось? Ты сразу говори, если что. Никому больше, только мне, – она толкнула меня в руку. – Евреям не доверяйся, как бы ни пели тебе Лазаря, никогда не верь им. Продадут только так, не отходя от кассы, со всеми потрохами. А ну колись, вижу же, ты сегодня не такая какая-то.
– Мне ваш Толик тоже два ящика приволок. А когда мы с сестрой один открыли, то там оказались….
Меня душил такой смех, что не могла выговорить.
– Что оказалось?
Я не успела ответить, дверь открылась, в нее просунулась голова Артёма:
– Я за ключами. Шо, что-то не так, что вы обе заливаетесь, смотрите, не обоссытесь.
– Бери ключи и чеши, в кладовке будешь прихорашиваться, там тоже зеркало есть. Ольга, а он ведь из-за тебя так чепурится, одеколоном стал вонять, чуешь, какой дух от него. Хорох орится, мы ещё того, можем. Тоже мне жених, с тухлыми яйцами, мы тебе молодого, крепенького сами подберём. Самого красивого на всю Одессу.
Наверное, и дальше продолжалось бы сватовство и обсуждение достоинств племянника начальницы, но тут за дверью раздался голос Эдельмана и показалось его всегда испуганное, сморщенное, как печеное яблоко, лицо с громадным шнобелем, из которого всегда капала сопля. «Это вода, видите, просто вода», – он перетирал в руках скользкую жидкость и убеждал окружающих, что в висящем пузыре под носом ничего кроме воды нет.
– Я поздороваться заглянул. Похолодало-то как. Своей велел трико с начесом поддеть. И вы бы тоже потеплее оделись. Не стесняйтесь, я на шухере постою.
– Без вас справимся, сколько с утра ухажеров, – у Анны Павловны от смеха потекли из глаз слёзы, у меня тоже защипало в глазах. Когда за Эдельманом захлопнулась дверь, она уставилась на меня: – Хватит, Ольга, а то с утра смех, к вечеру слёзы. Ты там не договорила, что оказалось.
Шепотом я рассказала про здоровенных жаб, как мы с Алкой удирали, когда они на нас стали из ящика выпрыгивать. Как они сначала расползлись по балкону, а потом, как парашютисты, сиганули вниз, только лапки сверкали. На наш дружный хохот сбежались все складские, любопытствовали, что у нас происходит. Начальница раскрыла настежь дверь: от артистка, Ольга, в кино ходить не надо. Та расскажи им, все свои.
В картинах, по-театральному я рассказывала в лицах, как удивлялись соседи и прохожие, как божилась дворничиха, что своими очами бачыла, як падали ци жабы прямо с неба. Как с ними играли кошки, а потом жрали. И как соседка с первого этажа, любительница крепко выпить, одну жабу спасла, поместила в клеточку и выставила на подоконник на всеобщее обозрение. Эдельман, наржавшись вдоволь вместе со всеми, подвёл итог, что раки он не любит, а жаб тем более. А вот от свеженьких жареных коробчиков или глосиков не отказался бы. Губа не дура, я тоже.
Меня тут же снарядили на Алексеевский рынок, и поближе к обеду мы еще с одной женщиной-рабочей чистили живых коробчиков. Со склада мелкого опта тут же нарисовалась заведующая Валентина со своим паем в виде отварной картошечки с полным солёно-квашеным ассортиментом. Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Дружно пили ром «Негро», закусывая солёным арбузом. Я впервые в жизни оценила его специфический вкус, как прекрасно он гасил пожар в моих кишках от крепкого напитка, оставляя почти трезвой голову.
Так на складе БВГ поминали мы души ни в чём не повинных жаб. Особенно разошёлся Артём:
– От Толян, бляха муха, затурканный на всю голову. А ты, малая, закусывай, не хватит жратвы, счас жабу споймаю, у нас в подвале они тоже водятся, парочку специально оставили на развод.
Эдельман, обцмакивая голову карпа и непрерывно шмыгая носом, тоже вставил свои двадцать копеек:
– Деточка, да они тебя на испуг берут, у нас кроме крыс и мышей никакой живности не водится.
– Что несешь? – возмутилась Анна Павловна, махнув ручкой, чтобы ещё рома подлили. – Не верь ему от нас и мыши, и крысы все сбежали к Вальке, наши банки им не по зубам.
Артём схватил меня крепко и больно за руку: ещё как по зубам, обожают лизать клей на коробках, все углы обкусаны, идём покажу.
– Всё, хватит, пошутили и будет, – начальница, наверное, отбила кулак, крепко стукнув по столу. – Артём, прекрати, не нарывайся.
Артем с жалостью взглянул на недопитую бутылку, понял, что надо отчаливать. Второй грузчик подхватил его под руку и потащил на улицу.
– Эх, Анюта, да до неё ни одна шпана не подойдёт, ты напрасно так. Мой друган Костя Хипиш на что, позаботится.
Анна Павловна потихонечку ещё налила себе половинку своей зелёненькой стопочки и выпила. Потом стряхнула её и спрятала в сумочку. Улыбаясь, она несколько раз повторила:
– Вот самец, кобелина. Ни одна баба против него не устояла и не устоит. Уродился же такой. Нет того, чтобы уж к такому х… бог дал бы ещё мозги в придачу так нет, мозги сунул Эдельману вместе с соплями.
Одному мозги, а другому это дело. Может, это и по-честному, но совсем несправедливо.
Она засобиралась, поправила прическу и упорхнула, оставив меня на хозяйстве одну в ауре приятных французских духов. Не успел за ней раствориться их шлейф, как с Михайловской улицы стали прибывать машины с соками, там находились два наших цеха по их производству.
Как говорят, грузчики работали без пыли и шума. Удивительно, но без начальства даже лучше, ни тебе ругани, мага, спокойно. Крик подняли водители, некому было подписать накладные. Эдельман как сквозь землю провалился. Взяв ответственность на себя, я позвонила секретарше Женьке:
– Эдельман нужен, где он, никто не знает, шоферня скандалит! Пошёл в туалет и пропал.
– Так пусть твоя начальница за него распишется.
Не продавать же мне единственную опору и защитницу.
– Так она вроде отпросилась на часок к зубному, и её пока нет.
– Какой зубной, где она? – не унималась Женька.
– Ты же такая догадливая, знаешь же, она без этого не может. Только меня по делу не бери.
– Тогда позови Артёма к телефону, я ему пару советов дам. Артём на ее советы реагировал по-своему:
– От даёт обрезанный! Думал, у него всё вырезали вместе с бейцами, а они, смотри, ещё пухнут. Ага, жди, как узнаю, так и расскажу куда это наш сопливый почесал.
Он противно скривил рожу и, подмигивая мне, быстро пробежался по списку телефонов, висящему на стене, и стал набирать какой-то номер:
– Если Эдельман у вас, пусть дует огородами на склад, здесь машин до х… под разгрузку, Лейбзон уже бежит разбираться.
Заведующий влетел, как ошпаренный. Без головного убора, весь расхристанный, с таким молодецким румянцем на щеках. Быстро пересмотрел накладные, подписал и опять убежал. Решил, очевидно, что машин на сегодня хватит, а они, как назло, разъездились, все везли с Михайловской эти банки.
Артём под смех водителей в очередной раз набирал известный номер. На мой вопрос, отчего они так веселятся, получила краткий ответ: так дед бегает с открытым магазином. Только на следующий день узнала, куда заладился шастать старичок, Анна Павловна намекнула.
– Ты не смотри, что седой, еще тот ходок, весь дрожит, как бабу узреет. А хохочут потому, что по территории с незастёгнутой ширинкой бегает, забывает застегнуть. Я тебе как-нибудь покажу его зазнобу, обосрёшься на месте. А вот и наш Идальго явился, не запылился. Довольный. Сделал дело – гуляй смело.
И трудная же работа на этом складе, всю дорогу только и делают, что пьют, жрут и ещё кое-чем занимаются. Для здоровья. С такой нагрузкой нелегко совладать. А если серьезно, я так понимала, что дел здесь было поменьше, чем на остальных складах. Ничего не портится, не гниёт, магазинам в начале месяца выделенные фонды раздадут и отдыхают. Это тебе не овощи с фруктами, где весь день все кипит, по нескольку раз склад полностью наполняется и разгружается. Ассортимент громадный, по партиям учёт вести на до, с ума сойти. Горы актов, приходные и расходные накладные, потом ведомости. Учётчицы, тётки серьёзные, строчат, не поднимая головы, пописать, извините, некогда сходить. Как хорошо, что меня сюда направили, а не в те склады.
Последний день октября, от меня ждут отчеты. Не дожидаясь начальства, всё по всем карточкам складского учёта разнесла: приход, расход и остатки на конец месяца. Затем оперативно передала сведения в плановый отдел, как Лилия Иосифовна просила. С чувством выполненного долга пристроила голову на руки и развалилась на своих транзитных ведомостях.
Прикурнуть не удалось. Каждый раз какая-нибудь зараза открывала дверь и задавала одни и те же вопросы: Эдельман где? Твоя начальница где? Так и подмывало выругаться в рифму. Отделывалась другим кратким ответом: на совещании.
Уже темно, а начальства всё нет и нет Покурить охота. Вышла на улицу. Как же хорошо! Небо чистое, воздух свежий, влажный, мягкий, как росой умывает лицо. Даже отходы не воняют. Кошки орут где-то на крыше, напоминают, что наступает их время гулять, любить. Я тихонечко в кулачок покуриваю, спрятавшись за складскими воротами. Хоть бы выходной уже дали. С подружками даже времени нет пообщаться. Они ещё все по институтам учатся, не подозревают даже, какое это счастье быть студентом. Чему я радовалась, что учиться в нархозе только четыре года. Слава богу, что замуж не выскочила. Любовь, любовь. Вот в этом свинарнике любви хоть отбавляй. Они же все чьи-то жёны, мужья, родители, даже дедушки и бабки. Я ведь жизни совсем не знала. Всегда думала: как живёт наша семья, так живут и все остальные. А может, я идеализирую свою семью и она вовсе не такая, какой я себе её представляю. Нет, не верю, с нашей бабкой ничего такого быть не может. Мои размышления прервала появившаяся на пороге Анна Павловна. Чуть позже из темноты выплыли Эдельман и Артем.
– Ты, малая, что куришь? Всё расскажем твоим родителям, какая у них дочь.
– Они не удивятся, знают об этом.
– Знают? – она выпучила глаза. – Я б своей дочке таких пи…ей навешала, по сраке так надавала, чтобы сесть на жопу неделю не могла. И что, разрешают?
– Разрешают. Моя мама считает, что лучше я буду дома курить, чем где-то под забором.
– Ты видишь, как молодёжь рассуждает, – Анна Павловна толкнула Эдельмана в бок. – Разве в наше время мы могли позволить себе такое распутство?
Эдельман забубнил: я б своей такое сделал, на всю жизнь запомнила бы.
Артём подмигнул мне заговорщицки: они бы сделали, тоже мне порядочные. У Эдельмана дочка в пятнадцать в подоле принесла, замуж брать никто не хотел, за такие бабки еле спихнул, сидел у себя в конторе и плакал от жадности. Так зятек от той доченьки всё равно сбежал. А Анюта? Чья бы корова мычала, а она уж помолчала бы. Еще та блядь. Ой, что я говорю, распутница.
Я злилась сама на себя: и все это мне надо выслушивать, неделю будешь мыться – все равно не отмоешься от всей этой грязи. Вздохнув, молча отдала своей начальнице копию отчета. Она косо взглянула на неё, нахмурилась и подняла на меня глаза:
– А ну дай мне карточки по томатному соку. Откуда у нас такое количество? Дай сюда накладные. Это какой сок? Яблочный. А у тебя какой?
Комок от волнения застрял в горле. Я перепутала яблочный сок с томатным, и тот, и другой были по одной цене. В спешке в карточку с томатным вперла яблочный. И в плановый отдел неправильно продиктовала.
– Звони этой толстухе Лильке, сейчас получишь, а за тебя и мы, – Анна Павловна пододвинула ко мне поближе телефон.
Только я заикнулась об ошибке, как из трубки понёсся ураган ругани. Досталось всем. Разъяренный Лейбзон почти тут же примчался и, весь красный от злости, крепко отматерил. Так громко орал, что слышно было и за забором, на маслозаводе. Ты в уме, Анюта, ты что эту красавицу недоученную защищаешь, какая разница, томатный или яблочный, они же по одной цене. Объяснить тебе, какая разница? Один е…, а другой дразнится. С плановым теперь разбирайтесь. Наверняка эта фурия уже к вам мчится.
Фурия влетела на склад, как бешеная, и залилась отнюдь не соловьем. Огромная ее грудь ходила ходуном. Из ее глубины вырывались грозные трели. Понять с первого раза, о чём она говорит было невозможно. Анна Павловна пыталась успокоить ее: Лиля, Лиля, не горячись так, побереги сердце, перепутала девчонка, так что ее казнить за это? Цена же одинаковая.
Но Лилия Иосифовна была непреклонна и смахивала на лектора из районного кабинета партполитпросвещения, который раз в квартал обязательно приезжал на базу, и тогда всех сгоняли в красный уголок послушать умного человека. На этот раз ликбез касался не только меня. Я никогда не задумывалась, уплетая свои любимые розовые помидоры, особенно фаршированные по бабкиному рецепту, что они – стратегический товар. А тут выяснилось, что вся томатная продукция, паста, пюре, соки – неприкосновенный госзапас и подлежит строжайшей отчётности, за которую она несёт персональную ответственность. Мы, получается, не выполнили план, а обманом отчитались, и сведения уже ушли в Киев. Скандал.
А ваш яблочный сок, продолжала кричать плановичка, никого не волнует. Доставайте томатный, где хотите. Помидоры больше не поступают, цех линию свернул.
В глазах моей начальницы в мою сторону сверкну ли две молнии, и тут же раздался гром:
– Катись отсюда, чтобы я тебя не видела.
Я за свою сумочку и дёру. У самого забора меня окликнул Артём:
– Стой, дай сигаретку и слушай сюда. На эти понты дешёвые не поддавайся, не хнычь. Я кому сказал. Та цаца с планового пузыри пускала, чтобы с наших гавриков побольше содрать. Как отоварится, расцелуются, и всё будет путём. Над тобой же посмеются. Говнюки недорезанные. Чтобы та Лилька не заметила подвоха? Та расстреляйте меня на месте, она же всё сверяет, и твою ошибку с ходу вычислила. Лилька думает, что все здесь припоцанные, как тот Эдельман. Это они там у себя пусть смотрят в оба. Сколько изготовлено томатным цехом, столько и принято нами.
– Артём Петрович, так она же Лейбзону нажаловалась. Грузчик рассмеялся:
– Хоть для тебя я Артём Петрович, меня никто здесь так уважительно не называет, спасибо, дочка. Лейбзон ту Лильку, видать, с ходуна место поставил. Ещё воткнул ей по первое число. Он без всяких бумажек знает, что к чему. Это же Лейбзон! У него же голова еврейская, мозгами набита, очень уважаю. Мне без разницы, кто ты: хохол, москаль, маланец, по башке ценю людей. Что я рассусолился, беги, малая, домой, не переживай. И не боись, в округе все знают: если что, Костя Хипиш за тебя посчитается.
Я бежала по Артиллерийскому переулку дрожа не столько от страха, сколько от уже начинающей утренней и вечерней сырости. Днём ещё солнышко пригревает, а вот вечера совсем холодные, ветреные. Бабкины прогнозы изредка да оправдываются. Утром в шесть часов слушает «точку», и какую погоду передают по Москве, такая через два дня будет в Одессе. Это её личные наблюдения. Правда, она сама прогноз корректирует, прибавляет пару градусов, только с ветром не всегда угадывает, что случится, если он с северного повернёт на южный или наоборот. Алка просит бабку вообще перевернуть пластинку и тошнить о чём-нибудь другом.
Бабка смотрит на нас поверх очков немигающим взглядом. Настырность ее не имеет предела: в нашем аду самое безопасное говорить о погоде, если о чем-то другом, как спички вспыхиваете.
Алка ей ещё отвечает, я вообще молчу Эти разговоры вместо утренней зарядки – бесплатное приложение к манной каше и какао. Я понимаю, это мне её родительское напутствие на новый рабочий день.
Всё, горячий сезон окончился, с планом завоза и закладки справились, с ноября начинается обычный график. А это значит, на работу надо приходить не к семи утра, а к восьми и заканчивать в пять. Теперь наконец смогу погулять с подружками, по которым соскучилась, в конце концов выспаться. Какая красота! И утро сегодня, несмотря на ранний час, тёплое, я лечу в драповом новом костюмчике. Узкая юбка от моего бега наэлектризовалась и даже пощипывает мышцы на бёдрах сквозь нейлоновые чулочки. Юбка еще и короткая, в таком наряде я ни разу не показывалась на базе. Ну и пусть смотрят, как моя сестрица повторяет: смотреть, любить и нравиться никому не запрещается!
Надоел мне мой маскарад. Все эти месяцы ходила в одной и той же студенческой юбке, закрывающей колени, сшитой специально для экзаменов. Приходила, напяливала синий халат – и целый день в нем. Всё о'кей, удобно.
У раскрытого настежь склада столкнулась с Артемом, он от неожиданного моего вида присвистнул:
– Опана! Ты куда так выпендрилась? Сейчас в Ильичёвск за товаром поедешь.
– Это в честь чего? – я обалдела.
– За особые заслуги перед партией и правительством. Экспедиторша приболела, и Анютка совсем расхворалась, не простаивать же машине, – Артём двумя пальцами щёлкнул себя по горлу, – понятно, подруга?
Как я ни пыталась отбрыкаться – не могу, не знаю, никогда там не была, наконец, не моя эта работа, – ничего не получилось. Эдельмана как подменили; то называл меня «деточка», а здесь как разорётся пуще плановички: как миленькая поедешь, на тебя уже доверенность оформили. Материала, что ли, на юбчонку не хватило? Можешь к Лейбзону не бежать, это он распорядился. Не поедешь – простой машины за твой счёт.
Так вот для чего накануне у меня паспорт истребовали, чтобы эту доверенность на мое имя сварганить, и теперь не отвертеться.
Шофёр подвернулся какой-то неопрятный, пропахший дешёвым табаком, бензином и просто грязью, к тому же еще и необщительный. Все мои вопросы повисли в воздухе без ответа. За эти месяцы много водителей примелькалось в лицо. А этого первый раз вижу. Неприятно стало.
Едем вдоль полей колхоза Карла Либкнехта, где я в прошлом году практику проходила, в параллель с маршрутом 29-го трамвая. Водитель время от времени плюёт в открытое окно. Я стараюсь подтянуть свою юбочку, коленки прикрываю сумочкой. Из своего окошка вижу плантации виноградников, ровненькими линиями уходящие к самому горизонту. Урожай уже собран, листья опали, лозы подрезаны, и теперь они торчат из влажной земли, как чёрные руки привидений с оттопыренными уродливыми клешнями. На этом фоне пейзаж напоминает какую-то планету из фильма ужасов. Ещё погода как назло испортилась. Беспросветные тучи и первые капли начали бить по пыльному стеклу Бабкин прогноз оправдался, а у меня даже нет с собой зонта. Шофёр психует, выспрашивает у меня дорогу. Пытаюсь объяснить, что сама первый раз сюда еду, не хочет слушать.
Покрутившись, подъехали к Ильичёвскому порту даже без языка до Киева. А дальше куда? Жлоб водитель и не подумал выйти спросить, сидит в кабине, будто его цепью приковали. Пришлось мне в своих туфельках-лодочках, водрузив на голову сумочку прыгать по лужам, толкаться во все двери и узнавать. Конечно, мы не туда приехали, нужно обратно выскочить на трассу и не проморгать указатель. Когда, наконец, нашли, выяснилось, что на до возвращаться туда, где мы были первый раз, там сначала оформляют все документы, а уж потом ехать сюда получать.
Опять чертыхания шофера, ему наплевать, что я вся вымокла, дрожу от холода, к тому же, пока катали туда-обратно, попали в обеденный перерыв. Зато после него я была первой. Что я подписывала, убей бог, не знаю. Схватила бумаги, сунула их в сумку и мы помчались на склад. Таких складов я, по правде, ещё не видела. Махина, в которой ездят машины. При въезде прошли все процедуры: осмотр, взвешивание и только к четырём часам стали под погрузку. Ананасовый сок в железных банках в картонной таре нам так стремительно накидали, что еле поспевала просчитывать количество ящиков.
Эстакада склада продувалась всеми ветрами, но я не замечала, даже одежда на мне просохла. Еще немного подождала, когда выдадут документы, потом всеми своими промерзшими костями влезла в тёплую кабину, не чувствуя уже ни её вони, ни на грязи – наплевать, и мы отправились в обратный путь. В полной темноте вернулись на Хуторскую. Артём, не стесняясь, покрыл меня матом на чём свет стоит, что так долго. Потом набросился на водителя, тот оправдывался: я-то при чем, сами послали приёбнутую по всем статьям, куклу безмозглую.
Я бы этому жлобу ответила, но мне было не до него, сильно приперло, и я понеслась в туалет, потом выпила из чайника тёплой воды и бухнулась на стул. Сердце больше не билось. Всё, слава богу. Жаль только мои туфельки, им, по-моему, пришла хана, да и новый костюмчик испачкала в этой засранной машине.
Вдруг Артём поднял панику:
– Неполные ящики, и пустые есть, обули они тебя, Ольга, по самые яйца. Забыл, у вас их нет, по самую…
Мне было не до его ругани, я громко заревела. Такую недостачу в жизнь не покрыть. А как сказать дома, убьют, сколько раз бабка предупреждала: смотри в оба, слишком доверчивая, объегорят и глазом не моргнут.
Моя начальница, хотя и хворая, пришла все-таки на работу уже после того, как я уехала в Ильичевск, и в соседней комнатке ругалась с Эдельманом. Я слышала, как она заставляла его признаться, что подставил девчонку, это всё его жидовские штучки. Решили потащить меня к Лейбзону. Анна Павловна шла впереди, Эдельман плёлся с шофером следом, а я, почти в бессознательном состоянии, ковыляла за всеми. Лейбзона не застали. «Он на складе общественного питания», – Женька тряпкой тщательно оттирала заплёванную телефонную трубку.
Я лихорадочно искала выход из создавшегося положения. На меня же всё повесят, нужно как-то сообщить своим, но как? Телефона дома нет, только у Леньки. А вдруг меня сегодня же посадят, как все они страша т. Хоть бы до Жанки, дядькиной жены, дозвониться, предупредить. По побледневшему лицу секретарши поняла, что дела мои хуже некуда.
Жанночка сняла трубку:
– Оля, ты?
– Да, Жанночка, у меня неприятности на работе, скажи Лёне, меня посадят.
Женька вырвала трубку из моих рук:
– Ты что, сдурела такое нести, кому звонила?
– Подружке.
– Может, всё обойдётся, а ты всем сама растрезвонишь.
Первым в кабинет ворвался Лейбзон, за ним вся королевская рать. Он был весь на взводе: что ещё эта барышня отчебучила?
Эдельмана, обычно такого меланхоличного, словно подменили. Затараторил, мало того, что его склад и так пострадал от разрушения, так ещё и это горе, свалившееся на бедного еврея. Эта просвистушка, видно, пошла на сговор в Ильичёвске, одна или с шоферюгой. В общем, большая недостача, пустые ящики привезли. Он отказывается их принимать, пусть комиссия разбирается, милиция ищет виновных, дело возбудят. Товар выгружен отдельно.
Повисла тишина.
– Не такой уж ты, Эдельман, бедный еврей, не плачься, лучше подумай, как девчонку выручать будем, – Лейбзон подошёл ко мне, по-отечески положил руку на плечо. Я готова была на всё, но такого тёплого к себе отношения с его стороны не ожидала и разревелась окончательно. – Попробуем тебя отбить, хорошую характеристику напишем. Добросовестная, трудолюбивая, ни в чём раньше замечена не была. Может, и дадут какой-то срок, но условный. Доказать, что в Ильичёвске тебе не додали, нет никаких шансов. Ты же всё сама подписала. Так? Так. Будут давить на ваш сговор с водителем. Но ты же с ним не сговаривалась? Нет? Нет.
Тут водитель снова заголосил, что это всё она, безмозглая, а он только руль крутил.
– Заткнись, – обрезал его Лейбзон. – Я так думаю, пока мы у себя постараемся всё уладить. Бросим шапку по кругу в беде не оставим, а ты постепенно рассчитаешься. Так будет по-честному, или я не прав? Говори, что молчишь? Этот шофёр где-нибудь останавливался, ты его одного с товаром оставляла? Нет. Значит, его отпускаем, он ни при чём, а ты пиши расписку.
Какую? Я обвела своим зарёванным взглядом стоящих вокруг меня людей, из-за слёз мне показалось, что у всех у них глаза горят, как у волков вокруг обессиленной дичи. У меня всё внутри буквально клокотало. Вот скоты. На до успокоиться и подумать. Я же сама столько накладных на стеклянный бой им выписала, а вымышленных актов? Тогда я была хорошей, милой девочкой. А как случился со мной промах, все в сторону, знать тебя не знают. Никаких расписок, милицию вызывайте, сажайте, я ничего не воровала. Меня обманули, эти прохвосты. Я не оформлялась на работу экспедитором, а только сраным фактуристом. Я не материально ответственное лицо. Сидит эта Женька и голову от своих бумажек не отрывает. А сколько раз на день она сама с разными записочками от начальства бегает и бесплатно грузит товар к Алексею в машину. Я не сдамся, посмотрим ещё кто кого.
Слёзы у меня высохли. Всё стало как-то безразлично. Напрасно тычет мне Женька эту расписку Пока Леонид Павлович не подъедет, ничего подписывать не буду.
– Ой! – крикнула Женька, глядя в окно. – На ловца и зверь бежит Милиция уж подъехала.
Лейбзон мгновенно прильнул к окну.
– Это с нашего района, а ну все отсюда на у лицу. И ты с ними, с тобой потом решим. Тихо, слёзы утереть, без них обойдёмся. Вот нюх у легавых, не везёт тебе, девочка.
В дверях первым показался начальник ОБХСС, а следом мой дядька при полном при параде. Как я рванула к нему: Лёня! Я не виновата! Он, по-моему, первый раз после моих крестин обнял меня, поцеловал и усадил за собой.
– Николай Семенович, дядя Коля, я не виновата.
– Сейчас разберёмся, кто виноват и насколько, – начальник ОБХСС уселся за стол Лейбзона. – Так шо за шум, а драки нет?
– Вот это гости, какими судьбами! Мы всегда рады видеть вас, – залебезил Лейбзон. Он стоял посредине комнаты и крутился вокруг своей оси, протирая платком на огненно-красном лбу и такой же лысине крупные капли пота.
– Мы прибыли по вызову, от вас звонок поступил, с этого телефона, – начальник ОБХСС развернул аппарат к себе. – На вверенной нам территории произошло ЧП.
– Уважаемые гости, вы ошиблись, разве у нас кто-нибудь милицию вызывал? – Лейбзон уставился на Женьку Обычно бледная, она стала ещё бледней, даже рыжие веснушки побелели.
– Я вызывала! – теперь мне нечего было бояться, я, как школьница на уроке, даже руку подняла. – Все же кричали, что по мне тюрьма плачет за мои грешки, вот и предупредила, где меня искать.
От такого признания у Лейбзона рожица расцвела в обаятельной улыбке; все его кошачьи движения говорили, что он готов станцевать «семь сорок» от счастья. Пронесло…
– А вы кто ей будете, если не секрет? – обратился он к Леониду Павловичу.
Дядька мой побагровел и тихим голосом, от которого мороз по коже у всех пошёл, процедил сквозь зубы:
– Я представляться вам не собираюсь, а вот вы ответите на все интересующие нас вопросы.
– Какие вопросы, нет проблем, только людей отпущу и с вами продолжим, – Лейбзон явно сник, не ожидал такого поворота событий. Женька выскочила из кабинета и меня выпихнула, я увидела, как за дверью она лихорадочно рвет на мелкие кусочки ту самую бумажку которую мне хотели подсунуть подписать.
– Леонид Михайлович, так что же всё-таки случилось? От вас лично хочу услышать, – дядька добавил металла в голос.
– Так я ж сам ещё толком не знаю, что там произошло. Хозяйство какое большое, целый день на ногах, за всем сразу не уследишь. Сейчас всё выясним. Женя, зови сюда Милосскую!
Секретарша еле сдержала смех:
– Леонид Михайлович, Приходченко её фамилия, а Милосская… Ей такое прозвище наши грузчики придумали.
Где Гоголь, который хоть недолго, но жил в Одессе, со своим «Ревизором»? Немая сцена. У Лейбзона чуть глаза не повылазили из орбит.
– Как? – лицо посерело, покрылось испариной. Когда пришел в себя, с трудом выдавил: – Я даже её фамилию, видит бог, не знал, тогда всё понятно.
– Что натворила эта юная особа? – продолжал настаивать мой дядька. – Кому она подчиняется, хочу от них услышать!
– Да, сейчас. Женя, быстро Эдельмана сюда, нет, лучше Анну Павловну.
Николай Семёнович тем временем внима тельно рассматривал эти проклятые накладные. Затем развернул к себе телефон и приказал своим подчинённым, пока он здесь, на Хуторской, разбирается, немедленно выехать бригадой в Ильичёвск и опломбировать девятый склад.
Лейбзон психовал. Как он мог так лохануться, даже фамилией этой девчонки не поинтересовался. Знал бы, сразу смекнул, что к чему. А так голову ему заморочили, что директора племянница. А девчонка, если разобраться, сообразительная, опыта наберется – толк будет. Зря на нее кричал, но ведь если и журил, то по-отечески.
Хитрющий Эдельман долго отбрыкивался, упирался идти на ковёр. Поначалу вообще пытался всё вывернуть наизнанку. Да все это ерунда, какая недостача, какая сотня банок, всего две или три. И нет никаких к ребёнку вопросов, она под нашей опекой. Такая исполнительная и грамотная, всю отчётность щёлкает только так. Почему эту панику подняла, не представляет. И Анна Павловна относится к ней, как к родной дочери.
Моя начальница оказалась легка на помине. Тут же стала приглашать к себе на склад, показать, в каких тепличных условиях работает наша Оленька. Чудная девочка, умница и с образованием. Складу так повезло, никуда они меня от себя не отпустят, в обиду не дадут.
Лейбзон всё поддакивал, сваливал на грузчиков, которым ни на грош доверять нельзя. Кончилось тем, что меня с моими материальщиками отпустили, а милиция осталась у заместителя директора. Леня обещал, как закончат разговор, заехать за мной и отвезти домой. Я успела выкурить пару сигарет и попить чайку когда милицейский «москвичок» подрулил к складу. Из него выполз первым Лейбзон, обратился как ни в чём не бывало ко мне: хозяева, принимайте гостей.
Он продолжал что-то тарахтеть про ильичёвских, что они совсем совесть и стыд потеряли, в нахаловку грузят запечатанные ящики, а они внутри пустые, а расхлебывать приходится таким честным детям. Обмануть ребёнка наивного ничего не стоит. Леня нагнулся ко мне: хватит слушать эту дребедень, поехали.
Не прощаясь со своим начальством, рванула к машине. По дороге выдала слезу, что не хочу здесь больше работать. Леня заверил, что как только в Кишиневе отстанут от меня, он тут же подыщет мне нормальное место.
– Не дергайся, спокойно пережидай, к тебе больше не будет никаких вопросов.
– А как же уголовное дело?
– Семёныч, ну ты бачышь, яке це ще дытятко великовозрастное. Начальник ОБХСС обнял меня:
– Глупенькая, они, сволочи, сговорились, хотели зацепить тебя на крючок. Чтобы делала всё, что им заблагорассудится. Тебе, конечно, здесь не место, но потерпи и учись у них, потом ещё командовать ими будешь.
– Никогда! Я их всех презираю, ненавижу. Они все воры и подонки. Лёня, ты даже не представляешь, что здесь делается. Я тебе всё расскажу.
– Оля, знаю я всё. Везде одинаково. А Семеныч прав: учись, пригодится, будешь разбираться во всех тонкостях с самого низа, так сказать, от истоков.
– Ребята, Леонид Павлович, есть предложение рвануть на наше место. Считаю, принято единогласно. Сашка, давай на двенадцатую, на седьмой у магазина тормозни, горючего прикупим и чего-нибудь закусить.
Машина покатила к морю, дождя больше не было. На чистом небе сияла умытая луна, и лунная дорожка от неё неслась нам навстречу, искрясь к берегу. Звёзды сверкали, как драгоценные камни всеми своими гранями, а чуть заметные об лака в виде лёгких вуалей-покрывал местами их нежно укрывали, создавая едва различимые загадочные полотна. Мы все вышли из машины и завороженно уставились на это необыкновенное зрелище. Дядя Коля вздохнул:
– Вот так за нашей грязной круговертью не видим всей этой красоты. Ой, Олюшка, выходи замуж за морячка и кидай к такой матери свой диплом. Живи, как все бабы, и радуйся жизни. Леонид Павлович, замуж её надо сдать, и дело с концом. У меня есть на примете хороший хлопец, плавает и семья приличная. Сосватаем?
– Наша барышня в сватовстве не нуждается, – хмыкнул Леня, – моя мама, ее бабка, устала кавалеров с лестницы спускать. Шо она хочет, сама не знает. Шо старшая Алка, шо эта. Два сапожка пара. Я в этом не участвую.
На горизонте застыли суда на рейде, ожидая своей очереди для входа в порт. Простор, красотища. Почему природа может жить в таком блаженстве, а люди нет? Друг друга пытаются сожрать, хуже зверей. Что я сделала им плохого? Может, на каком-то из этих судов плавают и бывшие мои кавалеры-предатели. Я дала себе зарок никогда больше ни с одним водоплавающим не знакомиться. Бегают девки за ними, унижаются, только потому, что у них есть деньги. А будучи жёнами, ждут не дождутся, когда спровадят их в очередной рейс. Нет, такого счастья мне не на до. Хорошо, что нас разделяет это море, эта гигантская чёрная чаша. Она на двигается на берег полукруглыми складками кружевных пенистых волн, следующих одна за другой. И также, одна за другой, они поглощают друг друга. Нет, всё обман, и эта природа, и это море могут уже сегодня взбеситься, как было не раз.
– Дядя Коля, а вы знаете, что раньше 18-й трамвай вон там ходил?
– Да? Как он там мог ездить?
– Мог, Николай. Если бы не тот сильнейший шторм, забыл уже, сколько лет прошло, и страшная гроза, и сейчас бы ходил. А так случился оползень. Внизу были рыбацкие курени, и все их смыло.
Бабка нам с Алкой тоже не раз рассказывала о систематическом поглощении морем одесских берегов. Поэтому решили их укрепить, пригнали бульдозеры, они нарезали террасы, чтобы дальше не ползло. Сделают как в Отраде, и пляжи намоют хорошим мелким песочком.
Сашок быстро устроил сервировку на капоте машины, достал из багажника бутылку «Столичной», купленную по дороге, и мы вчетвером чокнулись, только Сашка соком, а я с двумя легавыми, как обозвал их Лейбзон, водкой.
Николай заметил, как я махнула и ни в одном глазу. Ленька чуть не поперхнулся.
– На базе научилась? А еще бежать оттуда хочет, из такой школы…
– Да ничего не научилась, – сердито огрызнулась я, – прошу тебя, дома ничего не рассказывай, зачем им лишние переживания.
– Не бойся, не скажу, давай лучше закусывай, а то опьянеешь.
– Не опьянею, я свою норму уже знаю.
– Молодец! – все дружно засмеялись. Николай Семёнович всё не мог успокоиться:
– Эти суки у меня теперь попрыгают. Устрою жулью проверку – кровью харкать будут, ишь чего хотели с нашей Олькой учудить. Думали, с рук сойдет. Леонид Павлович, понял? Они же заранее знали, что будет, что пустых ящиков набросают. Вот неопытную девчонку и послали. Палыч, ты Артёма узнал?
– Как не узнать, думал, правда, что он ещё не освободился.
– Лёня, ты знаешь нашего Артёма? Он что, опасный урка?
– Да нет, по глупости влип, хлопец он неплох ой был. А каким вернулся, ещё вопрос. Николай, ты там прощупай его, чем дышит и прочее.
На обратном пути дядька напористо внушал мне, чтобы не ленилась, изучала всю их кухню, а потом на работу к ним, в милицию, возьмут экспертом. Грамотные специалисты, знаешь, как нужны. Так, с надеждами на светлое будущее, я вернулась на ненавистный склад. Оба мои начальничка противно заискивали передо мной. Но я держала с ними дистанцию.
Едва начался ноябрь, такой шухер поднялся.
– Вот сейчас увидишь своими чистыми очами, хто на самом деле командует парадом, – сказал Артем, кивнув в сторону Анны Павловны. Та крутила в руках какие-то бумажки, которые ей только что притащила Женька.
– Знаешь, Ольга, что это?
– Нет.
– Списки, кому мы заказы на ноябрьские праздники должны отправить. Все закодировано, по номерам.
– И кому же?
– А вот это не нашего с тобой ума дело. Не знаю и знать не хочу. На ассортимент взгляни, одни деликатесы. И на сумму. Один заказ больше моей зарплаты. Как я всё это ненавижу.
– Так они рассчитаются?
– Кто, они? Держи карман шире. Задарма все. Народ за куском тухлого мяса часами в очередях давится, а эти, райкомовские, исполкомовские, живут уже в коммунизме. Народ им до одного места. И за них я должна голову подставлять. Да пошли они все на х…
Анна Павловна достала из-под стола знакомую бутылку с ромом, налила в свой зелёненький стаканчик и залпом опрокинула. Закусила детской шоколадкой из ассортимента.
– Думаешь, все? Хрен два. Видишь вот эти номера? Это первая десятка, самые важные пурины, для них нужно дополнительно ещё черной икорки достать. А где ее взять? Пусть у Лейбзона мозги шевелятся.
– А остальным? – робко спросила я.
– С остальными проще. Мелюзга. Что у нас есть, то и напакуем, с них хватит, – она опять приложилась к стаканчику. – Только бы сами не приперлись. Все им мало, канючить начнут. Как вижу их рожи, вырвать хочется. Что за люди. Себе бы что-нибудь к праздничку выкроить.
К вечеру пришла Валентина с мелкого опта. От усталости еле передвигала ноги. На нее тоже повесили оброк, и придётся тащить с детских садиков и школ. Вот и ломай голову как детей не обидеть и этим блядям услужить.
– Ходила к Лейбзону, а что он может. Сам злой, чернее тучи, только разводит руками. Валюха, говорит, мы с тобой в одной упряжке, так главный кучер распорядился. Ань, плесни и мне, всё осточертело.
Анна Павловна засунула руку в ящик стола и достала упрятанную за бумагами бутылку молдавского вина. Видимо, запас рома уже исчерпался. Попробуй, сбереги при такой нервной работе.
– И так, Ольга, по кругу в календаре вон их сколько, красных дат. Не успеем оглянуться – Новый год, потом мужиков на до поздравлять на 23 февраля, затем женщин с 8 марта, а там и майские. И каждый раз я мордоваться должна, собирать на халяву заказы этим уродам. Анна Павловна, вам партийное задание. Я и комсомолкой не была. На кой лях мне эта партия сдалась, что от нее толку, все под себя гребут. А коснись чего, все они чистенькие, совестливые, о народе заботятся. Да пошли они все на х…
Бутылку сухого опустошили в два приема. Я сочувствовала Валентине. Вышла осенью, в самый сезон с убытком.
– Олька, понимаешь, что это значит? Впереди зима и никакого задела. Мы ж здесь, как рабы. Я Лейбзону дырку в его умной голове просверлила: ищите мне замену, всё сдам, доложу, и ноги моей больше здесь не будет. А он сидит, рукой машет и как ляпнет: а я хочу, чтоб меня трамвай перерезал и конец всему наступил. Анька, у него сын от первого брака под трамвай попал. Ты это знала? Я тоже не знала, только сегодня услышала. Мужику тоже достаётся, ещё больше, чем нам.
Она вдруг резко вскочила со стула, набросила на плечи куртку.
– Аня, хватит глушить, с завтрашнего дня уже развозить придётся. Оль, бери её, мой сейчас подъедет, вас развезём по домам. А ты что, так с одной сумочкой и бегаешь? Что берёшь, что не берёшь – один чёрт. Если захотят посадить – посадят, так не обидно хоть будет. Оль, а твой дядька симпатичный такой мужик, жаль, что в мусора подался. Он, видно, из тех, кто всю жизнь с голой жопой ходит.
Лучше так, Валентина, с голой задницей, чем воровать и дрожать. Анна Павловна махнула рукой, я не поняла: то ли прочитала мои мысли, то ли подумала: зелёная, ещё вызреет.
С этого дня все мое начальство во мне души не чаяло. Поутру Эдельман собственноручно открывал баночку крабов или икорочкой красной баловал. Артём в своей коптёрке, где обычно они с Петром заваривали «чифирчик», готовил настоящий турецкий кофе в турке на электрической плитке и угощал нас. На кофеёк подруливала и Валентина.
Этот час был для нее отдушиной. Валентине не позавидуешь. Её рабочий день начинался с семи, а заканчивался, когда она уже, обессиленная, приказывала: «Зачиняйте ворота». У нее не склад, а гудящий улей. Целый день люди, непрерывные звонки из детсадов, школ, институтов. И всем все на до, причём небольшими количествами, да ещё чтобы качество нормальное. Даже у нас в те пятнадцать минут, что она выкраивала для передыха, ей не давали покоя, прибегали подписывать накладные.
– Жаль бабу, – как-то грустно смотрела вслед Валентине, когда она уходила, Анна Павловна. – У этой умной тоже высшее образование, технологический закончила. Муж в институте остался, преподаёт, а она их содержит. Ещё раз в три месяца на аборты от большой любви бегает. Видела, у неё на лице уже ни кровиночки, белая, как та стенка в извёстке. А меня бог от такой жизни миловал. Один аборт и закончилось всё мероприятие. Я вольный казак по этому делу.
Она вытянула ящик, где хранила заначку, свой «Негро», привычным движением откупорила бутылку, опрокинула первый за день зелёненький стаканчик и отправилась руководить процессом.
Предпраздничный день б ноября стал самым сумасшедшим в моей жизни, предыдущие тоже были не подарок, но этот… Не успела заявиться на работу, как на склад залетел Лейбзон с новой разнарядкой. На предложение моей начальницы выйти и поговорить наедине, огрызнулся:
– Пусть слушает всё! Заложишь? Закладывай, у самого в печенках давно сидит. Анюта, ещё надо по этому списку повторить.
– Да вы что? Мы ж третьего всё отправили, как вы распорядились. Как хотите, я под этим не подписываюсь. Всё, с меня хватит.
– Анюта, хочешь на колени стану. Выжрали поганцы ещё до праздников. Я тебе клянусь, всё покроем. Не подводи меня на старости лет.
– А магазинам кто отпускать будет, она, что ли? – и ткнула пальцем в меня.
Лейбзон развернулся в мою сторону:
– А хоть бы и она. Ну, что, Милосская, выручишь? Ножки вон какие длинные, одна тут, другая на складе, а? Смелые города берут! Спасай! Договорились?
Он упорхнул и не слышал, как завелась Анна Павловна, нещадно крыла матом всё и всех подряд. Завмаги сами безропотно грузили к себе в машины товар и, кланяясь, обещали, что за ними конфеты и шоколад. Раз сто по шаткой приставной лестнице я спускалась в подвал, помогая двум тёткам протирать запылённые бутылки и банки, а по крику Артёма чесала наверх выписывать расходные накладные. Анна Павловна с грузчиками с железнодорожной эстакады выгружали вагоны, составляя сразу акты на недостачу и бой. Под праздник всё, что валялось в Ильичёвском порту, загрузили и к нам отправили, как сборную солянку.
Только к середине дня мы нафасовали коробки для партийных сук, как их обзывали на нашем складе, несколько ходок сделал шофёр Алексей, только ему доверялось это ответственное дело. Под вечер он сам заехал отчитаться, что всё развёз, и, посмотрев на меня, засмеялся:
– Павловна, ну и волкодав у твоей Милосской, чуть не загрыз меня, когда ящики завез, бабуле ихней спасибо, добрая старушка, оттащила.
Я настолько устала, что ничего не поняла. Начальница предложила закончить день фуршетом. И охрипшим голосом приказала Артёму закрыть нашу лавочку На него с Петром было даже страшно смотреть, их лица, худые и серые, в глубоких морщинах, ничего не выражали. На складе стало так тихо, и они молча стояли и ждали, когда их позовут. Начальница, не обращая на меня внимания, отсчитывала и раскладывала деньги по кучкам, вызывая рабочих по очереди. Всем говорила спасибо, а они, уходя, поздравляли с праздником и радовались, что завтра выходной.
– А это тебе, Ольга. Тоже спасибо. Только ты останься, у нас есть ещё работа.
Я наотрез отказалась брать деньги, если можно, то баночку крабов.
– Шо то баночка, коробку завезём. За Валентиной «Волга» заедет, тебя и забросим. А сейчас давай за мной пересчитывай. Она открыла нижний ящик и вывалила на стол деньги: разбирай по номиналу.
Я смотрела на неё, выпучив глаза.
– Что уставилась? Десятки отдельно, трояки отдельно, вперёд.
По сто штук перевязывали аптечными резинками. Когда закончили пересчёт, она перекрестилась, только бы не прогореть, и принялась сверять со своими записями в книжечке. Пронесло, нормально, 8-го с утра проведём переучёт, остатки выведешь, подобьём всё окончательно. Потом позвонила по телефону, сказала, чтобы прислали Алексея, все готово.
Я поняла, что она разговаривает с Лейбзоном.
– Где Эдельман? Ваш хитрожопый Эдельман как всегда обосрался, у него, видите ли, свело живот, и я не видела даже, как он на машине улизнул. Девчонка? Ага. Молодец, я ж говорила, сообразительная. Выдержала, все сделали на пару с ней. Она больше ошибаться не будет. Конечно, не обижу, тоже ещё скажете.
В дверях склада она передала пакет Алексею, тот ещё раз поздравил нас всех с праздником, и мы стали ждать Валентину, попивая заграничный ликёр. Артём, умытый и переодетый, сразу посвежел и даже помолодел.
– Ты такой, Ольга, ещё не пробовала, вкусный, но он для баб, я больше нашу «Столичную» уважаю. Завтра ублажаться буду.
– Ты, по-моему, каждый день ублажаешься, – Анна Павловна тоже скривилась: – Нет, не то удовольствие.
– Это «Бейзли», он с миндалём, поэтому такой ароматный.
– Видишь, Артём, наша малая всё знает. Кто тебя угощал таким, если не секрет?
– Один знакомый капитан.
Зачем только я ляпнула? Сразу почувствовала, заливаюсь краской, ладони мокрыми стали, выкрутиться как-то надо.
– Он капитан на пароходе, который именем моего дедушки назвали. От Лузановки до 16-й Фонтана с отдыхающими ходит. Три часа в море. Может, и вы катались.
– Не довелось, но сейчас обязательно прокатимся. На профсоюз надавим, пусть раскошелится и прогулку в выходной организует, детишек с собой возьмем, веселее будет. А дед моряк у тебя?
– Бывалый. Всю жизнь в порту и Черноморском пароходстве оттрубил, орденом Ленина наградили. Как-нибудь захвачу фото, и в газетах о нем писали.
Анна Павловна перемигнулась с Артёмом. Раздался телефонный звонок, Валентина сообщила, что карета подана. Быстро опечатали склад, распрощались с Артёмом и загрузились в машину. Начальницу высадили на её судоремонтном посёлке, а меня на 6-й Фонтана, с доставкой прямо под парадную с коробкой. Едва успела открыть дверь, как бабка ошарашила меня «ещё тем сюрпризом». Вся передняя была заставлена ящиками и мешками. Боже, весь базовский ассортимент и ещё кое-что. Мне стало дурно. Вот как они меня обработали, не мытьём, так катаньем. Что делать?
– Олька, что ты творишь, это же всё ворованное. Сейчас Анька с Алкой придут, может, они уймут тебя, я не могу.
Я смотрела на свою сгорбленную старенькую бабушку, на лице у нее застыл ужас.
– Бабуленька, не паникуй, это не бесплатно и не ворованное. Врать пришлось напролом, что всю зарплату на эти продукты истратила. Праздничный набор, только для своих, и всем бесплатно развозили по домам.
Бабка сразу повеселела, расхваливала Алексея: такой дядька хороший, тебя хвалил, говорил, что ты такая грамотная.
Мы стали с ней раскладывать всё по местам.
– Олька, да ты никак выпила?
– Немного ликера, бабуля. Начальник всех собрал, поздравил с 7 ноября. Сегодня был такой тяжёлый день, я спать лягу, устала.
С этого дня, как-то само собой получилось, полное обеспечение нашей семьи легло на мои плечи.
Всё тайное рано или поздно становится явью. Так и на базе ни для кого не было уже секретом, что я с высшим экономическим образованием и не поехала по назначению в Молдавию. Первым, кто ко мне подрулил с предложением перейти к нему на работу, был главный бухгалтер. Еще один соловей, красиво заливался, сидя напротив: и всему научит, и каждый участок освою с его помощью, и какие у меня перспективы, поскольку ему давно пора на пенсию. Как только за ним закрылась дверь, на меня сразу буквально набросилась Анна Павловна: нашла кому верить, он так уже пять лет на пенсию уходит и никак не смоется, тут все крутится и официально ни за что не отвечает. Лейбзон ему личную машину организовал под жопу круглосуточно и денежки немалые отваливает. За всё отвечает его заместительница, увидишь её, дура деревенская, она всё, что он ей подсовывает, подписывает.
– Ты даже туда и не суйся, – продолжала моя начальница. – Наш склад скоро, наверное, закроют, на Кагатах отстроили новый – громадную бандуру. Туда нас хотят перевести, но я не поеду чёрт знает где. Здесь всё под рукой, всегда, куда надо, рванёшь. Товар раскидать по сети в городе, никто глазом моргнуть не успеет, дело сделано, и все забыли. А там! Пока машина доберётся, полдня пройдёт. Здесь завмаги сами суетятся, а там, на отшибе, никто связываться не будет. Затоварят неходовым говном, и сиди охраняй. Нема дурных. У меня есть выбор, со мной пойдёшь?
– А Эдельман как же?
– А что Эдельман? Его и держат тут только из-за меня. Какой из него прок? Разве только бегать по базе с незастёгнутой мотнёй и разбрасывать по сторонам сопли? На пенсию с почётом спровадят, будет здесь ошиваться с пердунами из партконтроля, с ними ему самое место. Вот, Оля, учиться надо у таких. Ты мне скажи: как такому маланцу удавалось всю жизнь проскочить, нигде не споткнуться? А? Вот они умеют друг за дружку держаться, помогать, точно, как в том анекдоте. Знаешь?
Я пожала плечами: знаю, не знаю, послушаю. Сейчас достанет свою зелёненькую рюмочку, надо доходить до кондиции. Точно, полезла в сумку, достаёт.
– Рассказываю. Встречаются два еврея, разговорились: ты как, а ты как? Один женился, другой женился, а третий дружок Сру ль всё никак. Познакомили, поженили Сруля. Прошло время, опять встречаются, опять друг перед дружкой хвастаются, что и машины у них, и кооперативы, и дети дай бог каждому. Только бедный Сруль с мамой в одной комнатке с детьми мается, и машины никакой нет. Опять ради товарища схимичили, и у Сруля появился «Запорожец», и на квартирный учёт его поставили, и квартиру тот получил. Все как у людей.
Теперь встречаются два друга русских. Один другого спрашивает: Вань, ты сидел? Сидел! И я отсидел. Давай на Федьку суку напишем, а что? Пусть и он, б…дь, посидит. Поняла?
Мне стало как-то не по себе. Анекдот полностью подвёл черту под нашими взаимоотношениями. Анюта, да никуда я с тобой не пойду. Чеши лучше сама в коптерку, Артем уже там, слышишь, как приговаривает: Анюта, я тута. Моя начальница ещё несколько раз заводила со мной наедине разговоры в этом духе. Делилась, что её приглашают в Курортторг, но там своя команда материальщиков, и она не пойдёт. А вот на склад в хороший санаторий – это другое дело. Так и бегала каждый день на переговоры. Эдельман в одну сторону, она в другую. Тишь да блажь, тёмные осенние дни тянутся, кажется, вечность, если бы на склад не заявлялся Юрочка Морозенко и не таскал мне книжки, то совсем бы полная хана была.
Наконец настал день, который решающим образом изменил мою судьбу. Склад БВГ на Хуторской по приказу закрывали, вся продукция, вновь поступающая, направлялась на Моторную. А здесь зачищались остатки. Сколько всякого инвентаря, мелочей числилось за этим складом. Начиная со спецодежды и заканчивая лопатами, вениками и еще чёрт-те чем. Сверять с бухгалтерией и материально-техническим складом досталось мне. Езды до конторы часа два, столько же обратно, и так каждый день. А там – акты, акты, такие количества, такие суммы, все орут на меня, никто не хочет брать на себя ответственность. Переписывай, ставь то такие даты, то другие. Кто им выдавал, пусть и назад принимает этот воздух. А еще: почему тебя прислали, а не материальщики твои принесли это дерьмо.
Так я крутилась по этой громадной территории в несколько гектаров. Там пока один склад обойдёшь, ноги отваливаются. Как здесь люди работают? Ещё дождь хлещет, настроение совсем портит. И главбух прохода не даёт, всё сватает к себе. Меня нервная дрожь била, как заглядывала в бухгалтерию – этот громадный зал, где штук пятнадцать столов, заваленных документами, за которыми не видно людей, дам серьёзных размеров даже для Одессы. Пройти его нужно насквозь, и только тогда попадешь в маленький кабинетик главного бухгалтера.
А ещё, прижавшись к каждому бухгалтеру, постоянно сидели со сверкой бухгалтера магазинов или складов. Все стены в деревянных открытых стеллажах, забитых документами, столы в накладных, на полах тоже их горы, уже в сшитых пачках, прошнурованных папках. И всё это в пыли, начиная с громадных окон, тоже заложенных документами. Форточки замурованы навечно. Те, кто у окон, стоят насмерть, не разрешают открывать – им дует. Как только входишь с улицы, спёртый воздух парализует, хочется развернуться и дать дёру назад. Пахнет всем сразу душистая смесь: потом, дешевым одеколоном, жареной рыбой, чем только хотите. Эту вонь первые несколько минут невозможно выдержать, но, как ни странно, потом внюхиваешься и почти не чувствуешь. Человек ко всему привыкаем даже начинаешь улавливать новые запашки, например, котлеток с чесноком.
Так, начинается перерыв. Я думала, сейчас эти тётки, как птичья стая, сорвутся со своих насиженных мест и понесутся на свежий воздух. Но ни одна живая душа даже не двинулась с места. Только пошли разговоры, кто что вчера приготовил, как кто-то справил день рождения внучки, стали угощать друг друга своим домашненьким. Синенькие, перец фаршированный, рыба фаршированная, студень, еще много чего вкусненького. И куда это все в них лезет на стуле с трудом умещаются. Глядя на них, мне тоже захотелось перекусить, рванула в буфет, но не тут-то было. Очередь тянулась вниз по лестнице. Оказывается, здесь очень хороший буфет, снабжается по высшему пилотажу. Отоварившиеся выходили с полными сумками, сегодня завезли свиные ножки, говяжью печенку и цыплят. Меня заметила одна из бухгалтерш, прибежавшая узнать ассортимент, и потащила за рукав: что ты здесь стоишь? Обеденный перерыв закончится, и нас обслужат без очереди.
– Пошли лучше на улицу, видишь, какой кагал сидит в одном помещении, – продолжала она. – Я наблюдала, как ты опешила, когда зашла в наш гадюшник. Говорят, тебя сватают к нам. Главное, попасть на хороший склад, где нормальные материальщики, а это такое дело, как кому повезёт. Знаешь, как здесь все дерутся между собой. Сука на сучке и сукой погоняет. Ты нархоз закончила? И моя дочка тоже, я её в НИИ засунула. Ничего хорошего, но всё же не так, как здесь.
Она буквально вцепилась в меня своим рассказом. Отсюда, как из тюрьмы, никуда не выбраться. Автобус привозит на эту ка торгу и увозит. От силы полтора часа утром занят, полтора вечером, а платит контора за десять часов, у «Интуриста» арендует и такие деньжищи перечисляют, будь здоров. Везде грабёж, иначе не да дут вообще. За собственные деньги приходится перед ним кланяться, и отовариваем его ещё, паскуду. Путевки за это? Ты что? Тут выделили одну в Болгарию, так такая драка завязалась, морды друг другу готовы были исцарапать. А ту женщину которой досталась, райком не пропустил, недостаточно политически грамотная. Чтобы на пляже там поваляться, надо решения съезда знать. На Ланжероне или в Отраде валяйся без всяких съездов. Лишь бы до пенсии дотянуть, давно бы ушла… – Я не прерывала, пусть выговорится, все-таки интересно, вспомнила Ленькин наказ: век живи – век учись. – А так, куда деваться? Без образования никуда. Может, я и больше этих с дипломами знаю, а нет бумажки, ты какашка. В чёрные бухгалтера, пожалуйста, берут.
– А это кто такие?
– Так, числятся рабочими на складе, зарплату по нарядам сдельную получают, ведут учёт. Ты у себя официально кем числишься? Фактуристом? Поэтому, как дурочка, и получаешь 65 руб лей. А они по двести гребут, а то и больше. А делаешь то же самое. Две большие разницы, поняла? Ещё и отвечаешь за отчётность перед всеми. Чуть что не так, возьмут за жопу, а с них, что с гуся вода, они рабочие, какой с них спрос? Это для тех, кто не знает, а на самом деле – доверенные люди. Но я им не завидую: язык уж стерли, так лижут за дницу начальникам и света белого не видят Здесь же круглосуточная круговерть. Железная дорога поставляет вагоны в основном ночью. Никаких денег не захочешь от такой работы. В конторе хоть автобус подадут, и пошло всё к чёрту, до следующего утра.
Эх, Леня, дорогой мой дядечка, ошибаешься, когда говоришь, что все знаешь. Это еще не все, что рассказала мне женщина. Я чувствовала, она еще не закончила свой монолог, не высказалась до конца. Только переводит дух, чтобы собраться с новыми силами. Из-за туч выглянуло солнышко, давно его не было, мы, не сговариваясь, подставили лицо его лучам. Они светили, но не грели, поздняя осень все-таки. Так захотелось весны. Очень люблю эту пору в Одессе, когда все начинает цвести, благоухать, и на море тянет, хотя бы подышать. В конце мая уже и окунуться можно, а в июне пляжи полны приезжими. Когда я понежусь на песочке в Аркадии, с этой проклятой работой накупаться вдоволь не удалось, считай, лето пропало.
– А тебя, думаешь, чего сюда послали, одну? Хвосты за ворюг подчищать, – прервала молчание женщина. – Сами лет десять тягали, а сейчас в сторонку наша хата с краю. Вот гады, халявщики. Ты думаешь, всё по-честному, акты на списание привезла и у тебя их примут? Разбежалась, никто не примет, даже не мечтай. Сами материальщики должны приехать и решить все вопросы, а они спихнули на новенькую неопытную. На полгода тебе этой беготни со всеми сверками-проверками. Поняла?
Я уже это и без неё поняла, просветилась на всю ка тушку. Как бы теперь поскорее вырваться из этой клоаки? Выяснилось, не так-то просто смотаться, если городским транспортом. Сначала через калитку в заборе, а затем вдоль него и железнодорожных путей выскакиваешь до шоссе, там ждешь рейсовый автобус, который ходит очень редко, а может, и вообще не быть, и доезжаешь до заставы. Но бухгалтерша отсоветовала, место шпанистое, окраина, одной лучше не рисковать, дождаться и со всеми уехать на «Интуристе», да и калитка может быть заперта, ее в определенный час специально открывают.
– Слушай, а тебя же с Хуторской привезли? Топай на проходную, вдруг кто-нибудь из шоферов туда едет или в центр, подхватят. Нет, все-таки оставайся здесь, вместе поедем, – новая моя знакомая оценивающе оглядела меня, – я бы свою дочку не пустила. Ты спешишь?
Хочешь чайком угощу, потом сходим отоваримся. Работяги схлынут, нам ещё что-нибудь подбросят: сырку голландского, колбаски хорошей, сладенького. Если денег нет, я одолжу, завтра вернешь, всё равно тебе сюда переться. О, лёгок на помине, наш главный приехал, спрячься, он не любит, когда мы по территории шастаем.
– Так обеденный же перерыв сейчас. Ну и жизнь, правильно говорят на Хуторской, что на Кагаты ехать только по приговору суда. Сплошные страшилки.
Только поставили вскипятить чайник, как меня позвал главный бухгалтер и опять двадцать пять: обработка по всем правилам. Так и чаю попить и прикупить что-то вкусненькое в буфете мне не удалось. Главбух не унимался, потащил меня наверх к начальнику отдела кадров. Этот товарищ, судя по всему, уже хорошо принял на грудь, и разобрать было невозможно, что он вообще говорит Потом я минут двадцать ждала в коридоре, измеряла его шагами, от волнения, что ли. И вдруг по лестнице поднимаются тётки с полными сумками, явно из буфета, и среди них та самая грудастая фурия из планового отдела.
– А тебя сюда каким ветром занесло?
Я на ходу объяснила, что привезла на списание акты по малоценке и прочим, давно подлежащим списанию материалам.
– Идём к нам!
Так я попала первый раз в плановый отдел. А эта Лилия Иосифовна, оказывается, совершенно нормальная тётка и совсем ещё не старая, такая, как моя старшая сестра. О том, что мой склад закрыли, они знали. И посоветовали не проявлять бурную деятельность. Хвосты чьи, материальщиков? Пусть у них голова болит. Слово в слово, как наставляла эта бухгалтерша. И вдруг Лилия Иосифовна меня спрашивает:
– А не хочешь к нам в отдел, у нас вакансия есть, экономист в декретный отпуск ушла. Решайся, а то свято место пусто не бывает. На кой черт тебе эта бухгалтерия? Видела, что там делается? У тебя в дипломе что написано?
– Экономист.
– То, что надо. Пойдём к нашему начальнику планового отдела, – даже не дав мне пикнуть, потянула в соседний кабинет.
За столом сидел мужчина лет так слегка за сорок, невысокого роста, явно привычной одесской национальности, рыжеватый, начинающий седеть и лысеть. Довольно игриво осмотрел меня со всех сторон и, смеясь, то ли спросил, то ли съязвил: кто к нам пожаловал? Сама Венера Милосская удостоила такой высокой чести.
Внешне это был Лейбзон номер два, все те же манеры, шуточки-прибауточки, но добродушные, и сам он не вызывал того животного страха, который люди испытывали перед Лейбзоном. И ещё он удивительно был чистоплотен. Всё на нём сверкало чистотой, начиная от ногтей на руках, заканчивая надраенными туфлями. И оба эти кабинета были просторными, светлыми, окна заставлены цветами, воздух свежий, дыши, наслаждайся.
Лилия Иосифовна тоже заулыбалась до ушей, словно приняв эстафету от своего начальника:
– Как вы считаете, нам такой кадр не помешает?
– Так зъив бы вин зъив, так хто ж ему дасть?
– Ну, вы и дайте, а так красотка вообще упорхнёт, жалеть будете. А вообще, серьёзно, конец года, столько работы, я за неё ручаюсь. Она молодец, такой объём на транзите делала. Вы же сами её хвалили.
– Не отказываюсь, особенно раки мне понравились, потом лягушки и томатная продукция.
– Но вы же сами все время повторяете: не ошибается тот, кто ничего не делает. Её сейчас сосватают в бухгалтерию, и останемся мы с носом. Главбух кадровика за горло взял, сидит, не выползает из его кабинета. Так что, если надумали, поторапливайтесь.
Я стояла как дурочка, без меня меня женили, нет, замуж поспешили выдать. Все решили распоряжаться моей судьбой по собственномужеланию. Никто даже не подумал спросить: а хочу ли я вообще здесь работать? Чтобы я тащилась каждый день за город и сидела здесь безвылазно целый день? Кому это надо? Принимают не принимают, по большому счёту, мне до сраки эти акты, так покручусь еще немного – и поминайте как звали. Поскорее бы эту проклятую трудовую книжку получить, а там – чао! гуд бай! до свидания!
Глазки начальника планового отдела блеснули кокетливой улыбочкой бывалого ловеласа. Он привстал, подтянул животик и пожал мне руку. Меня смех раздирал – и этот тоже росточком явно не вышел, да и вообще ещё тот красавчик. Что за день такой невезучий?
Как невезучий? За мою личность, оказалось, боролись сразу три претендента. Лейбзон был в этом списке первым. По каким-то сообряжениям я нужна была ему на Xуторской, решил пристроить меня на какой-то склад. Но для себя я сразу решила – больше никаких складов, хватит. Вторым был главный бухгалтер, не оставляющий надежду найти и воспитать себе замену, а замыкали тройку плановики. Особенно старалась Лилия Иосифовна.
На домашнем совете решили, что, пока суть да дело, нужно соглашаться на плановый, чтобы не загреметь в какую-нибудь ещё историю. И со следующего понедельника я была зачислена в отдел экономистом. Мне достался такой участок, что день пролетал как одно мгновение. Сначала я только замечала, как пролетала рабочая неделя, от одного выходного до следующего. Потом жизнь укладывалась в месяц: от сдачи одной отчетности до другой. Окончательный отсчёт времени в моей жизни определяться стал квартальными отчётами. В конце концов, к двадцати пяти годам выпускница института народного хозяйства, получившая на работе первое шутливое прозвище Венера Милосская-безрукая за то, что не умела считать на счётах, превратилась в начальника планового отдела, за глаза именуемой Мегерой Иосифовной.
Такая база была одна на всю Одессу. Махина, а не предприятие, в этой отрасли самое мощное хозяйство в городе, почти три тысячи работников. Из Кишинева известили, что ко мне нет претензий, подъемные и проездные еще за долго до этого я все вернула, а в столь долгожданную трудовую книжку последовательно были внесены четыре записи: учетчица, фактуровщица, экономист, старший экономист и самая свежая – начальник планового отдела. И бежать уже никуда не хотелось.
Если много знал – под расстрел
Я стояла на трамвайной остановке Первой станции большого Фонтана, ждала трамвай, чтобы поехать домой после института. Трамваев не было видно ни со стороны Куликова поля, ни со стороны Фонтана. Старая история: как только в Одессе начинается зима, видно, эти трамваи сильно мёрзнут и не выходят на линию. Напоминают некоторых хитреньких одесситов, которые, чуть похолодает, берут больничный и дома чаи гоняют – лечатся.
Ветер хорошо продувал улицы, благо ему в городе есть где разгуляться. Забирался даже под мою новую шубку которую мне справили по случаю поступления в институт. Алка купила синтетический мех цвета вылупившегося из яйца цыплёнка, и мне сшили не то паль то, не то шубу. И ещё хватило на пришибленную шапочку из оставшихся обрезков. Шапку я, конечно, снимала с головы ещё до выхода из дома, в парадной. Там же, в парадной, она водружалась на мою голову по возвращении домой. Бабка её называла «свидетелем». Но сегодня так завывало, что пришлось с этой ненавистной, раздражавшей своим желтым цветом шапкой примириться.
Может, с автобусом на дачу Ковалевского повезет, это по пути, но он пролетел битком набитый, даже не остановился. Как быстро темнеет, уже и фонари зажглись. С переулка Александра Матросова какие-то парни, полураздетые, толкаясь, перебежали улицу по направлению к Технологическому институту. На студентов из моего сельхоза они не были похожи. Про себя решила, что это ребята из политеха. Наши общаги рядом находились в одном квартале, а сам политех в начале бульвара Тараса Шевченко. Приглядевшись, заметила, что и другие прохожие, минуя остановку, потянулись к технологическому. Я знала, там часто крутили фильмы, которые нигде больше не посмотришь. И проводили разные вечера, но посторонних не пускали, только своих. Неужели и сегодня какое-то интересное мероприятие?
Вдруг рядом со мной тормознуло такси. Из него вынырнул Сенька с Приморского бульвара, не знаю почему, но к нему приклеилось обидное прозвище «гнида». Он был с какими-то парнями, мне показалось, я их раньше тоже видела на бульваре. Все вместе они no-деловому быстрым шагом почесали в сторону технологического. Вообще у меня с Сенькой неплохие сложились отношения. Поначалу он ко мне пытался клеиться, приставал, даже начал запугивать. Но моя подружка, как бы между прочим, нашептала ему что мой дядька чуть ли не главный в уголовном розыске, и Сенька в момент к нам переменился. Такой любезный стал – куда там, демонстративно приветствовал, по собственной инициативе «Мальборо» угощал бесплатно.
Шубка не спасала, я начала замерзать, а трамвая все не было. Вместо него к остановке припарковалась черная «Волга», из неё высыпало четверо молодых парней и странно рассыпались веером. Один из них отошел назад метров на пять, другой, подняв воротник, пританцовывая и кружась вокруг своей оси, остался стоять на месте. Остальные на некоторым отдалении друг от друга потопали в сторону института. У меня не было никакого сомнения в том, что это пожаловали мальчики с Бебеля. Значит, там сегодня не просто обычный вечер или фильм, там такой фильм, который не посмотришь ни за какие деньги. Черт возьми, да успею я домой, судьба дала мне такой шанс, неужели я его сейчас упущу?
Ошибиться в принадлежности бравых ребят к КГБ уж кто-кто, а я никак не могла. У моей сестры Алки есть на работе подружка Ленка Довбненко, вот у неё любимое занятие узнавать в толпе этих франтов. Алкино СУ-51 расположено в нескольких кварталах от улицы Бебеля, где и находится знаменитая на всю Одессу резиденция небезызвестных органов. Улица сама по себе небольшая, однако считается в городе самой длинной по всем известному в Одессе анекдоту. Спрашивают одного еврея в Одессе: «Какая у вас самая длинная улица?» Не моргнув глазом, чудак отвечает: «Бебеля». – «С чего вы взяли, что Бебеля?» – «Он ещё спрашивает!.. Один мой знакомый десять лет назад имел повод пойти на эту улицу и до сих пор не вернулся!»
Так вот, иногда днём я заскакивала к сестре на работу в обеденный перерыв. Мы прошвыривались по магазинам, а потом перекусывали на Ленина в уютном по тем временам кафе. Занимали всегда стоячий столику большого окна и наб людали за публикой. Как только появлялись сотрудники «оттуда», из «конторы глубокого бурения», Ленка сразу начинала вполголоса комментировать обстановку.
– Олька, видишь на том углу кадра в серой шляпе, а на противоположном – другого. Работают ребята, никогда по одному не ходят.
У Ленки никогда проколов не было, она за столько лет просто знала многих в лицо; да, если приглядишься, они точно между собой похожи были. Не внешностью, а взглядом, манерами. Однажды такой забавный случай приключился. Мы привыкли наблюдать за ними на у лице, а тут четвёрка борзых одновременно забежала в кафе, заняла столик рядом с нами. Мы от страха замерли, подумали: ну всё, кранты – доигрались, нас вычислили. А оказалось, всё значительно проще, у них была получка, и они решили побаловать себя кофе с пирожными. Еще пытались поухаживать за Ленкой, если честно, самой симпатичной среди нас. Ею можно было любоваться часами, настоящая украинская красавица, пышногрудая, с матовой загоревшей кожей, живыми карими глазами, маленьким алым ртом в ехидной улыбочке. Да ещё над верхней губой аккуратненькая родинка.
Сейчас, раз и эти мальчики потопали в технологический, это неспроста, как пить дать. И что я ждала «у моря погоды», этот проклятый трамвай, давно надо было подрулить на посадку. Стояла, как дура, раздумывала ещё. Дождалась, когда соберётся огромная толпа у здания института. К кассам не пробиться. Узнать бы теперь, какой фильм. Афиш никаких. Пару раз спросила, на меня посмотрели, как на подстреленную, ничего не ответили. Все вокруг спрашивают билетики, предлагают любые деньги. Что за дела? Вот так номер, чтоб я помер. Краем уха услышала, что вроде это вечер Высоцкого. Концерт закрытый, никто о нём не знает. Может, это и пушка. А может, специально подстроено, чтобы всех переписать. Разговоры всякие в толпе просачивались.
Тем временем те, кто с билетами, счастливчики, опустив голову, быстро продвигались сквозь плотную толпу и, не задерживаясь, скрывались за массивной дверью. Я узнала известного в Одессе волейбольного тренера Юрия Курильского с женой в каракулевой шубке. Ошибиться не могла, они оба были без головных уборов, и я хорошо их рассмотрела. Что делать? Одна надежда на Сеньку. Если он ещё не прошёл вовнутрь, то делает свой маленький гешефт, где-нибудь в сторонке, без лишних глаз. Наверное, за билет таких бабок требует, каких у меня сроду не было. Может, пожалеет, сбросит цену или в долг продаст, он же меня знает. Сенька, парень очень ценный, где ты?
Только так подумала, как вдруг прямо передо мной нарисовался во всей красе этот парень областного центра, а сокращённо – поц.
– Сенечка, помоги, я с тобой потом рассчитаюсь!
Не знаю, может, Сенька и выручил бы, но толпа поглотила его, оттеснила от меня, я только увидела, как он успел юркнуть в заветную дверь, и она тут же захлопнулась.
Трамваи пошли один за другим в обе стороны, как будто бы только и ждали приказа: полный вперёд! Толпа развернулась в сторону Куликова поля и медленно потекла к центру города.
– Вы хотите попасть на концерт Высоцкого?
За моей спиной стоял парень из веерной четвёрки, которая подвалила к институту на «Волге». Я его сразу признала.
– Зачем же плакать? У вас тушь потекла, сейчас глазки защиплет. Вы так любите Высоцкого?
Столько сразу вопросов на одну мою голову, да ещё от кого!
– Это слёзы от ветра и снега, тушь плохая.
– Как вас зовут?
Я кокетливо опустила глаза, соображая, сбежать сразу или пронюхать, с какого боку он подступится.
– Вы в этом институте учитесь?
– Нет!
– А откуда вы узнали про концерт?
– А я и не знала.
– Что же вы здесь делаете? – Он внимательно посмотрел на мой моднющий громадный желтый портфель.
– Я вчера с парнем познакомилась, он пригласил меня сюда. Сказал, что для меня будет большой сюрприз, а сам не пришёл. Там будет интересно?
– Это как для кого…
Он явно потерял ко мне всякий интерес. Но пора было брать инициативу в свои руки. О, если бы я видела себя со стороны. Тушь размазалась, нос покраснел от холода и начал подло булькать соплями. Обстановка критическая, ещё поскользнулась и сделала вид, что подвернула ногу. Нахально попросила вытереть мне платком на морде тушь. Этого парень никак не ожидал. Всё оглядывался, видно, пора было ему уже сваливать, а я мёртвой хваткой вцепилась в несчастного. Ещё стала спрашивать, нагло прикалываясь: этот Высоцкий кто – поэт или артист?
– Ладно, пошли, что с тобой делать.
И мы пошли вдоль здания, завернули за угол к запасному выходу. По узкой лестнице попали в переполненный зал. Пустая сцена была слабо освещена. На ней кроме микрофона и одиноко стоящего стула ничего не было. Вдруг стремительно вылетел невысокий мужчина с гитарой в руке. Гудящий муравейник зрителей моментально притих. Тихим сиплым голосом мужчина поздоровался, положил инструмент на стул. И стал потирать одной рукой кулак другой. При этом он что-то говорил, видно, мимо микрофона, потому что ничего не было слышно. Но зрители первых рядов громко смеялись. Я так поняла, что он шутил по поводу «солнечной Одессы», которая сегодня по погоде покруче будет зимы сибирской. Что он никак не мог к нам долететь, поэтому извинялся. Ещё он Одессу назвал капризной, как и подобает быть красивой женщине. Опять половина зала смеялась, но на галёрке почти ничего не было слышно. Попросили его говорить в микрофон, который немного позванивал и шипел. На сцену выскочил паренёк, поправил микрофон, несколько раз повторил: раз-два, раз-два. Высоцкий, подмигнув зрителям, указывая рукой на паренька, произнёс: «Начало положено».
Удивительно, как этот человек, невысокого роста, в простом свитере, мгновенно, ещё не начав петь, расположил себе зал. На сцене он совершенно не соответствовал тому образу, который я для себя придумала, слушая записи его песен по магнитофону Я его воображала эдаким Петром Первым или громадным Распутиным, каким-нибудь демоном во плоти, но никак не невысокого роста, совсем не симпатичным лицом мужчиной. Только идеально отутюженные брюки и блестяще начищенные туфли отличали его внешне от одесского биндюжника. Я даже расстроилась. Видеть особенно нечего было. Стоит один на сцене, в руках гитара, перебирает струны, немного настраивает. Потом спросил у зала, утех, кто в первых рядах, что бы они хотели услышать.
Не знаю, что они ему сказали, и он запел. На пение в моём понимании это было не совсем похоже, скорее он просто заорал с такой силой, что казалось, сейчас здесь его грудь разорвётся. И он достанет из неё своё бьющееся живое сердце и отдаст его нам – людям, как Данко. Меня бил озноб, я почему-то за него боялась. Он уже не казался мне таким маленьким, его некрасивое, но неимоверно мужественное лицо приковывало с такой силой, что больше ничего в мире не существовало, кроме этого лица, кроме этого рта, этих рук, рвущих струны навзрыд. Я видела его мощный торс, мышцы бицепсов под свитером, эту бычью шею со вздувшимися жилами, и мои мозги сами вместе с ним пели его песни. Я улыбалась, когда улыбался он, сложно было расслышать, что он говорил, отходя от микрофона. Ему почти не хлопали, только ждали следующую песню. Хотелось слушать его дальше и дальше. Он постоянно обращался к публике, спрашивал, что ещё исполнить, кивал головой, улыбался и, крепко вдавив ногу в стул, продолжал необычным тембром и рвущей на части связки хрипотцой в голосе будоражить и заводить зал.
Не знаю, сколько длился этот концерт, люди сидели и стояли не шелохнувшись. Мне хотелось, чтобы все, как я, поняли и полюбили на всю жизнь этого по-настоящему талантливого и мужественного, истинно народного артиста. Самому последнему идиоту должно быть ясно, что в каждом его даже блатном стихе звучит протест против существующего строя. Как только раньше я этого не замечала? А как можно было заметить, ведь в обороте крутилось всего несколько песен на всю Одессу А то, что спето сегодня в технологическом, завтра уже будет знать весь город.
Я был душой дурного общества, И я могу сказать тебе: Мою фамилью-имя-отчество Прекрасно знали в КГБ.Я стала потихоньку искать глазами своего знакомого, он неподвижно стоял, прислонившись к стене, не отрываясь, смотрел на опасного московского гостя. А Высоцкий продолжал:
Так оно и есть — Словно встарь, словно встарь: Если шел вразрез — На фонарь, на фонарь, Если воровал — Значит, сел, значит, сел, Если много знал — Под расстрел, под расстрел!Мною овладел страх, я не сомневалась, что сейчас на сцену выйдут эти кэгэбэшники с «кровавыми мальчиками в глазах» и уведут Высоцкого под белы рученьки. Уже, наверное, и приказ сверху спустили. Я стала опять искать своего проводника, но на прежнем месте «его больше не стояло». Неужели его заберут прямо со сцены, нет, не решатся, здесь очень много народу. Все возбуждены, люди бросятся на его защиту. Весь зал гремит, это не аплодисменты, это гром небесный. Вот это талант настоящий! Да какой! За таким не грех пойти на край света, и какое значение имеет его рост, лицо-то мужественное какое. Интересно, женат ли он, если да, то кто его жена. У такого мужчины и жена должна быть необыкновенной.
Концерт закончился, все повскакивали со своих мест, такая давка началась – ужас. Я с того же запасного выхода пробилась на улицу. Ветер стих, свободное от облаков морозное небо со звёздами освещало чистый искрящийся снег, который поскрипывал под ногами. Я шла без шапки, пытаясь остудить свою взбудораженную голову. Теперь я знала: б латные песни – это прикрытие. Он поёт совсем о другом, о главном, настоящем. Он высмеивает наше общество, он насквозь видит этих «жадною толпой стоящих у трона». Он смеётся над ними от имени народа. Они ему это не простят. Где-нибудь втихую загребут точно. В башке стучало: не простят – сгноят, не простят – сгноят. Я так была возбуждена, что не могла никак заснуть. А потом во сне как заору что перепугала всех своих домочадцев, даже собаку Дружка и кота Бульку.
Неделю после концерта не могла в себя прийти. В институте на лекциях уносилась в воспоминаниях о Высоцком. Такой талант, и совсем не зазнался. Как он буднично, по-простому рассказывал о себе. Ничего не скрывая, не приукрашивая. Интересно, что должно происходить с человеком, когда где-то внутри зарождаются такие строчки. Если только, когда прочувствуешь слова этих песен, отнимаются ноги в прямом смысле слова.
Собственный магнитофон мне пока не светил (лишних денег в семье не было), и, что скрывать, я завидовала тем, у кого они были. По ранней весне запись этого концерта Высоцкого на полную громкость крутила вся Одесса. Окна нараспашку, а оттуда разухабистый голос с хрипотцой. Я шла по родному городу и наслаждалась им. Талантище! В Москву куда переехала, выйдя замуж, на память о том выступлении захватила кассету (приобрела у Сеньки-гниды, он фарцевал ими, конечно, из-под полы, у комиссионок, на базарах, толчке). Но еще раз увидеть воочию и послушать Высоцкого не посчастливилось – попасть в Театр на Таганке было даже сложнее, чем в Оружейную палату Кремля. Удалось только, отстояв огромную траурную очередь, попрощаться с ним, когда в июле восьмидесятого Москва провожала Поэта и Артиста в последний путь.
И сегодня время не властно над его памятью.
…А песню-мост Москва – Одесса Высоцкий написал. Открыты все города – от Лондона до Владивостока, но ему туда не надо, ему в Одессу надо позарез:
Но опять задержка рейса, И нас обратно к прошлому ведет Вся стройная, как ТУ, Та стюардесса мисс Одесса, Похожая на весь гражданский флот.Эдита Пьеха
Юрка Морозенко, наш диспетчер по железнодорожному транспорту, предложил достать билеты в филармонию и несколько раз переспросил, пойду ли.
– А на что?
– Ты что, не слышала: «Дружба» из Ленинграда приезжает. Модный ансамбль. Почти всю страну объездил, наконец до нас добрался. У них солистка иностранка, француженка или полька, так толком никто и не знает.
– Как зовут ее?
– Фамилия у нее какая-то странная, не наша точно: Эдита Пьеха. Звучит как Эдит Пиаф, под нее, говорят, косит.
Я пожала плечами.
– Ну, ты, подруга, даёшь, не знаешь Диту?
Я знала одну Диту – Утесовскую дочь, так ее все у нас ласково называли и наслаждались, когда они дуэтом желали спокойной ночи дорогим москвичам. Но расклеенных по городу афиш с ее и папиным именем не видела, Утесовы в последнее время не так часто наведывались в Одессу, других гастролей хватало. А Юрка-то сейчас не о них. Эти одесские штучки фамильярно, так, между прочим, называть совсем чужих людей, с которыми вовсе не знаком, в жизни не видел, мою сестру приводили всегда в бешенство. Она никогда этого не прощала и вставляла такому пижону по полной программе. Я с ней не часто соглашалась, но в этом была полностью солидарна. Глядя на молодящегося, давно за тридцать, юношу, ещё и с этими усиками – «мы молодые пупсики, у нас пробились усики, но не пробился ум», так и подмывало всадить ему культурно-интеллигентно меж самых глаз. Мило улыбаясь, я спросила Морозенко:
– А ты что, с ней лично знаком?
Слегка покраснев, он стал выкручиваться: мол, какая разница?
– Я, например, лично не знакома. И ты тоже, чтобы небрежно Дитой величать.
– Придира ты, Ольга, что к словам прицепилась. Я так, без всякого. Я на пластинке их слушал. Она классно джаз поет, и оркестр полный отпад. Ну что, пойдешь, билет могу достать.
– Сама куплю, если соберусь.
– Ой, не переоцениваешь ли себя. Подъезжай к кассам, увидишь, какой ажиотаж, похлеще, чем на матч «Черноморца» с киевским «Динамо» или «Спартаком». Весь город рвется. Если только дядька твой поможет, милиция вне очереди.
Я и не думала обращаться к дядьке. Не смогу достать – значит, обойдусь, по телевизору, наверное, все равно покажут. Ещё не хватало мне с этим фраером росточком по резинку от трусов по концертам шастать. Девки мои увидят – засмеют, не могла, что ли, поприличнее кавалера найти. «А давай я попрошу два, иначе не пойду», – мелькнуло в голове.
У Юрки лицо передёрнулось:
– Могу предложить только один билет, второй для себя.
Я снова представила на минуточку эту парочку – себя и Юрку. Пат и Паташон. Но, с другой стороны, мне не хотелось обижать единственного по-настоящему преданного мне человека в этой помойной яме, плодоовощной базе на Хуторской улице, которую даже улицей называть язык не поворачивается.
– Юра, не злись, ты же знаешь, как я пойду сама, а Алка с носом останется, мы ведь на такие вещи всегда с сестрой вместе ходим. Спасибо, без неё не пойду, предложи билет кому-нибудь другому.
Его лицо вдруг засияло, как будто бы солнышко об ласкало своими лучами.
– Понял, будет ещё один. Нет вопросов! Я-то решил, что ты для ухажера своего выспрашиваешь, зачем мне надламываться для него. А для Алки – это святое, ты же сама все время говоришь: умница у тебя сестричка, только колкая на язык. В общем, жду вас у филармонии.
Юрка схватил свою сумку, помахал мне рукой и был таков. Я вернулась к себе на рабочее место и здесь же позвонила сестре: идем с тобой на «Дружбу». Юрка Морозенко божился билеты достать.
– Оля, узнай, почём. Нам тоже приносили, с такой переплатой, что все отказались. Спекулянты совсем обнаглели.
Моя начальница, слушая разговор с сестрой, только усмехалась своей золотозубой улыбочкой: – Это кто ж вас пригласил? Богатей какой бескорыстный нашёлся?
– Юрка.
– Бесплатно? – не унималась начальница, завистливая старшая кладовщица.
– Почему бесплатно, отдам ему деньги.
– Боюсь, зарплаты твоей не хватит. Там, у Лейбзона, барыга торгует, обалдеть можно.
– Почём? – я обомлела.
– Ты что, глухая? По сотке – и все разобрали. С ума сойти можно. А шо им пару соток отвалить, зато в каком бомонде покрутятся. Им же надо своих марфут проветрить. Сходи, насмотришься на гирлянды.
– Какие гирлянды?
– Как увидишь – поймешь, какие… Что к чему разберешься.
Как ни выпытывала у несчастного Юрки, сколько на самом деле он заплатил, он, как Зоя Космодемьянская, так и не признался. Только клялся, что у никаких спекулянтов билетов не покупал. У меня свои источники, не без гордости заявил мой «кавалер».
– А на что мы здесь работаем и с нужными людьми дружим? И они к нам не только за солеными огурчиками обращаются. Железная дорога всё может. «Железка» – это государство в государстве. Поняла?
Я не стала выяснять, зачем, как-нибудь потом расскажет. На билетах стояла обыкновенная цена.
Уж мы принарядились, как только могли. Намотали на шеи деревянные моднющие бусы, на руки такие же браслеты. Крутились у зеркала, чуть не опоздали. Пришлось с шиком на такси к филармонии подкатить.
Толпа у филармонии говорила сама за себя. Мы с Алкой были единственными, кто припёрся в болоньих плащах, ещё и в таких же припоцанных косыночках от дождя. Шикарная публика группировалась целыми компаниями. Женщины в вечерних платьях с накинутыми на плечи громадными мохеровыми шарфами, с длиннющим натуральным пухом птиц эму. Таких тёток иначе как «дамы» и назвать нельзя. У всех подряд дорогущие, в тон нарядам театральные сумочки, одна прелестнее другой, такие же туфельки. Мужчины были им под стать. Никогда еще я не видела такого количества элегантных и холёных джентльменов в лакированной обуви с острыми носами, в таких модных блестящих костюмах. Как они торжественно над своими дамами держали разноцветные зонтики. Со стороны казалось, здесь снимается какой-то очередной американский фильм про мафию, из тех, что изредка крутили тог да в кинотеатрах. И нагнали для антуража такую разодетую массовку с липовыми украшениями.
Алка меня одёрнула: рот закрой, что на них уставилась? Лучше своего Юрку найди. Да вот он и сам вынырнул из гущи этой роскошной публики, мой рыцарь печального образа. Алка только и вздохула: о, господи! Нда…
Я все поняла без слов, перехватила этот критически оценивающий взгляд сестры. Наш кавалер был при полном при пара де – в дорогом костюме, с напомаженными бриолином волосами иссиня-чёрного цвета и ниточкой усиков над верхней губой. Но даже не это вызвало у Алки вздох разочарования – он оказался ещё ниже моей совсем невысокой сестры. Как говорят: без слез не глянешь. Её глазки, состоящие из громадных двух голубых плошек, стрельнули по Юркиным ногам. Он был на высоченных каб луках. Видно, у очень хорошего сапожника заказал себе выходные туфли на толстенной подошве и ещё попросил набить повыше каблук.
Я представила его Алке, он тут же поцеловал ей руку и сразу затараторил в темпе быстрого фокстрота, чувствовалось, пытается произвести на сестру впечатление. Вот и хорошо, воспользовавшись ситуацией, я сдвинулась в сторону, делая вид, что моя ха та с краю, я ничего не знаю. Алка уловила мой маневр, ехидно мне улыбнулась, поняла, ей надо выручать свою бедненькую младшенькую. Что ж, вызову огонь на себя, пороха хватит. Как же мы были с ней похожи, родные души. Нет, не внешне – внутренне, даже ни словом не перебросившись, могли прочувствовать настроение друг друга.
Я любовалась её лицом, её правильными чертами, лёгкой саркастической улыбкой и отвернулась, чтобы Юрка не видел, как еле сдерживаю смех.
Но нельзя перебарщивать, и Алка уже злится, перебор с этой затянувшейся ролью, не дай бог, еще шуранёт сейчас кавалера.
Юрочка вдруг взмахнул рукой и обрадованно так, без всякой иронии произнёс:
– Так, все наши здесь, Ольга, не узнаёшь? Нет? Присмотрись повнимательней к мужской половине человечества. Только «полтора жида» не пришёл, он в кресло не помещается.
Юрка не то что засмеялся – заржал; зав. винным складом, которого в нашей конторе все только так и звали за его несусветный объем живота, пожиравшего все, что попадется под руку, никогда не ходил ни на какие мероприятия.
– Юр, да нет здесь моих знакомых.
– Как нет? Неужели фраеров этих со второго склада не узнаешь? Просто они приоделись. А эти две блондинки крашеные в палантинах их жёны.
Как можно было в этих шикарно одетых мужиках, все как один в дакроновых костюмах, в лаковых туфлях, белоснежных рубашках с кричащими стиляжными галстуками, признать тех кладовщиков, завмагов, товароведов, носящихся на работе в просаленных халатах и фуфайках, в задрипанной, с дырками и стертыми скособоченными каблуками обуви. Адамы, которых они сопровождали, не поддавались вообще с первого взгляда никакому описанию. Прав Юрка, всё кодло торговое собралось, весь одесский бомонд, даже он такого сборища ещё не видел, а ведь крутится вокруг него, старается ничего не пропустить.
Алка замерла с каменным лицом. Удивление и раздражение одновременно читалось на нем, и вдруг тонкая, еле заметная улыбочка оживила его: ну и компания у тебя, Олька. И два слова с ехидством: завидую по полной программе.
Я только закатила глазки к небу. Оттуда, из-за легких облаков, настойчиво накрапывал нудный мелкий дождь, однако толпа у входа в филармонию не расходилась, подъезжала новая публика, старая расступалась, вовлекая ее в свои ряды. Они явно не торопились в зал, хотя второй звонок давно зазывал всех вовнутрь. Переглядывались, жлобствовали: ничего, подождут, без нас не начнут.
– Алка, прошу тебя, не заводись, не надсмехайся над Юрой, – взмолилась я. – Ты сама в «Литературке» читала недавно: «Берегите мужчин». Давай его побережём, он хороший товарищ.
Сестра, казалось, меня не слышала.
– Развернись. Товарищ у тебя есть, теперь советую приобрести ещё собачку. Лучше беленького шпица, чтобы уже полностью соответствовать роли «Дамы с собачкой», лакей у тебя уже есть.
Я ничего не понимала. При чём здесь шпиц, чему соответствовать?
– Может, он всем хорош, твой друг с Хуторской, но наблюдать за ним противно. Смотри, как он подобострастно перед всеми извивается. Такой маленький, с этими блестящими от бриолина волосами. Эти каблучки и платформа, о них вообще молчу. Как в Одессе говорят: «Держите меня в заду, бо я вперед упаду».
– Ну и ехидина ты, сейчас ему деньги за билеты отдам и уйду– у меня даже изменился голос, стал каким-то писклявым.
На Алку угрозы мало подействовали. С каким-то наслаждением она продолжала: если не хватит, добавлю. И щёлкнула замком сумочки.
Как сестрица меня, однако, подначила, с каким тонким намёком поимела. Мне хотелось во что бы то ни стало взять реванш, но я тогда быстро не сообразила как, вертелось в голове что-то, но что конкретно, не могла вытянуть. Сказать, что мне не нравится «ее» Алексей Баталов, которого Алка обожала, уж больно он какой-то правильный… Не тот случай, когда повторенье – мать ученья, это уже проходили. Она мне в ответ нелицеприятное про «моего» Ланового с Павкой Корчагиным. Спорили до хрипоты, иногда даже ужинать вместе не садились. Ленка Довбненко, Алкина подружка, разнимала нас: оба – замечательные актеры. Конечно, замечательные. Великолепные, но никому сдаваться не хотелось.
– Хватит, Олька, идём «подружимся» с Дитой, раз уж пришли.
В зал мы протискивались веселой гурьбой вместе со всей этой компанией мелких лавочников с их разодетыми женами и прочими домочадцами. Почти у самой двери со строгой контролершей, тщательно рассматривавшей каждый квиток, кто-то дернул меня за рукав.
– Лишний билетик никому не нужен? – мне нагло улыбался кладовщик с третьего склада общественного питания.
– Опоздал, у нас есть!
– Кто же так осчастливил нашу Венеру Милосскую? Юрка? Молчу, не буду мешать вашему безоблачному счастью, – он даже присвистнул, наверное, от неожиданности.
Мы в этой толчее не вошли, а, подпираемые сзади, протиснулись боком в просторное фойе. В давке никто даже не взглянул на наши билеты, бедную контролершу пожилую женщину, которая столько все видела и слышала в этом замечательном зале, вообще чуть ли не смели.
Ну и шедевр – здание филармонии! Бывшая одесская биржа, жемчужина архитектуры. Интересно, в какую копейку обошлась вся эта красота купцам и банкирам. Но большую часть публики все это мало волновало. К буфету было не пробиться, как будто народ приехал из голодного края. «Ольга, наши кладовщики первые в очереди, давай попросим их и нам по бокалу шампанского взять», – предложил Юрка. Мы с Алкой отказались. Мужики отлетали от прилавка с полными бутылками и гранёными стаканами. Специально прийти в филармонию, чтобы лакать эту шипучку? А особо прожорливые дамы нервно запихивали в рот пирожные, стряхивая с грудей сахарную пудру.
Глядя на это, Алка мурлыкала: веселится и ликует весь народ, веселится и ликует весь народ.
– По-моему, дорогая сестренка, в своих болоньевых плащах, деревянных бусах и браслетах мы на этом празднике жизни единственные.
А как мы на эти бусы любовались в «Работнице» и в таллинском «Силуэте», как мечтали иметь такие же, они казались нам верхом совершенства. А когда Алка наконец достала бусы чехословацкого производства, были на седьмом небе. Еще бы: самые модные барышни на всём Большом Фонтане. Может, еще кто-то носил такие, но мы не замечали.
Билеты у нас были почти в конце зала, но оттуда хорошо было видно, как публика первых рядов важно и вальяжно рассаживалась по своим местам, продолжая между собой общаться через ряды, стоя демонстрировать свои уши, руки, шеи. От обилия сверкающих гигантских камней на пальцах дам и «котлов» у мужчин с перстнями по всему залу заметались солнечные зайчики, как в цирке, когда под куполом вращается зеркальный шар из кусочков битого зеркала и на арену по стенам цирка сползает снег. Сейчас в филармонии эффект был куда более яркий. Сверкало и благоухало всё. Мы с сестрой забились на свои места и знакомились с программкой, попрятав свои сумки под ноги. Не сговариваясь, не глядя друг на дружку, сняли с шей свои модные деревянные бусы, стянули с рук такие же браслеты.
Краем глаза я всё же выискивала своего кавалера, и когда наконец обнаружила, меня словно током прибило. Я завидела его, протискивающегося по пятому ряду, который уже почти полностью расселся. Юрка как-то чересчур услужливо, как мне казалось, подбрасывая брови вместе с глазками от удовольствия кверху, целовал руки женщинам, что-то лепетал, наверное, расточал комплименты, склонялся над какими-то мужиками, что-то шепча им на ух о, но те быстро отталкивали его от себя. Я чувствовала себя так, как, вероятно, чувствовала и сыграла такую роль Ия Савина в «Даме с собачкой», имея мужа лакея. О, боже, уже не первый раз повторяла я про себя, как хорошо, что Алка, увлеченная чтением программки, этого не видит.
Наконец зал угомонился. Все, что можно, было уже продемонстрировано, только дамы, то одна, то другая, поправляли сзади свои халы, букли, шиньоны и парики ручками, щедро усыпанными колечками. Уже при потушенном свете вернулся наш неотразимый, вероятно, очень довольный произведенным собой впечатлением.
– Столько знакомых, столько знакомых, годами не встречались. Видела?
– Да видела, успокойся, весь твой «парад алле!»
Юрка заткнулся, но всё его тело продолжало ещё поддёргиваться от нахлынувшего счастья неожиданных встреч с нужными людьми, многие, наверное, и не помнят, как его зовут и кто он вообще такой.
Ансамбль «Дружба» превзошла все мои ожидания. Зал ревел, не переставал бисировать, можно даже сказать, бился в истерике в полном смысле этого слова. Что не песня – то каскад счастья на тебя обрушивается. Восторг и браво! От ребят невозможно глаз оторвать. Эстонец особенно приглянулся. Высокий, стройный, элегантный. Голос бархатный, так и льется. А Броневицкий какой блестящий импровизатор! Я не очень-то люблю джаз, а тут завороженно смотрела, как он играл, пальцы бегали по клавишам со скоростью звука. А еще ведь и оркестром дирижировал.
От француженки с ее приятным прононсом вообще с ума сойти. Ничего подобного раньше не слышала. У нас, конечно, тоже были приличные певицы: Нина Дорда, Ирина Бржевская, Капитолина Лазаренко. Гелену Великанову всегда приятно было слушать, когда она приезжала в Одессу. Но здесь было что-то новое, необычное. Когда первый раз вышла на сцену, все обалдели: не неотразимая красавица, но все равно богиня с необыкновенной прической и по-особенному подведенными глазами. Очаровательная статуэтка, фигурка точеная, ножки стройненькие. Во всем чувствовался вкус. Платьица на первый взгляд простенькие, но сидят на ней только так, смотрится в них современно и стильно, хотя совершенно без всяких украшений. Алка водрузила сумку на коленки и стала прямо на программке срисовывать фасоны, выделяя вытачки и окантовочки. Отдельно на листочке помечала цвет вставок, какие пуговицы, молнии. Я тоже лихорадочно старалась делать наброски, что-то успела, но не все, Пьеха каждый раз переодевалась в новое.
Первое отделение пролетело, как одно мгновение. Зал неистовствовал, мы с Алкой даже удивились, что мужчины со своими экзальтированными дамочками не торопились рвануть в буфет. Наш кавалер, как только зажёгся свет, даже не вскочил, а взлетел с места и долго-долго хлопал. Но как только увидел выходящую из зала публику с первых рядов, мигом кинулся за ними. В фойе все чинно ходили по кругу, словно по подиуму, продолжая демонстрировать свои наряды и цацки. На фоне того, что мы только сейчас видели на сцене, это казалось полным уродством. Мы отошли в сторонку и наблюдали. Юрка подбежал к нам, скорее, наверное, для приличия пригласил промочить горло, выпить по фужеру шампанского. Нашему отказу он, несомненно, не скрывая, обрадовался и отчалил к каким-то мужчинам, спешившим на улицу, наверное, покурить. Я с трудом узрела в них до неузнаваемости изменившихся сотрудников с плодоовощной базы.
Неприятнее всего было наблюдать, как они с объятиями и поцелуями приветствовали друг друга. «Аркашенька, здравствуй дорогой, ты с кем, с супругой?» Слизняки паршивые. Как будто бы не они не далее как вчера цапались на работе из-за товара, кому-то апельсины перепали, а кто-то картошкой с капустой утерся, не очень-то на овощах наваришь. И вырывали друг у друга эти билеты, крыли матом почём свет стоит друг друга, разводили сплетни. Нет, эта до сих пор неведомая мне золотая молодёжь Одессы – не мои герои. Не похожи они на Бровкиных, едущих на целину, ни на студенток, с которыми училась в институте. Мои однокурсницы по институту все были приезжими, одесситок среди них не было. Девочки, которые проживали в одной комнате общаги, складывали вместе свои стипендии. Какую-то сумму оставляли на еду, а остальной по очереди пользовались, чтобы купить себе что-то из одежды. А как собирали на свидание! Отдавали свои все самые лучшие вещи, лишь бы подружка приглянулась молодому человеку.
Когда к концу месяца чуть ли не половина моей группы не приходила на занятия, я точно знала: девчонки лежат голодные и экономят свои силы. Бабка, вздыхая, давала мне трёшку ещё тайно в коридоре я прихватывала большую банку варенья и отправлялась в общагу переписывать конспекты или вместе позаниматься. На те три рубля мы покупали картошки, жарили ее на сале со шкварками и ели с солёными огурцами. Что теперь скрывать, выпивали и по чарке ужасно вонючего самогона из свеклы, который девочки привозили из своих сел и деревень в обыкновенных грелках. А потом гурьбой неслись в Аркадию, где нас гоняли пограничники, так, для порядка, при темноте ведь тогда не разрешалось находиться на берегу.
На самом деле им очень хотелось с нами, студентками, познакомиться. Почти же наши ровесники. Жаль, что так быстро пробежало то незабываемое время. Институт окончен, мои однокурсницы разъехались по своим Санкт-гусарбургам, так они насмешливо называли свои деревни.
А эти? Чем они заслужили такие наряды и украшения? Молодые, расплывшиеся не по годам, они превратились в подобие своих папаш и особенно мамаш, которые могли бы послужить прообразом мадам Грицацуевой из «12 стульев».
Второе отделение затмило первое, там уже полностью господствовала Эдита, а ансамбль только и делал, что ей подпевал. Одесса приняла, боготворила Пьеху Не все могли попасть на её концерт. И в отместку за это, что ли, на следующий день разлетелся по городу анекдот, который ради приличия я пересказывать не стану. Тысячу раз прошу прощения, уважаемая и любимая мною и одесситами Эдита Станиславовна, но из песни слов не выкинуть. Прижилось, к сожалению, это выражение, вовсе оно не крылатое, отвратительное, не делает чести городу. Но что поделаешь, если на гастролях самых популярных артистов эстрады, кино и театра в первых рядах, как по Райкину сидят товаровед, завмаг, завскладом. Публика «спесифисеская». Простым зрителям билетов не достается, да и не по карману они им. Откуда лишняя копейка и в без того скудном семейном бюджете. Детям на завтрак в школу не всегда наскребают.
Бычки в томате
Как-то мы познакомились с мальчишками из одесского радио-клуба. Это было еще в десятом классе. Мне сразу понравился мальчик Игорь Лучинкин, симпатии были взаимными. Я, конечно, потащилась к нему на рандеву Пару раз несколько ребят вместе с Игорем провожали меня пешком до самого Фонтана. В руках у них были армейские металлические антенны от старых танков, которыми они нещадно, чуть ли не в такт каждому шагу, били по асфальту. Звук был похож на выстрелы, а каскад искр приводил в ужас прохожих. Но нам было весело. Этой антенной можно было при желании запросто кого-нибудь пришибить.
Так мы проводили время. Изредка встречались. Игорь пригласил меня в радиоклуб, который находился за углом Дерибасовской. Там, где потом построили новый дом и был самый большой магазин «Овощи-фрукты».
Занятия в клубе мне лично понравились, очень интересные. Я даже начала разучивать азбуку Морзе. Мы с Игорем были одного возраста, но по школе он был на класс младше. Высокий, физически крепкий парень с приятным лицом и интеллигентными манерами. Жил он вместе с мамой, папой и младшим братом.
Этот мальчик и все его друзья были образованными, целеустремлёнными ребятами, милыми моему сердцу как и мои бывшие соученики по старой 105-й школе. Это настоящие одесситы, со всеми штучками-шмучками, хохмами, анекдотами, песенками. Гитара переходила из рук в руки, но лучше всех играл и пел Игорь. Он горланил Высоцкого, душу рвал Окуджавой, сердце ныло от песен Визбора. А как он читал стихи! Видно, действительно родители много времени уделяли своим сыновьям. Но больше всего меня поразило его знание радиотехники. Игорь мог часами выстукивать свои позывные, пока где-то, на другом конце земли, такой же сумасшедший, как и он, не откликнется.
Однажды ребята на какой-то свалке раздобыли старый-престарый приёмник. Бросили жребий, кому достанется. Конечно, это добро досталось Игорю. Пришлось мне с ним на пару тащить приёмник к нему домой. Представьте на минуточку: с Гаванной на Польский спуск, на третий этаж без лифта. Сначала хотели в комнате разобрать, но из корпуса полезли тараканы. Наверное, почуяли, что прибыли на постоянное место жительства. Перетащили эту бандуру на балкон, чуть вниз не уронили. Топором разбивали полированные старые доски; самих деталей и ламп было не много, но очень качественные.
Места свободного на балконе почти не было, поэтому чистили детали на весу. На головы ничего не подозревавших прохожих обрушились эти противные существа, живые и высохшие. Корчась от смеха, наблюдали за траекторией их полетов. Я еще им веничком придавала ускорение, а они, гады, словно под куполом парашюта, удивительно планировали в воздухе, пытаясь зацепиться и вернуться в гости к нам или приземлиться на балконы соседей. Пришлось держать оборону и не дать этим паразитам ползти назад, в комнату. Все-таки некоторым шустрым тараканам-асам удавалось прорваться на чужую территорию. Хорошо, что соседей не было дома, иначе мы имели бы ещё тот гембель.
У Игоря на балконе в рядок стояли пустые фанерные ящики для посылок. На крышках с обеих сторон черной тушью написаны адреса, с одной – их одесский адрес, а с другой – куда-то на другой край земли. Я схватила какую-то фанерку и хотела продолжить борьбу с тараканами, но Игорь с силой вырвал ее из моих рук, да так, что я локтем больно стукнулась о стопку этих ящиков. Ссора разыгралась стремительно. Из-за этой чертовой деревяшки. Оправдываясь, он пытался объяснить мне, что это оборотная тара и портить её нельзя. Оказывается, их родственники где-то живут, по-моему, на Севере, и каждую неделю они отправляют туда посылки с изюмом, финиками, разными продуктами – иначе им там не выжить. Обратно они получают коробки с местными дарами природы: кедровыми орешками и вяленой рыбой. Больше там ничего нет. Чтобы есть эти орешки, нужно набраться адского терпения – попробуй их расколи. А вот рыба мне очень понравилась: омулем называется, очень вкусная.
Потом в ванной комнате мы оттирали внутренности старого радио. Восторгу Игоря не было предела. Он хотел, чтобы я тоже восторгалась ювелирной высококлассной пайкой.
– Ты только посмотри, какая работа, видишь, какое реле?
Сначала я, как дурочка, ему поддакивала. Хотя на самом деле мне больше понравилась тумба полированная, которую мы так безжалостно разбили, чем эти никому не нужные, доисторические детали. Ими и без того была полностью завалена их комнатка, которую они делили с братом. К тому же я так устала: школа, потом маме на работе помогала, радиоклуб и ещё этот «гроб с музыкой». Надо ехать домой, уроки делать. Завтра волейбольная тренировка, потом опять к маме на работу А у Игоря лирическое настроение. Он, вроде бы нечаянно прижимаясь ко мне, завел разговор про любовь и все такое. Я поняла, к чему он клонит Тогда на экран вышел фильм «А если это любовь», мальчишек он взбодрил, они почувствовали себя взрослыми, но в мои планы их бодрость пока не входила.
Мне лично в том фильме герой Пушкарёва очень понравился, а вот героиня Жанны Прохоренко – деревенщина, ни рыба ни мясо, жующая конфеты «белочка». Зачем ей нужно было себя так замарать? Да ещё с такой пришибленной мамашей с рабочей окраины, как наш Фонтан в то время, у нас даже свет на улице не всегда горел. Я таких девчонок совсем не понимаю. Неужели на такие вещи они соглашаются из-за боязни потерять пацана? Как это унизительно, не иметь никакого достоинства. Вот и Лучинкин: если девушка по-настоящему любит, то это естественно. Ну да, ничего себе естественно, хорошо мальчишкам так рассуждать.
С детства у себя на Коганке мы, дети, запомнили поучительный стишок, который кто-то из мужиков дворовых черным карандашом и чуть ли не каллиграфическим почерком написал в уборной. Вы их тоже наверняка знаете, не стану повторять – про наше дело не рожать… Только потом новорожденных из уборной Лизка дворничиха вытаскивала.
Может, я и не права, но это не для меня, всякому овощу свое время. Я еще не вызрела, хотя и южное растение, мне только пятнадцать. Помнишь, как Ваня Солнцев у Катаева в «Сыне полка» говорил: неправда ваша, дяденька. Неправда, Игорек: не эгоистка я вовсе и не ханжа, но и представить себя не могу на месте этих девчонок, или чтобы кто-то требовал моего полного подчинения его желаниям, как бы мальчик мне ни нравился. Так что: «Ему бы что-нибудь попроще, а он циркачку полюбил». Твоя же, Игорь, любимая песня Окуджавы, ты ее постоянно поешь.
Ну, хватит об этом, проехали. Сговорились как-то в воскресенье пойти в кино. Я быстро сделала все свои дела, купила билеты, зашла за ним, как условились, в назначенный час. И ведь знала же его как облупленного, что придется ждать, пока он неторопливо будет собираться. Но такое не могла предположить – и все из-за этой заразы. Как назло, зарегистрированная у него дома радиостанция пропикала несколько раз. Игорёк мне: «Олька, я быстро, только на минуточку», и, надев наушники, улетел в эфир.
Два часа с каким-то таким же прибитым, только тот с другой стороны земного шара, он выяснял: "What is your name?" А я все ждала, куда деваться, сидела и перелистывала журналы, выслушивая эту тошниловку. В кино всё равно опоздали. За то Лучинкин поимел полные штаны счастья. Счастлива была и я, поняв наконец, что это мне совершенно не нужно.
Но чашу моего терпения переполнила мама Игоря. Это было днём, мы как всегда бесились. Игорь был в тот день в ударе, так бацал по фоно, потом играл на гитаре. Несмотря на уже вспухшие подушечки пальцев, местами кровоточащие. Он временами облизывал их губами, чем вызывал у меня чувство сострадания и тронул какие-то душевные струнки внутри. Даже мелькнуло: может, все-таки это и есть начало первой девичьей любви?
Потом мы на кухне ели с ним и его младшим братиком прямо из железной банки консервы «Бычки в томате», пользующиеся в Одессе популярностью. Прямо в банку по очереди макали куски отломанного батона. И вдруг эту идиллическую картину прервала появившаяся на кухне с авоськами мама Игоря. Она примчалась домой в свой обеденный перерыв. Это была совсем молодая и красивая женщина, похожая на актрису Ирину Скобцеву. Как она закричала: «Это что здесь происходит? Игорь, это кто?»
Вид, конечно, у меня был ещё тот. Игорь всегда развязывал мой и без того чересчур пушистый хвост, а здесь мы ещё накувыркались все втроём. Школьная форма, сшитая из вельвета светло-коричневого цвета в мелкий рубчик, на груди была расстегнута, белый воротничок наполовину оторван. Черный фартук перекошен, но себя со стороны я не видела. Игорь сам растерялся и молчал.
Мама Игоря обсмотрела меня со всех сторон:
– Ты кто?
Я только и смогла еле произнести:
– Оля.
– Деточка, – ехидливо выпалила она, – а тебе уроки делать не надо? Твои родители разрешают тебе ходить в гости к ребятам? Ты из какого класса?
Я молчала, как молодогвардейцы.
– Извините, я пойду.
Подхватив портфель, я чуть ли не кубарем скатилась по лестницам. Как он свою маму боится! Даже не заступился за меня. А еще на любовь намекал…
Больше в радиоклуб я не приходила. Лучинкин пару раз приезжал в наш двор на Фонтан. Сидели на скамеечке, болтали. Потом он, как бы оправдываясь, рассказал мне, почему его мама такая строгая. Рассказ Игоря меня потряс. Подарил мне эту настоящую армейскую антенну, которая выбивает искры из асфальта. Не забыл, конечно, съехидничать при этом: «Теперь у тебя есть чем защищать свою девичью честь».
На этом и расстались, разошлись, как принято говорить в Одессе, как в море корабли. Каждый поплыл по своему курсу, сам себе стал капитаном, а штурманом была сама жизнь со всеми ее радостями, горестями и заботами.
Как это здорово, ни к кому не быть привязанной. Быть свободной, вольной, как птица, куда хочешь, туда идёшь, что хочешь, то и делаешь, самой строить свою судьбу. Я смотрела другой популярный в то время фильм «Разные судьбы» и начала понимать, что жизнь прожить – не поле перейти.
Когда повзрослела и стала бывать в разных компаниях, я сразу вычисляла девиц, таких тихонь, якобы скромниц от рождения, с идеальным покладистым характером. Сидит она, глазками хлопает, помалкивает, только улыбается своему кавалеру. Корчит из себя паиньку, краснеет от анекдотов с душком, закрывает глазки при жлобских высказываниях. А у самой только одно на уме, как бы поскорее зацепить, заарканить, якобы своей девичьей доверчивостью, хорошего парня. А потом, уже будучи замужем, так же потихоньку наставлять ему рога. Ох, уж эти тихони! Но у меня нет права осуждать их, это их судьба, они ее избрали для себя.
К Игорю Лучинкину, наверное, применимо высказывание Леонида Осиповича Утёсова, который, кстати, о птичках, лично целовал ручки автору этих строк. Вот так вот. Чем я очень и очень горжусь. Это было уже в Москве, он приходил в гости к моим соседям Давиду Осиповичу и Софье Захаровне Млинарис, с которыми дружил с детства, а с Давидом Осиповичем вообще вырос в одном дворе в Треугольном переулке. Я специально готовила к его приходу фаршированную рыбу. Он ел ее с удовольствием, приправляя красным хреном и приговаривая: мама моя так готовила. Потом, насладившись, тут же на кухне, откинувшись к стене, пел об Одессе, как мне казалось, лично для меня и игриво при этом поглядывал.
– Ах, одесские мальчики, как я их всех люблю! – с хрипотцой приговаривал Леонид Осипович. – Они не ходят, они бегают или летают. Они не говорят, а поют. Их темпераменты, их музыкальность, их поэтические сердца могут накормить весь мир искусством не хуже, чем лепетутники[1] – хлебом. Я их обожаю, этих мальчиков! Они понесли славу нашего искусства далеко за моря-океаны, украсили сады прелестными цветами одесского гения.
Утесов, сам будучи гением, знал, что говорил.
Закончив эти юношеские воспоминания о Лучинкине, я сидела и думала: а как все сложилось бы, если бы мы тог да не расстались? Ведь он нравился мне по-настоящему, что греха таить. Страдала, вздыхала, посматривала на его балкон, проезжая по Греческой улице на дребезжащем 23-м трамвае. Вместе с тем понимала: любовь не вздохи на скамейке и не свиданье при луне. Спасибо Степану Щипачеву за это напоминание.
Я больше его не видела. Когда моя подружка Леся Никитюк поступила в институт связи, я буквально замучила её просьбами проверить все списки абитуриентов. Была уверена, что при тяге Игоря к радиотехнике он обязательно должен учиться в этом вузе. Просила Лесю поискать его среди ребят из студенческой самодеятельности. Но этой фамилии нигде не было. Может, он в Политехническом или другом каком-нибудь институте, кто его знает?
В общем, спустя много лет мне пришла в голову шальная мысль: а почему бы не заглянуть в Интернет, поискать его там. А вдруг этот безотказный помощник через почти полвека выдаст мне информацию об этом человеке. Набираю: Игорь Лучинкин, Одесса – и здесь же вылетают несколько вариантов. С радостью хватаюсь за один из них: Игорь Лучинкин, актёр, режиссер, постановщик знаменитого одесского музыкального спектакля «Бычки в томате».
И знаете, пронзило. Всю насквозь. Воспоминаниями того счастливого времени, пусть и трудного, и не очень сытого, но нашего, моего времени. Ах, эти бычки в томате. С каким наслаждением, даже жадностью мы ели с Игорем на его кухне этот любимый всеми одесситами деликатес, запивая растворимым кофе. Я смотрю на его фотографию в Интернете: вот каким ты стал, господин Лучинкин. Еще и бард, и композитор, автор собственных песен. И еще на своей даче на Констанди, 12 творческие вечера по пятницам закатываешь.
Утром объявила мужу: едем в Одессу. К черту твое озеро Блед (муж собирался туда), когда есть мое любимое Черное море, моя любимая Одесса и этот адрес: Костанди, 12, между 11-й и 12-й станциями, за памятником Анне Ахматовой.
Игорь долго меня узнавал, когда мы неожиданно нагрянули к нему. Моя девичья память цепче схватила детали нашего юношеского порыва, я по одной постепенно восстанавливала их и в его памяти.
– Оленька, про меня ты все теперь знаешь, а у самой-то как жизнь сложилась?
– А ты выйди в Интернет, как я.
– Прости, запамятовал твою фамилию. О, да ты книжку написала, «Одесситки». Поздравляю! Подаришь?
– Конечно, она у меня с собой, сейчас подпишу.
На ближайшей пятничной встрече у себя на даче Игорь организовал нечто презентации книги, а спустя два дня, прочитав ее, позвонил мне:
– Оленька, это материал для пьесы, надо сочинять.
Чем мы сейчас с Лучинкиным и заняты. Когда он бывает в Москве, обязательно идем в клубы, где исполняют одесские песни. Игорь иногда тоже берет в руки гитару И как же прекрасно она звучит… а его голос…
Примечания
1
Лепетутники – с одесского «языка» переводится как мелкие комиссионеры и хлебные маклеры.
(обратно)




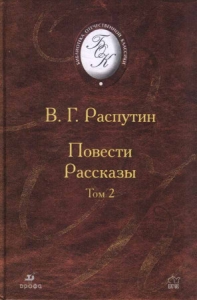

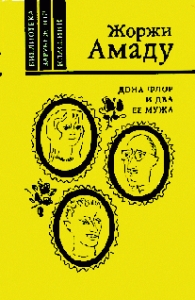
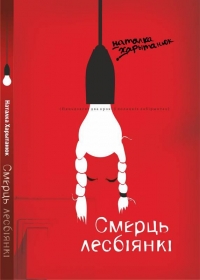

Комментарии к книге «Лестница грёз», Ольга Иосифовна Приходченко
Всего 0 комментариев