Ранко Рисоевич Боснийский палач
0
Рукопись возникает как партитура — знающий человек читает ее по-своему, слушая свою музыку. Отец, сын, архивист и журналист, самодеятельный писатель, действительный автор — трудно сориентироваться в этой головоломке. Я шел до конца, по первому тексту, по второму, по третьему, и в результате вернулся к началам, к нулевому циклу, и задался вопросом: а что, собственно, тут вообще происходит? Ответ последовал. Оркестровка до конца не доведена, некоторые инструменты нам вообще не нужны, и потому я добавил только партию ударных. Вопреки Зайфриду, в ущерб мелодии, я отдал предпочтение ритму. Так оно в нашей стране, где расстояния ничтожны, но люди не понимают друг друга. У каждой деревни своя музыка, нежная, как кора молодого дуба, а город прет по-своему, поделенный на домовладельцев и чужаков, словно мы все еще плетемся по дороге, от восточных ритмов до размашистого трехчетвертного вальса. Тот, что в центре событий, чувствует себя лучше, поскольку знает, что вокруг него происходит, и где именно струятся главные потоки. Как и повсюду, у него есть свои люди, своя система ценностей — только надо утвердиться на территории. Но другой автор, в другом месте, глядя сквозь другое окно, видит все совсем по-иному. Тот, что в Беледии, смотрит на Бистрик, а тот, с Бистрика, глядит на Беледию, наблюдая за строительством, от фундамента до окраски стен — он и представить себе не может, что именно там строится, кто и зачем это строит. Впрочем, как и все прочее. Однако смотрит и видит. Когда плотники оканчивают работу, к виселице подходят палач и жертва, и вокруг них собираются официальные лица. За стенами Окружной тюрьмы — болельщики и ненавистники, мстители и прихвостни. Что это за публика здесь? Она всегда разная, если только речь не идет о самоубийце. Любителям напряженки, хоррора и тому подобного современного ужаса советую не выпускать из рук эту книгу, здесь таких историй более чем, и все они способны разжечь ваши фантазии до предела.
Это только беззубому младенцу надо давать уже пережеванную пищу, всем прочим положено жевать и жевать. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать — ни одна жизнь не протекает прямолинейно, она есть бесконечный рассказ, который даже в кинематографическом исполнении зависит от монтажа, вставок и более поздних воспоминаний. Там, как и повсюду, может возникнуть дыра, в которой человек иной раз исчезает целиком. Если ему так написано на роду — пусть пропадает. Если вы, читатель, постараетесь вместе со мной связаться с моими героями, то мы сумеем где-то встретиться. Но не забудьте, что глагол «связаться» имеет, по меньшей мере, два не совсем похожих значения. Выберите то, что вам больше по душе.
1
Вчера исполнилось десять лет со дня смерти отца. Я пришел на кладбище, без цветов и свечей, один. Весь город живет ожиданием победителей, партизанского войска. Кто мог убежать — уже сбежал, остались те, кому бежать некуда, или те, кто не понял, зачем надо убегать. На улицах нет никого. Город выглядит призрачно, наверное, так, как было тогда, когда в него входил мой отец в восемьсот семьдесят восьмом. Или когда входила сербская армия поздней осенью девятьсот восемнадцатого. Точнее, не в тот именно день, когда входила, а днем раньше. Как тогда, когда входили немцы в девятьсот сорок первом. И тоже днем раньше. И так вот армии входят и уходят, я их ни перечислить, ни назвать не могу. Впрочем, никто никогда и не рассчитывал на меня как на потенциального военнообязанного. Просто-напросто я не способен ни к гражданской, ни к военной службе.
— А на что он способен? — орала мать на отца, словно он лично сотворил такого меня из глины, как Господь Бог.
— Бог сам знает, на что он способен, — спокойно отвечал отец. Хватало всего одной его фразы, произнесенной таким спокойным тоном, чтобы мать начинала колотить себя ладонями то по голове, то по груди.
Листаю тетрадку с заметками об отце, записями того, что он мне рассказывал, и что пришло ко мне само по себе, незнамо какими путями. Я писал эти строчки, спасаясь от полной погибели, в основном от голода и болезней. Я писал о нем как о неком иностранце, каковым он, в сущности, и оставался до самой смерти. Я — нет, потому что не ощущал себя таковым. Я любил Сараево, его окрестности, природу. Эту котловину под Требевичем, по которой проезжает поезд. Сейчас я и в этом не уверен. Отец не водил меня с собой, наверное, стыдился, или ему это просто не приходило в голову, а у меня не было никакого желания тащиться туда, где мне нечего было делать. По правде говоря, когда я был маленьким, то все время проводил на улице, позже мы изредка отправлялись вместе на Илиджу или на верх, на самую вершину Требевича. Там я рисовал, а он лежал на траве. Много раз я хотел нарисовать его, но стоило ему посмотреть на меня, как я отказывался от этой затеи. Сердце начинало бешено колотиться, как будто он сейчас подойдет ко мне и порвет все наброски. Не знаю, почему, но и я боялся его. Он никогда не кричал на меня, ни разу меня не ударил. Я знал, что он пил, особенно когда я был маленьким, однако не могу припомнить, чтобы я хоть раз видел его дома пьяным.
Этот мой поезд, что пересекал Бистрик, часто звал меня, то к морю, то на Дрину. Я ждал, когда он выпустит пар и целиком укутается в прекрасный серый цвет. Сколько раз я пытался нарисовать его, пользуясь только серой и черной красками, которые плавно переходили одна в другую. Окончательно так и не удалось, хотя я и сохранил несколько листов, которые любил и постоянно держал при себе.
Сейчас вот смотрю на то, что здесь осталось после отца, не после меня. Все мое заброшено, так сказать, не существующее. Кто вспомнит обо мне, и с чего вдруг? Кому хоть для чего-нибудь понадобятся мои вещи, да и рисунки тоже? Я не могу исторгнуть их из себя, так пусть они во мне и остаются. Я нашел отцовские записки, отчеты о командировках, газеты, сохраненные им по непонятным причинам. Годами я рассматривал жестяную коробку из-под кофе «Franck», в которую он что-то складывал, и вот теперь я обнаружил, что это всего лишь стопка бумажек, на которых записаны впечатления о поездках, воспоминания, даже размышления. Отец был из тех людей, которых учила жизнь, неспешно, под аккомпанемент его собственного труда. Достаточно боевой для того, чтобы не утонуть в болоте жизни, он шел вперед, словно он Бог знает где и Бог знает кто. Здесь вам это нелегко. А в его время, наверное, было еще тяжелее.
Зачем я все это обрабатываю, дорабатываю и пишу, пишу, будто некто велел мне это делать?! Понятия не имею. Совсем забросил живопись, нет бумаги, нет красочек, в кистях осталось несколько волосков. Можно было бы и такими рисовать, но ведь ничего уже нет. Даже прежнего желания, почти необходимости, делать это с самого раннего утра. Когда-то я с рассветом брался за принадлежности и садился у окна, чтобы рисовать. Всегда только акварелью. Однажды, пролив на готовый рисунок чай, я открыл новую технику. Позже отказался от нее, зато выучился рисовать чем угодно.
Кроме этих нескольких набросков в тетрадке, я ничего не рисовал целый год. И даже потребности в этом не возникало. Спасибо тебе, Боже, за эту тетрадку и карандаши. Наверное, под конец я уничтожу все рисунки, после меня ничего не должно остаться. Никому это не было надо при моей жизни, а после нее все равно кто-нибудь уничтожит. Лучше все-таки я сам. Зачем тогда все это пишу? Не знаю! Может, потому, что мне все труднее и труднее передвигаться, и неподвижность непременно возьмет свое. Как будто медведь насел на меня, и я сгибаюсь все ниже и ниже к земле. Но, тем не менее, есть тут еще нечто, посильнее этого объяснения, да и любого другого. Когда я рисовал, то задавался вопросом, дело ли это рук, глаз, желания или чего-то совсем таинственного? Так и в сочинительстве, похоже, я просто следую за тем, что вижу, и что приходит мне в голову, когда я смотрю отсюда, с горы Бистрик, на речку Миляцку и город.
Бывают такие утра, когда человек просыпается и спрашивает себя, где это он оказался. Все кажется ему странным, а сон, от которого он только что освободился, кажется ему более реальным, чем эта новая утренняя действительность. Так и я, рассматривая Сараево, спрашиваю себя, кто я такой и откуда здесь взялся.
Думаю иногда, что каждый художник может и писателем стать. Наверное, было бы мне полезно повидать живого писателя. Есть ли такой здесь, в Сараево? Что-то я ни про одного ничего слышал. Наверное, есть такие.
Впрочем, не так уж это и важно, я вот никогда не видел ни одного живого художника, а ведь рисовал. Во всяком случае, считал, что занимаюсь живописью. Писатели, наверное, не выходят из своих кабинетов, где придумывают самые чудные повести. Кое-что я читал, совсем немного, ничего особенного. Не очень-то меня вдохновило. Представляю, что будет, если вот то, что я пишу, окажется какой-то историей из прошлых времен про совершенно неизвестных людей. Как эдакая сказка, от которой у читателей мурашки по коже бегают. Как Башчелик. Но кто знает, что из этого выйдет. И найду ли я сил, чтобы завершить эту историю? В конце концов, я думаю: все, над чем я сейчас ломаю голову, ничего из себя особенного не представляет. Пишу, и в написанном ищу отца и себя. Особенно отца. С него начинался и заканчивался мой мир. Не знаю, знал ли он об этом, чувствовал ли, сколь много он для меня значил и насколько был нужен. Попытаюсь привести в порядок все эти бумаженции, а там — была не была, будь что будет.
2
Неопубликованная заметка В.Б.
Я все записывал, как будто с детских лет знал, что архивное дело — моя судьба. Возникали, правда, некоторые колебания, когда книга привлекала меня в большей степени, и тогда я мечтал стать библиотекарем, вроде старого Джордже Пеяновича, библиотекаря «Просветы». Мне нравилось смотреть, как он держит в руках книгу, как вертит ее, кладет на стол и вновь берет в руки. Никто так не любил книгу. Не думаю, что он поступал так намеренно, чтобы покрасоваться перед посетителями, все это получалось у него само собой. Специально научиться такому нельзя. Я пробовал подражать ему, но результат меня не удовлетворил, так что я вновь возвращался к желанию стать архивариусом. Или публицистом, что, по сути, очень близко к первому. В конце концов, возжелаешь чего-нибудь, соберешь все вместе и превратишь в книгу, хотя мне всегда больше были по сердцу короткие тексты. Как-то не удавалась мне архитектура книги, не для меня это дело. Но история Алоиза Зайфрида показалась мне настолько интересной, что я несколько раз пытался оформить ее как книгу. Не получилось. Осталось много заметок, но они не составляют единого целого.
Уверен, что никто из нынешних публицистов не побывал у него, и даже не видел никогда. Наверное, и Милорад Костич из Баня-Луки не сделал этого, тем более что он забросил писательское ремесло. Не знаю даже, жив ли он еще. Один текст, и ничего более, сил у него не хватило. Писал какие-то драмы, я их и не читал даже, и не смотрел. Наверное, они были местечкового характера. Все в этой стране имеет местечковый характер. Все так ничтожно, что кажется нам абсолютно незначительным. Знаю, что это не так, но должен высказать свои ощущения. Вот и я сначала не думал о книге, только этого мне и не хватало. Во всяком случае, не про Алоиза Зайфрида. В истории Боснии и Герцеговины было много больше значительных личностей, зачем же мне писать про какого-то палача?
Был июль месяц, ужасно душно в Сараево. Теперь уже не могу точно вспомнить, от кого я узнал, что Зайфрид жив и влачит существование по адресу: улица Капитана Градашчевича, дом номер семь. Я собирал сведения о младобоснийцах, и меня интересовал каждый факт, особенно фотографии того времени, каковых в архивах было крайне мало. А у австрийцев были фотографические аппараты, и некоторые из них взяли в привычку сниматься при исполнении самых ужасных наказаний. Я направился к Зайфриду, чтобы удостовериться, нет ли у него таковых, а если есть, то смогу ли я их заполучить.
Это был один из тех маленьких домишек, что прижимаются к скалам, тенистый, сырой, с земляным полом в прихожей. Меня встретил молодой человек лет тридцати, сын Зайфрида, как он представился. Низкорослый, заметно горбатый, голобородый, с испуганными глазами, как у человека, который боится дневного света. Все время пятится, отступает на шаг назад, на всякий случай. Отвечает так, будто оправдывается, и не смотрит собеседнику в глаза.
Редкие и неровные передние зубы, похоже, сохранилось их всего лишь два-три. Скорее рыжий, нежели шатен.
В руках держит палитру, замечаю, что пишет масляными красками картину небольшого размера, которая лежит у него на столике, а не на мольберте, которого вообще нет в комнате.
— Рисуете?
— Рисую, — словно оправдываясь, отвечает он вполголоса.
— И это все ваши картины?
И в самом деле, в комнате, которая вполне могла бы сойти и за кухню, и за прихожую, и за его комнату, по стенам висели картины, приколоченные прямо к стене гвоздиками, без всяких там рамочек или паспарту.
— Это все акварели, а теперь, вижу, пишете маслом?
— Да, да, — поспешно ответил он. — Вы разбираетесь в живописи?
— Регулярно посещаю вернисажи, но все-таки не специалист, — я не решался высказаться по поводу его работ, и потому добавил:
— Мне нравятся ваши картины, они теплые.
Он не нашелся с ответом, обернулся в другую сторону, будто сам решил рассмотреть картины на стенах.
— Что вам надо от моего отца? Вы ведь пришли повидаться с ним, не так ли?
— Да, я хотел бы расспросить его о заговорщиках, повешенных зимой 1915 года.
— Он не любит вспоминать об этом. К нему уже приходили какие-то журналисты, он отказался говорить с ними.
Умолкнув, он отложил палитру и кисть. Мне показалось, что он размышляет над тем, как бы мне не отказать.
— Вы журналист?
— Нет, я занимаюсь историей.
— Не знаю, не уверен. Он не любит, когда я ему даже просто докладываю о подобных посетителях, но для вас я сделаю исключение. Вы кажетесь мне более серьезным, чем те, предыдущие.
Наверное, повлиял мой комментарий по поводу его картин. На самом же деле я совсем ничего не понимал в живописи, и по сей день не могу припомнить, посещал ли я вообще когда-либо художественные выставки того времени. Позже — может быть, но тогда — точно, ни одной. Теперь я знаком с некоторыми художниками нашего времени, пришельцами с Севера, а также с нашими мастерами, но в то время они нисколько меня не интересовали.
Все же, когда он вошел в другую комнату и завел разговор с отцом, так тихо, что невозможно было разобрать ни одного слова, несмотря на заведомо тонкую отвратительную перегородку, я засмотрелся на его акварели. Были там и весьма профессиональные, но большинство казались просто ученическими, отличавшимися сильным наплывом зеленой и голубой краски. Ничего определенного, хотя я и распознал некоторые окрестности Сараево. Наверное, он рисовал по памяти, не думаю, что он таскал с собой необходимые принадлежности. Было очень много акварелей, изображавших маленький паровоз по кличке «хозяйский», пересекающий Бистрик и выпускающий пар, в то время как над ним, в направлении голубого неба, поднимается черный дым.
— Проходите, отец примет вас — раздался за моей спиной его испуганный голос.
— Интересные эти акварели, — сказал я, больше для проформы.
— Хорошо было бы с вами об этом… — тихо и нерешительно произнес он.
— Да?
— Здесь больше не с кем, мой господин.
— Может, я сведу вас с каким-нибудь художником? — попытался я восстановить между нами дистанцию, но он тут же раскусил меня:
— Нет, спасибо.
— Почему же?
— Не суть важно. Отец ждет вас.
Мне было жаль, что наш разговор завершился таким образом, но у меня не хватало ни времени, ни терпения продолжать с ним беседу. И все же я подумал, что надо будет сказать ему несколько слов, после того, как закончу разговор с его отцом, тем более что входить в подробности я не намеревался, меня интересовали всего лишь два-три вопроса, не более того. Однако наш разговор затянулся до вечера, переливаясь словно ручей, на пути которого кто-то возвел различные плотины и запруды, чтобы с максимальной пользой использовать его воды.
3
Рассказчик — не обязательно человек, но сам дух повествования — описывает сцену, на которой развивается действие, которому он всячески желает поспособствовать.
История — шлюха, и только мудрецы этого не видят. Народ — видит, наука — слепа. Прославляет историю, которая делает людей умнее. И несчастнее, разумеется. Но разве тебя хоть о чем-то спрашивают? Кто-то крикнет: «Подымайся! Одевайся в то, что у тебя есть, или в то, что тебе дадут, винтовку в руки, и на поле боя. Вперед, назад, стой!» Посмотрим, что завоевали и что потеряли. Мертвых никто не считает, важна территория и то, что можно из нее извлечь. Недовольных больше, чем довольных. Таков фон и этого рассказа, который не возник бы, если бы не состоялось важное решение в главном городе Пруссии. С этого момента Берлин становится ключевым городом в истории балканских народов, а до той поры о нем мало кто говорил. С чего это вдруг Берлин, мать его так и переэдак? Падаль смердит на Босфоре, за нее бьются стервятники. Но считают себя львами, а не пожирателями падали. Если львам мяса захочется, то и падаль за таковое сойдет.
Первым случился Сан-Стефанский договор, по которому русские отняли у Турции столько, сколько смогли. Австрия была недовольна. Она, великая и изнеженная, требовала своего. Что же делать? Дипломаты работали на курортах: ты мне это, а я тебе то. В конце концов, на тебе Боснию и Герцеговину, и по рукам. Когда обо всем прекрасно договорились, собрался в Берлине конгресс, чтобы поговорить о статье XIV Сан-Стефанского договора, которую следовало дополнить. Ладно, заодно и статью XV, чтобы отобрать еще что-нибудь у Турции, которую необходимо потихоньку добить эвтаназией. Австро-Венгрия должна оккупировать Боснию и Герцеговину и ввести в Новопазарский Санджак свои подразделения. Потому что нарушено равновесие, на балканских качелях перетягивают русские интересы, пусть славянские братья откажутся от претензий на Боснию. Давай, пусть султан немного похнычет, все равно ведь в конце концов смирится.
Так вещает наша веселая история, та, что пишется сквозь слезы, которыми оплакивают мертвых.
Австрийские войска форсировали Саву и рассеялись по Боснии, совсем как нашествие саранчи. Но встретили их негостеприимно, без распростертых объятий, так что пришлось оружием приучать к послушанию этот местный народец, особенно мусульман. Поступали сведения, что сопротивление искусно готовится, что аги и беги подстрекают народ, но в действительности все оказалось хуже и суровее, чем ожидалось и планировалось. Войска терпели погибель и разорение, но местные отряды, в любом случае более слабые, отличавшиеся только хорошим знанием местности, не могли сколько-нибудь серьезно противостоять благодетелям. Не спеша, от вершины к вершине наступала императорско-королевская армия, самостоятельно хороня своих убитых, большинство которых говорили на том же языке, что и те, кто стрелял в них с другой стороны. Не было прямых и хороших дорог ни к Сараево, ни к сердцам его жителей.
На все это со стороны, как на танец, который их касается, но в котором они не могут или не хотят участвовать, смотрели боснийские и герцеговинские христиане и выкресты, которых называли влахами, морлаками, мадьярами — в зависимости от происхождения тех, кто вступал с ними в контакт. То тут, то там кого-нибудь пристреливали или вешали, в основном по причине грабежа, но подобным образом иногда поступали и с теми, кто служил проводниками оккупационных войск. В конце концов, все завершилось так, как могло бы завершиться и без пожаров и трупов. Может, в каких-то других краях, но только не здесь, никогда. Так говорят хронисты.
Прошло некоторое время, Босния и Герцеговина смирились, никто уже не воюет, но и настоящего мира при новом порядке нет. Листая старые журналы и газеты, можно обнаружить изображение какого-нибудь села или города, с умело начертанными сожженными хибарами и погибшими молодыми людьми. Но нет ни одного портрета тех, что уходят, и тех, что приходят, каждый с мыслью о том, что жизнь его никогда более не будет такой, как прежде. Случился судьбоносный переворот.
А теперь давайте рассмотрим эту картину пристальнее: все то же самое, только немножко иначе. Прошло некоторое время, а изменилось ли что-либо в этой местности? Из Вены не видать, из Сараево — чуть получше.
Пожарища еще дымятся, дороги почернели от австрийской армии, всюду слышны команды на резком и отвратительном народному уху языке. Была война или ее не было, было в Боснии и Герцеговине двоевластие или не было — может, власть, как всегда, принадлежала местному бандиту. По бескрайним и густым лесам, вблизи людьми и Богом почти забытых сел, мятежники и гайдуки дерутся за свое, требуют правды и денег. У кого? У всякого! В основном у тех, кто слабее их, независимо от вероисповедания. Но эта новая держава устанавливает власть, работают чрезвычайные трибуналы, воздвигаются виселицы, расстрельные механизмы, созданные ad hok, устанавливают в этой скалистой стране порядок и закон. Закон суров, но это закон! Так говорят те, что следуют за армией и все свое имущество помещают в саквояже, за что народ и прозвал их саквояжниками. Они говорят на всех языках великой монархии, но преимущественно на немецком, неприкосновенном. Есть среди них хорошие и плохие, способные и бездарные, трезвенники и алкоголики, молодые и уже служилые, и если даже напрячь воображение, все равно нельзя будет добраться до конца этого списка, потому как речь идет о множестве чиновников, призванных превратить этот мир в совершенно иной. Оттоманское, мусульманское царство — в Габсбургскую, католическую империю, и вот они, словно мифический змей, некий праудав, ползут по этой стране. Несмотря на то, что официально присутствуют здесь временно, они все делают фундаментально, солидно, на века. Но хватит уже обсуждать общие места, давайте рассмотрим попристальнее одного из этих чиновников. Нет, это не типичный служащий, не торговец, не акробат, не картежник, не странствующий музыкант.
Глаз выделяет, из множества саквояжников отбирает одного единственного, который является с цитрой, уложенной в деревянный футляр. Худощавый, немолодой, в черном рединготе, с цилиндром на голове, уже самим своим появлением привлекает внимание. Те, кто знаком с ним, не желают ни слышать, ни видеть его. Далеко его дом родной! Что он? Палач, или попросту душегуб! Господи спаси, палачей и без того хватает, а тут еще это привидение, сторожко общаются между собой сарайлии. Что это означает? Но нам так хочется заглянуть вперед, нам не терпится уместиться в самом сердце действия! Погодите, скоро там будем, потому как объективно все выглядит иначе, потому что все выглядит не так после того, как о нем расскажут и напишут. Попробую описать все с самого начала.
Речь идет о двух солдатах, братьях, что выбрали ремесло, которого другие чураются, и обратили его в такое высокое искусство, что оно прославило их! В конце концов, что может изменить в этой истории знание того, как некто стал тем, кем он не мог не стать?! Путь к этому должен быть краток, своевременно открыт и пройден, всего лишь. И каждый раз мы здесь, словно в триумфальной арке, видим того, для кого это место уже давно зарезервировано, и вот он является, чтобы исполнить свою миссию, какой бы странной она не казалась. Миссию палача, душегуба, ката, экзекутора. За его спиной остается не молчание, но плач и ненависть. За ним следует и рассказ. Этот рассказ начинается не с него, потому как и палаческое ремесло не он придумал, были здесь и до него душегубы, которые могли исполнить то, что от них ожидалось и требовалось, но пришли новые времена, которые востребовали нового государственного гигиениста. Если так можно выразиться!
4
Рассказчик спешит дальше. Не может остановиться.
В зависимости от времени года, части суток и направления, с которого показывается путник, город, в который прибывает Алоиз Зайфрид (Der Scharfrichter, oder Henker! На самом-то деле он больше не отрубает головы, он теперь только Henker) и в котором он останется до самой своей смерти, этот незнакомый ему и странный город обладает бесчисленным множеством лиц, но каждое из них красуется на неизменном фоне — горы зловеще окружают огромную естественную посудину, по дну которой протекает своенравная река, берега которой так напоминают людей — они такие, какими ты их видишь, и в то же время совсем не такие. Алоиз Зайфрид никогда не бывал в восточном городе, и этот пейзаж настолько потряс его, что он несколько дней размышлял о причине, по которой его величество К. унд К. Франц Иосиф, или же, по местному, просто Франьо Йосип, пустился в такую авантюру. Однако он быстро успокоился — если монарх решил именно так, значит, нечего ему, палачу, раздумывать об этом, а следует исполнять свои святые гражданские и профессиональные обязанности, то есть вешать тех, кто преступил закон, который как раз издан и подписан верховным сувереном.
Город или село, дремучий лес или бескрайние камни гор, все одинаково важно и достойно внимания. Ведь здесь же, в этом Сараево, ему предстоит жить. Надо где-то найти пристанище, комнатенку нищенскую, и чтоб корчма, в которой можно задешево поесть. И не только поесть, но об этом — позже.
Надо быть терпеливым, город когда-нибудь изменится, потому что новые хозяева хотят его видеть совсем другим. Измениться-то он изменится, но все равно останется в каком-нибудь позабытом внутреннем ящичке мозга, где хранятся воспоминания, и прежде всего — ощущение особого запаха и вереница картинок, мысленный просмотр которых вызывает неприятное ощущение в желудке. Запах чего? Да всего неприятного, вместе взятого. Не как в записках турецкого путешественника — аромат цветов, благоухание баштанов, как здесь называют сады, некоторые запахи появятся позже, но отдельно, сопровождая черные глаза, которые надолго заворожили его; нет, не такие ароматы смешаются в его сознании: вонь дерьма, мочи, смрад разлагающихся трупов — но не будем преувеличивать, ведь не мог быть настолько чувствительным желудок человека, ремесло которого ужасало людей, запах которых казался ему отвратительным. Отвращение и гадливость, что-то вроде этого, вряд ли здесь отыщется местечко для будущей жизни. Что это с ним, никак, чувства не согласуются с профессией? А те, кто еще ничего не знал о новом палаче, как им рассказать о своем ремесле? Да, не такой он теперь, не такой, как прежде.
Каждый город устроен по привычкам своих жителей, вот и Сараево, что совсем по душе коренным обитателям, по непонятным причинам достался пришельцам. Здесь они останутся, чтобы вступить в спор, в междоусобицу, которая так никогда и не завершится. Кто-то потом начнет рассуждать о неправильном оптическом преломлении, однако это нашего повествования не касается. Это напоминает клозет: ощущения покидающего его ни в какое сравнение не идут с теми, что испытывает стремящийся в него. Тьфу, тьфу, шипит кто-то за спиной, но палач даже не оборачивается. Сколько раз случалось, что Зайфрид просто не замечал кого-то; откуда у этого палача такое высокомерие, почему он терпеть не может запах бараньего бока, висящего над входом в лавку, облепленного мухами, не выносит нутряного жира, на котором готовят все здешние блюда? Любит свиное сало, вот те на! Такого здесь и не сыскать! Врет он просто-напросто, и ненависть к нему только усиливается.
Кроме военного командования, по требованию которого этого человека и послали в Сараево, никто не знал, кто он таков, откуда родом, есть ли у него семья, какого он вероисповедания. Впрочем, очень скоро его профессия стала исчерпывающе удостоверять его личность; она была настолько впечатляющей, что никому и в голову не приходило запрашивать дополнительные сведения. Ну, мы тоже не станем этого делать, поскольку замахнулись на рассказ о времени, в котором исчезнут империи, исчерпавшие цели и смыслы своего существования и полностью утратившие былую мощь. Впрочем, кое-что все-таки известно; поскольку он играл на цитре, то, скорее всего, был по происхождению австрийцем, а так как знал много слов и выражений из славянских языков, по тогдашнему обычаю искаженных и чаще всего до корявости неправильных, наверняка уже бывал в подобном окружении, военном или цивильном, кто его знает. Но Алоиз Зайфрид, как звали этого человека, больше слушал, нежели говорил. В приличном обществе он был благодарным гостем, никогда не прерывал рассказчика, даже вопросами. Едва глянет на него и тут же переведет взгляд куда-то в сторону, будто что-то разглядывает позади него, что отвлекало внимание тех, кто устремлялся на слушателя как на жертву. Да слушает ли он меня, задавался вопросом оратор. Наверное, слушает, раз ничего не говорит. Наверное, слушает, и это хорошо. И мы так думаем.
(Мы, кто это — мы? Как будто в изложении человека, который знает себе цену и обращается только на «вы». Нет, здесь мы заменяет все сведения о палаче и о времени, в котором он жил, а также представляет коллективного автора в процессе творчества. Мы, заряженное лингвистической и мыслительной энергией, до крайности чувствительное к человеческим слабостям, роющееся в историко-литературных помоях. И всезнающий рассказчик тоже? По правде говоря, это было бы идеально, но нам кажется, что это недостижимо. Слишком много здесь трещин и расселин, из которых выглядывают вампиры, следовало бы остеречься их. Мы не сын его, не историк, хотя и подворовываем у него).
Он пришел не с армией, тогда она еще не нуждалась в его ремесле. Появление на чужой территории всегда означает малую войну, с присущими ей законами военного времени и трибуналами. Все решается чрезвычайно, но власть не позволяет вершиться чрезвычайщине слишком долго. Да, вы прибыли в Сараево, и должны считаться с тем, что на вас смотрит вся Европа. Продемонстрируйте превосходство нашей культуры над восточными деспотиями.
Зайфрид прибывает с целью укрепления гражданской составляющей власти, все, что делается, делается lege artis, за всем следит земной вождь, ловкий и зоркий в боснийском мраке, не хуже крота. До него работали чрезвычайные трибуналы, изничтожали гайдуков, хватали герцеговинско-черногорских профессиональных повстанцев. Было известно, почему и как они подстрекают народ к бунту, похоже, что и большинству народа все было тоже понятно, просто они делали вид, что это не так. Не верьте им, говорило императорско-королевское командование своим воякам, находящимся на передовых позициях.
Имена ничего не значили для Алоиза Зайфрида. Даже императорско-королевских командиров. Они вращались по различным жизненным орбитам, изредка пересекаясь на узком пространстве, где один принимал решения, а другой исполнял их. Зайфрид слушал рассказы, волей-неволей они врезались в сознание, заполняли его, а потом оказывалось, что он все-таки что-то об этом знает, хотя и сам не мог понять, откуда у него взялись эти знания. Он смотрел на лес, слушал волков и ветер, но слышал повествование, и что-то от него оставалось записанным в нем, словно оттиск печати в воске. Не совсем как родная мелодия, которую исполняют тирольские йодли и обрабатывают музыканты, но весьма на нее похоже.
Только позже, когда прибыл знаменитый Беньямин Калай, о котором знатоки говорили, что в Австрии не найти лучшего правителя для Боснии и ее вздорной сестры Герцеговины, который изучил проблему, хорошо знает тех, кем предстоит править, а когда и они узнают про это, то поймут, кто здесь настоящий хозяин. «Представлялся перед нами другом, — говорили православные, — а теперь посмотри на этого сукина сына!» Опять появились те, что призваны были подстрекать народ, и опять не стало покоя.
Работают, работают суды, чего бы им не работать, что еще делать с кучей опасных отбросов человечества, повстанцами, гайдуками, карманниками! У Австрии были отличные судьи, преданные империи, собранные по разным ее уголкам, неподкупные. Это вам не кадии, которые за несколько золотых забывали, за что кого следует наказывать, и надо ли его вообще наказывать. Закон для всех един, настоящий закон. Народ же в это не верил, потому что жизнь научила его властям не верить.
Но Зайфрид будет претворять в жизнь юстификацию, он руководит группой из пяти человек, грубых и суровых, коих еще следует обучить. Любой другой для него — обычный кретин, ничего более — ein Kretin, ein Dummkopf, настоящий швайнкерль. На первом месте его помощники, и только потом все прочие. Похоже, даже для брата Ганса он не делал исключения. Правда, почти никто и не знал, что такой существует.
Слишком далеко вперед мы забежали, не следуем хронологии, потому что она не укладывается в повествование, которое онанистически возбуждается и пошло, пошло, не угонишься за ним. Потому и проливается бесполезное семя там, где ему места нет.
5
Ближе, еще ближе, люди, дайте простор привычкам!
Город, город! Все можно назвать городом. Такой, какой есть, этот, с детским именем, на склонах гор, ощетинившийся, полный недоверия и вражды к пришельцам — называется городом. Не каким-нибудь, а столичным. Картинки откладываются где-то в мозгу, а когда засыпаешь, перелистываются, словно страницы альбома. И так будет годами. Те, кто любит его, и те, кто ненавидят, одинаково зовут его — город. Хочешь того или нет, он не может оставить тебя равнодушным, он намертво прирастает к твоей коже, как немыслимое удовольствие или невыносимая чесотка.
Крейсирует Сарай-городом Зайфрид, пересекает его вдоль и поперек, поднимается в гору, про которую ему сказали, что называется Требевич, потом на противоположный холм по имени Бьелаве. Однако далеко не забирается, сказано ему, чтобы держался центра. Тут тоже много бродячих собак, убогих нищих и голопузых ребятишек, которые вызывающе смотрят на каждого по-европейски одетого прохожего. То и дело кто-то из них натыкается на него: то собака, то нищий, то ребенок, по которому нипочем не догадаешься, что ему пришло в голову. Испугать тебя или продемонстрировать ненависть, или и то, и другое вместе. Лают, орут, налетают, христарадничают. Особенно эти маленькие калеки, уверенные в том, что их, таких вот, никто не посмеет ударить. А за что их колотить-то, разве только потому, что они не любят тебя и на тебя не похожи?
Есть люди, которые так и поступают, в поисках чего-то, или кого-то, привыкшие к подобным провокациям в других городах империи, но здесь следует быть начеку, разъяснили им, любая жалоба будет обстоятельно рассмотрена, наказания соответствующие, суровые и своевременные — трибунал за насилие над туземцами.
Наверное, следовало бы объяснить, что здесь понимают под насилием? Кто кого подзывает, провоцирует, предлагает? Все это было и до их прихода, все-таки речь идет о правовом городе, восточном поселении, в котором смешались люди из разных краев, с различными желаниями и привычками, у каждого своя еда и своя плоть — как им противостоять? Только умолкнут ружья, слышится новый клич, и войско отправляется на охоту. За ним следуют те, кто предлагает развлечения, окрепшее местное население, и все вместе наваливаются на клиента. Освободившись от прежней морали, местная молодежь сходу включаются в пестроту блуда, быстро находит в нем свое место, интерес или погибель.
Редко когда можно найти историю развращения какого-нибудь города, как будто все города — сплошные святилища, и как будто в святилищах не блудодействуют. Не желают ли историки таким отношением к развратной жизни сказать, что в подобных городах не делается и не меняется история? Разве иная дама легкого поведения не играет в определенный момент большую роль, способствуя хитросплетению исторических обстоятельств?
Зайфрид запомнил первые картинки: мощеные диким камнем узкие проулки, грязные тупики с прокопанными посреди канавами, ударяющими в нос самым разнообразным человеческим и скотским смрадом; большие мечети и бани, где постоянно в одно и то же время собираются одни и те же мужчины, и никогда — женщины, а он искал именно их, как ищут под камнями дукаты; старая православная церковь на Башчаршии, вокруг которой то и дело полыхали пожары, а она оставалась прежней, утопая, казалось, от старости в землю, окруженная иными богомольцами; грязная Миляцка, подмывающая берега и несущая человеческий кал и коровий навоз. Далее следует подмена, почти незаметная, когда не понимаешь, когда что построено и в какую эпоху этот квартал изменился; Миляцка более не предоставлена сама себе, на ней появилась подпорная кладка, мечети более не самые высокие строения, вот здания государственных и местных властей, вот гостиницы, вот не воняющие улицы; в конце концов, все это сливается в единое целое, и невероятно тяжело распутывать клубок слов, текущих своим чередом. Потому что это не непрерывная нить, есть на ней узлы, обрывы и запутки — не все согласны с тем, что прогресс — это то, что строится, есть и аборигены, которые смотрят на все это то с удивлением, то с нескрываемой враждебностью, есть и такие, что сами начинают строить — теперь берут пример с обширной северной империи. И пусть так, Бог им в помощь. Так думает не только Зайфрид, но и порядочная часть местного населения, которая приняла новую власть как известный перст судьбы.
Древний мудрец говорит, что на смену периодам строительства приходят времена страшные, обычно недолгие, когда природа грозится уничтожить все человеческое. Наваливаются болезни, вдвое уменьшая население городов, наводнения уничтожают плоды многолетних трудов, вот и огонь, словно беснующийся татарин, испепеляет и сжигает все вокруг, а еще, не дай Боже, войны и землетрясения, которые сопровождаются всеми этими и многими другими несчастьями, так что руки опускаются и пропадает желание строить.
Но кто знает, что понуждает человека опять приниматься за восстановление уничтоженного?
Вот, скажем, огонь! Страшная янгия — говорят старики. Знают они такие слова, которым пришельцам еще предстоит научиться, если до этого дело дойдет. Слова, которые значат больше, чем слова, с помощью которых мы разговариваем, потому что они означают принадлежность. Разделение на наших и не наших.
Полыхают земля и небо! Негде спрятаться, не отнять у огня хоть малую толику своего.
Кто дольше живет, тот больше помнит таких напастей. Горят торговые ряды, ставни на лавках, исчезают переулки, тупики, лачуги и немногочисленные двухэтажки. Когда с крепости, которая уже давно ни от чего не защищает город, превратившись в тюрьму для непослушных, раздаются три пушечных выстрела, всем становится ясно, что уже все готово и больше уже ничего не сделать. Бабахнуло на правом берегу Миляцки, в лавке, битком набитой горючими материалами и страхом. На этот раз началось с капли кипящего воска, упавшей в бочку со спиртом.
Когда оккупационная власть начинает издавать разные приказы, вроде весьма важных т. н. «Полицейских правил работы с горючими материалами», местное население видит в этом покушение на их свободу и ненужное вмешательство в старинные обычаи. Потому как, судя по оскорбленным чувствам местного населения всех вероисповеданий, старое здесь всегда лучше нового. И теперь призывают султана как спасителя даже те, кто совсем недавно желал ему смерти.
Все лето царила засуха, все выгорело, иссохло, но еще не превратилось в пепел. Над городом парила дымка из пыли и цветочной пыльцы. Дождь ронял капли только для того, чтобы не забыли о том, что это такое, он даже не мог прибить пыль и разогнать мух.
Говорили, что загорится непременно, но никто ничего не делал для того, чтобы упредить пожар. Просто все ждали огня как Божьей кары. И когда он пришел, те, кто утверждал, что пожара не избежать, удовлетворенно кивали головами, не включаясь в борьбу с огнем. Его высокопревосходительство, невидимый для граждан и неприкосновенный императорский генерал-губернатор Вильгельм, герцог Вюртембергский, лично командовал пожарными, но без видимого успеха. Для него важно было отметиться в служебном рапорте, направленном туда, наверх, доложить, что он присутствовал лично. Фертихь! А ущерб пускай Бог возместит.
В числе тех, кто на следующий день посетили пожарище, был и Алоиз Зайфрид, брезгливый молодой человек с бледным лицом и щуплого, на первый взгляд, телосложения. Одетый в черное, он походил на большого ворона, спустившегося с Требевича на выгоревшее пространство в ожидании добычи.
Пока еще не было известно, что ему достанется. Пока ничего, он просто впитывал в себя городской пейзаж.
Он видел взрослых людей, рыдающих как дети. Почему они плачут? Ведь остались в живых! У него возникали вопросы. Говорят, это было страшно и невиданно. Как будто возможно еще что-то более невиданное! Сгорело то и это, наверное, то, что и раньше горело. Солдаты тушили пожар, и некоторые из них пострадали, что совершенно естественно для солдат во время пожара. Такова жизнь, думал Зайфрид, если мы посмеем на минутку заглянуть ему в мысли.
Зайфрид вернулся на Бистрик; ему с первого дня понравился этот район города, возвышающийся над кварталами, жившими по непонятным ему законам.
Газеты сообщили, а Зайфрид переписал на бумажку и спрятал в коробочку: «Во время большого пожара на Башчаршии в 36 улицах сгорели 304 дома, 434 лавки и 135 других строений. Из самых значительных объектов сгорели четыре мечети, католическая церковь, германское консульство, Ташлихан, Джулов хан, Ханиках и синагога». Внизу бумажки приписал: 1879.
Записал и следующий разговор:
— Кто больше всех пострадал?
— Похоже, Памуковичи. Все сгорело.
— Какие это Памуковичи?
— Как какие, здесь только одни Памуковичи жили.
— Никогда не слышал!
— Услышишь, время еще есть. Ты, похоже, нездешний?
— Точно.
— Был у них хан, теперь ничего не осталось. И все склады вокруг хана, все дворы, кроме одного склада у Джумручии.
— Во как!
— Нездешний ты, мужик. Не знаешь ты Сараево.
И я тоже, сказал про себя Зайфрид.
6
А ведь пожар не единственная беда в Сараево, других тоже хватает. Скажем, наводнение.
Когда здесь дождь начнется, заклокочут водосточные трубы, хлынут потоки вниз по Алифаковцу, в Миляцку, в свой единственный естественный водоотвод, и вести, достигающие каждого уха с невероятной скоростью, сообщают о наводнении. Беснуется Миляцка, говорят они, и новость эта сообщается из уст в уста, от малого к старому. Подмывает дома, разрушает их, угрожает мостам, уносит дрова, заготовленные на зиму. Страдают самые бедные, которым почему-то нравится, чтобы их лачуги стояли у воды, а в другом месте им и в голову не придет строиться. К тому же чаще всего они им и не принадлежат. Как-то раз заговорили, что больше всех пострадал хозяин Максо Деспич, а потом, года еще не прошло, он уже дворец строит. Вот и гадай, что на самом деле с кем случилось. Скажем, было у него что-то, и что-то он потерял, но не растерялся, потому что такие не пропадают — несчастье их подстегивает, заставляет дальше и больше зарабатывать. Те, что бедствуют, по-другому и жить не могут, есть им что и кого проклинать. То Деспича, то Ефтановича, они быстро заучивают эти имена, и только Зайфриду ни о чем не говорят, но слова их в уши влезают, в корчме чаще и лучше всего.
Есть и польза от этой воды, когда она смывает столько клозетов, загаживающих Сараево. Боже милостивый, да когда же этот город походить станет хоть на какой ни то сравнимый по величине австрийский город? Скажем, на Грац, или Линц. В засуху говно воняет, в дождь канавы разносят его по переулкам. Потому здесь народ такой желтокожий и болезненный, все время кто-то за брюхо хватается, ищет уборную — «ченифу», как они говорят, тьфу, и еще сотню раз тьфу!
Но и этого маловато будет. Одно несчастье — вроде как и не беда, два — все равно что одно, и так далее. Привык народ пожимать плечами и терпеть.
Пронеслась весть, что сюда чума из Египта идет. Власти стали строго наказывать и штрафовать всех, кто не соблюдал нововведенные правила гигиены. А в здешних условиях их нелегко выполнять. Вряд ли кто даже понимал, что эти слова значат.
Посмотри хотя бы на главную улицу, которую тут же переименовали в честь Франца Иосифа, на что она похожа. А ведь она призвана быть главной улицей императорско-королевского города. Такая улица — оскорбление его величества. Посмотри собственными глазами, или обнюхай собственным носом, и никакие описания тебе не понадобятся. Мясо продается на улице, прохожие его куски перебирают, хватают немытыми руками, подкидывают на ладони, прикидывая вес. Мясник то и дело выплескивает из ведра на тротуар смердящую кровавую воду, и та стекает в канаву посреди улицы. Смотри не попади под такой душ, они это с удовольствием! Не зевай по сторонам, а гляди прямо перед собой, чтобы не ступить в канаву или какое другое говно.
О смраде и говорить нечего. Разве может его выдержать европейский нос? Присмотрись внимательнее, муха на мухе и мухой погоняет, миллион крылатой напасти.
Но порядок следует установить. Раз и навсегда! Суровые меры и все более жестокие штрафы — вот путь в цивилизацию. Пусть торговцы возмущаются, толку от их возмущений никакого. Те, что их наказывали, вряд ли понимали, о чем толкует мясник. Сколько еще лет пройдет, пока они выучат язык, а у кого-то и по гроб жизни не получится.
7
А есть ли что хорошее в Сараево, быть ведь не может, чтобы не было?
Зайфрид познакомится с едой и питьем, которые не спеша и разборчиво принимает, иной раз и после неоднократного блева. Но ракия ему сразу пришлась по душе, настоящее лекарство.
— Не будь ракии, все бы перемерли, — сказал он однажды своему лучшему плотнику Энцо Берлускони. Этот шустрый плотник был родом из Приморья, из Водица, что неподалеку от Шибеника, и никак он не мог привыкнуть к климату этого скалистого края и к сараевской котловине, протянувшейся до Илиджи.
— В этом городе все делается, чтобы перетравить жителей.
Берлускони также на дух не переносил здешние обычаи, и в первую голову еду, вроде чевапчичей в лепешке. Тосковал по рыбе, и часто рассказывал прочим членам команды о рецептах ее приготовления. На углях или там на решетке. Терпеть не мог сливовую ракию, ту, которую маэстро Зайфрид нахваливал, его от нее пучило, после нее несколько дней подряд блевал.
— Мне только одну кружечку вина, — жаловался он в командировках, с отвращением отталкивая от себя тарелки с едой и стаканы.
Холодный воздух спускался с Игмана, они вдвоем протаптывали дорожку в снежной целине на Илидже. Передавали друг другу бутылку с ракией, к холодному горлышку которой прилипали пальцы, до тех пор, пока не опустошили ее.
— Теперь не замерзнем, Энцо! — кричал ему Зайфрид.
— Срать я хотел на эту страну! — вопил Энцо Берлускони, чувствуя, как пальцы его ног отмерзают один за другим.
Зайфрид ничего такого не ощущал, его желудок впитывал ракию как целительный бальзам.
— Чем крепче, тем лучше, но настоящую препеченицу редко где встретишь.
— Здесь редко встречается все, что годится, — продолжал причитать Энцо Берлускони.
— Что ж ты, Энцо, из Приморья уехал, если зиму не переносишь?
— Я голод не переношу, маэстро.
— Жаль, что такой мастер, как ты, не ставит дома и другие строения, а всего лишь мои обыкновенные виселицы, — в который раз со вздохом произнес Зайфрид.
— А что ж ты вешаешь людей вместо того, чтобы развлекать их своей музыкой? — отвечал ему плотник, скрючиваясь под воздействием внешнего холода и внутреннего огня в желудке. Его мутило от бурды, которую ему приходилось пить, он то и дело рыгал, ощущая во рту отвратительный вкус вареной баранины.
8
Назначая Алоиза Зайфрида на должность государственного палача, генерал-губернатор оккупированных территорий Боснии и Герцеговины Вильгельм, герцог Вюртембергский, вводит там гражданское правление, армию же отправляет в казармы. Его подчиненные, вплоть до тамошнего капитана Мане Цветичанина, командира взвода жандармерии, истолковали это решение как приказ: очистить страну от гайдуков. Этот суровый и непреклонный уроженец Лики готов был отца родного арестовать и предать суду, если только власти прикажут. Он прекрасно понимал, что вовсе не обязательно хватать гайдука, куда как легче сразу убить его.
— Гайдуки — разбойники, и судить их должен гражданский суд. Пусть армия отдохнет. А жандармов — в леса, ловить разбойников, порядок надо навести и в этой стране. Власть должна быть справедливой и решительной. Меньше стрельбы, больше повешений. Без оправданий, чтобы народ усвоил нашу решительность. Нерешительность есть признак слабости. Кражи, убийства, уничтожение имущества — все это следует пресекать и наказывать виновных строжайшим образом. Каждый, кто посягает на чужую жизнь, ставит под угрозу собственную, и когда его схватят, пусть молит Бога, чтобы смерть его была скорой и легкой.
Судья Бремер ввел Зайфрида в должность несколькими фразами, даже не присматриваясь к нему. Говоря, он перебирал бумаги на письменном столе, никак не находя ту, необходимую, если только он вообще искал ее, а не просто делал вид. А может, ему было тошно смотреть в глаза палачу. Кроме того, у него нестерпимо свербило в промежности. Что это он за заразу успел подхватить в этой отвратительной стране?
— Закажи черный костюм. Это обязательно. Прочие члены команды пусть будут одеты прилично, не более. За костюм получишь. Как и за остальное, но немного. Казна тощая, не заглядывай в нее часто.
— Мне нечем платить за квартиру, господин судья, — принялся жаловаться Зайфрид, как он потом делал это каждый раз, настаивая на выплате путевых расходов и нищенской надбавки за каждого повешенного.
— Службу не начинают с жалоб. Поехали дальше. Ты меня слушаешь?
— Слушаю, господин судья.
— Во время исполнения не спрашивай у приговоренного имя и не интересуйся, за что его.
— Я не любопытен, — кратко ответил Зайфрид.
— Любопытничать все начинают, независимо от обстоятельств.
— Я не из таких, — продолжил палач коротко.
— Если приговорен, значит виновен. И не суть важно, что он натворил.
— Понимаю, господин Бремер.
— Потом тебе все равно кто-нибудь расскажет. Слухи распространяются, но ты не старайся прислушиваться к ним. Тем более что они тебя не касаются. Не пытайся никому ничего объяснять и не оправдывайся. Это все. Можешь идти.
Хочешь не хочешь, а он помнил имена, даты, преступления. Потом даже записывать стал, правда, не систематически. Имя и фамилия, расходы. Траты других членов команды. Доски, брус, гвозди.
О палаческих делах писал и «Сараевский листок». Читатели могли проследить казни, от Требинья до Бихача. Сколько раз в год эти расстояния преодолевал Зайфрид! Один, или в компании с помощниками. В Краину он обычно отправлялся сам, в окрестности Сараево — с помощниками. Читатели не могли увидеть каждый ручей, гору, лес, ночь и день, мороз и жару, которые встречали и сопровождали его, да им это и не надо было, потому что оно было им хорошо знакомо, сидело в них всю жизнь. Мерзнут ноги, болит живот, мочу не удержать. Упадет в постель, думая, что не встанет, но все же поднимается.
Первые годы, хотя физически самые тяжелые, были ему дороже последовавших. Казалось, ни дом ему не был нужен, ни хозяйка. Где рухнет, там и выспится, приведет себя в порядок, перекусит, и вперед. Помощники бубнят, не понимают, как все это можно терпеть. Они крепче его, но ломает их простуда, пальцы отмораживают, зубы выпадают совсем как молочные, но только с ним ничего не делается. С удивлением смотрят на него, шепчут за спиной, что здесь дело нечисто. Оберегает его дьявольская рука.
Однажды кто-то проговорился при нем, и все обмерли от страха. И если бы кто спросил их, чего они так перепугались, то не нашлись бы что ответить. А Зайфрид ответил вопросом на вопрос:
— Почему именно дьявольская, а не Господня?
Они так и не нашлись с ответом, смертельно боясь хулы.
Зайфрид наблюдает за игрой в казаки-разбойники, как игроки то и дело меняются ролями. Вчера гайдук, сегодня — жандарм. Главное, чтобы в доме и в селе был покой. Тем, кто не соглашался с этим, пощады не было. Потому и ненавидели друг друга страшно, совсем как рассорившиеся братья.
Зайфрид помнит военно-полевые суды и солдатские каре, в центре которых, на земле, на корточках или на коленях, находятся приговоренные к расстрелу. В каждого должны прицелиться трое. Когда их изрешетят, кровь течет, будто там свиней резали. Его мутило от этого зрелища, хотя сам он в ликвидациях не участвовал. Когда один молодой солдат, чех, отказался стрелять, его поставили рядом с приговоренными и расстреляли. После этого уже никто не отказывался. Стреляли зажмурившись, но стреляли. В мусульманских правителей и в православную голь перекатную. Но теперь этого нет. Остались только гайдуки в лесах, расстреливают редко, повешение — официальный способ исполнения смертной казни.
В корчме толкуют о страшных гайдуках Тандариче и Зекановиче. Никак их не доконать. Что-то здесь не так. Неслыханно, являются в город и там грабят мирных людей. Наверняка кто-то их покрывает. Неужто такой подлец нашелся, стыд и срам! Что сделать с этим паразитом, который их покрывает? Что значит неизвестно, когда все знают, кто у них главный пособник? Что такое сто дукатов, когда они больше готовы дать? А кто дукатов не хочет — пулю получит.
Зайфрид вешает их пособников, возвращается в холодную комнату и замерзшими пальцами впервые после повешения перебирает струны цитры. Музыка воскрешает для него родной дом и лес, что поднимается сразу за ним. Он смотрит в никуда и не может понять, что с ним произошло. И зачем только расспрашивал, кто эти несчастные!
Казни способствуют его необычайной популярности. Он почувствовал особый, живой интерес в тех нескольких корчмах, что привык посещать. Местные мусульмане смотрели на него с некоторым одобрением — как будто собирались приветствовать его наклоном головы. Он уверился в этом предположении, когда начал заводить беседы с некоторыми из них. Они знали, кто он такой, хотя и не совсем точно. Как до них дошли эти сведения — никто не знает. Эти люди пришли к выводу, что облавы и казни суть признак того, что новая власть меряет всех одним аршином и одним законом — нарвется на неприятности каждый, кто его не примет, кем бы он ни был, никакой слабины и уступок не будет. Особенно влахам, которые вдруг так осмелели, что, болтаясь по городу, разве что «в наши дома» не вламываются.
Пособники все — и никто.
— Мы не остановимся, пока их всех не перевешаем! — сердито говорит судья Бремер.
— Кого?
— Пособников!
— Так ведь они все пособники.
— Значит, всех перевешаем.
— Никому еще не удавалось всех перевешать.
— Никто и не пробовал. Обществу денег жалко — для них и для нас.
— Гайдуки для народа — мстители, — бормочет собеседник. Бремер самый тихий шепот слышит, потому и поставлен на свою ответственную должность.
— Мстители — кому? Разбойники пользуются хаотическим состоянием общества для того, чтобы грабить. Может, и месть встречается, но и за это следует штрик. Пусть она определяет меру мести и наказания.
Не надо бы так жестоко, шепчется народ. Те, что похрабрее, вслух говорят, особенно когда среди своих. Хотя и тут уверенности нет, что кто-нибудь из них не пойдет в жандармерию. Ничего такого не посмеют сказать Цветичанину, он бы у них всю дурь из башки выбил.
— Хватают всех подряд, даже стариков, всех мужиков. Только бабы остаются в горах.
В соответствии с приказом Вюртембергского о гайдуках и пособниках, только члены семьи не могут быть таковыми, а всех прочих следует смело ставить под виселицы. Тлело недовольство такой жестокостью. Гайдука никто не посмеет из дома выгнать, да и сдать его вряд ли кто осмелится. Башку с плеч долой, если он прознает, а если власти его и схватят, все равно найдется тот, кому отомстить захочется.
Жители Краины, семберцы, романийцы, герцеговинцы — все они православные и бунтовщики. К счастью, каждый за себя бунтует, пока где-нибудь через край не перельется и не вспыхнет по всему краю. Не исповедуются перед повешением, пощады не просят, плевать хотели на власти и на его императорско-королевское величество. Даже на Сербию, которая посылает их сюда на заклание. Если их ловят при переходе границы, то вяжут и переправляют через Дрину.
— Если отпустишь разбойника, он вмиг расплодится, — говорит в Каракае Мане Цветичанину, командиру специального подразделения, предназначенного для ловли гайдуков, сербский жандарм, лично явившийся за печально известным Швракой. За два года до этого он в засаде перебил всех его друзей, а теперь вот пришла очередь предводителя. Тот было открыл в Белграде корчму, но ненадолго. Цветичанин отыскал его, но из Сараево пришло указание передать его за Дрину, где бы он понес наказание за свои преступления. Скитаясь по селам, он убил троих несчастных, все православные. Перед этим ограбил бега Джинича, который скрывался в Триесте, пока не закончился мусульманский бунт против оккупантов. В австрийцев он не стрелял. Кое-кто из присоединившихся к нему сотрудничал с оккупационными войсками, служа проводниками по мусульманским селам. Указывали им на вождей сопротивления, все уважаемые аги и беги. Кружили все по одной и той же опустошенной местности и отбирали все, что им попадалось на глаза, сначала деньги, а потом и все остальное. Вплоть до скотины, которую продавали за Уной и Савой. Когда им сели на хвост, присоединились к Швраке и стали ночным кошмаром для всех селений между Грмечем и Козарой.
— Отец твой разбойник, и князь Милан тоже! — орет на него связанный Шврака и плюется. — Будь проклята Сербия, что путается со своими врагами!
— Сколько ты дукатов награбил? — спрашивает его Мане Цветичанин.
— Не твои, — злобно отвечает Шврака.
— Так ведь чьи-то, Шврака, разбойничий ты поганец, — вторит ему Мане Цветичанин.
— Цветичанин, курва ты сербская!
— Шврака, урод ты сербский! Истребим мы тебя под корень, чтобы зерно смогло на полях расти.
9
Вот Зайфрид сидит в обществе Мане Цветичанина, которому почти каждый православный в Крайне смерти желает. Тепло, почти жарко под каштанами самой знаменитой кафаны в Баня-Луке по имени «Босния». Третий человек в компании — Эмерик Пасколо, душа этого заведения, которое он хочет переоборудовать в настоящую гостиницу. Принеся им по кружке холодного пива, Пасколо молчит, прислушиваясь к беседе необычных гостей.
— Говоришь, его трапписты варят? — бормочет Цветичанин.
— Да, господин Мане. Лучшего пива в Боснии не сыщете.
— Ладно, уговорил. Я Боснию хорошо знаю. Если разбежаться как следует, перепрыгнуть запросто можно. Я тут всю северную часть облазил, каждый лес знаю. А сыр есть?
— Очень хороший сыр, господин Мане, просто замечательный сыр.
Смуглый, со шрамом на лбу, всем своим ликом Мане Цветичанин нагонял страху на старых и молодых. «Брысь отсюда, — кричали бабы на непослушных детишек, — вон Цветко идет!», а те верещали и бежали в дом, чтобы спрятаться за квашней или в кладовке среди сыров.
Зайфрид смотрел на шефа краинских жандармов с нескрываемым уважением. После десяти лет охоты на гайдуков и больших успехов, достигнутых в этом деле, народ испытывал к нему ненависть и уважение одновременно. Уважали его те, кто на собственной шкуре испытал нападения гайдуков, независимо от вероисповедания. Ненавидели в основном сербские крестьяне, которые и сами не прочь были примерить на себя гайдуцкую долю. Хотя бы временно, чтобы завладеть чужой скотиной или женой.
— Сколько лет было этому Вучковичу, как думаешь? — промолвил после долгого молчания Зайфрид.
— Я его столько лет ловлю, что только сами Господь Бог знают. А зло он творит еще с туретчины.
— Как это — с турецких времен?
— Еще до бунта принялся нападать и грабить своих родственников. Вроде как из-за земли повздорили, или еще чего-то. Был он задира и наглец. С людьми говорить не умел, матерился, пил да дрался. Слово за слово, и тут же за нож хватается. Турок не трогал, и бега тоже. Так насолил одному из своих братьев, Миливою, что тот пришел к бегу и стал упрашивать отпустить его в Баня-Луку. Бег не хотел, говорил, что отступник опамятуется, главное, что он никого не убил, но Миливой и слышать не хотел. Не может больше мерзавца терпеть, и все тут. Наконец бег отпустил его, пусть идет, куда глаза глядят. И теперь он вот тут, за теми вон домами, сам себе хозяин. Нет крестьянина в Врховце, который бы не заглянул к нему во вторник, после базара.
— А может, это просто предлог был, или же они договорились, чтобы он смог переселиться в Баня-Луку? Хитрый это народ.
— Когда бунт начался, Вучкович присоединился к Пецие. Шуровали они в окрестностях Подградца. Но, признаюсь, был он осторожен. К Саве не спускался, все еще боялся бега. Между ними как будто договор такой был: не трогай ты меня, и я тебя не трону. Однако вскоре и от Пеции ушел, просто так, молча от повстанцев ушел. Когда в долине у Гашницы погибла дружина Пеции, Вучкович подался еще глубже в горы. Его в домах не могли не принимать, не давать еду и одежду. Всем пригрозил, что головы поотрывает, если прознает, что они с властями знаются.
— Или они просто таким образом оправдываются?
— Все может быть, но не в нашем это характере — слушаться и отдавать. Они его возненавидели, как только он там появился, и начали сообщать мне, где он да в какую сторону ушел. А поди угадай, где он через день или полчаса будет, никто этого не знал. Я, конечно, мог их пособниками объявить да перевешать всех, но нет. Не виноватые они были. Нельзя за дикого зверя отвечать. Вепрь или медведь, вот такой он и был, этот Вучкович. Были и другие, но я тебе про него рассказываю, потому что именно ты его повесил. Но вот, наконец, он двух моих человек убил, своих земляков. Мы ждали, пока его усталость одолеет, иначе никак живьем взять невозможно было.
— И все это он один?
— Волчара он был, одиночка, редко когда в компании. Говорят, и на женщин нападал, известно почему. В последнее время избивал и грабил. Сейчас многие вздохнут с облегчением.
— А девчоночки, господин Пасколо? — резко переменил тему беседы Зайфрид. — Где они теперь?
— Девчоночки в прекрасном новом доме. Желтым выкрашен. Все новехонькое, и девчоночки тоже. Говорят, из Галиции. Мальчик вас отведет.
— Господин Цветичанин, что скажете?
— Не привык я к этому, но разок попробовать можно. Только не знаю, за чей счет.
— Ха-ха-ха, я и не подозревал, что вы так с людьми шутить умеете!
10
Зайфрид умеет оказаться рядом с людьми, которые ему интересны, навязаться к ним, завезти разговор, во время которого они будут часто кивать головой. Если знают, и если даже не знают, кто он такой. Как будто внешний вид подсказывает, а иной раз и прямо указывает на его профессию. Хотя мало кто из людей мог описать палача, не того, о котором мы ведем рассказ, а любого палача — просто мало кто их видел. И пусть никогда не встречают их на своем пути, пусть им свезет по жизни. Тем не менее, наш палач тут, на улице или в кафане, молчит, поглядывает, выбирает. Взгляд его упирается в чью-то шею, белую и податливую.
Много раз говорили ему, что следует избегать мест, где собирается народ. Почему — не объясняли, хотя он быстро пришел к выводу, что из-за собирающейся там публики, а не ради его самого, или, не дай боже, из-за властей. Что его никто не боится, что народ об этом даже не думает, и тому подобное. Напротив, он полагал, что появление в народе, на улице, где угодно, может быть только полезным, ни в коем случае не страшным. Как и в случае с любым другим мастером или ремесленником, одно дело, когда имеется в виду работа, и совсем другое, когда человек идет своим путем и по другим делам. Он просто живет. Не хочет быть исключенным из жизни. Нет для этого никаких причин.
Он чувствовал, что начальники почему-то недовольны им, и задавался вопросом, с чем бы это могло быть связано. Но не слишком сильно ломал над этим голову, пусть они себе чешут там, где у них свербит, но только не он.
Очень скоро стало известно, что Зайфрид любит сомнительные компании, их участников он считал людьми искусства, весельчаками и беззаботными прожигателями жизни, в то время как чаще всего они были обычными циркачами. Он и цыган может стаканчиком угостить, правда, если только обстоятельства позволяют. То и дело жалуется, что денег не хватает на подобные траты и благотворительность, но кое-что все-таки найдется. Особенно если речь пойдет о цыганочке, готовой потом забраться в его постель. Тут он не привередничает, она может быть совсем молоденькой, но и от старых он не отказывается. Вплоть до такого возраста, в котором совсем матереют и забывают, что надо делать. Ему словно приятно, что молоденькие относятся к нему с уважением, как к отцу, хотя ему нравится и сыночком побыть, когда проводит время с опытными старушками, через которых прошел не один полк оккупационных войск. Иногда кто-то из таких доверительно сообщал, что когда-нибудь ему это надоест. Кто рано начинает, тот рано заканчивает. Не любил он мудрые изречения, обычно скалил зубы в ответ.
Он мог спросить доктора Кречмара, откуда у него только силы берутся и такая потребность, но ему и в голову не приходило, что он в этом деле чем-то отличается от прочих. Разве люди вокруг не такие же, как он, если только об этом и говорят? Все мужские разговоры только к этому и сводятся, чего же ему-то быть каким-то особенным.
Да только жизнь свое берет, Зайфрид знакомится с доктором Кречмаром, высокую стройную фигуру которого он давно с любопытством рассматривал. Настолько он отличался от прочих участников экспедиций в бунтующие края.
Зайфрид вез собой бутылку ракии, заткнутую кукурузным початком, и вот он протянул ее доктору Кречмару.
— Что это? — сухо поинтересовался тот.
— Ракия, доктор. Живой огонь.
— Какая, молодой человек?
— Грушевая. Из черной груши, которая самая вкусная делается, когда сгниет наполовину. Ничего лучше здесь не произрастает.
— Здесь — да, но в Герцеговине получше есть, лоза. Виноградная лоза, божественное растение, из которого божественный напиток получается — лозовача.
— И вино, доктор.
— Так ты в напитках разбираешься, молодой человек?
— Ну, я так не сказал бы.
— Мне можешь прямо говорить. Ты за казнь отвечаешь, не так ли? Палач, попросту говоря?
— Назначили…
— И тебе это нравится, да?
— Откуда я знаю? Если начальство велело…
— Ну, со мной можешь откровенно говорить. Давай посмотрим, что у тебя за ракия.
Одежда на докторе Кречмаре в обтяжку, нос острый, как у кобчика. Он слывет за хорошего врачевателя, несколько вспыльчивого, но старательного. Не надо его долго уговаривать вскочить в седло и скакать целый день, чтобы посмотреть больного, который даже и не солдат. Нет для него разницы между военными и цивильными. Но зато терпеть не может, когда кто-то вмешивается в его дела. Ходят слухи, что он любит ракию и женщин. Насчет ракии — точно, а вот про женщин — не совсем уверены. Но факты свидетельствуют в пользу слухов.
С жандармским капитаном на Соколац прибыла его молодая жена Ингеборг, которую все звали просто Ингой. Неестественно бледная, с большими голубыми глазами, с длинными светлыми волосами. Для песни создана, говорили те, кто увидел ее в те первые дни августа месяца. Не выдержит она здесь, комментировали старухи, беззубые бабы, которые просто не могут о людях сказать ничего хорошего, а все только гадости и гнусности. «А с чего это ей не выжить?» — спрашивали те, что помоложе. Эх, вот сейчас мы вам и расскажем.
У Инги были постоянные головные боли, начались они с того дня, как на Соколац поднялся доктор Кречмар. Он приходил туда в основном тогда, когда командира жандармов Ганса не было дома. После полудня Инге обычно становилось легче. Иногда она даже распевала свои швабские песенки, слова которых никто не мог разобрать, а иной раз даже слов в них не было, только мычание. Умела она и йодловать, но это с ней случилось только один раз, никто знает, по какой причине. Будто звала кого-то, хотя у нее никого в тот момент не было. Доктор оставался у нее до обеда, потом она ложилась на подоконник и смотрела на темный лес, что окружает Соколац. Где-то там носился ее дорогой в погоне за гайдуками. Боже, что это за народ?! Дикий, говорил доктор Кречмар, дикий. Как и эти горы и леса. Не может он быть иным, только таким.
Он глотнул из бутылки, предварительно вытерев горлышко рукавом, как это делают здешние крестьяне. Передернулся, когда ракия влилась ему в пищевод.
— В этой ужасной стране только одно хорошо — ракия!
Он сделал еще глоток, заткнул бутылку и посмотрел на Зайфрида, как смотрел на пациентов, которые что-то недоговаривали. Собственно, почему ракия?
Зайфрид человек не робкий, однако понимает, что можно и что нельзя.
— Что происходит с человеком, когда его вешают?
— Вот черт побери! Почему это тебя интересует?
— Хочу подойти к повешению с научной точки зрения.
— Наука разъясняет, но руководства к действию не дает. Повешение и есть повешение, независимо от того, сам человек вешается или ему кто-то в этом содействует.
— Нет, доктор, не так, посмею вам возразить.
— Смотри ты на него, а? Ну, посмей. Почему считаешь, что разница есть?
— Когда человек сам вешается, это не моего ума дело. Пусть себе мучается, сколько хочет. Я видел одного, который повесился в клозете на дверной ручке. Затягивал и затягивал петлю, пока не потерял сознание и не удавился. Ужас просто. Сколько раз я видел, как приходилось повторять повешение, когда что-то не срабатывало. Даже у меня нечто подобное случалось. Это меня задевает, жертва не должна мучиться. Не по христиански это, да и не по закону. Хочу, чтобы все было быстро и окончательно. Тип-топ, и готово.
— Прости, я удивлен. Ты, парень, не палач, а доктор настоящий! У меня про это дело книжка есть. Я частенько должность судебно-медицинского эксперта исполнял. И тебе точно опишу, что происходит с повешенным. Вот так. Что происходит, когда петля затягивается на шее? Какие усилия необходимы? Я имею в виду физическую силу, приложенную любым способом: можно и за ноги тянуть, и тому подобное. Дилетанты полагают, что петля ломает позвоночник, но это не так: она прекращает приток крови к мозгу. Считается, что для полной компрессии югулярной вены достаточно усилия в два килограмма, а каротидной артерии — от трех до пяти килограммов. Для перекрытия дыхательных путей необходимо как минимум пятнадцать килограммов, а вертебральной артерии — тридцать. Исходя из этих требований, можно предположить, что повешение возможно осуществлять в самых разнообразных положениях, даже в лежачем, при единственном условии, что вес части тела превышает указанные цифры, к каковому выводу ты и сам пришел в результате наблюдений и размышлений. Твой пример с клозетом также неплох. В момент затягивания петли немедленно происходит потеря сознания, в крайнем случае — восемь секунд спустя. Известно, мой друг, что мозг расходует огромное количество кислорода, а благоприобретенные резервы он тратит всего за несколько секунд. Если в него не поступает новая порция кислорода, то вследствие повреждения клеток мозга наступает потеря сознания. Клетки мозга умирают очень быстро, гораздо быстрее прочих клеток нашего тела. Через пять — семь минут разрушения становятся ирревезирбильными, то есть безвозвратными, и никакая, даже самая профессиональная помощь не в состоянии вернуть человека к жизни. Ты следишь за моей мыслью?
Слушая доктора Кречмара, Зайфрид в глубине души переживал драму собственной несостоятельности — как несправедливо, что судьба не проявила благосклонности, и жизнь не дала ему возможности изучить медицину! Но есть все-таки лекарство от этой беды, он начнет учиться сам.
— Да, да, слежу! — поспешно ответил он.
— Вряд ли ты поймешь, но все-таки. И от этого вылечиться можно. Что еще важно в этом деле? После затягивания петли наступает полный покой, за которым следуют судороги и подергивания, которые длятся около тридцати секунд. Ты ведь это заметил, не так ли? Ты внимательный наблюдатель, это хорошо. Далее следуют еще от пяти до десяти сильных судорог, примерно каждые пятнадцать — тридцать секунд. Затем начинает работать мускулатура лица, вываливается язык и течет слюна. Слабые признаки жизни могут проявиться даже минут через двадцать. И что же здесь самое интересное? Появление спермы в моче, агониальная эрекция, то есть, он просто кончает. Ты ведь заметил это? Ах, эти сладкие судороги! Как тебя зовут?
— Алоиз Зайфрид, доктор.
— Вот в этом, Алоиз, и есть тайна жизни. Повешение есть то же самое, что и вершина сексуального акта, во всяком случае, если речь идет о мужчине. И то, и другое — агония. Агония жизни, которая говорит нам, что сексуальный акт есть конец существования. Испускаешь сперму, и больше ты никому не нужен. Все, что следует после этого — чистая прибыль! Пей, ешь, еби!
— Что-то ни вас, ни меня на закуску не тянет! — откликнулся Зайфрид с улыбкой.
— Ты мне нравишься, Лойзик, как у нас говорят. Я, наверное, подарю тебе кое-что. Так что читай, учись, может, тебе не только полезно, но и интересно будет.
Он открыл зеленый деревянный сундук и вытащил большую, довольно-таки потрепанную книгу. Анатомия.
Так началась необычная, если мы позволим себе некоторое преувеличение, дружба доктора и палача. Во всяком случае, они стали более-менее хорошими знакомцами, которых на долгие годы сводит жизнь, как это обычно случается, особенно в таких краях.
Зайфрид все же немного побаивался врача, вспоминая патологоанатома, который рассказывал солдатам такие ужасные вещи, что они старались исподтишка поколотить его, каковые попытки он использовал для предания их телесным наказаниям. Он ни для кого не мог найти доброго слова, называя каждого идиотом, скотиной, кретином, говном.
Как-то раз он рассказал об этом доктору Кречмару, на что тот улыбнулся и отозвался загадочной фразой:
— Он был совершенно прав, но только не следовало произносить эти слова вслух. А если уж произносишь, то начинай с себя. Всегда — с себя. Это как лекарство. Если ты не испытал лекарство на себе, тем более новое, незнакомое, то не имеешь права прописывать его другим. Как ты думаешь, что этот идиот говорит себе утром, глядясь в зеркало, а?
11
Строго придерживаясь духа этой истории, рассказчик не может упустить случай, чтобы вмешаться в ход событий. Просто идеальный для этого момент, и потому — вперед, в народ!
Душный августовский послеполуденный час. Кто сумел — спрятался в тенек, совсем как тот белый лохматый кобель, что трупом лежит под раскидистой липой. Благодаря ее величественной кроне, здесь, на Быстрике, тенисто, весьма комфортно для нескольких постоянных клиентов, которые тихо, почти в молитвенном состоянии, сидят над чашечкой кофе. Курят, поглядывая на город, что простерся было внизу, и опять, не спеша, поднялся в гору, белый, совсем как тот ленивый пес, разлегшийся перед воротами корчмы. Местами внизу что-то делают, сносят целые кварталы, возводят новые дома. Отсюда, сверху, эти места напоминают черные струпья на желтоватом теле умерщвленного организма по имени Сараево.
— Копайте, копайте, — говорят сарайлии, — шайтана и откопаете!
Зайфрид сидит за столиком в самом дальнем углу, далеко от чужих взглядов, особенно тех, кто входит, едва приметен, так как скрылся в тени. Здесь он еще не обжился, и потому осторожно осматривает внутренности корчмы, немногих посетителей, бочкообразного корчмаря, который ковыляет между столиками, выкликая тонким, высоким голосом, совсем как баба-колдунья, содержание меню: тархана чорбаси, сигр дили, баклажаны чебаби, слоеный пирожок, джулбастия, бамия, мухалеби, таук чебаби, калуб татлузи, булдржун пилави. Мама моя, пальчики оближешь!
Зайфрид еще не овладел всеми этими названиями. А корчмарь считал форинты с такой же легкостью, как и прежние аспры. Чего тут не научиться?
И тут вдруг над ним нависла огромная тень, будто желая обрушиться на него. Изумление было неподдельное, он и не заметил, как незнакомец приблизился к нему, молча подкрался, вырос внезапно, такой высоченный и страшный. Он даже лица его не успел рассмотреть, ничего не разглядел. А тот, будто его давно пригласили, опускается на свободный стул и смотрит на палача запавшими черными глазами. Теперь Зайфрид может его как следует рассмотреть, хотя первым делом в глаза бросается то, что он уже старый и бояться нечего, может, ему уже за восемьдесят, и чувство такое, что он уже давно с ним знаком. Наверное, где-то видел, но где — припомнить не может. Оба продолжают молчать, словно борцы, готовящиеся к жестокой схватке, или звери, которые приглядываются, прикидывают, стоит ли наброситься друг на друга, или же лучше отказаться от боя. Нет, он не знает этого человека, хотя и возникает странное ощущение, что он ему не чужой. Но почему? Нет, схватки точно не будет!
Зайфрид ест арбуз, только что вынутый из колодца, зубы ноют от приятной свежести, не спеша наслаждается его сладко-холодным вкусом. У него собственная чакия, как здесь называют кинжал, амулет с раннего детства, и он отрезает им маленькие кусочки, очищая их от черных косточек, очищенные кусочек насаживает на острие ножа и подносит к губам. Но теперь он недовольно откладывает кусочек в сторону в ожидании речей незнакомца. Если он знает его, то ему наверняка известен род его занятий. Что ему надо?! Сообщить что-то, или просто поговорить? Может, что-то станет предлагать ему? Продавец или сводник, хорошо знакомый с его слабостями? Цыганочка, или местная тетка, истощенная своим ремеслом? Так он ведь и от такой не откажется, нет!
— Мустафа, палач, бывший, турецкий палач, — забубнил незнакомец беззубым ртом. — Вешал, головы рубил, душил, все виды смерти знал. Знаменит был своими пытками. Годами в пытках совершенствовался, все испробовал, о чем только слышал, или же видел где-то, но еще больше своих собственных придумал. Все знали, на что я способен и чего стою. Вся округа меня ненавидела, я даже к корчмам не подходил, но теперь все позабылось. Но я в душе навсегда палачом остался, — продолжил он выплескивать на Зайфрида свою исповедь. — Говорят, ты тоже палач? Правда, что ли?
Момент вроде как торжественный наступил, знакомство двух мастеров своего дела, возможно, весьма полезное для обоих.
— Алоиз Зайфрид, к. унд к. палач Боснии и Герцеговины, государственный палач. Ничего того, о чем ты говоришь, не умею, я просто вешаю. Я придумал свою виселицу, замечательную, если не лучшую в мире. Повешение происходит быстро, в момент, и все довольны. Не успел комар пискнуть, как все готово! — Зайфрид, как всегда, говорит спокойно, самоуверенно, с сознанием собственного опыта и авторитета. Что касается авторитета, то его всюду уважают, а вот об опыте далеко не всем известно. Собственно, он о том сказал, что еще только предстоит ему, в случае, если все хорошо сложится. Но ему кажется, что все это уже есть у него, да почему бы и не быть тому, если он такую сильную потребность ощущает. Будет, конечно, как не быть. И виселица будет, которую он сейчас мысленно совершенствует.
— Если приходит она, как ты говоришь, так быстро, что комар пискнуть не успевает, тогда она и не смерть вовсе, не наказание, а награда! — спокойно возражает ему Мустафа. Разница меж ними в годах не меньше полувека, но еще больше они внешне отличаются. Мустафа печеный, такой черный, что и не понять сразу, из каких он, но, несмотря на немалые совсем годы, все еще в полной своей силе. Зайфрид, полноватый, глаза кровью налитые, лицо бледное, хотя волосы тоже черные, и несмотря на молодость — усталый и помятый человек.
— Не хватило бы тебе силенок, Алоиз, для бывалого нашего палаческого ремесла, нет! Таких прежде на службу не брали. Посмотри-ка ты вот на эти кулаки, раньше их все боялись. Все, Алоиз, без исключения. Каждый верил, что я в любой момент их за горло взять могу. И крюк под ребро не нужен был, этих моих ручищ вполне хватало.
— Чего тебе от меня надо? — спрашивает Зайфрид, не глядя на кулачищи Мустафы. Государственный чиновник, он не считает нужным вступать в разговоры о своем ремесле с посторонними.
— Да ничего такого, нет мне до тебя дела. Просто подумал, что неплохо бы познакомиться. Может, чем полезным смогу быть.
— Чем полезным? — холодно откликается Зайфрид, хотя прекрасно понимает, в чем тут дело. Не один только Мустафа предлагал свои услуги оккупационным войскам и чиновникам, многие с разными предложениями заявлялись.
— Да все ты прекрасно понимаешь, Алоиз. Есть у меня кое-что для тебя, — отвечает Мустафа.
— Для меня? — недоверчиво откликается Зайфрид. — И что же?
— Женщина! Молодая женщина, чтобы тебя развлечь. Меня только женщины от дела отвлекали, но мне они тяжко доставались.
— Что это за женщина? Твоя?
— Нет, у меня женщины нет. Девочка для развлечения, так скажем. У меня на квартире. Все так говорят, а ты парень умный, понимаешь, что я имею в виду.
— И сколько же ты хочешь?
— Договоримся. Если не тебе скидку делать, то кому же? Мы ведь коллеги.
— А разве это что-то меняет по сути?
— Да я просто хочу спросить тебя, если не побоишься и сможешь ответить: почему вы публично не вешаете? Хотелось бы мне глянуть на твою виселицу да на то, как ты работаешь!
— Как это — публично? Это что, на площади, в присутствии толпы?
— Так ведь не зря же это было придумано! Ничто на свете просто так не выдумывают! — Мустафа все старается увести разговор в сторону. Обычай здесь такой, совсем как на базаре.
— Это что же, чтобы народ запугать, чтобы он не грешил? — переспрашивает Зайфрид, скорее только для того, чтобы сказать хоть что-то, а вовсе не потому, что это его интересует. Он не сторонник таких расправ. Закон превыше всего.
— Да не в этом дело, Алоиз, я другое имею в виду.
— Что же?
— Народ развлекать надо.
— Жестокостью? О чем ты?
— О том, что хорошо знаю, ты, козел! Да, именно жестокостью! — налился уверенностью голос Мустафы.
— Нет, представить себе не могу, разве что только круглый идиот может наслаждаться смертью другого идиота!
— Слушай, а ты когда-нибудь наблюдал за толпой на публичной казни? Ты их видел, а?
— Конечно же, нет!
— Много ты потерял, Алоиз. Люди сутками ждали, когда я к делу приступлю, начну пытать да вешать. Будто у них, кроме меня, других развлечений и нету. Будто я пахлава для них. Стар и млад, все с детишками. Выпивку с закуской приносили, чтобы подкрепиться.
— Да ты больной! Неужто им это удовольствие доставляло?
— А ты мне сам ответь, Алоиз. Что ты в жизни понимаешь? Высочайшее удовольствие — наслаждаться пытками! — почти как афоризм произносит Мустафа. И добавляет к молчанию Зайфрида:
— Что, не понял?
— Нет, Мустафа, не понимаю я, — впервые он назвал его по имени. Его раздражало, что тот постоянно произносит его имя. Никто так не окликал его, даже редкие знакомцы, разве что только друзья детства.
— Прекрасно бы ты все понял, если бы сам в этой толпе оказался. Слушай, Алоиз, ты когда-нибудь видел, как дети мучают щенка, или кошку, а? Неужели и это мимо тебя прошло? Впрочем, неважно. Есть тут и то, что законом зовется. Так, что ли, а?
— Пытки по закону! Ты надо мной издеваешься! Что это за закон, который предписывает пытки?
— Видишь ли, и я претворял закон в жизнь, не более того. В Коране все записано. Так он тебе и велит. Не сам же ты все придумываешь, хотя и такое случается, когда закон велит мучить до смерти. Как куски плоти отрезать, кости ломать, на дыбу поднимать — все это строго прописанные правила. В мое время мало кто из палачей все это умел.
— Восточная жестокость, — с отвращением произнес Зайфрид. — Европа не такая!
— А знаешь ли ты, Алоиз, у кого я всему этому научился?
Интонации Мустафы становятся вдруг интимными, доверительными, будто он обращается к старому знакомому, даже к другу. Зайфрид смотрит на него недоверчиво, не верит ему, но все-таки его интересует то, что мог бы рассказать ему этот суровый старик, его коллега. И девочка, которую тот ему обещал, она тоже интересует его, может, даже больше, чем рассказ Мустафы. Но он увертывается и извивается, совсем как змея.
— Разве у тебя есть чему научиться? Садизм, жестокость — вот как все это зовется. Скотство!
— Погоди, что это ты все причитаешь? Человек он и есть человек, не дури, извини за выражение. Вот послушай. Мне еще и двадцати не было, когда я попал в плен к французам. На море это случилось. Они не били меня, чего ради им это было делать? Но одного из нас начали пытать, только одного. Впервые в жизни я видел нечто подобное — конца этим пыткам не было. Весь день, до самого вечера, пока бедолага не издох. Не знаю, рассказывать ли тебе все, что они над ним творили, с утра и до конца, пока его не привязали к двум лошадям и не разорвали, да и то с трудом, только после того, как переломали руки и ноги и надрезали их, чтобы облегчить лошадкам работу. А до этого уши отрезали, волосы с головы с кожей сняли, кожу со спины и с брюха спустили. Объяснили, что делают это для того, чтобы мы поняли: это ожидает каждого, кто не уверует в их короля и папу, в Христову веру, это я хорошо запомнил. Такое раз увидишь и навсегда запомнишь, точно. Кое-кто из наших блевал, я сдержался. Внимательно смотрел, и они это приметили. Спросили, не хочу ли я стать помощником палача, и я согласился, сам не знаю, чего вдруг. А их палач был уже в возрасте, знал такие пытки, про которые многие уже забыли. Они куда как страшнее и утонченнее были тех, что я перечислил.
— Мне кажется, ты все это придумал, — оборвал его Зайфрид. — Какие пытки и где?! Может, такое было лет двести тому назад, но только не в твоей юности. Выдумываешь, добавляешь, рассказываешь о том, чего сам не видел и не слышал. Тебе пытки по сердцу, не так ли, Мустафа?
Теперь Зайфрид говорил уверенно, потому что в некоторой степени опирался на собственный опыт. Может, даже в большей степени на чувства, нежели на опыт. Может, ему самому нравилось быть палачом, но не таким, Боже сохрани, жестоким и кровавым. Да только смелости не хватало самому себе признаться, что нравилось, что хотел им быть, что это ремесло создано для него. Но почему, разве это не естественно?
— Может быть, кто его знает. Мне объяснили, что нельзя иметь ничего личного против жертвы, следует просто исполнять приказ и устанавливать порядок. Нельзя его ненавидеть, нельзя и жалеть. Как будто он не человек, а просто вещь какая-то. Без душегуба порядок на земле не навести. Казнь вершится во имя правителя и Аллаха. Без нас миром бы овладели одни только сволочи. Но я не уверен, Алоиз, что такое не случится, если все продолжится так, как вы хотите.
— Наш правитель знает, что делает. О его справедливости даже и говорить нечего.
— Уважаю его, уважаю, но, Алоиз, вы в конце концов и смертную казнь отмените. Знаю я, что за горами будет. Зло оттуда придет, шайтан воду мутит. Люди ни царя, ни Бога бояться не станут.
Замолчали оба, будто оказались на самом краю пропасти, так что даже пошевелиться страшно.
— После казни я мог песню запеть, — неожиданно произнес Мустафа.
— Мой брат хорошо поет, но только не после казни. А почему ты поешь?
— Не знаю, хочется петь, вот и пою. А что ты после повешения делаешь?
— Играю. Иногда ночь напролет.
— Играешь?! На чем играешь, Алоиз?
— На цитре, если ты знаешь, что это такое. Музыку моих гор.
— Все горы одинаковы. Вот что я еще хочу сказать тебе, Алоиз. То, чем ты занимаешься, вовсе не дело. Я бы сказал, чужое ремесло.
— Почему чужое?! Чье же оно — чужое?
— Человек и сам может повеситься, но сам себя пытать не станет. Йок! Не бывало еще такого. Вот если бы ты вешал, как у нас когда-то вешали. Без виселицы.
— Как это — без виселицы?
— Так, что два палача веревкой давят приговоренного. Закручивают, закручивают, пока тот не посинеет. Потом отпускают немного, и так несколько часов. При этом еще и по ребрам бьют, в промежность, по мошонке. Ломают, затягивают, дают передохнуть. Разве ты про это не слышал?
— Оставь меня, Мустафа, ради Бога. Мне дурно.
— Да брось ты, Алоиз, ты же не баба. Я-то подумал, вот с кем я поговорить могу, с коллегой. Впрочем, если не хочешь, больше не будем про это. Найдем еще время. Глянь-ка, вон она, тебя ждет.
Зайфрид посмотрел, куда указывал рукой Мустафа. В углу, в густой тени, стояло некое существо. Ростом с девочку, однако невозможно было определить ни возраст, ни внешность. Впрочем, для него это роли не играло. Разве что только Мустафа испортил ему аппетит своими рассказами.
— Ну, что? — спросил Мустафа.
— Неохота сегодня.
— Ну, давай, Алоиз, договоримся. Заплатишь когда сможешь. Если совсем денег нет, то давай сегодня задаром. Давай!
Не прошло и получаса, как он и думать забыл о россказнях Мустафы. Девушка была умелая, не пришлось долго стараться над ней. Впервые ему показалось, что он играет, неспешно перебирая струны, звучание которых плывет не по воздуху, а сквозь тело. Она знала, за какое место тронуть его, что подставить под его пальцы. Будто сам Господь Бог научил ее, подумал вдруг Зайфрид, но тут же поправился. Нет, не Бог, скорее, этот их дьявол, шайтан, что ли. Но и она тоже может стать Его наказанием, кто знает.
12
Отец ходил в военный оркестр, слушать репетиции, но не говорил музыкантам, что сам играет, однако вскоре об этом прознали, потому что ничего нельзя сохранить в тайне. Наверное, разболтали его подручные. Может, и доктор Кречмар похвалил его. Ему предлагали сыграть с оркестром, но он решительно отказывался, а потом и сами музыканты решили отказаться от мысли о том, чтобы вместе с ними играла такая одиозная личность. Но отец игнорировал надутых музыкантов 50-го пехотного полка, и только раз удовлетворил пожелание дирижера, старшего Франца Легара, посетить его дома и послушать игру на цитре. Никто не знает, что произошло на этой встрече, но, скорее всего, все осталось так, как и должно было остаться, отец что-то играл, Легар слушал, после чего они расстались. Без комментариев. Ни один, ни другой не имели особого желания беседовать, и только отцу показалось, что он мог бы сыграть лучше, да только что-то сковывало его. Сводило судорогой средний палец правой руки, его неестественно крючило, и он попадал под струну, отца в жар бросало от мысли, что он может порвать ее. Потому что запасных струн не было.
Много позже он рассказал мне, что этот час игры на цитре был, пожалуй, самым тяжелым во всей его жизни.
13
Неопубликованная заметка В. Б.
— Вы беседовали с моим сыном о его рисунках, — встретил меня голос человека, утонувшего в перинах на кровати у окна. Мне трудно было рассмотреть его на светлом фоне, я видел только абрис, тень.
— Да, мне понравились его картинки.
— Пусть рисует, это хорошо, — ответил он неопределенно.
— Надо его подбодрить, — попытался я продолжить роль воспитанного педагога.
— Еще чего. Он же не художник.
— Живописью он занимается с удовольствием. Разве этого недостаточно?
— Встречался я с художниками, с настоящими. Невероятные рисовальщики, очень они мне нравились.
— Это очень интересно…
— Я познакомился с художником Кирхнером, очень он к себе располагал. Мы разговаривали об искусстве. Он говорил о живописи, я — о музыке.
— Вы разбираетесь в музыке?
— Играю на цитре, другими инструментами не владею.
Я заметил лежащий рядом с ним австрийский инструмент, звучание которого я ни разу в жизни не слышал.
— Так почему же вы не познакомили этого Кирхнера с сыном?
— Потому что он тогда еще не родился. Впрочем, я и позже встречался с художниками, но о чем бы они стали говорить с дилетантом? Ни о чем.
— Что вы играете?
— Чаще всего йодли. И другую музыку, которая мне запомнилась с детства. Теперь, в старости, случается, что вспоминаю какую-нибудь напрочь забытую детскую песенку. А то и Шуберта, которого давно не слушал. Особенно из «Прекрасной мельничихи».
Он взял в руки цитру и уместил перед собой. Мгновение словно колебался, или же это была необходимая концентрация перед тем, как начать перебирать струны. Он удивил меня своим мастерством, чистотой звука, даже красотой мелодии.
Его игра расслабляла меня, успокаивала, и я почти забыл о причине моего визита. Я украдкой смотрел на него из-под прикрытых век, хотя он и не старался заметить меня, и даже старательно отводил от меня взгляд. Я никак не мог увязать его профессию и омерзительную репутацию, которой он пользовался в обществе, особенно в нашей среде революционной югославянски ориентированной молодежи, с личностью, которая была здесь, предо мною, увлеченной музыкой, этим, вероятно, самым благородным искусством. В прихожей — художник, его сын, здесь музыкант, отец — семья боснийского палача. Непревзойденный комедиант, его величество случай!
— Я с детства играю, инструмент унаследовал от отца. Он умер, когда я был еще ребенком. Мы остались одни, я и брат. Нас спасла военная служба. Чем только мы не занимались, пока не принялись за палаческое ремесло. Отец учил нас, что важно как делать что-то, а не что именно делать. За что бы ни взялся, делай как можно лучше, и всегда старайся угодить тому, кто тебе дал работу, и тогда это будет угодно и Богу, и императору.
Он безостановочно перебирал струны, однако, декламируя фразы, играл тише, подбирая более медленную мелодию. Все это казалось мне неестественным, заученным, и вдруг перестал верить его словам. Я считал его преступником, но мне вовсе не хотелось говорить ему об этом. Он был всего лишь звеном в преступной цепи, последним звеном, которое накидывает петлю и выбивает табурет из-под приговоренного революционера. И как это только удалось ему очаровать меня своей игрой? На что я так засмотрелся, что совершил серьезную ошибку?
— Наверное, когда-то мне все же хотелось стать музыкантом. Но со временем я понял, что значит музыкант в этой стране, хотя бы и военный, которым мне не очень-то и хотелось стать. Я терпеть не мог армию, всю свою жизнь. Хотя, военный — тоже профессия, точно так же, как и моя. Правда, она не столь презренна, но как она проводит в жизнь чужую волю, скажите, пожалуйста? Конечно же, насилием, которое трудно оправдать, но солдат не может поступать иначе, равно как и я. Но мое ремесло презираемо, а солдатское — нет. Где здесь справедливость, где логика? Я настолько люблю музыку, что не могу без нее. Но я люблю ее только в себе, менее всего я хочу играть для публики. Вам — могу, потому что мы здесь с вами только вдвоем.
Меня не заинтересовал его витиеватый монолог, но я позволил говорить и далее, наверное, ему надо было выговориться. Он говорил и верил в то, что произносил. Я не был уверен в том, что его речь была искренней. Да и с чего бы это?
— Видите эту книгу? Она называется «Katechismus des modernen Zitherspiels», я ее наизусть выучил. Какая красота! Говорят, что цитра — бедный инструмент. Извините, какая глупость! Даже две октавы — огромное богатство, а цитра много чего может. Она меня возвращает в детство, когда там, в Альпах, в постоялом дворе недалеко от дома я слушал слепого виртуоза — он вообще не страдал от отсутствия зрения, он жил музыкой. Он никогда ничего не сочинял, ему хватало того, что уже было. Он играл для себя, публику он не видел, и она не нужна была ему. Разве это не идеал — играть для самого себя? Люди чаще всего не могут понять, чего им не хватает, в этом главная проблема нынешнего мира. Потому он и провалится в тартарары. Рухнет, провалится, я ничуть в этом не сомневаюсь. Все эти покушения, преследования, разгоны, правы эти, правы те, социалисты, националисты — все это толкает наш мир к пропасти. Кому была нужна эта война, которую мы пережили? Не важно, кто ее начал и почему. Важен результат, ужас, ужас! Все новые и новые страны, все новые и новые муки.
Я подумал, не прервать ли его, я не хотел слушать его стенания и глупости, но не смог. С одной стороны, я был намного моложе его, с другой — его профессия удерживала меня на стуле все-таки как пассивного слушателя, а не как журналиста, которым я, по существу, и не был. По крайней мере, в прямом смысле этого слова.
— Поначалу, когда мы вешали гайдуков и разбойников, преступников, музыка была для меня не отдушиной, а просто развлечением. Это было прекрасно. Я играл и другим, нередко, особенно когда мы выезжали по делам. Потом все как-то переменилось. Вы не обязаны мне верить, но каждый раз, когда мы вешали так называемых политических, я ощущал потребность в музыке, чтобы смириться и очиститься. Как в исповеди, к которой я прибегал весьма редко.
— Что же вы не бросили эту работу? — отважился спросить я.
Он ответил не сразу, казалось, он мысленно улетел отсюда. Или продумывал ответ, кто его знает. В самом деле, мне стало казаться, будто мы — пара артистов, разыгрывающие давно забытую пьесу, по крохе, слово за словом вспоминая ее сюжет и диалоги. Воссоздаем ее из кусочков, как мозаичное панно. Я не мог привыкнуть к присутствию этого человека, я испытывал к нему нетерпение, даже отвращение. Но не ненависть, которую давно перестал питать к австрийским чиновникам и всему их управленческому аппарату. Но не мог смотреть на его руки и пальцы, которые сотням людей накидывали на шею петлю.
— Вы слышали про отца Пунтигама, иезуита?
— Того, что присутствовал на всех судебных слушаниях по делу заговорщиков?
— Да, именно он. Еще до четырнадцатого года я раза два или три встречался с ним, расспрашивал, что он думает о моей службе. От Бога она или нет?
— Ну и что же вам ответил этот пресловутый патер?
— Если есть сомнения — постричься в монахи.
— Точно так же он вынудил самого судью фон Куринальди бросить светские дела и стать иезуитом.
— Я слышал об этом. Но Куринальди был исключительно религиозным человеком. Он не пропускал ни одного богослужения. Таких людей мало, и их место — в церкви. Мне патер Пунтигам сказал, что существует только один единственный для нас всех путь и способ искупить земные грехи, не без которых каждый из нас: оставить ремесло и прийти к церкви. Чем больше прегрешения, тем правильнее отказ от земной юдоли. Вера Куринальди была куда как крепче нашей, но и грехи его были страшнее.
— Полагаю, не страшнее, чем у императора.
Он прервал музицирование, словно я оскорбил его. В помещении воцарилась холодная тишина. Мне показалось, что он сейчас выгонит меня, что и в самом деле легко могло случиться. Но он спокойно завершил наш разговор:
— Вы ведь не для того пришли, чтобы сообщить мне об этом?
— Нет, конечно же, нет. Ведь вы бесценный собеседник, много чего помните, бывали в таких местах, куда прочие и носа не могли сунуть. Вы меня понимаете?
— Хорошо, пусть, мне все равно. Мне ваша любознательность не мешает. Все люди любопытны, но у меня это чувство прошло. Я упомянул художника Кирхнера, которого знавал. Скажу вам нечто совсем приватное — этот Кирхнер любил жизнь, ракию, женщин, как это обычно водится. Наше общество ему больше нравилось, чем господское. Он показывал мне свои картины, рисунки, акварели. Меня поражала его способность заметить и выделить деталь, видеть красоту в каждом пейзаже, мне же это никогда не удавалось. Он уродство превращал в красоту, я бы сказал, в красоту искусства. Я в обычных пейзажах не видел ничего прекрасного. Страшные боснийские и герцеговинские горы, быстрые горные речушки, в мгновение ока превращающиеся в бешеные потоки, жалкие лачуги и каменные башни погибших бегов, все это оставляло впечатление нищеты. Но на картинке у Кирхнера все это выглядело великолепно. Особенно картинка Сараево, Мостара, и Травника тоже. Я восхищался ими на картинах, но не в жизни. Они привлекали только на полотне или бумаге, но в жизни оставляли меня равнодушным, и я в самом деле проходил мимо них равнодушно, словно мимо турецкого кладбища, к которому никто не проявлял никакого интереса. Эти кладбища были разбросаны повсюду, равно как и небольшие деревянные мечети, и непонятно было, где кончается чей-то двор и начинается кладбище или пространство вокруг мечети, которое местные мусульмане называли «мерая».
Его рассказ удивил меня: откуда у него все это? Что он пытается донести до меня? Я знал, что один вид искусства влечет художника к представителям другого, но то, что знакомство с живописцем настолько просветлит его, и предположить не мог. Причем, кого — палача, которого мы, молодые югославянски ориентированные революционеры, презирали! Слушая его, я не мог поверить, что это именно тот человек, которого я искал.
Но это стало не единственным сюрпризом в тот на редкость для меня долгий день.
14
Даже оставаясь в одиночестве, Зайфрид не бывает в нашем рассказе наедине с собой. С ним постоянно находится рассказчик, оставаясь невидимым для этого человека и его окружения. Он добрый дух не только повествования, но и пространства, над которым парит на своих крыльях из хрупких слов. Знает, что может пасть, потому и не воспаряет высоко. Это опасно в той же мере, что и привлекательно.
Вот Зайфрид в редкие минуты, когда находится в своей комнате, но не спит и не развлекается с курвой. Что это он читает, если это не книга о цитре с нотами, которые он знает наизусть?
Толстый учебник анатомии, совсем как азбуку первоклассника! Он обернул его в «Сараевский листок», чтобы не запачкать переплет жирными пальцами. Доктор Кречмар и предположить не мог, как много его подарок значит для Алоиза Зайфрида. Сотни разнообразных мыслей и чувств вызвала у него эта книга. Стоит ему взять ее в руки, как бесчисленное количество мурашек начинают свой бег по его коже и мыслям. Он пытается вникнуть в определения, о которых никогда не слышал, понять человеческий организм, уяснить, что удерживает его в жизни и что ей кладет конец. Потом, закрыв книгу, он удивляется собственному телу, которое он совсем не чувствует, а внутри него все работает как совершенный механизм.
Иногда он записывает на бумажку какое-нибудь непонятное слово, выучивает его наизусть и ждет встречи с доктором Кречмаром, чтобы попросить у него разъяснения, что тот делает мимоходом, не вникая в детали. Его удивляют успехи Зайфрида в усвоении медицинской терминологии.
— Ну, ты даешь, черт побери, даже не верится! — время от времени восторгается им доктор Кречмар.
— Эх, вот если бы у меня была возможность раньше выучить все эти предметы, — отвечает ему Зайфрид, каждый раз все больше осознавая меру жизненных утрат. Хотя, любой из нас может сказать про себя то же самое. Этот про то, тот о чем-то другом, и так все обо всем. О чем-то подобном ему говорил и доктор Кречмар.
— Незачем тебе так много читать, — добавлял он при этом. — Это и для студентов, уже получивших среднее образование, сложная дисциплина. Я экзамен только со второго захода сдал. Правда, все-таки доучился.
— Времени хватает, доктор, что-нибудь и в моей башке останется, — отмахивался от него Зайфрид.
Он очень быстро разобрался в основных понятиях, связанных с жизнью и смертью — предметами, непосредственно связанными с его ремеслом. Если у человека следует отнять жизнь, то прежде всего надо воспрепятствовать работе организма, остановить его ход, не прибегая при этом к таким сильнодействующим средствам, как расстрел, усекновение головы и тому подобное.
Вешая то гайдуков, то их пособников, Зайфрид усовершенствовал свое изобретение, новый тип виселицы, который он назовет гуманным.
Он днями и месяцами размышлял над тем, как последнее мгновение существования человека на этом свете привести в полное согласие с его внутренним строением. Если в природе развитие организма происходит в ходе приспособления к обстоятельствам окружающего мира, что помогает продлению жизни, то это правило должно распространяться и на юстификацию. Отныне экзекуция должна проводиться только следующим способом: со столба, который чем толще, тем лучше, перебрасывается веревка, так, чтобы приговоренный касался их плечами, что должно исключить всякие излишние движения, после чего он внезапно обрушивается вниз и всей тяжестью собственного тела затягивает петлю, и все. Всего-то одна — две секунды. Из двух десятков повешенных таким образом только один оказался настолько тяжелым, что действие пришлось повторить, в нем было больше ста килограмм, толстый как бочка, однако исхитрился и завертелся, раскорячился, но, в конце концов, рухнул на помост. В то время у Зайфрида не было хорошего веревочника.
Важен и хороший плотник. Несколько раз плохо укрепляли столбы, и виселица рассыпалась, едва не покалечив досками его самого. С того момента он лично проверял виселицу на прочность, влезал на табурет и пытался руками расшатать опоры. Проверял и помост, крепок ли он и не зашатается ли под ним. Люк, который должен распахнуться, или табурет, который выбивают из-под ног, не суть важно. Не обязательно использовать тяжелую древесину, еловые балки отлично подходят. В их запахе он различал дух страшных боснийских лесов.
15
Рассказчику труднее всего приходится тогда, когда приходится проникать в интимную жизнь своего героя, в его постель, где бы она в данный момент не оказывалась. Особенно если это не его, героя, постель, а чужая.
Отто часто пытался найти ответ на простой вопрос: как его отец познакомился с его матерью, со своей то ли первой, то ли второй женой, Паулиной Фройндлих. Потому как было что-то непонятное в истории с другой, первой женщиной, в Линце. Умерла ли она, или нет, ничего об этом в Сараево не было известно. Отто не смел заговаривать с родителями на подобные темы, еще чего, вряд ли вообще кто-то осмелился бы открыто интересоваться их интимной жизнью. Но об отце много чего болтали, иной раз специально досаждали ему подобными сплетнями, так что, хочешь не хочешь, а в памяти что-то оседало.
В его сознании то возникала, то распадалась легенда о собственном рождении, о том чувственном моменте, с которого начинается отсчет мира. Он пытался записать эту легенду. Не пристрастно, ни в коем случае, однако и не нейтрально. Он не мог так. Что значит «быть нейтральным», когда речь идет о собственном отце? Называть его так, как называют другие? Зайфрид, душегуб, палач — как? Не говоря уж о словах, которые появились после войны, самое страшное из которых — преступник? Он не воспринимает их, почему это его отец, мастер своего дела — и вдруг преступник.
А события, тем не менее, развивались так.
В первые годы в Сараево не хватало наемных квартир. Редко какой христианин или выкрест соглашался сдать швабу комнатенку в дворовой пристройке. А новая служба Зайфрида была гражданской, и с армией он больше не имел ничего общего. Иногда ему разрешали переспать в палатке или в казарме, но чаще он вынужден был самостоятельно решать проблемы с ночевками.
Он был на вершине блаженства, если удавалось найти вдовицу. Вдовицы и разведенки одним махом решали две его проблемы — ночлега и разделенной кровати.
Он не выбирал, брал всех подряд. Не злился на тех, что отказывали ему, и сразу принимался искать следующую. У него на таких нюх был. Те, что отнекивались, знал он, рано или поздно уступят. Наваливался на них не спеша, никогда не пугал их, когда они внаклонку возились в сарайчике, подходил сзади и прижимался, чтобы они ощутили его возбуждение. Не спрашивал, сколько им лет, замужем ли они, не девицы ли, разведенки или вдовы. У него был непреходящий мужской аппетит, он мог везде и всюду, даже у забора, за которым воздвигалась виселица. Если перед ним или под ним была женщина, он делался слепым и глухим.
Позже Зайфрид сам рассказывал доктору Кречмару о своих проблемах, которые решал то с помощью цитры, то со случайными курвами. Например, не знал, что делать, когда просыпался перед рассветом. Если был в Сараево, то отправлялся к квартирной хозяйке, еще не очнувшейся ото сна, она обычно принимала его, потом отворачивалась и ждала, когда он уйдет. Но он не мог так просто уйти, и ей часто приходилось прогонять его.
Он знал все бордели страны, тем более в Сараево, большинство их были слишком дороги для него. «Красная звезда», «Голубая звезда», «Зеленая звезда» для офицеров, а «Пять спичек» и «Последний грош» — для солдат. В «Пять спичек» он водил и Отто, но его сыну это не понравилось, и больше он туда не заходил.
Сводни предлагали ему более дешевый товар, и он не воротил от них нос. А поскольку сплетни распространяются быстро, характеристика его внешности и поведения шагала впереди его самого. Каждый выбирал из слухов то, что ему необходимо, используя это в собственных интересах. Особенно сведения о его друзьях, личностях из сараевского преступного мира, из-за связей с которыми он время от времени подвергался критике со стороны вышестоящих чиновников.
Но ничего странного нет в том, что случается в жизни такой момент, когда все вокруг претерпевает драматические изменения, особенно официальные, и появляется нечто более сильное, чем привычные потребности.
Вот как оно было.
Поселившись у швеи Паулины Фройндлих, он было решил, что с жилищной проблемой покончено на долгое время. Нашел благодатную женщину, готовую удовлетворять его во всем. Мягкая, податливая, почти немая, он просто не мог поверить, что она только его. Но, тем не менее, она была именно такой. Продолжалось это почти год. За это время он не так уж часто бывал у своей швеи, служба швыряла его то на север, то на юг. Помимо Паулины, он проводил время с многочисленными услужливыми курвами. Для нее, похоже, это не имело никакого значения. Она ждала его дома, он знал, что она будет там, когда он вернется, и что примет его, несмотря на то, пьян ли он или трезв, усталый или полный сил.
Но случилось с ним то, чего прежде никогда не бывало — Паулина забеременела. Она призвала его позаботиться о будущем ребенке, в чем он ей решительно отказал. Никакого ребенка ему не надо было, тем более от нее. Кто знает, с кем она сношалась? Скорее всего, она понесла, когда он был в командировке. И вообще, зачем ему жена?! Он что, обещал ей? Нет! И чего тогда она хочет? Не интересует его какой-то там ребенок.
Однако по сравнению с прежними, Паулина была женщиной иного склада. Ни одна девка до нее не стремилась к постоянному сожительству с ним, тем более к браку. Швея же, напротив, рыдала, говорила, что наложит на себя руки, поскольку ей ничего иного не остается. Все знают, что она живет с ним, и никому она потом не будет нужна. Душегубову любовницу никто после него не захочет.
— Меня это не касается, — привычно говорил он, грубо, но оставляя при этом мизерную надежду. Именно такая манера разговаривать и привлекала Паулину.
— Алоиз, я с первого дня чувствовала, что у тебя серьезные намерения.
— Какие у меня вообще могут быть серьезные намерения? Сегодня я здесь, а завтра неизвестно где. Зачем тебе душегуб в мужья?
— А мне все равно, чем ты за стенами дома занимаешься.
— Семью содержать надо, дорогая Паула, а я мало зарабатываю.
Нельзя было сломать Зайфрида такими выступлениями. Он знал, что женитьба означала бы ограничение контактов с другими женщинами, особенно с девками, которых ему приводили хозяева бродячих актерских трупп. Как тот, в Вышеграде, который привел к нему девчонку, что танцевала на проволоке. Из циркового фургона, в котором она его принимала, был виден мост и кафана, в которой пьяные аборигены завывали свои невыносимые восточные песни и били об пол бутылки и стаканы.
Та малышка наградила его чесоткой, от которой он с трудом избавился. Целый месяц он нещадно смердел, намазываясь отвратительной мазью, которую ему приготовил доктор Кречмар.
— Ртутная мазь, — сказал он, — единственное лекарство от лобковых вшей, которые в народе зовутся мандавошками. И побрей, дорогой мой, промеж ног. Только смотри, не порежься.
Ну конечно же, он порезался, притом весьма серьезно, и этим вынужден был заняться доктор Кречмар. Он и в обычной-то жизни с трудом брился, особенно шея не давалась, а тут — между ног, где ничего не было видно и трудно было добраться бритвой, даже не намылиться толком, что и говорить, тяжкая работа.
История с Паулиной не могла закончиться так, как намеревался Зайфрид. Но ведь должен же был наступить конец его разнузданной жизни, как написал в рапорте Окружному суду правительственный комиссар: «Полагаю, что вышепоименованный ведет разнузданный образ жизни и общается исключительно с людьми, демонстрирующими наклонность к легкомысленному существованию». Ничего себе легкомысленная жизнь, были среди них негодяи высокого полета. Настоящие легкомысленные не очень-то и желали с ним общаться. Были среди них и господские дети, которые вообще не обращали внимания на палача.
Что же случилось на самом деле? Паулина пыталась покончить с собой. Как? В рапорте не сказано, только пыталась покончить с собой в силу приведенных выше обстоятельств. Внимание властей обращается на то, что «палач Зайфрид — порочный человек», знаменит тем, что не он ищет общества девиц легкого поведения, разведенных женщин и вдов, напротив, они сами стремятся к нему. И от этого спасения нет. А еще если добавить его «склонность к алкоголю и дружба с бывшим турецким палачом Мустафой», то получается портрет личности, позорящей звание императорского служащего.
В пользу Зайфрида свидетельствовал никто иной, как доктор Кречмар. Открытого следствия не было, но власти решили удовлетворить желание доктора, с которым он также дружил, свидетельствовать о его поведении. Дружил не так, как с Мустафой — принимал его, выслушивал, советовал и помогал. Для него была страшна сама мысль о потере работы, он никак не мог согласиться с этим. Надо было бороться.
Это был мудрый ход, потому что доктора высоко ценили за его знания, хотя в письменных ящиках хранились донесения на его счет, очень похожие на рапорты о Зайфриде. Все эти кляузы принадлежали перу его коллег, военных врачей, которые одним своим появлением вызывали страх у пациентов.
— Все они кретины, — говаривал иной раз доктор Кречмар Зайфриду в тягостные минуты, когда уровень алкоголя в крови того и другого поднимался выше красной черты.
Что касается выпивки, свидетельствовал доктор Кречмар, то здесь речь идет о явлении, характерном для всего нашего чиновничества, за редкими исключениями, когда не пьют по каким-то неизвестным мне причинам. Возможно, по причине слабой печени. Потому как вода в этой стране просто отвратительная, а в городах ее просто нельзя пить. Местное население хорошо знает это, и потому потребляет ракию, к сожалению, слабенькую, которая в результате чрезмерного потребления — а здесь, уважаемые господа, как известно, все неумеренно — превращает человека в кретина с тупым взглядом, слабой волей, каковым и является местное городское население. Может быть, не здесь, не в Сараево, но в прочих городах — наверняка. А в горах ракию считают лекарством. Если человек заболевает, то ему только бутыль может помочь, особенно зимой, когда на дворе ужасный мороз, который там пробирает до самых костей. Люди мерзнут, пальцы отмораживают, весь организм страдает, а бутыль у них и мертвого из могилы поднимет. Для горца ракия — лучший подарок и попу, и доктору.
Следует также признать, что, потребляя ракию, трудно блюсти меру, особенно если ты в постоянных разъездах и когда исполняешь такую деликатную работу, как наш палач Зайфрид. Разве он хоть когда-нибудь нарушил служебный порядок по причине потребления алкоголя? Боже сохрани! Второго такого палача во всей империи не сыскать. Все прочие на него равняться должны.
То же самое, господа, и с девочками. Да, так, никто это не оспаривает, значит, у него есть потребность в них. Но разве за это можно наказывать?! Он ведь не какую-то там дочку уважаемого торговца соблазнил, не увел ее из дома, или от мужа, Боже сохрани. Что же сотворил душегуб Зайфрид? Все, что он сделал, я бы, прошу прощения, сказал, регулярно делает каждый из нас. Да, да, каждый из нас. Я, как его врач, рекомендую ему жениться на этой честной девушке, которая носит под сердцем его ребенка. Если она решилась на такой страшный и нехристианский поступок, значит, речь идет об искренней любви. Она его, во всяком случае, любит, а любовь для меня — святое чувство. Насколько я знаю государственного палача Алоиза Зайфрида, он наверняка откликнется на этот зов любви и исполнит свой гражданский долг.
— Какая любовь, какой долг! — возопил Зайфрид, но его вопль никто всерьез не воспринял. Пришлось ему венчаться.
— По крайней мере, теперь можешь не опасаться мандавошек, — позавидовал ему сквозь смех доктор Кречмар, исполнявший роль шафера. Они той ночью упились вусмерть, а молодая спала глубоким сном, пока ее покой в кровати не нарушил муж.
Вот так вот и появился на свет Отто, нежеланный отцу, а матери — кто знает. Когда она впервые глянула на него, опустив ладонь на его утлую горбатую спину, сердце ее в груди едва не оборвалось.
— Милостивый Боже, — заголосила она, — что же это я такое родила?!
16
Зайфрид годами привыкал к новой стране, к новому небу, к новому бездорожью. Куда не двинешься, нигде дороги нет, бескрайние леса, сквозь которые вьются пересекающиеся тропинки, на которых легче ноги переломать, чем нормально проехать. Эти тропы великолепно знают небольшие боснийские лошадки и мулы, что осторожно ступают копытом след в след. Человек просто не в состоянии передвигаться настолько же внимательно, как это делают животные, которые порой минутами стоят словно вкопанные, с поднятой передней ногой, мысленно просчитывая, куда ее следует опустить.
Над этим бездорожьем сияет небо, усыпанное такими звездами, каких нигде больше не увидишь, а на горных вершинах до них можно дотянуться рукой. Зайфрид в поездках уносился далеко от этих диких краев и не менее диких людей, и долго, совсем как птица, смотрел сверху на себя и на своих помощников как на обычных лесных зверей. Или на необычных, что, собственно, одно и то же. Тогда он перебирал пальцами струны своей цитры и уносился еще дальше, в голубые небесные просторы, где никто не сможет проследить за ним.
Он наблюдал за общественными работами по прокладке дорог, за продвижением железнодорожных путей, особенно от Суни через Волине и Нового с одним ответвлением на Баня-Луку и вторым на Крупу и Бихач. Обрадовало его открытие железнодорожного сообщения между Зеницей и Дервентой. Он любил пароходные рейсы на Саве и терпеть не мог поездки дилижансами по ее долине. Немного было чиновников, которые лучше его знали состояние местных дорог в летний и зимний период, где какие ханы и корчмы, кровати без клопов, пища, которую не надо будет наутро выблевывать.
А тех, в Сараево, такие вещи вообще не интересовали. Вечно он сутяжничал с ними по поводу суточных, утверждения сроков поездок, как будто они лучше его знают, как добраться из Сараево до Баня-Луки! Особенно в феврале, студеной зимой, когда главное — не окоченеть и не замерзнуть навсегда где-нибудь у дороги. И всего-то за десяток форинтов. Будто он не знает, что такое экономия, что у Краевого правительства нет лишних денег и что оно требует от каждого учитывать потребности других служб. Зачем тогда они вообще посылают его в такие поездки? Пусть потребуют от приговоренного, чтобы он сам повесился! Могут и расстрелять его, можно и так! Но нет, тысячу раз нет, государству нужен палач, потому что государство — это не кучка безответственных чиновников, государство есть творение Божье. Разве не так говорили его императорско-королевское величество?
Неоднократно он обжаловал действия чиновников, подсчитывающих суточные и путевые расходы, особенно после поездок в Баня-Луку, где он вешал трех гайдуков, схваченных в Маняке в доме у пособников.
Казнь была в декабре, когда в течение дня ясную погоду внезапно может сменить буран, опасный для жизни, и тем более для поездок, что также надо принимать во внимание. Повешение было назначено на двадцатое число этого месяца, а пятнадцатого он был еще в Дервенте. Он мог нанять извозчика, но Налоговая инспекция в Сараево никак не желала взять в толк, чего ради он выбрал более длинный путь, и потому никак не хотела оплачивать дорогу аж через Сисак, тем более с дополнительным использованием дилижанса от Сисака до Баня-Луки. Тем более что ранее, когда он направлялся в Сисак, а оттуда в Боснию, то ехал через Боснийскую Крупу, где вешал Милу Шевича, а до Крупы следовало добираться через Сисак, любой другой путь намного дольше и опаснее.
Чтобы отойти от привычной схемы, он отправился в Загреб и там сел на поезд до Баня-Луки. Почему в Загреб? Из Дервенты он мог бы добраться до Баня-Луки на лошадях за два дня, а уж пяти, которые у него были в запасе, за глаза бы хватило, но об этом он в своей жалобе Окружному суду в Сараево не написал ни слова. Этот человек каждую свою командировку заканчивал жалобами, но они поступали с большим опозданием, что само по себе свидетельствовало о том, что с жалобами этими что-то не так. Он подает жалобу в июле месяце этого года, а командировка, как мы уже говорили, состоялась в декабре прошлого. Так утверждают строгие бухгалтерские служащие. Кстати, именно они правят страной, а не какая-то там политическая власть.
Что же касается цен на расходные материалы, помост и палаческие брусья, то мы располагаем рапортом Алоиза Штайнеца, который утверждает, что палач Зайфрид их завышает, и по этой причине мы их утвердить не можем. Как будто он не мог закупить их по более приемлемой цене! К тому же поставщики в последнее время снижают цены, в связи с чем мы не можем выплатить затребованные им сорок форинтов, потому что он не имел права тратить такую большую сумму.
На самом же деле Зайфрид отправился в Загреб потому, что там его ждала старая знакомая Аника, необузданная женщина в самом соку, которая каждый раз предлагала ему остаться там и жить за ее счет. У нее был ресторан в Черномерце, с хорошей кухней, там он мог бы и работать, если ему того захочется, но это вовсе не обязательное условие. Какое-то время он раздумывал, не принять ли ее предложение, но по прошествии времени перестал рассматривать его всерьез — он не видел своего будущего при этом ресторане на окраине города, который, конечно же, был лучше, чем Сараево, но теперь полностью выпал из сферы его интересов. К тому же он знал, что ресторан она завещала своему сыну, проживающему в Петрине, так что ему здесь ничего не улыбалось.
Предвкушая ожидавшее его удовольствие, он решил прокатиться по новой ветке железной дороги, которая связала две области империи, расположившиеся по обеим берегам реки Уна. Это просто инженерное чудо, говорили те, кто уже успел проехаться по новой ветке. Высокие мосты и тоннели, нечто величественное!
Но в тот декабрь в Баня-Луке он ничего, кроме холода, не увидел и не почувствовал. Цыганочек там не было, единственный публичный дом обслуживал только офицеров. Ночевал он в крепости, в отвратительной холодной комнате, напоминавшей камеру турецкого каземата. Всю ночь слушал ветер, завывавший где-то над ним. Пожалел, что не нанял комнату в кафане «Австрия», но цена его ни с какой стороны не устраивала.
— Как хочешь, — сказал ему хозяин, — в Баня-Луке свободных комнат нет.
— А что есть? — спросил он его.
— Сам узнаешь, — сказал как отрезал корчмарь.
17
Хотя казни совершались не в селах, а в городках, Зайфрид в пути не мог миновать ни деревенские дома, ни сельских жителей. Да и сами городки имели скорее сельский, нежели городской вид, и только в центре несколько зданий, выстроенных купцами, несколько напоминали аналогичные австрийские строения. Но эта страна была крестьянской, за пространными лесами и на герцеговинских камнях, которые почти ничего не рожали, кроме ядовитых змей и табака, жили люди, которым новая власть хотела привить больше порядка и покоя, чтобы прекратились постоянные волнения, которые никак не давали жителям прийти в себя. Так говорили и писали, и Зайфрид верил этим заявлениям, и не было никаких причин не верить им. Сам родом из села над Линцем, он ощущал непривычную ностальгию, разглядывая редкие солидные каменные дома, в основном в Герцеговине, однако не входил в них, никто его в них и не приглашал, а у него не возникало желания войти в этот чуждый мир, который был покрыт для него мраком неизвестности. В бескрайних каменистых пределах обычный дом как часть пейзажа выглядел словно медвежья берлога. Из нее выползали сопливые диковатые дети и их еще более дикие матери. Зайфрид не мог понять, из-за чего они бунтуют и восстают, ради чего так страдают. Чуть успокоятся, и опять бунт, опять восстание. Только и успевай одних вынимать из петли, а других вешать.
Как будто нескончаемая колонна направляется к виселице. Или, точнее, одна — в изгнание, вторая — на эшафот.
— Закончитесь вы когда-нибудь? — спросил он однажды в Невесинье старика Илию, двух сыновей которого он только что повесил. Только в силу ребята вошли, и тут же — на виселицу.
— Никогда, с чего это вдруг? Нас больше, чем вас.
Ночевал со скотиной, ощущая зимой приятное коровье и лошадиное тепло, наполняющее хлев или турецкий хан, а летом — невыносимый смрад.
Однажды ночью в Мокром он проснулся, почувствовав, как его придавило чье-то тело. Это была хозяйка, старая безмужняя баба, хозяйка сруба с приколоченной вывеской: «Einräumer». По возрасту могла быть его матерью; подавая ужин, она вообще не смотрела в его сторону. Не знала, кто он таков, это ее вообще не интересовало.
Он взял ее как свою собственную, по-скотски.
Слава тебе, Господи, вижу, что ты меня не забываешь!
Бесчисленные безымянные корчмы, вонючие турецкие ханы, в которых насекомые поедают человека.
Когда они входили в такой хан, внутри наступало смятение. Испугавшись их, словно чумы, редкие посетители расплачивались и бежали без оглядки. Хозяева встречали их неохотно, однако редко когда позволяли себе высказываться на эту тему. Команда экзекуторов, палач с помощниками, вон у них под сюртуком смотанная веревка для висельника!
Обычно они садились как можно дальше от прочих посетителей, если только это было возможно, потому что корчмы были маленькими, ютились по хибарам, и молча ужинали. Зайфрид обязал их к молчанию как к составной части профессии: не их дело болтать, особенно с посторонними. Ему нравилось правило траппистов — работай и молись, ora et labora. Да, он заставлял их, даже православных схизматиков, молиться Богу. Они спрашивали его, как, на что он отвечала им — как угодно. Удивительно, но даже мужики в возрасте слушались его, как будто он переносил на них страх, предназначенный тем, кто ожидал своего смертного часа. Часто пьяные и жестокие, иногда сошедшие с ума, редко среди них встречались люди хоть сколько-нибудь умные и значительные. Они слушали и запоминали все, что слышали, независимо от того, значило ли это для них хоть что-то, или же им было просто любопытно. Потом, возвратившись, они повторяли кое-что из услышанного, проверяя, правильно ли они запомнили слова. Ему же было достаточно чуть дольше посмотреть на кого-нибудь из них, чтобы несчастный ощутил, как холодок скользит вдоль позвоночника, словно взглядом этим он отмеряет длину веревки, которая затянется на его шее после того, как тот утратит под ногами твердую почву.
— Государство порядок любит, — говаривал он им. — Мы — слуги порядка. Худая работа государству вредит. Как ты тешешь, посмотри и сам скажи! Как веревку сучишь, опять же. Все должно быть солидно, крепко, и всем хорошо будет. Смотри, чтобы столб не свалился, на вас вешать буду!
18
Не успели с гайдуками покончить, как вспыхнуло восстание в Герцеговине. Сначала вроде как отказ повиноваться, как объявили власти. Надо подождать, пока люди не успокоятся и не договорятся, не следует сразу войска посылать и всех под топор подводить. Еще те, что в прошлое восстание, против турок, вернуться не успели, как старые повстанцы новый бунт затевают. Позднее хроникеры станут использовать старые газетные пропагандистские сообщения английских путешественников и шпионов, в которых говорилось о «мягкости, с которой власти подошли к этому восстанию, в результате чего никто не был повешен». Участники событий громко смеялись над этими публикациями. Да, зачинщиков и командиров не вешали, их и поймать-то не могли, а что касается исполнителей рангом пониже, то, прежде чем болтать, надо выслушать современников.
— Ничего им другого не надо, только за ружье да в лес. Погубят они народ, мать их за ногу! — говорит старик в Устиколине. Засмотрелся на огонь, греет руки и бормочет про себя. Зайфрид смотрит на него из угла, в котором ужинает с помощниками, и старается угадать, кто он, православный или мусульманин? Чего ему надо?
Герцеговина кипит, словно из-под камней вырастают бунтовщики и повстанцы. Еще кое-что, редко встречающееся в этой стране, видит Зайфрид. Когда богатый босниец мирится с сербами и посылает сыновей к повстанцам. Некий Салко Форта и Стоян Кнежевич во главе. Повиснут ли они рядышком на его виселице?
— Господь Бог здесь от них отвернулся, — говорит доктор Кречмар, но Зайфрид думает иначе: Господь наслал на них все возможные искушения, сочтя это место самым значительным для судьбы — не мира, но человека. Обойденная цивилизацией, Босния где-то здесь, в районе пупка, если только не ниже, там, откуда все произошло и что называется самыми разными, в основном вульгарными, именами. Не знак ли это простоты, проклятия, или чего-нибудь еще, третьего?
Усталый, прихворнувший доктор Кречмар приглашает Зайфрида выпить и поужинать, чтобы хоть немного поговорить. Он всегда где-то здесь, рядом, хотя точно и неизвестно, где именно. Или знает где, но молчит.
Зайфрид тренирует команду, злится, увольняет, нанимает новых людей, пьет беспрерывно, но потом отказывается признаваться в этом. Когда ему все надоедает, забирается в тенек, играет на цитре и не смотрит, чем заняты его помощники. А они мучаются, веревки у них рвутся, раздаются грубые ругательства, мольбы «пациентов», как несчастных осужденных называет маэстро, опять поднимают на ноги, треск веревок, стоны. Настанет ли конец этому земному аду, думает государственный палач, так, между прочим, потому что главная его мысль, вопреки действительности, выглядит иначе. Он видит себя, виртуозного исполнителя, но не на большой сцене, а камерно, в австрийской корчме, где за десятком столов собралось общество, наслаждающееся его игрой. Довольные, веселые, они то и дело аплодируют ему и в знак благодарности вздымают большие пивные кружки. Чус! Чус!
— Что же вы такими жестокими становитесь, когда напьетесь? — спрашивает Зайфрид в корчме под Романией молодого и жилистого Радивоя. Тот был трезвый и смог ответить, а в пьяном состоянии старался не попадаться ему на глаза. Оскорблял всех подряд, готов был подраться по любому поводу. И тогда уж, Господи спаси, без крови дело не заканчивалось.
— Такие уж мы, ети его в душу, — отвечал он с улыбкой. — Трудней успокоиться, чем подраться, а как начнешь, так не остановиться.
От Радивоя Зайфрид впервые услышал песню:
Вот и братья, что за дружку дружка Биться будут, пока не погибнут.Позже он станет встречаться с ней во всех забегаловках, на ярмарках, в горах. Он смотрел на орущих изо всех сил певцов с покрасневшими лицами, вздувшимися шеями, похожих на токующих тетеревов. У них лучшим певцом был тот, кто кричал громче всех, чтобы его голос слышался за горами и долами.
— Слышишь, как орут? — спрашивал время от времени доктор Кречмар. — А теперь постарайся вернуть меня домой.
Зайфрид брался за цитру и с помощью музыки ставил непреодолимую завесу между ними и пьяным Радивоем. Иногда и его брат Ганс принимался весело напевать, тонким, высоким, как будто предсмертным голосом.
19
Кафе «Персиянец», Зайфрид, Мустафа и незнакомый старик. На незнакомце поношенная, линялая, но все еще господская турецкая одежда. Почти все лицо его, за исключением высокого лба под феской, заросло щетинистой седой бородой.
— Знакомить вас я не буду, — восклицает Мустафа, когда Зайфрид опускается на стул рядом с ними. — Не суть важно, как зовут этого человека, а важно то, что когда-то он приказывал мне, кого следует отправить на муки или лишить жизни. Или то и другое вместе, не суть. Был кадия, а теперь просто старик. Сиди, куда торопишься? Будет и приложение, как всегда. Здесь по-другому и не бывает.
Зайфрид сел, заказал стаканчик ракии и погрузился в ожидание слов незнакомца. Время текло медленно, совсем как Миляцка летом, когда от всей стремнины остается лишь ручеек посередине. Слышен был только звон многочисленных мух и отзвуки детской игры где-то там, внизу. Здесь никто не спешил, как будто они достигли цели долгого путешествия и теперь им более некуда шагать в поисках неизвестно чего. Для чужака ожидание сделанного заказа было невыносимо долгим, для местного — ровно таким, чтобы соблюсти приличия.
Наконец-то их обслужил парень в расцвете сил, с лицом краснее помидора. Старику — кофе с лукумом, а им двоим — ракия. И только после того, как Зайфрид сделал глоток и кивнул в знак приветствия Мустафе, а тот ответил ему легким поклоном, старик заговорил. Голос у него был не такой приятный, как внешность, а старчески сиплый, писклявый.
— Может, то, что я скажу, не по тебе будет, но помешать не помешает. Только не подумай, что я собрался оправдываться перед кем-то, мне в голову подобное вообще не приходит. Вот и Мустафа, не думаю, чтобы он перед кем-то извиняться стал. Нас никто ни в чем не обвинял, не так ли? Но есть в этом что-то, не может не быть. Если бы не было, мы бы толковать с ним тут не стали, а ты — где-нибудь там, в своей стране. Ну да ладно, хватит ковыряться. Много чего всюду писали о турецком законе и о том, как мы его здесь не уважаем. Что этот закон не только никчемный, но и нам здесь не нравится. Не собираюсь я защищать ни этот закон, ни здешние обычаи. Зато могу рассказать, как я здесь судил. Всегда по совести, что превыше закона. Но я и закон знал, клянусь. Да только, скажу я тебе, закон без совести ничего не стоит. Ты, чтобы понять меня, должен забыть, откуда ты родом, а ты этого сделать не сможешь. Может, тебе покажется, что понимаешь меня, но на самом деле ты только слова слышишь, а это пустое.
Он смотрел не на Зайфрида, а перед собой, как будто беседует с кофейной чашечкой в руке.
— Я приговаривал к телесным наказаниям. И умру с уверенностью в собственной правоте, если только окрестный народ не переменится. У вас бьют и пытают, пока не добьются нужного признания, хотя это и незаконно, но так поступает любая полиция в мире. Но официально, по суду, у вас телесные наказания, кроме поста и одиночной камеры, запрещены. Все это мне знакомо, и я вовсе не против этих двух мер наказания. Но когда убийцу и уголовника, который издевался над беспомощным человеком, не наказывают пытками — вот с этим я согласиться не могу. Тут нет справедливости, а общество ее хочет. Народ любит смотреть на пытки и казни. А знаешь ли, почему? Не потому, что желает чужих мучений и чужой крови. Народ хочет, чтобы уважали власть и порядок. Нашего султана или вашего императора, все равно, главное, чтобы уважали. И если он уверен в этом, то ему легче живется и легче страдания переносить, если потребуется. А для этого дела нужны профессионалы, вот как этот Мустафа здесь был.
Зайфрид чуть было не ляпнул, что и он тоже такой, мастер своего дела, но вовремя сдержался. Ему ли сравниваться с мучителями, которые приносят жертве боль? И речи быть не может.
— Знаю, о чем ты сейчас думаешь, я про это у французов читал. Долгое время я жил в Марокко, там и родился, знакомо мне и то, как там это бывает. Пытки причиняют боль, но не бесконтрольную, это не так. Пытка — техника, требующая от палача умения, а не бесконтрольной казни, к которой часто прибегают неумелые люди. Именно они дают волю своему исконному, человеческому садизму. Таков человек.
Зайфрид засмотрелся на огромные кулаки Мустафы, как будто этот человек, что говорит, бывший кадия, описывает именно их силу и умение. Огромные, узловатые, с черными ногтями, которые венчают длинные, словно когти, пальцы. Где-то в Романии он слышал от кого-то, что в Сараево был палач, который мог ладонями раздавить череп приговоренного как ореховую скорлупку. Это воспоминание заставило его вздрогнуть. Неужели и он, государственный палач, испугался сидящего здесь бывшего турецкого палача?
А кадия все сипел, продолжая оправдывать пытки:
— Если быть совсем кратким, что тебе, несомненно, понравится, то я вот что скажу, чтобы ты знал, может, и тебе в один прекрасный день пригодится. Итак, во-первых, наказание пыткой должно соответствовать трем основным условиям. Сначала, до настоящих действий, пытка должна вызвать у обвиняемого определенное количество страданий, которое можно точно измерить, или хотя бы приблизительно оценить, сравнить с реакцией, и на основании этого усиливать или ослабевать воздействие на него. Но ни в коем случае не произвольно. Ты наверняка сейчас думаешь, какое отношение это имеет к смертной казни? Имеет, и точка. Вы свели смертную казнь к простому лишению права на жизнь, как это говорят на юридическом языке. Одинаково для того, кто убил случайно, и для преступника, на совести которого куча убийств. Для нас, поскольку мы иначе смотрим на это, смертная казнь есть пытка, которая не сводится к простому лишению права на жизнь, потому что это, я бы сказал, частный вопрос, а не общественный. Пытки в нашем случае являют собою способ и кульминацию хорошо рассчитанного, поэтапного страдания: от отсечения головы, которое сводит страдание к единственному движению и одному мгновению, что, следовательно, являет собою нулевую степень мучений, и через повешение, которым, как сказал мне Мустафа, ты занимаешься, к костру и колесованию, что продлевают агонию, а также до весьма редкого подвешивания на крюке, которое бесконечно продлевает боль. Но если эта пытка редкость, то вовсе не значит, что ее следует предавать забвению. Напротив! Если рассматривать наше дело с этой точки зрения, то приходишь к выводу, что смертная казнь — ты понимаешь, о чем это я? — есть искусство поддержания жизни в страшных муках. Почему? Потому что иных преступников следует подвергнуть сотням малых смертей. Это великое палаческое искусство — продлевать утонченнейшие, недоступные всякому агонии! Главное, повторюсь, в соизмерении количества пыток. Без соизмерения нет справедливости. Поскольку ты не можешь оживить уже казненного преступника, который заслужил пять, а может, и десять смертей, то надо удерживать его в жизни, пока он не перенесет в муках каждую причитающуюся ему смерть.
Зайфриду показалось, что тишина, наступившая после этих слов кадии, просочилась в корчму из могилы. Лед сковал его сердце, сердце человека, притерпевшегося к чужим смертям. Рассказ кадии превосходил возможности его восприятия, ему казалось, что еще немного, и он возненавидит свою профессию. Но нет, выслушивая страсти, он решил, что и далее должен совершенствовать свое ремесло, чтобы полностью устранить мучения из акта расставания с жизнью приговоренного к смерти. Он не может убедить приговоренного не бояться, но само исполнение приговора есть скорее медицинский акт, но не палаческий. Соизмерение, о котором говорит кадия, есть не что иное, как ужасная, неприкрытая месть, слепая ненависть, дегенеративное слабоумие. О чем говорит этот старик, судя по всему, весьма образованный? Это правда, или он просто издевается над ним, а заодно и над государством?
После короткой паузы кадия продолжил, словно читая с листа:
— Пытки основываются на искусстве соизмерения страданий. Второе, связанное с этим фактом: причинять смертельные мучения следует исключительно в соответствии с утвержденными правилами. Вид телесного наказания, качество, интенсивность и продолжительность зависят от тяжести преступления, личности преступника, бывшего положения его жертв в обществе. Что это означает? За одно и то же преступление надлежит назначать разное наказание. Приличного человека казнят не так, как оборванца. Надо также принимать во внимание положение жертвы — приличный ли он был человек, или же оборванец? Если речь идет о представителе власти, то преступнику не может быть прощения. Причиняемая боль есть предмет законодательных предписаний; смертная казнь посредством пытки не производится над телом первого попавшегося преступника, или случайно; ее степень рассчитывается по детализированным правилам, которые определяют количество ударов кнутом, место, которое прижигается раскаленным железом, тип искалечивания (отрубание ладони, отрезание губ или языка), продолжительность агонии на костре или при колесовании (суд решает, следует ли сразу удавить приговоренного, или позволить ему издыхать постепенно, а также в какое мгновение можно позволить ему милосердную смерть). Кроме того, пытки суть часть ритуала…
Зайфрид резко поднялся из-за стола и выбежал из кафаны. На Миляцку и Быстрик опускался вечер, но на противоположной стороне, у Вратника, окна все еще отражали заходящее солнце. Он сделал два или три глубоких вздоха, пытаясь сбросить тяжесть, навалившуюся на его грудь.
— Что это с тобой, мать твою, куда это ты сбежал? — выскочил вслед за ним Мустафа. — Тебя что, стошнило? Ты ведь не баба, Алоиз, а палач.
— Ладно, хватит с меня. Меня это вот так достало, но все равно спасибо.
— А цыганочку, а?
— Возвращайся туда, я сейчас приду.
Что это за комедию, что за дьявольское представление устроили ему! Кому все это понадобилось?
20
Для Зайфрида день рождения императора все еще оставался самым большим праздником. Для него это была вершина и конец лета, солнце уже не палит так немилосердно, нет еще бесконечных дождей, ночи свежие, и спится легко. Если бы кто-нибудь выбирал день для рождения, то не смог бы выбрать дня лучше, в который Господь Бог одарил богоугодный католический австрийский народ Своей великой милостью.
— Кто не уважает правителя, тот не уважает отца, — с детства привык он повторять эту фразу.
Как всякий лояльный чиновник, Зайфрид в крови, которая наверняка является вместилищем души, лелеял любовь к его императорско-королевскому величеству. Когда он начинал думать об императорской семье, его охватывало благолепие, и он понимал, что есть правильно в этой жизни, а что — нет. Что можно, а за что следует наказывать! Несмотря на все жизненные неурядицы и проблемы, такое государство делает человека спокойным и довольным. А правителя — гарантом этого.
Все законы даны императором, и их не следует обсуждать и осуждать. С императором нельзя спорить, как нельзя спорить с Господом. Божьи заповеди и императорские законы суть одного порядка — они неприкосновенны. Для этой скотины и уголовника император не существует, потому что он воспринимает его как предмет для поношения. А все прочие, кроме самых злых и привередливых, в глазах которых светится безумие, уважают императора и лично против него ничего не имеют. Так против кого же они выступают, как не против императора? Именем которого суд вершит справедливость и выносит самые строгие приговоры? Все мы, говорят ему начальники, всего лишь длинная рука его императорско-королевского величества, Франьи Йосифа, и никого другого. Не будь императора, разве мог бы судья вынести приговор? Чьим именем он приговаривал бы к страшной смерти через повешение?
Лежит на соломе Зайфрид, смотрит в распахнутые двери конюшни и словно видит перед собой Шенбрунн, а в его саду — императорскую семью.
На свете много властителей, но только один император и король Франьо Иосиф. Только он один, один он и останется. Но он — старый, и что будет, когда он умрет?
По телу Зайфрида пробегала дрожь, когда к нему приходила такая мысль, о которой он никому не смел сказать. Это и не мысль даже, а чистый страх Не за себя, но за всех, и в первую голову — за империю. За этот порядок, равного которому нет во всем мире.
Нелегко людям объяснять, почему они должны принять этот порядок, что это в их интересах. Но он, Зайфрид, последний в ряду государственных служащих, которому надлежит это делать. Но и он обязан старательно демонстрировать, что тоже является составной частью этого порядка и делать свое дело как можно лучше. Чтобы этот здешний народ, каким бы диким он не был, видел, что все вершится в соответствии с законом. Не турецким, а европейским, цивилизованным законом. А это в первую голову наш закон, немецкий, императорско-королевский.
Зайфрид понимал систему, важной составной частью которой был он сам, не такой значительной, скажем, как генерал Конрад, который подавляет восстание, не как генерал Ауфенберг, сегодня, наверное, лучший немец в Сараево. А после, скажем, патера Пунтигама, который основал иезуитскую школу для молодежи, куда он попытается пристроить своего Отто. Должен бы принять, Господь Бог на его стороне. Ведь только Он знает, для чего рождаются такие создания.
Паулина не понимает этого, но он не может злиться на нее по этой причине. Она в большей степени мать, нежели подданная нашего императора. Была бы настоящей подданной, то стала бы и истинно верующей. А так, прав патер Пунтигам, сколько не ходи она в костел, все равно остается вне веры.
Ходит, потому что должна, не по убеждению. Если бы по убеждению, то поняла бы, что Отто — Божий промысел. Какой? Он не знает, откуда ему знать.
Обошла с сыном все монастыри, все святилища и лечебницы. Была и в Олове, где чудеса случаются. По крайней мере, так говорят. Но только не с Отто. Чудеса не для него. Это не значит, что чудес вовсе нет, они есть, просто предназначены для избранных. Если Бог на них перстом укажет, они выздоравливают, выпрямляются, растут, горбы исчезают. И к чему все эти хождения, купания в минеральных водах, бесчисленные четки, если Бог тебя не имеет в виду, то зря стараешься.
Зайфрид не хотел ехать ни в Олово, ни в Фойницу, ни в Королевскую Сутьеску. Паулина остатки надежды вложила в Олово, и потому, возвратившись, настолько была подавлена, что несколько дней не могла ни есть, ни говорить. Ноги у нее распухли от хождения, несколько месяцев не могла прийти в себя.
— Не могу на него на такого смотреть, — вскрикнула она однажды и рухнула на пол рядом с кроватью, на которую опустила маленького Отто. Когда вошла в комнату, за ней остался кровавый след. А мальчик не плакал, и даже улыбался отцу. Зайфрид глазам своим не хотел верить, что малыш улыбается ему, своему отцу. Благословен будь, Господи на небеси, слишком мы ничтожны, чтобы знать, чем ты нас испытуешь и какой знак нам шлешь! Едино Иисус велик, не устает повторять патер Пунтигам, все прочие малы и ничтожны. Но сильны они, когда становятся Иисусовым войском, когда вступают в ряды Иисусова ордена.
Император тоже знает, думает Зайфрид, что Отто после смерти будет с Ним там, наверху, у самых коленей Его сидеть, как эти горцы в своих гуслярских песнях сажают своего древнего царя Лазаря. А на деле-то Лазаря там нет, да и не будет никогда.
21
Не знаю, действительно ли отец был глубоко верующим. Несколько раз мы вместе ходили в церковь, таков был обычай, особенно в Рождество и на Пасху. Наверное, не ходить было нельзя, но не знаю, обязательно ли было присутствие там всей семьи. Когда он решил взять нас с собой, мы отправились словно на похороны. Оба они молчали, мама вела меня за руку. Но для того, что я сейчас намереваюсь написать, не имеет значения вопрос о степени его религиозности, а отношения, существовавшие между совершенно разными людьми, уроженцами Австрии. Их как будто стравливали друг с другом, причем в этом участвовали и те, от которых никто не ожидал ничего подобного. Так было и в нашем случае. Пожалуй, мне было лет десять, не больше. Я немного умел читать, еще меньше — писать. Мама научила меня тому, что знала сама. После всех ее попыток призвать на помощь чудо разговоры о школе обрывались, едва начавшись, и отец решил поступить по-своему.
Однажды утром, студеной зимой, он отвел меня в иезуитский питомник, назывался он «Конгрегация девы Марии», которой заправлял патер Пунтигам. Там были еще с десяток мальчиков, один похожий на меня, остальные абсолютно нормальные. Они рассматривали меня, я — их, потом я сел за парту в самом углу небольшой комнаты. Несмотря на то, что в ней было ужасно холодно, мне пришлось снять зимнее пальто и шапку. Я дрожал, зубы мои стучали, я страшно заикался, отвечая на простые вопросы, заданные патером Пунтигамом. Он хотел услышать, как меня зовут, сколько мне лет и молюсь ли я перед сном. Слышал ли я про Иисуса и его страдания? Об этом я ничего не знал, и потому молчал, что ему не понравилось. А может, мне это только показалось, потому что патер Пунтигам вечно был хмур и серьезен.
Так началась моя учеба, если это вообще можно так назвать. Впрочем, можно, хоть такая, но все-таки учеба.
Патер Пунтигам говорил размеренно, слово за словом, будто читал. Все время какие-то указания, это вы можете, это не смеете. Я плохо запоминал его слова, однако он их повторял, и в итоге мы их запомнили. С нами он говорил на местном языке, в названии которого я до сих пор не могу разобраться, со взрослыми — по-немецки.
— Все здесь от Бога, мы здесь для того, чтобы служить ему. Важнее всего в мире то, что Богу предназначено, вроде наших молитв. Поэтому всегда оборачивайтесь в сторону Рима — там папа печется о ваших душах.
Он показал нам, в каком направлении находится Рим, хотя мы не понимали, ни что такое Рим, ни кто такой папа, в сторону которых мы должны поворачиваться. И так каждый день, император и папа, Иисус, молитва, учеба, отречение. Что такое отречение, мы тоже не знали, но постоянно должны были повторять это слово.
Отрекаюсь от греха — отрекаюсь от греха. Отрекаюсь от блудодейства — отрекаюсь от блудодейства. Мы войско Иисусово — мы войско Иисусово. Иисус наш вождь — Иисус наш вождь.
— Как в школе? — спросил меня отец.
— Не нравится мне, — искренне ответил я.
— Почему это?
— Разве нет у нас других учителей?
Удивленный моим ответом и вопросом, отец долго смотрел мне в глаза. Я не отводил взгляда, я чувствовал, что этот взгляд — наша первая настоящая связь. Мы смотрели друг на друга как отец и сын, никак иначе. Ни злости, ничего другого.
— Каких других учителей? — опять спросил он.
— Обычных, как в других школах.
— А чем этот плох?
— Он хороший, но мне это не нравится.
— А что тебе нравится? — спросил он меня и ухватил за руку. Мы сидели на полу, он оперся на локоть и стал ростом чуть выше меня.
— Рисовать. Ничего больше.
Отец молча отпустил мою руку и уставился в свои ладони. Он смотрел на них так, словно видел что-то, словно хотел что-то стряхнуть с тыльной стороны, но передумал, повернул их и вновь стал рассматривать. Он часто делал так. Чтобы не мешать ему, я вышел из комнаты, прихватив свои краски. С ними я был счастлив. Немного воды, кисть, бумага и покой в доме. Это мне всегда нравилось. Мне не надо было выходить на природу, там кто-то мог приклеиться ко мне, встать за спиной и смотреть, что я там рисую. Какое ему дело до того, чем я занят?!
Краски мне подарил доктор Кречмар, по крайней мере, так сказал отец, когда принес их в дом. Доктор Кречмар несколько раз осматривал меня, когда я болел, но лично он краски мне не передавал. Позднее мне казалось, что отец просто так это сказал, а на самом деле краски он купил сам. Или, может, кто другой, неизвестный мне, потому как он дал их мне по возвращении из Загреба.
Как-то раз, а может, и два, сейчас точно не помню, я сидел в своей комнатенке один, когда отец с матерью начали скандалить. Не знаю, ругались ли они после венчания, наверное, да, почему бы и нет, если у них и венчание-то случилось после скандала. Отец терпеть не мог ругани, он вообще не любил разговаривать с матерью. Да и она не была разговорчивой, вечно сидела за своим «зингером» и шила. Попытаюсь описать тот разговор, ту ссору, но в точности передачи не уверен. Собственно, я даже не знаю, из-за чего она началась, я не видел, кто из них чем был занят, почему это они ни с того ни с сего начали ругаться.
— Что ты насчет него думаешь? — спрашивала она.
— Ничего, что это вдруг я должен думать? — отвечал он вопросом на вопрос, так тихо, что я едва расслышал. Я даже не уверен, что он именно так сказал. Вот это: «Ничего».
— Как это ничего? — вдруг закричала мать своим писклявым голосом. Сейчас я понимаю, что этому крику что-то должно было предшествовать, но не знаю, что именно, еще раз повторяю: не знаю.
— А так, чего тут планировать? Пусть себе сидит дома.
— Господи, помоги, Господи, помоги, — запричитала она. — И оно мне надо было, все это!
Отец обычно никого не утешал. Не умел этого делать. Он молчал, я не слышал ни слова.
— Что молчишь? — опять заверещала она.
— Потому что сказать нечего.
— Как это нечего? Сейчас — нечего, а тогда было что? — она возвысила голос.
— Что — тогда? Когда это — тогда?
— Когда ты меня обманул, мужик! И зачем мне все это было нужно, о Господи!
— Никто тебя не обманывал.
— Обманул, молчи! Обманул, а то что же? Я ведь не знала, чем ты занимаешься, душегуб, — голосила она.
— А что, так ли это для нас тогда важно было, чем я занимаюсь?
— Да я бы ни за что не согласилась! Но ты меня обманул. Ты должен был знать, что у тебя не может быть нормальных детей. Должен был знать! — ее вопли заполнили весь наш маленький домик.
— Что ты несешь? Ты что, ненормальная?
— Это ты сейчас говоришь, что я ненормальная. Я абсолютно нормальная, и всегда была нормальной. Это ты ненормальный, — зачастила она.
— Прекрати! — наконец и он повысил голос.
— Это Бог меня наказал. Да, наказал меня. Всякий, кто с тобой сойдется, будет наказан! Ты проклят!
— Успокойся, говорю тебе. Что ты колотишься, рехнулась, что ли? — прикрикнул он на нее. А ведь не кричал прежде, никогда ни на кого не кричал. Но и спуску никому не давал, всегда своего держался. Кто в себе уверен, тот не кричит, говаривал он частенько.
— Так ты хочешь меня обвинить? Меня, которая тебя приняла с чистым сердцем! Господи, зачем ты меня оставил жить, когда я умереть хотела!
— Я святой, женщина. Не проклятый, но святой. Ты должна это усвоить.
— О Господи, что это? Что это?
Я хорошо запомнил те последние отцовские слова. Не понял тогда их, но запомнил. Больше он никогда не повторял их. Я и сегодня не знаю, что отец хотел этим сказать. Или просто хотел оборониться от ее нападок. Я вновь услышал ее швейную машинку, ее успокаивающее стрекотание. Но не цитру. Он никогда не играл, когда она шила. Но когда она купала меня, то он, если был дома, обязательно играл. И тогда мы вдвоем безмолвно прислушивались к музыке, опасаясь, что он вдруг перестанет играть.
Я думаю, что той ночью они зачали моего покойного брата, или же где-то в те дни. Я считал, так получалось. Тогда я был слишком мал, чтобы разбираться в этом, но я слышал, я не спал. Мать никогда не сопротивлялась, никогда ему не отказывала. Даже после той ссоры, которая закончилась ровно так, как началась, внезапно. Тот, кто мог подумать, что она должна была чем-то завершиться, наверняка не знал моего отца. Боюсь, что я его тоже не узнал.
22
Отец отвел меня в цирк «Веллер». Всего только раз, весной, в проливной дождь. Мы оба промокли насквозь, вода стекала с нас ручейками, когда мы сидели на не струганной деревянной скамье. Все здесь для меня было в новинку, и я сильно испугался. Я не знал, что будет происходить на арене, отец ничего мне об этом не сказал. Не сказал мне даже, куда идем, просто велел следовать за ним. Так у нас было заведено, бесполезно было просить его объяснить хоть что-нибудь. Он не водил меня за руку, я вприпрыжку бегал за ним, потому что он ходил быстро. Не из-за дождя, он всегда так ходил, будто бежит куда-то, или боится опоздать. Он даже есть медленно не умел.
В шатре, кроме нас, было едва ли с десяток зрителей, таких же мокрых, как и мы оба. В основном это были отцы с сыновьями, не припомню, чтобы там была хоть одна девчонка.
Почему я сегодня вспомнил про цирк? Я прижался к отцу, стараясь казаться как можно меньше. Сверкали пестрые огни, клоуны кричали, акробаты прыгали, все неслось с такой огромной скоростью, что у меня в голове все смешалось. Казалось, что они летают по причудливой орбите, словно шар в руках жонглера. Но когда вышел карлик, я испытал невероятный страх — будто кто-то воткнул мне кол в глотку и пропихнул его до самого желудка. Карлик был похож на меня. Я опять прижался к отцу, который, похоже, поняв, что случилось, обнял меня правой рукой. Крошечный карлик бегал по опилкам, кувыркался и болтал глупости, смысл которых до меня не доходил. Это был корявый немецкий язык с нелепыми вставками местного говора.
Казалось, я попал в ловушку. Не брат ли он мне? — спрашивал я себя. А как только он меня усмотрел, что несложно было сделать в почти пустом помещении, он стал обращаться только ко мне. Даже пытался выманить меня на арену, но я спрятался за отцовскую спину.
Возвращались мы молча. Ни единого слова, только по-прежнему трусцой за ним.
— Ну и как? — спросила мать.
Мы оба промолчали.
— Что, столбняк на вас нашел? Что там такое было?
— Ничего, что там может быть, — ответил отец.
— Что вы там видели?
Мы не поняли, кого из нас она спрашивает, и опять оба промолчали. Никто не хотел разговаривать, и она отстала. И мне показалось, что мы оба с облегчением вздохнули.
Отец больше никогда не вспоминал про цирк, а я со временем и вовсе забыл про него.
23
Зайфрид маялся с помощниками, как с непосредственными, помогавшими ему при повешении, так и с плотниками, отвечавшими за строительство виселицы. В основном это были бестолочи, которые так злили его, что он их увольнял одного за другим. Он редко оставался довольным, а на его благодарность вряд ли кто мог рассчитывать. А если к этому еще добавить постоянные неурядицы с оплатой, то становится ясно, почему ему так трудно было угодить. Он считал, что в таком важном деле помощники должны быть идеальными, во всех мелочах. Обязаны стремиться к совершенству, как если бы они мастерили, скажем, мебель. Почему строительство виселицы должно быть менее важным делом, чем сколачивание кухонного стола или буфета?! Напротив, оно куда как важнее, потому что касается государства и его авторитета. Шламперай, все это шламперай и саботаж! Разве никто из выученных местных или из старых мастеров не умеет работать так, как Господь велел?! И этот Алия, которого ему рекомендовали как отличного плотника. Он якобы много лет считается лучшим в Бихаче мастером плотницкого дела.
— Знаешь ли ты, Алия, кто я таков?
— Знаю, а то как не знать, говорят, ты — душегуб.
— Знаешь ли, зачем ты мне нужен?
— А то не знаю! Что зря спрашиваешь?
— Хочу убедиться, что ты умеешь ставить виселицы. Мои виселицы.
— Все виселицы одинаковые, нет тут разницы между твоими и другими.
— Ты их уже ставил, не так ли?
— Ставил, а то. Чего тут удивительного, у нас и до тебя вешали.
— Как ты их ставил? — спрашивает Зайфрид.
— Ну, два столба в землю вкапывал, поперек балку крепкую приколачивал, вот тебе и виселица.
— Плотничать умеешь, Алия?
— А то нет. Мое ремесло.
— Слушай, мне нужен хороший плотник, а не умный, зачем мне умный? Такой, чтобы мог виселицу соорудить так, как я ему скажу, понимаешь?
— А то нет, как не понять. Это тебе не книжку у ходжи читать. Как скажешь, тебе видней. Ведь ты же вешаешь, не я.
— Вешаю, такая у меня профессия, по императорско-королевскому повелению.
— Вах, хорошо. Так какую виселицу желаешь?
— Снизу помост, не очень высокий, как пол. Понимаешь?
— А зачем тебе помост, он ведь не танцы танцевать будет?
— Станцует, коротенько, не дольше комариного писка.
— Народ глядеть придет?
— Нет. А что за дело тебе до этого?
— Так ты ведь про помост говорил.
— В центре помоста отверстие, снизу крышка.
— Как откроешь, так и готов?
— Именно так. Потом толстую рейку, как балка, не меньше двух дюймов.
— Не понимаю.
— Поймешь.
— А за что веревку цеплять будешь?
— Ни за что. Перебросим ее через эту самую балку. Поэтому она должна быть широкой, чтобы жертва к ней спиной прижалась и не дергалась.
— Подумать только! Я такого еще не видывал.
— Поэтому и объясняю тебе. Не все виселицы одинаковы, и не все палачи кретины.
— Машалля, машалля!
24
Рассказчик ну просто сгорает от нетерпения вставить хоть несколько строчек с описанием, каким бы бесполезным оно не казалось. Но ведь даже пауза в застолье усиливает наслаждение.
Лето прошло, горы вокруг Сараево теряют свою свежую зелень и одеваются в желтые цвета множества оттенков. Зайфрид сидит на скамейке перед корчмой в Быстрике, перед ним «Сараевский листок», развернутый на полосе местных новостей. Его имя в газете. Черным по белому писано: «На этой неделе к. унд к. военный трибунал назначил в Конице процесс над пятью пособниками. На днях туда отбыл палач Зайфрид со своим братом и двумя помощниками».
До Коница надо добираться через Хаджич и гору, потому что в Боснии и Герцеговине, как нигде в Европе, повсюду разбросаны реки и горы. Куда не пойдешь — нет уверенности, что доберешься. Куда надо? В Кониц, где пьют лучший кофе в стране, а может, и во всей империи. Толкут его в деревянной ступе, деревянным же пестиком, не спеша, можно сказать, зерно за зерном. Воду берут из источника, редко когда ее не используют в течение часа, потому как считают: отстоявшись, она портится. Толченый кофе насыпают в медную джезву и заливают водой, которая только-только начинает кипеть. Потом ставят на плиту, чтобы пена поднялась три раза. А чтобы гуща осела, добавляют несколько капель холодной воды. Такой кофе и больному пить можно, настоящее лекарство.
Зайфрид быстро привык к местному кофе, но заметил, что в каждом месте его варят по-своему. Он хорошо овладел местным говором, но все равно никак не мог понять, почему они кофе «пекут», а хлеб «варят». Попробовав кофе в Конице, он узнал, что такое настоящий кофе. Поэтому, несмотря тяжкую дорогу и сопровождающие ее опасности, он с удовольствием ездил на юг, по меньшей мере два раза в месяц, обязательно сворачивая на берег Неретвы, где была хорошая кафана.
Похожее местечко, такое же красивое, где он часами мог недвижно сидеть, несмотря на непрекращающуюся кабацкую болтовню, когда кажется, что она вот-вот прекратится, ибо ни у кого уже нет сил продолжать разговор, так вот, такое же местечко было в городе Ключ, на берегу еще более прекрасной реки Саны. И еще там курят кальян и пьют чай. Заваренный на горных травах, с сильным запахом, подслащенный медом. Сидят на веранде, смотрят на воду и на далекие горы.
Грохотал барабан, и глашатай кричал о том, что случится завтра утром. Весть пронесется по Коницу, все будут знать, но никто ничего не увидит. Привыкшие при турках к публичным казням, обыватели не понимают, что происходит за тюремными стенами, там, куда имеют доступ только официальные лица. К чему такая таинственность, говорят в кафанах. Вся эта держава такая таинственная, но все все видят и все все слышат. Как будто даже у кофейных чашек уши есть. Половые, рестораторы, кабатчики, кельнеры, домушники, разорившиеся торговцы и ремесленники, и даже женщины — все они служат полиции в качестве доносчиков, сообщая о том, кто что делает и что говорит. Ни о чем хорошем, конечно, не доносят, так что власть всегда может усомниться в любом обывателе.
Здесь они, за чашечкой кофе, хвалят власть за то, что она хватает гайдуков и их пособников. Иногда им даже кажется, что гайдуков и нет вовсе, по крайней мере, они их не видели, но потом вдруг прослышат про разбой и посетуют, что пособники так и множатся. Чем меньше удачи в отлове гайдуков, тем больше повешенных пособников. А собственно, разве может власть придумать что-нибудь иное, чтобы они больше думали о себе, а не о тех, что в лесах?
Ничего этого Зайфрид не понимает, да оно его и не интересует. Всякое понимание, говорил ему судья Бремер, всякое понимание, уважаемый палач, есть преступный акт, ведущий к предательству, непослушанию и сотрудничеству с врагом. И чтобы я никогда не слышал о том, что ты где-то кому-то сказал про юстификацию. Ясно тебе?! Иди по жизни своим путем, юноша, и приноси пользу нашему императору! Впрочем, последние слова были излишни, всем была известна его любовь к императорско-королевскому величеству.
Как завершится нынешняя поездка, о которой рассказывает наша история, полная бесполезных на первый взгляд описаний? Не остался ли где после нее письменный след, малюсенькая заметочка в несколько слов?
Ни одна газета не сообщила о том, что случилось на обратном пути с Гансом, братом палача. Неизвестно, в самом ли деле он был его родным братом. Жили они раздельно, в кафанах их никогда не видели вместе, и только в те, первые годы, они вместе отправлялись в командировки. При этом Ганс выполнял роль подручного, хотя его знания в области повешения были недопустимо скудными. Когда позже его заменит Флориан Маузнер, Зайфрид назовет брата «швайнкерль».
Итак, на обратном пути Ганс просто-напросто исчез. Прежде чем спуститься к Хаджичу, они отдыхали в лесу. Лил сильный октябрьский дождь, быстро пала ночь. У них был проводник, который шел впереди, но никто и не думал оглянуться, сосчитать, все ли они бредут за ним. Ганс шел последним, он был медлительнее прочих из-за полноты и плоскостопия. Собравшись у кафаны в Хаджиче, где они обычно ночевали, обнаружили, что Ганса среди них нет. Целый час они ждали, когда тот появится, потом еще час размышляли над тем, что следует предпринять, после чего послали двоих на поиски. Может, он подвернул ногу, или ему стало плохо, все может случиться в дальней дороге. До утра его так и не обнаружили. Текли дни, полиция искала его по селам, расспрашивала, обещала награду, но Ганса и след простыл.
Зайфрид шел от города к городу, точнее говоря, от местечка к местечку, ожидая вестей о брате, но таковых не было. Сочли его пропавшим без вести. Наступила зима, а потом и весна, неоднократно по пути на юг Зайфрид с командой проходил через Хаджич, но брата так и не нашел. Как сквозь землю провалился, никакого следа не оставив. Как будто его никогда на земле и не было.
25
Меня с моим внешним видом никогда никуда не принимали. Особенно в компанию детей, которые вечно устраивали жестокие свары. Иногда мне даже казалось, что они по-другому не могут, что их игры бывают только такими. Я смотрел на них из-за забора, на этих играющих соседских детей, прислушивался к их рассказам и песенкам. Приходили ребята из дальних кварталов, не регулярно, а только для того, чтобы продемонстрировать собственное превосходство в силе и в хулиганских выходках. А эти, близкие, по крайней мере, территориально, были, конечно, ничуть не добродушнее, и вовсе не приятельски расположены к пришельцам, а тем более — ко мне. Странно, если бы это было не так, потому что по крайней мере раз в неделю их игры заканчивались драками, после которых кровь текла из разбитых губ и носов. Они орали друг на друга и размахивали палками, совсем как в бою. Сердце у меня колотилось, и комок подкатывал к горлу от страха и непривычного возбуждения. Я боялся этих ребят, которые, казалось, не знали никаких игр, кроме жестоких междоусобиц и непристойных песенок.
Дети соседнего квартала не могли играть со мной, им не разрешали родители.
— Только не с ним, с палаческим отродьем! — сказала девочка, на которую я смотрел из-за забора, и убежала. Наверняка это были слова ее матери, а она их только повторила.
Однако что-то ее влекло ко мне, она приблизилась и смотрела на меня. Мы стояли так несколько минут, после чего она неожиданно высунула язык и убежала. Меня это не обидело, я почувствовал, что чем-то близок ей. А чего бы ей иначе подходить? Другие едва обращали на меня внимание, будто меня нет на этом свете. Особенно ребята, которые забирались в кусты за железной дорогой и демонстрировали свои мужские органы. Я один раз оказался там, совершенно случайно, и видел это. Счастье, что они меня не заметили, иначе бы мне досталось под первое число. Они бы меня не пощадили, еще чего.
Знаю, что отец их тоже видел. Он все видел и все слышал. Они и его не щадили, хотя, стоило ему только выйти на улицу, как они тут же разбегались. Прятались за углом, высовывались оттуда и кричали: «Душе-губ, душе-губ, повесил бы кошку!»
Когда вниз по улице ковылял хромой грузчик Пинто по прозвищу Заяц, они и ему вслед кричали:
Заяц, Заяц, Ты безрогий, Подковал себе бы ноги! У тебя кривые руки, Не подохнешь ты от скуки!И почему его прозвали Зайцем?
Меня пугали их песенки, которые с возрастом становились все менее пристойными и все более грубыми. Наверное, они, подрастая, перенимали у старших то, что тем было наиболее близко. Вечно задиристые, никто просто так пройти мимо не может. Повзрослев, они перестают встречаться, не поют вместе и почти не ругаются.
Не раз я пытался нарисовать девочку, которая высунула мне язык. Ее черные глаза, остренький носик, тонкие губы. Нет, она не была красивой, красивой должна была стать картинка. Но ничего не получалось, я рвал рисунки, ни одной не оставил на память. Сейчас мне их жалко, хотя и собираюсь вскоре все свои картины уничтожить. Все до единой, не хочу, чтобы после меня остался живописный след.
26
Рассказчик разрывается между отцом и сыном, и все по поводу песенок. Что кто слушает и запоминает? Что они для него значат, где он на них нарвется и как они подколют его, как он их оборвет?
Зайфрид привык стоять у окна и слушать их задиристые песенки. Что его заставляло это делать, звучание слов или их смысл, который он извлекал из них? Нет, не извлекал — он сам раскрывался перед ним, распахивался. Он не верил, что их смысл одинаков для детей и для него, но для него он не значил ровным счетом ничего. Он даже пытался организовать для них музыкальное сопровождение на своей цитре. Нет, не ритм, он не любит ритм, который его только раздражает, но мелодию. Несколько нот, просто чтобы поддержать слова. Разложит, добавит, и потом повторяет, повторяет как считалку.
Не играй ты в прятки, Заболеют пятки, Заплачут девчатки…Мороз пробежал по коже от этих слов, особенно при упоминании девчат. Какой, чьей девчонки? Почему он повсюду видит женщин? В каждом слове сквозит это чувство, потребность, что ли, он и не думает о том, откуда у детей эта песенка. И случайно ли это его чувство. Неужели и они чувствуют нечто подобное, выкрикивая друг другу эти слова? Наорутся, накричат друг на друга, разругаются и перейдут в телесное качество, доступное им. И ему, его чувствам. Внезапно разволнуются и стыкнутся, взовьются и схватятся парами, совсем как мужчины и женщины.
Мужское и женское начала переплелись, как в собачьей свадьбе, из которой трудно вырваться. Спарятся, кончат, расслабятся, но разбежаться не могут.
Что это, пока он слушает, колотится в его утробе, в самом низу?
Куда подеваться, куда руки спрятать?
Точно так он себя чувствует после некоторых повешений, раздраженный и расстроенный. Прекрасно знает все правила и рекомендации, и ничуть его не касается, что висит тот, кто никого не убивал, все это он понимает, однако волнение охватывает его. Ищет чего-то, чтобы забыться. Все забыть, и себя тоже. И только последние слова эхом звучат в нем: девчатки, девчатки, девчатки… Ворочаются в голове. Мужская сила переполняет его, где от нее освободиться! Прямо тут, под забором, помоги мне, Господи!
А они, хотя и не видят его, будто зная об этих мучениях, заканчивают одну песенку и переходят к следующей. Это не деревенские задорные насмешечки, которые он на дух не переносит. Эти дети для него куда страшнее яда искушения. Откуда у них эти слова, бог их знает:
Ты, старуха-кочерга, Посмотри на мужика! А ты, мужичок, Чеши отсюда со всех ног!Знает он и тональность этой песенки, прямо-таки видит, как старуха на мужика поглядывает похотливо. Что это за мужик и чего он хочет, его вовсе не интересует. Песенка эта его возбуждает весь день напролет, а к вечеру только последние слова, пока не заснет и не забудет их: «А ты, мужичок, чеши со всех ног! Чеши, мужичок… Чеши… Чеши…»
Иногда от цыганки, что развлекает его, требует, чтобы она спела какую-нибудь из таких песенок. Обычно они исполняют их по-своему, смешивая местные слова с цыганскими, но это ему не мешает. Он смотрит в ее рот, из которого исходят слова, и это еще больше возбуждает его.
27
Как в старинных сказках о добрых феях, Зайфрид иногда встречает необыкновенных женщин, которые просто не должны бы существовать в этой стране. Откуда они берутся, что они здесь делают?
Обычно они связаны с известной сараевской командой поддержки взвода полиции, которая гоняется за гайдуками. Но в то время, как по Крайне крейсирует Мане Цветичанин, эти команды возглавляют исключительно австрийцы. Заброшенные в горы между Романией и рекой Дриной, они тащат за собой семью, если таковая у них есть. Ни доктор Кречмар, ни Зайфрид не понимают, почему у них такие красивые жены. Кто их свел?
— О них надо сказки сочинять, — говаривал доктор Кречмар. — Только так они смогут оказаться в достойном окружении.
— Вы полагаете, кто-то еще читает сказки?
— Их всегда будут читать. Если ты внимательнее приглядишься, то поймешь: все мы вышли из сказки.
Зайфрид не считал, что он вышел из сказки, но у него не было привычки возражать кому бы то ни было, особенно если тот был чином и званием старше его. Если же он невольно, мимоходом, становился случайным свидетелем подобных споров, то так пугался, что потом часами не мог произнести ни единого слова. Да разве такое вообще возможно?! Так и в том случае, когда они сходно мыслили, но вслух утверждали совершенно противоположное, или наоборот, он всегда уважал мнение вышестоящего, хотя доктор Кречмар и не принадлежал к его непосредственным начальникам.
— Ненавижу подчиненность, субординацию, — говаривал доктор Кречмар.
Их обоих просто-напросто очаровала прекрасная женщина с длинными светлыми волосами, с такими же светлыми и влажными глазами. Они познакомились с ней перед домом начальника местного полицейского участка. Она испугалась, когда ей сказали, кто этот человек в черном, но согласилась протянуть ему руку. Прикосновение женщины было для него величайшим из всех возможных искушений. Даже в подобных этому случаях, когда он не мог рассчитывать на большее, чем легкое касание руки. Он дрожал от страсти, как мальчишка, которому не терпится поскорее уединиться и рукой облегчить свои мучительные страдания. Или, точнее говоря, как кобель, которого некий призывный запах заставил вскочить на ногу хозяина. Люди смотрят и смеются, а тот не обращает ни малейшего внимания, потому что делает свое дело, то, что он должен сделать.
— Мой муж ловит гайдуков, а вы их вешаете, не так ли? Ах, как это страшно!
Он уставился на ее прелестные губки, на язычок, что выглядывал из-за беленьких зубок.
— Ах, не рассказывайте мне, — воркотала она, а он едва слышал ее голосок.
— Нет, госпожа, я никогда не рассказываю про это, особенно таким милым дамам.
Она не пугалась, а только стреляла глазками, однако чаще поглядывая на доктора Кречмара. Говорила по-немецки, с мадьярским акцентом. Мягко, сладко, разнежено.
Что это она со мной творит, думал он, а она читала в его глазах не только вопрос, но и желание.
— Вас ведь боятся, не правда ли?
— Меньше, чем вашего мужа, — отвечал он ей.
— Ну уж нет, мой Рудольф никого не судит и не казнит.
— Не судит, но казнит. Убивает, моя госпожа.
— Ах, ну зачем вы так? Я боюсь. Особенно вас. Меня пугают ваши руки, которыми вы надеваете несчастным на шею петлю, в которой они потом задыхаются.
— Эти несчастные — враги империи, прекрасная госпожа!
— Так и мой Рудольф говорит, но мне все равно их жалко. Все они Божьи создания, даже эти, местные.
Эмма чирикала, но Зайфрид не вслушивался. Он отвернулся и уставился на ее маленькую коренастую служанку. Кухарка, горничная, всего помаленьку, да и подружка тоже. И она посмотрела на него.
— Вы знакомы с нашим доктором, госпожа?
— Ах, доктор Кречмар, конечно! Его у нас каждый знает, не так ли? Такой хороший доктор в этих краях — большая редкость. Он так хорошо знает женщин!
Рудольфа не было дома неделю. Гоняясь за знаменитым гайдуком Радованом, он надолго пропал в лесах у Калиновика. Это был один из тех рейдов, когда хватают пособников, чтобы потом, по решению Вюртемберга, повесить их в соответствии с законом. Всех их, словно скотину, сгоняли в Калиновик, и там они уже попадали в руки Зайфрида.
В ту же ночь он отыскал служанку госпожи. Она тоже искала его, потому что госпожа отпустила ее на денек. Та после обеда принимала доктора Кречмара.
Так протекали их дни. Время от времени чувствительным йодлем звучала цитра Зайфрида. Словно сказка, о которой говорил доктор Кречмар, она соединяла далекие леса, австрийские и эти, герцеговинские. В одних наши герои родились, а в других плутали в поисках врагов своего императора.
28
Неопубликованная заметка В. Б.
Я спросил его о возможном личном отношении к тем людям, которых он вешал. Как правило, он ничего не знал о приговоренных к смертной казни, за исключением Эдхема Бркича, завсегдатая кафаны «Персиянец», куда он сам с удовольствием захаживал.
«Всю жизнь, кажется, я провел в одиночестве, хотя довольно часто сиживал в трактирах. В любых заведениях, в основном в корчмах, в забегаловках, в постоялых дворах. Наверное, ни к чему мне вам рассказывать, что за публика там собиралась. Кто-то пил, кто-то ел, чаще и то, и другое вместе. Подавали все что угодно, в основном девочек, женщин, самых разных, таких же, как и мы. Ночлег и баба в кровати. Сараевские кафаны не были исключением, по крайней мере, те, в которых я бывал. Про кафану «Персиянец» говорили, что она пользуется дурной репутацией. Писали про нее в газете «Босняк», что там развращают их молодежь. Дети уважаемых родителей, а ночи проводят в разгулах. Пили там много, каждый вечер кто-нибудь да хватался за нож. Мне это не мешало, я привык. Как сейчас помню, ужасно холодно было. Только сарай-лии знают, что такое настоящий мороз. Все на лету замерзает, даже воздух, который ты изо рта выпускаешь. А в кафане тепло, весело, словом, как всегда.
Я знал всех завсегдатаев, кроме нескольких, все они занимались сомнительными делишками. Правда, не могу сказать, что все они были уголовниками. Хотя всех их можно было бы арестовать, если понадобится, и не было бы это ни ошибкой, ни ущерба никому особого бы не принесло. За каждым бы из них грешок нашелся.
Так вот, этого Эдхема Бркича, которому суждено был стать моим пациентом, я наблюдал не один год. Весьма тяжелый случай, приблудился в Сараево из Краины, или еще откуда-то. Никто не знал, чем он живет, но каждый вечер проводил в той кафане. Для него она вторым домом стала, если только первый у него вообще был. Он посетителей всех кафан знал, не только в «Персиянце», но и во всем городе. Он тебе предлагал всяческие мелкие услуги, ничего особенного, но все-таки. Крепко дружил с Арифом Ченги-чем, похожим на него парнем, из Высокого. Здорово дрался, разговаривать с ним было тяжело. Так и стремился ввязаться в драку, с поводом или без. Бркич умел успокаивать его, он его слушался, хотя и без особого удовольствия. Было между ними что-то, не знаю что, но было.
Той ночью все пошло наперекосяк. Допоздна какие-то картежники засиделись, и чем больше пили, тем больше заводились. В конце концов так разорались, что все посетители разбежались.
Ушел и я, утомившись от их криков и, как прочие клиенты, предчувствуя, чем все это закончится. Те, что давали показания, мне позднее тоже рассказали. Столкнулись Бркич и Ченгич, никак один другому уступить не хотел. Неважно, кто первый начал. Бркич хорошо владел ножом, чакией, как они говорят, вот и ударил его прямо в сердце.
Нелегко мне было его вешать, несмотря на то, что он был уголовником, настоящим преступником. Весь день после казни я играл, запершись в комнате, совсем как монах».
Эй, истина, где ты, истина? Исповеди, мемуары, ерунда всякая. Не так вовсе было, а иначе. Так и здесь. Эдхем Бркич был приятелем Мустафы, бесстыжий молодой сводник. У него было несколько девочек, он продавал их чиновникам и их гостям. Вот чем он был связан с Зайфридом. Друзьями они не были, но прекрасно знали друг друга. Это были деловые отношения, скидки и свежий товар для него. Тем же занимался и Ченгич, хотя и был жуликом помельче. Грабил лавки в Башчаршии, шантажировал всех подряд. Такие редко голову сносят.
Немало ракии они вместе выпили, Зайфрид и Бркич. Он терпеть не мог Ченгича, его примитивность, рыгание за столом, жирные пальцы, которыми он хватал куски баранины с чужих тарелок. Я пишу эти строки с отвращением, только ради восстановления истины. Не для печати.
29
История нас спрашивает: а где разговор с сыном? Почему его нет, ведь должен же он был состояться, например, об искусстве? Разве оба они не художники, ведь наверняка они духовно общались?
Отто повзрослел прямо-таки за одну ночь. Так показалось Зайфриду, в то время как мать его считала дни совсем иначе. Ее здоровье истощалось, она долго, но неуклонно и неудержимо таяла. Они остались вдвоем, близкие и далекие, меняя квартиру за квартирой, дом за домом, как цыгане.
Неизвестно почему, но Зайфрид редко разговаривал с сыном. Годы шли, а он ни слова не сказал о его картинах. Даже вида не подавал, что их замечает, не говоря уж о похвалах. Тем не менее, однажды это случилось, он произнес несколько слов по поводу акварелей, которые Отто развесил в прихожей. Что-то в них подействовало на него, может, он уже был готов воспринять их, перед этим он долго играл, пальцы у него заболели от струн, но ему всегда очень нравилось это состояние. Чувство, что он целиком отдался музыке, до боли в скулах. Отложив цитру, он заглянул в комнатенку Отто, двери в ней было, только занавеска, слышно было, когда сын ходил, когда дышал, иной раз даже когда кисточкой водил по бумаге — он, согнувшись, работал над акварелью. Наверное, почувствовав взгляд отца, резко поднял вверх правую руку, и капелька красной краски упала на то место, где ее не должно было быть.
— Извини, — сказал отец, — я не хотел напугать тебя.
Отто даже не шевельнулся, и продолжал держать над бумагой высоко поднятую руку. И только тишина, в которую они погрузились, становилась все гуще и гуще.
— Это Требевич? — спросил отец.
— Да, — ответил Отто настолько тихо, что тот едва расслышал. А может, ему просто показалось, что он что-то сказал, настолько это было тихо произнесено. Совсем как цвет неба, которое едва-едва голубое, но все-таки голубое.
— Красиво, — впервые наградил он его отзывом.
— Как твоя музыка, — ответил сын так же тихо, как произнес это свое «да». Теперь настала очередь отца смутиться и обрадоваться. Эти слова подтверждали, что сын слушает отцовскую музыку, мало чем отличающуюся от обычной кабацкой, и, вслушиваясь в нее, руководясь ею, рисует. Два бессловесных искусства, радость для ушей и для глаз, привал и поход. Для отца поход значит больше, чем привал, для него, наверное, это просто поход. Но сейчас ни для одного, ни для другого это не привал и не поход, а просто искусство. Некое волшебство, которое сближает их.
В следующий раз, отложив цитру, он сквозь стенную дощатую перегородку, обмазанную глиной, услышал шепот сына. Всего несколько слов, вроде «облако», «вода», «маки», «небо», которые он шептал словно молитву. А в конце имя, что-то вроде Габриэль, что-то архангельское. Он вошел спросить, откуда у него взялось это имя.
Он смотрел на него молча, так, словно хотел стремглав убежать от него. Так обычно смотрят, когда хотят создать натянутость в отношениях, отец этого терпеть не мог. Что означал у него этот взгляд?
— Габриэль, — сказал он едва слышно, — Юркич.
— Кто это?
— Художник. Если бы я смог нарисовать хоть одну картину, как он! Траву, цветы, небо.
— Ты знай рисуй, вот и нарисуешь. Чего ж не нарисовать?
Он больше не слышит отца, молчит, опустив голову. Зайфрида настолько потрясает отрешенность сына, что он хватает цитру и начинает играть так громко, чтобы заглушить все и не слышать ни одного звука, кроме звучания своего инструмента, которое просто рвет его на части. Потом останавливается и скрещивает пальцы. Спрашивает, где Отто видел картины этого Юркича. Может, он еще какие-то видел, неизвестно где. И вообще, что он, отец, знает о своем сыне?
30
1903 год, во главе края становятся Калай и Буриан; Апеля, которым восхищался Зайфрид, сменяет барон Альбори, незнакомая личность, и только Исидор, барон Бенко, остается без замены, как и сам Зайфрид. Требуется знание местного языка, о названии которого они никак не могут договориться, но все знают, на каком языке тут говорят, это Зайфрида не волнует, он этим языком овладел, хотя от него и не требуют произносить речи при исполнении служебных обязанностей. Однако Зайфрида больше всего волнуют постоянные трения в народе, какие-то движения, требования, петиции, о которых вокруг говорят шепотом, или вполголоса, и появление которых оскорбляет его имп.-кор. Величество. Разве тот не лучше всех их знает, что надо народу, думает, а иногда и говорит вслух Зайфрид своему маленькому горбатому сыну. Что это за народ такой, который полагает, что он знает лучше и больше императора? И неужели император может быть против народа? Разве такое бывает? Ведь император совсем как отец, каждому своему подданному желает только добра, и только он знает, что его детям нужно, каждому дитяти в отдельности и всем вместе взятым — стоит ему только их оставить, как тут же начинаются распри, скандалы, драки, кровь и ненависть. И что же тогда лучше? Позволить им перегрызться, или установить, что для них хорошо, а что плохо, и чтобы они жили в мире и покое, пусть хоть и не всегда довольные жизнью? Кто еще может сделать человека счастливым?! Человек существо проклятое, хуже зверя, насытится и сразу гадить начинает, чтобы потешить свою сытую и пакостную душу. А вот у императора такого нет. Йок! Как у отца, который смотрит в будущее, а за это половина семьи его ненавидит и смерти желает. Что тут еще император может сделать? Подлизываться к ним, чтобы держава погибла? Нет, тысячу раз нет.
31
Часть разговора с преступником Зайфридом, так назвал В. Б. рабочий вариант неопубликованного газетного очерка.
— Вы, главное, рассказывайте, меня все интересует.
— Скитаясь по краю, от села к селу, я узнал о нем больше, чем кто-либо другой. Никто, кроме меня, не работал по всему краю. Сейчас, под старость, я вспоминаю все эти лица так, будто виделся с ними вчера. Каждый из них — история, столько историй, что и пересказать все их не смогу. А без них нет и нашей истории. Всех нас нет, так можно сказать. Подружил нас император, война разобщила, одни ушли, другие пришли, так всегда бывает.
— Что вы чаще всего вспоминаете?
— Ну что вы, я об этом не думал. А вот сегодня ночью вспомнил барона Перейру, внебрачного сына одного австрийского графа. Почему я про него вспомнил? Потому что все время думаю о том, почему рождаются ненормальные дети. Вы меня понимаете, да? Меня это уже тридцать лет занимает. Тот Перейра был придурковатый, женился на какой-то крестьянке, содержали его в Калиновике. Я его раза два-три видел. Он через кого-то пригласил меня на ужин. Слышал, что я хорошо на цитре играю, хотел послушать меня. Другие инструменты он терпеть не мог, особенно ненавидел скрипку и пианино. А цитра — да, цитру обожаю, говорил он, она мне маму напоминает.
«Я ведь не всегда таким был, — сказал он мне однажды. — Что я здесь делаю, пока отец в Зальцбурге балы задает? Все вальсы да вальсы, и все ему мало. Играют ему Штраусы, отец с сыном, денег ему не жалко, лишь бы послушать их у себя дома. Ладно, пусть он там заебется, извините за выражение, со своими вальсами. Я уже привык к здешним плачам. Но я так хочу цитру! Купил тут одну, но у меня слуха нет, играть не умею. Сколько ни пробовал, ничего не получается».
Он был лучшим моим слушателем. Я играл до изнеможения, и он меня ни разу не прервал. Музыка сблизила нас, но это не могло продолжаться больше одного дня. Играя, я смотрел на его лицо, оно светилось от счастья, от удовольствия или еще чего-то. Я думал, что тоже мог быть таким же счастливым, как он, если бы кто-то пришел ко мне и подарил такую музыку. Надо любить цитру, чтобы понять это. Я бы даже отважился, так сказать, в надежде, что вы меня правильно поймете: этого никому не понять, кроме австрийцев. Никто, уважаемый господин.
Меня не вдохновил его романтический рассказ об инструменте, без которого он не представлял себе существования, к тому же вовсе не в этом состояла цель моего визита. Я вновь направил разговор в нужное русло, о людях, которых он мог знать.
— Кого вы еще помните, кроме этого Перейры?
— Всех, абсолютно всех, как тех, кого повесил, так и тех, обычных и необыкновенных, кого повстречал в жизни. У этого Перейры я познакомился с человеком, который, как позже оказалось, был самым страшным разбойником в горах. Некий Давидович, кажется, Манойло его звали. Вам страшно делалось, едва вы с ним заговаривали. Смотрел на вас так, будто прямо сейчас выхватит нож и тут же зарежет. Ни одного доброго слова не мог для нас найти, да и не скрывал этого. Рассказывал мне о своих связях с людьми, которые готовы хоть завтра поднять восстание и перебить всех, кто пришел на эту сербскую землю, как он называл Боснию и Герцеговину. У нас столько доверенных лиц, что больше ни одной души и не потребуется. И принимался перечислять их, поименно, вращая кровавыми глазами. От злого отца и еще более худшей матери он, написал о нем Коста Тодорович в записке, которая попала к нам в руки в 1914 году, а вы наверняка знаете, кто такой был Коста Тодорович и где он служил. Мы об этом позже узнали, когда вошли в Малый Зворник, где он базировался. Все бросил, так что мы легко напали на след тех людей в Боснии, которых он упоминал в записке. Я говорю — мы, но только я с этим ничего общего не имею. Я шел за армией, вешал тех, кого приговорили к повешению. Да, так вот, этот Манойло сказал, что все эти доверенные лица — наши ярые враги. Кажется, я ему ответил, что все сербы до единого — наши враги. Придет время, мы вас всех в стаканах утопим, весело заявлял он мне. Мы оба хохотали над этим, он вслух, а я про себя, насколько хватало терпения, только он понял, что он мне смешон.
Я не понимал, зачем он мне все это рассказывает, но я не хотел переспрашивать его, потому что не для этого я пришел к нему. Меня интересовали исключительно фотографии, которые могли быть у него, а также его воспоминания о другом событии, о том, что восторгало нас, молодых, в то время. Для него оно, вероятно, не имело никакого значения, хотя в корне изменило всю его жизнь. Или я ошибаюсь? С чего это оно должно было ЕМУ изменить всю жизнь? Оно всем НАМ жизнь изменило.
32
Мать никак не могла согласиться с тем, что я не болен, и просто считала, что мое появление на свет было ошибочно, излишне. Болезнь была ей понятнее, потому что от нее можно вылечиться. Что, опять я написал слишком сложно? Да, сложновато, но не могу объяснить проще, прямолинейнее — чувствую, как собственный скелет ограничивает меня в движениях, как маленькая и неудобная клетка птицу, которая хотела бы еще немного подрасти, но не может — места не хватает.
— Нет в этом мире лишних людей, — говорили ей патеры. — Он — знак божий, береги его!
Подобные ответы не удовлетворяли ее, но она не знала, что со мной делать. Ее вера была обыкновенной, практичной — она требовала от нее конкретной помощи. Тогда я не понимал этого, временами даже думал точно так, как и она, но с годами все дальше отходил от подобного понимания веры.
Отец, наверное, был более верующим, чем мама, но не показывал этого, в этом вопросе, как, впрочем, и во всех остальных, он был закрытым человеком. Он позволял каждому быть самим собой, но не хотел, чтобы от него требовали разыгрывать из себя проповедника. Но я вспоминаю минуты, когда я чувствовал, как он верит в Бога. В большей степени это было связано с его работой, в которой Бог служил ему опорой, и в меньшей — с личной жизнью. Он требовал от Бога не помощи, а убежища, когда его одолевали мрачные картины его страшного ремесла.
Вместо церкви он водил меня в кинематограф, где мы сидели рядом в темноте, совсем как два товарища. Больше, чем картинки, мелькающие у меня перед глазами, и которые, по крайней мере, на первых порах пугали меня, меня радовала отцовская близость. Он не держал меня за руку, ничего не говорил и не объяснял, мы просто смотрели, а потом шли домой, все также не произнося ни слова.
— В этой темноте все одинаковы, — как-то сказал он, и я хорошо запомнил эти слова, потому что уже достаточно подрос, чтобы понимать такие вещи. И в церкви мы вели себя точно так же.
Да, я начал все это потому, что вспомнил патера Пунтигама, который исчез из Сараево, не только физически, но и духовно, хотя во время войны он был знаменит. Было непонятно, кто первый человек в официальной церкви, епископ Штадлер или он. Или же они были добрыми приятелями, которые хорошо знали, кому что позволено и кто на что имеет право. Многие ненавидели его, даже католики, не знаю, почему. Они открыто выступали против него и иезуитов. Отец считал, что это неправильно.
Однажды он пробился к патеру Пунтигаму, о котором по городу ходили разные сплетни, но во всех их подчеркивалась его строгость и искренняя вера. Попробую вспомнить, что отец рассказал мне об этой встрече. А также молитву, записанной рукой Пунтигама, которую я сохранил. Чтобы описать это, мне следует покинуть собственное тело и войти в отцовское, но это совсем не сложно. Вот он, здесь, а перед ним патер Пунтигам, или отец Пун-тигам, не знаю, как к нему обращаться, чтобы тот откликнулся. Да, именно откликнулся, потому что все, о ком я думаю и пишу, откликаются на какое-то имя, а если их называешь неправильно, они остаются мертвыми и немыми. Имя оживляет их, совсем как в сказке.
— Ты молишься? — прервал меня патер Пунтигам вопросом. Не меня — моего отца, Алоиза Зайфрида.
— Ну, как сказать, — заколебался Зайфрид, но отец Пунтигам не терпел колебаний. Для него это было первым знаком неверия.
— Правду, душегуб, — коротко, тяжело потребовал он. Зайфрид не любил, когда его так называли, чаще всего начальство, которому он не мог ответить по полной. И патеру Пунтигаму не мог ответить соответствующим образом, поэтому продолжил ответ:
— Не молюсь, отче, что тут скрывать.
— Вот это мне нравится. Признавая глубочайшее падение, ты приближаешься к Христу. Я дам тебе молитву, нашу, иезуитскую, она сильнее любой другой. Правда, другими тоже можно пользоваться, конечно же. Можно и их читать, но только после вот этой, которая гласит:
Душа Христова, просвети меня. Тело Христово, спаси меня. Кровь Христова, напои меня. Вода Христова, освежи меня. О, добрый Иисусе, услышь меня. В ранах Твоих укрой меня. Не дай отринуться от Тебя. От врага злобного оборони меня. В час смерти моей призови меня. Дай мне прийти к Тебе, Восхвалять со святыми Тебя Во веки веков. Аминь.Патер Пунтигам не смотрел ни на меня (я был Зайфридом, а не Отто), ни на кого другого, он закрыл глаза и долго молчал после молитвы. Ладони он сложил перед собой, совсем как монашенка. Мы сидели за столом, был вечер, тишина. Никогда, ни до этого, ни после я не чувствовал, что передо мной сидит святой человек, которому следует безоглядно верить и полностью предаться.
— Есть ордена и ордена, но Дружина Иисусова одна. Кто с нами, тот всей душой с Иисусом. Тебе легко будет присоединиться к нам, потому что ты не пользуешься большими мирскими благодатями, как те, что думают, будто примкнув к нам, они унизятся. Никто с нами не унижается, напротив — возвышается. Когда решишься, будет тебе легко. Нет такого греха, который нельзя было бы искупить таким образом.
Я переписал молитву с его листочка и пояснительные слова патера Пунтигама, теперь это принадлежало мне, но я хотел, чтобы оно оставалось отцовским. Или чтобы мы с ним слились в этой записке, и мне бы хватило этого. Но только перед виселицей я не хотел быть с ним одним целым. И чтобы он мне слова об этом не говорил, нет, не хочу, не могу слушать, затыкаю уши, чтобы не слышать себя самого. Странное это мое описание, опасаюсь перебраться на другую сторону, как пассажир на палубе парохода, который так согнулся на трапе, что не может более оставаться на своей ступени, скользит и в конце концов падает в трюм. Отец перед виселицей и есть трюм того парохода, на палубе которого я стою, упираясь ногами в ступеньку, на которой оказался. Как будто я этими словами бросаю якорь, закрепляюсь, чтобы меня не унес прилив неотчетливых воспоминаний.
Из всех картин, на которых я старался изобразить отца рядом с его виселицей, только одна сумела просто раздавить меня. Я уничтожил ее, хотя это была, пожалуй, лучшая моя работа. Отец под виселицей в образе одного из римских солдат, распинающих на кресте Иисуса. Меня просто ужас охватил, когда этот образ, непонятно откуда, родился в моей голове. Может, потому, что я впервые расставил вокруг виселицы несколько фигур, среди которых отец в своем черном костюме выглядел верховным исполнителем самой страшной в мире казни.
Святотатство ли повешение? Не об этом ли отец разговаривал с патером Пунтигамом? И что тот ему ответил?
33
Объективный голос рассказчика шепчет на ухо самому духу этой истории.
В новом, двадцатом веке мир даже не собирается успокоиться. Зайфрид было понадеялся, что народ, который он воспринял как свой собственный, примет и его. Его не просто как человека, ничего подобного он не требовал даже там, где когда-то находился его отчий дом, но как чиновника империи, руководимой высочайшей мудростью. Все в ней упорядочено, продумано, облагорожено императорским умом. Но здесь мало кто готов согласиться и признать это. Напротив, все делают для того, чтобы состояние дел ухудшилось. Все плохо, говорят рабочие, хотим больше получать и меньше работать. Ничего в ней хорошего нет, говорят про веру, утверждают приверженцы по меньшей мере двух других, да и третья вера, жидовская, тоже недовольна. И только католики помалкивают. Но и в их среде агитаторы призывают к беспорядкам, а не к порядку. Приезжают — Зайфрид бы ни за что не поверил, если бы не видел собственными глазами — из Загреба, будто работу ищут, а на самом деле подстрекают рабочих.
На востоке Европы еще хуже. Недавно русского царя свергли. Много здесь таких, что радуются этому, не любят русских. Зайфрид следит за событиями и не может не дивиться как легкомысленному русскому народу, так и безумным сараевским журналистам, которые этому не нарадуются. Не знают, идиоты, что царская власть есть знак божественного промысла, и человек не смеет мешать ей и подстрекать против нее. Царь — человек, он и ошибиться может, как же ему не ошибаться, но неужели его грехи настолько тяжкие, что после него никто их повторить не посмеет? Это все равно что свергнуть отца, который не дает тебе совсем пропащим стать. Не любишь его за то, что он из тебя человека сделать хочет. А ты желаешь негодяем стать, ухватить чужое и никогда больше не работать.
Рушится и распадается всякая старинная власть. Та, что была от Бога. Единственным авторитетом призваны стать они сами, какие-то новые революционеры, желающие контролировать мир из своих мрачных лож. Божий порядок не уважают. Слуги дьявола!
34
Рассказу необходима помощь со стороны, голос рассказчика, который вовсе не всеведущ, скорее всего, он просто любознателен. Сует нос куда попало, но рассказ в классическом его понимании не просто одобряет это, но и требует некоторой объективности. Особенно с той стороны, с которой ее пока не наблюдалось, со стороны закона, порядка, гражданского послушания. Ja, ja, послушания, а как вы думали? О, брат мой любезный, как бы нам не соврать более положенного!
Демонстрации 1906 года в Сараево и жестокий ответ власти.
В городе смятение. Что случилось с порядком и законом? Те, кто должен соблюдать закон и уважать порядок, требуют каких-то своих прав. Права на что? Какие права? Есть ли нечто такое, что им можно было бы дать, и о чем бы не подумала власть и не дала им? Особенно император.
Стачка! Что это такое? Бунтуют рабочие, не желают трудиться. Что-то в этом роде.
Город поделился на тех, кто поддерживает рабочих, и на противников стачки. Обе стороны ожесточенно нападают друг на друга, жаждут схватки и крови. Зайфрида швырнули в стену, он чуть не вывихнул руку. То ли его кто-то узнал, то ли ему это показалось, но они кричали:
— Провокатор! Что здесь делает провокатор? Валите его! Мать его провокаторскую!
Зайфрид отказывался верить своим глазам и ушам, откуда такое желание свалить власть, уничтожить все полезное, что сделано в этих краях за двадцать с чем-то лет? Разве улица должна решать, как будет выглядеть империя?! Сегодня так, завтра эдак — а в основном никак, шиворот навыворот, как это было тогда, когда мы сюда входили, а эти, здешние, каждый в свою сторону тянул, точнее, в три стороны.
Он хотел услышать ответ церкви, что скажет в вечерней проповеди епископ Штадлер, силу веры которого Зайфрид уважал. Но епископ в тот вечер не выступал с проповедью, уступил свое место иезуиту Пунтигаму. Сердце Зайфрида возликовало, когда он узнал о возможности послушать человека, у которого, к сожалению, его сын не остался на тот срок, на который бы следовало остаться. То есть, навсегда!
Силы мрака, сатанинские силы явились сюда, к нам, в Сараево. Они вошли в народ, в так называемых рабочих, чтобы восстановить их против хозяев и против власти, которая на стороне хозяев. Не трудно найти причину, по которой нам не нравится то или это, всегда что-то найдется. Тяжело противостоять искушению самим вершить справедливость и революционизировать мир. Потому что революции — зло, а зло известно от кого исходит и к кому подталкивает слабовольных и податливых. Податливость — болезнь общества, отвернувшегося от Иисуса. Иисус не был податливым. В вере нет места компромиссам.
Против зла следует бороться упорно, каждодневно, личным примером, добротой сердца и крепостью кулака, который может и должен ударить там, где никакие другие меры не помогают. Здесь говорят о каких-то народах, об их правах, но редко когда вспоминают о верующих, о необходимости крепить святую католическую веру. Ибо она есть единственное препятствие на пути масонства, которое стоит за всеми этими движениями, которые поставили своей целью свержение нашей священной Монархии. Можно ли смотреть на это с безразличием, или настала, наконец, пора сегодня, здесь, куда нас послала Божья воля, приступить к действиям и начать чистку?!
Искушения еще только предстоят, вот увидите, они объединят тех, кто еще вчера ненавидел друг друга. Как, зачем, спрашиваете вы. Чтобы уничтожить Божью власть на земле и разрушить нашу священную империю и нашу святую римскую церковь. Кто защитит ее, если не мы? Французы, псевдокатолики, а на самом деле вольные каменщики, распространяют по всему миру идеи, и не только идеи, но и посылают своих клевретов организовывать, подстрекать, поднимать народ. Социализм, национализм, либерализм — сквозь них смотрят на мир глаза сатаны!
Говорю вам, французская революция — дьявольское отродье, масонская резолюция на требовании развязать бесконечный террор. Все, что происходило после нее в той католической стране, греховно. Вот и здесь некие молодые люди создали организацию, избрав для нее символы той революции. Случайно ли это? Конечно, нет, потому что нет на этом свете ничего случайного, ни зла, ни добра. Особенно зла. Потому я вам обо всем этом и говорю, чтобы открыть вам глаза, укрепить вашу мораль и научить избегать ежедневно расставляемых капканов. И потому ваши моления должны стать ежедневными, как тому учит священная книга иезуитов, которую сам Господь продиктовал нашему отцу святому Игнацию.
И еще я помяну здесь Америку, в которой действует, как вам известно, безбожная конституция. Из Америки сюда, к нам, постоянно притекает зло. Именно туда сослали зло, чтобы оно не отравляло здесь наш народ. К несчастью, теперь оно возвращается, чтобы испытать нашу веру и нашу силу, нашу способность противостоять ему и в итоге их уничтожить. Не может быть для нас идеалом Америка, эта протестантская ложь, которая в свои объятия приняла и дала пищу и кров всем сектам.
Слабовольным нет места в этой борьбе. Чтобы подготовиться к ней, мы должны работать с молодежью, и только с молодежью, она наша единственная надежда. Я всю свою жизнь работал с молодыми, и остаток жизни проведу с ними. Буду учить их укреплять свой дух и свою веру. Нам не хватит того, к чему призывают францисканцы, ora et labora, нисколько. Это годится там, где существует одна вера, но только не здесь. Этот лозунг — сахарная водица, которая вызывает у меня смех, хотя мы, иезуиты, никогда не смеемся. Потому что смех — дьявольская выдумка. Кто смеется, тот думает не о вечном, а о земных делах.
35
Сохранившаяся вырезка из старой газеты. Нет пометки о том, какая это газета, скорее всего, «Босняк». На полях рукой Зайфрида добавлено: «Бихач, командировка, зима».
«В понедельник 25 ноября по городу прошел глашатай с барабаном и объявил народу, что завтра во дворе тюрьмы Окружного суда в Бихаче будут повешены двое убийц Хасанбега Чекича, поскольку к этому их приговорила юстиция. В обществе чувствовалось некое движение, и Йово Мандич принялся собирать подписи под просьбой к Е. Величеству помиловать преступников. Мусульманское общество, оскорбленное до глубины души преступлением убийц, не проявило соучастия, и не нашлось никого, кто подписал бы петицию. Во вторник (3.12.1907) в 7 часов утра приступил к работе палач Зайфрид, который прибыл туда из Сараево. Первым был подведен к эшафоту Миливойша Саво, который, едва увидев виселицу, потерял сознание. Подручные палача подволокли его к виселице, и таким образом он первым ответил за свои разбойничьи дела. Майкич Йово, мужчина крупный и сильный, увидев своего друга висящим, принялся рыдать и также потерял сознание. Когда он пришел в себя, он также заплатил головой за смерть Хасанбега, так что 8 минут спустя палач известил судебную комиссию о том, что правосудие свершилось. По окончании казни глашатай с барабаном вновь прошел по городу, извещая население о том, что справедливость свершилась над убийцами Хасанбега, тем самым продемонстрировав, что людей казнят за их отвратительные черты характера. Смерть действительно ужасна, и потому потребно такое наказание, чтобы люди на страшных примерах отучились совершать проступки, влекущие за собою подобное наказание».
Зайфрид часто слышал барабан глашатая в боснийских и герцеговинских местечках. Обычно он, сидя в кафане, наблюдал, как собирается городская беднота, дети, нищие и сумасшедшие, и открывают рты в ожидании того, что им сообщит императорская власть. Как только глашатай умолкал, они разбегались, чтобы разнести весть по переулкам. Максимум через час все уже знали, что зачитывал глашатай.
Так и той зимой, в Бихаче, барабан был особенно громок и зловещ. Рядом с виселицей стоял официальный, военный барабанщик. Он поднял ужасный грохот, от которого у Зайфрида заболела голова. Он не переносил ударов по растянутой овечьей коже, ритм которых разгонял мысли и выталкивал сердце к горлу. Как будто его, палача, будут сейчас вешать. И не только его, но и всех, кто собрался вокруг вешалки. И кто только придумал это?! Он легко представлял себе, какой ужас охватывал первые ряды старой пехоты, перед которыми вышагивали барабанщики, оповещающие о прибытии армии, жаждущей победы. Какая еще победа? Они были такими же барабанщиками, как те, рядом с виселицей, и предвещали бездушный расстрел обеих противоборствующих сторон.
36
Переписано с отцовского листочка:
«Император Франьо Йосиф был в Сараево в 1910 году и в основном хорошо был принят народом. Поезд прибыл в Сараево 5 мая в 3 часа пополудни, император проехал по городу в коляске с четырьмя белыми конями в упряжке, по набережной Апеля, при большом стечении публики и наличии усиленной охраны. Город был празднично украшен, но самым прекрасным украшением стала чудная погода в лучшем сараевском месяце. Все расцвело, избе-харало, как здесь говорят, ощущался аромат акаций и каштанов, распускались липы. Проезжая крутыми улицами Быстрика, а потом вдоль Миляцки, я впервые ощутил себя частью этого города. Пусть его величество наслаждается этой красотой столько времени, сколько сможет, сколько ему покажут, потому что он пленник своего божественного призвания. И еще, за несколько дней до прибытия его величества состоялась встреча главы земельного правительства с двумя таинственными людьми, одним из которых наверняка был патер Пунтигам. Речь вроде бы шла о защите высокого гостя от возможного покушения, о котором болтали в каких-то парижских бистро. Откуда я знаю об этом? Опять-таки от таинственного посетителя кафаны «Персиянец». Еще он говорил о превентивных арестах более чем десятка подозрительных личностей, все они были связаны с людьми по ту сторону Дрины. Слушай, душегуб, сказал он мне, с того берега придет несчастье и наша погибель, вот увидишь».
37
Я долго не мог понять церковь, патера Пунтигама, его слова. Мама выучила меня вечерней молитве, но требовала, чтобы я регулярно молился. Иногда она вспоминала об этом и начинала истерически вопить, что все мы попадем в ад, потому что мы безбожники и что мы справедливо наказаны, поскольку Бога забыли, но это случалось так редко, что я и припомнить всех ее слов не могу. Да, мы ходили в церковь, чаще вдвоем, и редко когда втроем. Со временем она и от церкви отошла, поскольку не могла смириться с бесплодностью своих молитв. Если Бог не может помочь ей, какой смысл верить в Его?
Отец Пунтигам дал мне Священное писание, но я редко читал его. Поначалу — да, но чем больше я читал, тем меньше понимал, о чем в нем говорится, к чему все эти слова относятся. Мне было безразлично, на каком языке читать, любой из них казался мне странным и недоступным для понимания. Однако все меняется, и вот уже пять лет, как я все чаще читаю его. А теперь я просто не расстаюсь со Святой книгой, она словно написана специально для меня.
Подбираю цитаты из Евангелия и переписываю их в свою тетрадку. Ищу мысли, относящиеся к смерти и убийству. Чтобы увидеть, что об этом говорит Бог, если это действительно книга Его мудрости. Или это книга человеческой мудрости, угодная Богу. Все равно.
Должно быть, мой отец знал эти мысли, и, вполне возможно, разговаривал о них с патером Пунтигамом.
Как бы он их прокомментировал? Попробую сейчас сделать это вместо него. Как бы переписать его мысли в тетрадку. Даже если они не его, я их ему подарю. У меня есть на это право — право сына.
Божья заповедь: не убий! Но Бог знает, что это относится к личности, но не к государству. Государство должно убивать, иначе его люди морально испортятся, и в итоге физически уничтожат друг друга. Нет государства, которое не убивало бы во имя справедливости. Господь заповедал Моисею и это: кто ударит человека, и тот умрет, должен быть погублен. А кто его погубит? От чьего имени? Палач от имени государства и во имя справедливости.
Еще говорят: кто намеренно убьет человека, стащи его с алтаря и казни смертию. Кто ударит отца своего или мать свою, да будет казнен смертию. Кто похитит человека, чтобы продать его или содержать его в своей власти, да будет казнен смертию. Кто проклянет отца своего или мать свою, да будет казнен смертию. И вообще: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, и так далее. Более чем понятно.
Моисей распространил смертную казнь весьма широко. Хотя он нигде не упомянул, что смертную казнь следует осуществлять профессионально, не причиняя мучений приговоренному. Разве это не было согласовано с Богом?
Всем своим ненавистникам отец мог ответить так, как ответил Моисей: не сквернословь, судья, и старейшинам рода своего не говори похабные слова. А отец был правой рукой судьи, его мечом и вервием, следовательно — Божьим перстом на земле, который карает людей.
И вот теперь я задаюсь вопросом: кто я? Сегодня вечером, здесь, в нашем старом доме, который едва только не рушится на меня — кто я? Под этот ветер, что зловеще дует с Требевича, продираясь сквозь окна и под двери до моих мелких рахитичных косточек — кто я? И надо ли будет что-то писать на кресте, когда меня зароют в землю?
38
Покушение на престолонаследника, выворачивание мира наизнанку, встряска и перетряска. Что я знаю об этом? Когда пробегаюсь по своей и отцовской жизни, все мне кажется мелким и удаленным от меня на многие километры. Но временами кажется, что оно здесь, рядом, под рукой. Внутри что-то осталось, но как до него докопаться? А в итоге окажется, что оно тоже пустячное. Впрочем, как и все остальное.
Не знаю, писал ли я уже о том, что отец, за редкими исключениями, не водил меня в город, или, еще точнее, делал это редко и нерегулярно. А мне так хотелось сходить посмотреть на престолонаследника, туда, вниз, к Миляцке, где собралось столько счастливых людей. Был прекрасный солнечный день, лето пришло и в Сараево. Я представлял, как здорово было бы там, внизу, потолкаться на улицах, в веселой толпе, по лавкам, весь день. Остановишься перед витриной и любуешься на всякие чудесные вещи, доставленные сюда со всего мира, неизвестно из каких стран. Но у отца не было привычки водить меня с собой. Он уходил, оставляя меня на попечение матери, предоставляя самому себе.
Если бы я решился и попросил его, он, может быть, и взял меня с собой. А так, сам по себе, он об этом и не думал. А что ему думать, все идет само по себе, по привычке, а не размышлению.
За день до этого, примерно так, кто знает, зачем и почему, отец сказал мне, что хотел бы быть шофером. Сидеть впереди на манер извозчика, но не извозчиком, и чтобы люди разбегались в стороны. Так он представлял себе Фердинандова шофера, Шойку Леопольда. Сейчас мне это его желание кажется смешным, а тогда не казалось. Почему я сейчас вспомнил об этом? Наверное, потому, что за день до покушения он видел в городе автомобиль с эрцгерцогом и его супругой, вроде бы без сопровождения, перед лавкой с коврами. Его это удивило, он даже усомнился в том, что это был сам эрцгерцог, и решил, что кто-то другой переоделся эрцгерцогом. Я спросил, зачем он переоделся? Так поступают, чтобы подстраховаться, недовольно ответил отец. Если кто-то захочет стрелять, пусть стреляет, понимаешь, в этого, другого, а не в того, настоящего. Следовательно, это не были эрцгерцог с супругой, а их двойники, как это называется, люди на них похожие. Чтобы проверить, станут ли в них стрелять.
Я хотел спросить, разве можно жертвовать другими, невинными людьми, но смолчал. Наверное, надо было не сомневаться, а сказать, какая это мудрая придумка, или что-то в этом роде. Но с чего это вдруг, кто я такой, чтобы задавать подобные вопросы?
Отец не любил ничего объяснять, ни мне, ни своим подручным. Дай нам посмотреть, говорили они, мы посмотрим и сделаем как надо. Но в итоге они все делали так, как он. Кроме Флориана Маузнера. Он кретин, швайнкерль, а на кретина невозможно воздействовать собственным примером, только приказом. А отец не умел и не хотел приказывать. Я думаю, не хотел, потому что если бы захотел, то наверняка сумел бы.
Тот прекрасный день, полно народа на улицах, по которым должен был проехать эрцгерцог с супругой, разумеется, на автомобиле. Потом рассказывали, приукрашивали, добавляли, выдумывали. Отец бежал от таких рассказчиков как от чумы. Особенно после войны, как он называл это новое время, в котором уже не было его империи.
Не раз он набрасывался на тех, кто пытался расспросить его об этом. Я слышал это. Не желаю об этом писать, говорил он им, потому что меня это не касается. И тогда это меня не касалось. Да, я был в городе, но не рядом с заговорщиками. Говорили, что на улицах каждый второй был заговорщиком, а это абсурд. Едва ли их набралось с десяток. Решительных, обученных, молодых, способных. Остальные пришли приветствовать эрцгерцога, махать ему флажками, посмотреть на него. В основном, посмотреть на него, чтобы потом хвастаться. Откуда они взяли, что каждый второй был заговорщиком, что за дурак это выдумал? Отец с удовольствием употреблял слово «дурак», а также «кретин». Не только в приложении к своему подручному Маузнеру, но и ко многим другим, кто ему не был симпатичен.
Если каждый второй был заговорщиком, то почему же они стремились линчевать схваченного опростоволосившегося заговорщика? Чабриновича, насколько я помню. Полиция не позволила, но толпа разъярилась, как разъяряются вершители суда Линча. Всегда готовы исполнить то, что им прикажет вождь! Вот как оно было! Следовательно, ожидали они чего-то такого. И толпа, что так хотела линчевать заговорщика, не случайно тут собралась, и не стихийно отреагировала. Где же их двойник оказался, чтобы под пули подставиться?!
Потом народу под руку попались какие-то палки, которыми хотели избить второго заговорщика, невзрачного парнишку Принципа. Красивая фамилия, как будто престолонаследник он, а не Франц Фердинанд. Газеты писали, что полиция подставляла под палки собственные спины, прикрывала схваченных, но удары сыпались со всех сторон. Неизвестно, получил ли кто из этих граждан от полиции то, что заслужил. Были и такие, которые рассказывали, что и полиция била их, и что кто-то со стороны пытался помешать линчеванию, так его тоже избили и отвели в участок.
Я думаю, что кто-то из очень важных чиновников рассказал отцу, что визит эрцгерцога был продуманной провокацией, чтобы вынудить сербов стрелять в него, в результате Австрия получила повод объявить войну Сербии. Им пожертвовали, гласила эта фраза, которую никто не смел произнести вслух вплоть до смены власти. Или эта фраза пришла им в головы в момент смены власти? Кто знает. Все только и делают, что гадают, так ли, эдак ли, но суть заключалась в том, что власть надо было менять. И так ли уж нам теперь важно, кто все это начал, кто этим руководил? Может, историкам, а остальным ни к чему. Есть дураки и не из историков, вот им и важно. Кто они?
Прекрасная погода, не могу ее забыть. Я сидел под липой и рисовал. Липа все благоухала и благоухала, я размазывал кисточкой желтую краску, стараясь добиться желтого оттенка, такого же призрачного, как и празднично кипящий город внизу. Я ничего не услышал, все это было далеко, подавлено тишиной. Я представил себе кипящую речку Босну, изумрудную зелень и горы, взмывающие ввысь. Попытался нарисовать этот пейзаж по памяти, потому что был там дважды. Холодную воду, изумительную зелень и ни клочка неба. Потому что его там нет, как будто мы в саду, которому нужды в небе нет. Надо уйти из него, чтобы увидеть и прочувствовать небо. Как то, что я сейчас наблюдаю с Быстрика.
Отец вернулся вечером, мрачный, молчаливый. Он был трезв, алкоголем от него не пахло. Неужели корчмы позакрывали?
Пристрелили их как подонков, подонков! Так и сказал, и так я это записываю. Никогда больше он не повторял таких слов. Остерегался делать какие-либо заявления. Да и эти слова не были предназначены для чужих ушей, и не для наших тоже. Мы знали это, потому и молчали, никто об этом позже даже не вспомнил. Но они остались в моей памяти, как и акварель, которую я рисовал в тот день. Три краски, зеленая, желтая и голубая, которые очаровали всех нас. Слившись, они дышат как влюбленная гадалка.
— Не любишь ты черную краску, — не раз говорил мне отец.
— А где мне ее применять? — отвечал я. А про себя думал, что черная — вовсе и не краска.
— Пожалуй, и негде, если ты наш флаг не рисуешь.
— Я не знаю, как выглядит наш флаг, — ответил я ему.
— Как тебе не стыдно, Отто, — ответил он мягко и тихо. Мне показалось, что он было решил погладить меня по голове, но рука его замерла на полпути, после чего вернулась к телу. Откуда эта внезапная нежность?
Последующие дни принесли городу невиданную смуту, разорены лавки, избиты люди, распространились слухи о заговорах и заговорщиках. Писали об этом то так, то эдак, в зависимости от газеты. Я был слишком мал, чтобы читать или разговаривать с кем-нибудь на эту тему.
Отец ни разу не прокомментировал ни одной статьи, хотя читал их, может, и не все, но многие читал, я точно это знаю. Кто-то снабжал его старыми газетами, для него они оставались свежими до тех пор, пока не прочитывал их от корки до корки.
— Моя жизнь зависит от этих дураков, — однажды сказал он. До сих пор не знаю, кого именно он имел в виду.
39
Многочисленные нити повествования сплетаются здесь в прочный узел. Невозможно развязать его.
Чтобы описать покушение на австрийского престолонаследника, эрцгерцога Франца, или, как здесь говорят, Франю Фердинанда, пришлось бы воспользоваться сотней рук и сотней перьев — их старинный скрип увел бы нас в пыльные архивы, в библиотечные подсобки, где все чаще и чаще остаются в одиночестве книги с текстами о том времени. Но в любом случае вечно не будет чего-нибудь хватать, как и в данном случае, когда читатель спрашивает, как Зайфрид воспринял покушение. Пожалуйста, вот вам настолько достоверное описание, насколько достоверен сам палач.
Столько смертей до и после, есть ли между ними какая-то связь? После того дня все перевернулось с ног на голову. Но только ему тяжело говорить о том, что не касается лично его. Потому что он дал подписку, которую свято блюдет, как свою веру.
Зайфрид встал раньше обычного, только светало, с Быстрика было видно, что в Сараево еще царит ночь. Разбудило его пение соловья. Откуда он появился на заре в его дворике, который даже дети стороной обходят! Он слушал его, распахнув окно. Заливался он долго, замечательно. Совсем как девушка голосом темным, как летняя прохлада, запевает: «Бюльбюль поет мне, роза расцветает…». Так утром пел соловей, призывая другого соловья, Зайфрид не знал, кто из них самец, а кто самка. Кто зовет, а кто откликается? В нем, совсем как на цитре, затрепетали струны: цин-цин-цин-ца-ца. Идеальный музыкант этот соловей! Куда бы ни приезжал Зайфрид, всюду он расспрашивал о местных птицах, как они поют и когда, и можно ли их где-нибудь послушать.
Соловьиную песню сменил стук деревянных сандалий по булыжнику соседнего двора. И этот звук пробудил в Зайфриде дремлющего мальчишку, что мысленно рисует звуками картину, на которой босоногая девушка идет за водой к источнику, струящемуся из-под акации. Но картинка угасает так же внезапно, как и появляется. Не так, как в те времена, когда прогнать эту картинку могла только живая женщина, и никак иначе.
Он оделся в праздничное, не как на экзекуцию, но похоже, у него не так много одежды и вся она одного типа, черный костюм, что же еще. Не может он в обычный день надевать парадный костюм, который служит ему униформой. Что люди подумают, надень он его в такой день, еще решат, не дай Боже, что он вешать кого-нибудь отправился, Было тихо. Угадали, или так задумано было, чтобы воскресенье было днем официального визита в Сараево, хотя престолонаследник, говорили, уже появлялся в городе, поскольку пресветлая София хотела что-то купить. Восточный ковер, говорят, хотя он в этом уверен не был, может, ей этот ковер подарили. Если только это точно она была, а не другая женщина.
Такой прекрасный, спокойный и торжественный день — просто дар Божий. Все ему казалось торжественным, как воскресная месса. Увидел ли, почувствовал ли он что-то особенное? Не может ничего такого припомнить, кроме царящей в городе полной тишины. Ему казалось, что никто не радуется, и даже флаги висят вяло, нет ветерка с Требевича, чтобы расшевелить их.
Он вертел головой, будто потерял что-то, и теперь разыскивает. И все еще непонятно ему, почему так мало народа, где все эти чиновники, армия, преданные престолонаследнику граждане? Что происходит, никак он не может понять. Не так представлял он себе торжественную встречу высокого гостя.
Тяжело ему вспомнить все, пытается, пробует, но кажется ему, что больше он ничего не заметил. А что еще? Не его это дело, не следит он за деталями, не смог бы он быть конфидентом.
Однако он знал людей, которые были рядом с престолонаследником, его шофера Шойку по прозвищу Птица. Они вместе служили срочную. Искусный, хладнокровный, лучше водителя и не придумать. На него можно положиться.
Он стоял у лавки Шиллера, на углу. Народ в конце концов собрался, люди приходили и уходили, как на променаде, а не на торжественной встрече. Пронеслась весть о том, что кто-то где-то стрелял, но престолонаследник не пострадал. Вроде бы и бомба его не достала. Что же дальше будет? Никто не знал.
— Теперь мы его не увидим, — разочарованно произнес кто-то.
— Что за народ! — вздохнул кто-то. Зайфрид хотел согласиться с ним, но все-таки промолчал. Следовало считаться с неписанными правилами службы. Он смотрел на людей, вытягивающих шеи, чтобы увидеть нечто там, вдали. Он рассматривал эти шеи. Думал ли он о предстоящих казнях, повешениях? Когда на эти шеи накинут петли, которые он приготовил? Не есть ли знак судьбы в том, что шея будущей жертвы, его «пациента», длинная и податливая, просто идеальная для повешения? Нет, он не имеет права так думать, каждая шея сама по себе, одна на другую не похожа. Кто-то скажет, что есть короткие и длинные, тонкие и толстые, но этот человек не изучал шеи настоящим образом. Ничего он про них не знает.
Все автомобили свиты уехали куда-то туда, но народ не расходился, напротив, теперь они устремились к схваченным заговорщикам. Орали, что их следует убить на месте преступления как собак, пытались ударить их по голове кулаком, или чем-нибудь другим.
Ему хотелось зайти в кафану «Персиянец», но все-таки Зайфрид отправился домой. Он должен быть там, где его легко смогут найти, если потребуется. Он не верил, что казнь совершится спешно, прямо сегодня или завтра, однако над этим он не размышлял, не его дело прикидывать, просто он должен быть готовым, как только его позовут. Он думал о том, что же все-таки произошло, его настигали всяческие слухи. Что застрелены эрцгерцог и его драгоценная супруга. Что они живы, хотя и ранены. Что они невредимы, а пуля только царапнула эрцгерцога. Что убит двойник.
Слухи разлетались по городу словно ветер, который никак не может решить, в каком направлении следует ему дуть. Как ветер, который крушит, срывает и меняет лицо земли.
Когда назавтра он все-таки решится выйти из дома и отправиться в кафану, ему покажется, что город пережил катаклизм. Чьи это лавки полностью разгромлены, товары выкинуты, а прилавки подожжены? По гостинице «Европа», гордости города, словно ураган пронесся. Даже библиотека уничтожена, а книги разбросаны, изгажены, надорваны и порваны. Что происходит? С кого спрашивать? Можно ли спрашивать? Связано ли со вчерашним покушением то, что на улицах нет армии, а жандармы не собираются поспешно на месте преступления? Кто его совершил и зачем? Это — месть кому-то.
Зайфрид быстро узнал все подробности, но никогда никому ничего не рассказывал. Разве что согласился с мнением отставного жандарма Кляйна, который утверждал, что охрана эрцгерцога была организована крайне небрежно. Ничего подобного он в своей жизни еще не видел. И менее важную персону лучше защищали в этой стране, где даже камни ненавидят власть. А православные тем более, те, что называют себя сербами. Как им только не стыдно так называть себя. Сербы там, за Дриной, а здесь — ортодоксы восточно-греческого вероисповедания. Все сплошь босняки.
— И почему вдоль пути его следования не выстроили солдат, что следовало бы, простите, сделать по уставу, конечно, надо было построить. Не могу понять, почему здешняя власть этого не сделала. Что-то тут не играет, но что именно — не знаю. Если это просто небрежность — о другом я даже думать не смею — то эта небрежность не предвещает ничего хорошего. Разве мы не были всегда образцом порядка, не придерживались строжайшим образом правил, разве в книгах и распоряжениях нет предписаний, как поступать в том или ином случае, и в подобном тоже, так почему же не сделали как надо? Или подумали, что нечто подобное исключено? Что престолонаследника здесь так любят, что ни одна душа ему зла не пожелает? Разве могло так случиться, что наша полиция и армия легко клюнут на такую глупость?! Слушай, Зайфрид, я не верю таким объяснениям. Уверен, полиция знала, что делает, и руководил всем этим человек, который тоже знал, что творит.
— Все, что ты сейчас бормочешь, Кляйн, нас не касается. Прекрати болтать, добром тебя прошу. Иди домой и отоспись как следует.
Возвращаясь, Зайфрид прошел по улице Чемалуша, где обнаружил полностью разрушенную лавку братьев Йовичичей. Их обоих стащили в участок, едва живых — если они еще живы, за то, что они осмелились стрелять, когда толпа ворвалась в лавку и принялась растаскивать товар. Что-то уносили, что-то выкидывали на тротуар сквозь разбитые стекла и сорванные с петель двери. Унесли также раненых и одного убитого.
— Это война, всех их надо перебить! — орала толпа, или только два-три человека из ее центра. Словно стая саранчи, она отправилась дальше, чтобы сокрушить все, что можно, и, похоже, что дозволено. Зайфрид подумал, знают ли об этом государственный обер-прокурор Холендер, главный судья Ильницкий, комиссар города Сараево Колас, шеф полиции д-р Герде.
Сараево было в панике. Распространялись слухи, что городу грозит катастрофа. Сначала взорвут тысячу бомб, которые уже развезены по кварталам, по местам, где никому в голову не придет искать их. Затем с Романии спустятся несколько отрядов тайных сербских обществ, которые перебьют всех чиновников и сторонников императорско-королевской власти. Никто не спасется. Оружие роздано, командиры отрядов прибыли, все готово к походу на Сараево. Женщины и дети не выходили из домов. Ожидали чего-то ужасного, невиданного доселе. Наверное, войну.
Обысканы парки, общественные туалеты и пляжи, сады, дворы, частные дома. Особо подозрительными были те, кто ранее никогда не бывал в полиции.
40
Когда человек попадает в опасную ситуацию, мозг начинает работать как чайник, в котором кипит вода.
Что это было?! Кто следующий?
Зайфрид припомнил патера Пунтигама и его проповеди. Да, наверное, этот священник был прав, кто знает, что кроется за этим, кто стоит, какая организация? Она готова уничтожить весь мир. А мир не так уж трудно уничтожить, по крайней мере, так теперь кажется.
Разве то, что мы пережили, не есть своеобразная попытка уничтожения?
Личности не так важны, как империи и королевства. Именно так!
Как и прочие версии, у этой были свои сторонники и противники. Зайфриду она казалась весьма разумной, тем более что события вышли из-под человеческого контроля. Да если бы все, что происходит, зависело только от людей, а не от судьбы, не от темных сил, которые время от времени отнимают у людей контроль и овладевают миром! Теперь они только начали свой кровавый пир, последуют страшные дни, а может, и месяцы, мир вздрогнет.
Зайфрид не знал, кто такие вольные каменщики, но для него любая секта была созданием дьявола. Дьявол дал револьвер этому Принципу, ты только посмотри на его фамилию, как будто не крестьянин он, а престолонаследник, дьявол целился и убил святую пару. Зайфрид не понимает, как и почему оставил их Господь. Что Он хотел сказать этим? Знает ли об этом его императорско-королевский ум? Вольные каменщики уже приступили к переделу Европы, как говорят. Возможно ли такое без ведома власти, которая дана нам от Бога?
41
Я не отцовский адвокат, да и он не стоит перед земным судом, а давно уже предстал пред Господом, если Тот существует и если Его это дело — встречать покойников. Нет суда, хотя я знаю, что кто-то вечно будет стремиться вновь и вновь осуждать тех, кто жил прежде него и делал то, что новому времени не по нраву.
Я не знаю, кто я такой здесь, в Сараево, ни серб, ни хорват, ни босняк, ни австриец. Завтра уже буду никто, а может, и сегодня я уже такой. Почему я должен быть одним из тех, кто четыре года резали друг друга непонятно за что? Я ничего не понял в этой здешней войне, не в той, далекой, где наверняка все выглядело иначе.
Отец в первые годы войны практически постоянно отсутствовал. Провинция, командировки, казни.
Как и других австрийских подданных и патриотов, его очень огорчило покушение.
— Понавешаю теперь политических, — сказал он в тот же вечер маме. Она молчала, даже делала вид, что не слышит его. Мы годами не слышали ее комментариев по поводу того, что происходило вне дома.
— Что это за дикая страна, — добавил он. — Можем ли нынче хотя бы надеяться, что дождемся здесь культуры и цивилизации?
Или он еще что-то третье сказал, но я запомнил только то, что сейчас написал. Среди его бумаг я нашел записку о днях, последовавших за покушением, в ней Сараево напоминало человека, сошедшего с ума. То ли от боли, то ли от страха. От желания стать святым или напакостить.
Нельзя так, написал он, на все суд найдется.
И его кол, через который перебрасывается веревка. Идеальное изобретение.
Я несколько раз пытался нарисовать отцовскую виселицу. Сначала ту, что была раньше, те рисунки он увидел и порвал.
— Не смей это рисовать, — сказал он. — Не твое это дело. Впрочем, моя виселица не такая. А эта говенная, — добавил.
Он частенько употреблял крепкие словечки, но никогда — ругательства или привычные здешние выражения, с помощью которых они общались между собой. Остановятся посреди фразы, выплюнут такое выраженьице, и продолжают. Попробую написать одно: да ебись ты в сраку!
— Как она выглядит? — спросил я.
Он посмотрел на меня так, будто впервые увидел.
— Всего лишь один кол, балка, столб, называй это как хочешь, и ничего больше. Все идеальное по сути своей просто. Сама простота. Но и она, Отто, обладает своей красотой.
Никогда больше, ни до, ни после, он не говорил со мной о своей работе. И в тот раз тут же заговорил о событиях, которые сотрясали Сараево. Он настолько был предан власти, что не мог понять, почему она равнодушно относится к тому, что происходит в городе.
Почему власть не повесила кого-нибудь из этих дикарей, что разоряли лавки по всему Сараево? Ведь там и убитые случались. Парочку их на виселицу, и город успокоится.
— Есть одна здешняя считалка, по селам, куда мы не ездим, ей забавляются, называется «Сладкий кубок шербета», она так звучит: «Это трава, на которой паслась корова, которая масло дала, которое мы отнесли кузнецу, который выковал секиру, которой мы срубили дуб, на котором росла ветка, которой мы убили щенка, который укусил мужика, который принес сладкий кубок шербета». Все в ней, мой Отто, все здесь так, как в этой считалке. Все!
42
Неопубликованная заметка В. Б.
— Разве не странно, что вы, будучи обычным палачом, были знакомы со многими людьми, стоявшими на административной лестнице намного выше вас?
— Не вижу в этом ничего странного. Я был составной частью этой самой администрации, такой же, как многие из них. Полиция, судьи, палачи, все мы были имперскими служащими.
— Вы любите подчеркивать это «имперские», но ведь вы были скорее боснийскими, региональными, как это называлось.
— А это одно и то же. Без императора и нас бы не было. Послушайте, вы ведь знаете, кем был бы любой наместник в Боснии и Герцеговине без императора! Все это сразу на свои места встало, как только пришел новый император.
— Все те люди, с которыми вы встречались, не были уроженцами Боснии?
— Все мы пришли сюда, чтобы помочь, так считалось.
— Оккупанты — и помочь?
— Я не чувствовал себя оккупантом, да это и не было столь важно для меня. С чего это мне было дознаваться, оккупант я или нет?
— Вы вешали людей, которые восставали против оккупантов?
— Не знаю, против чего они бунтовали, вешал потому, что их правосудно приговорили к смертной казни.
— Тех, что покушались на эрцгерцога, и других политических?
— Я страдал, вешая политических, или им подобных, например, молодого Вешовича в Черногории. Но что бы изменилось, если бы я отказался? Их вешал бы мой помощник, кретин Маузнер. Который так и не научился вешать. Да и молодой Харт, нынешний официальный палач, не слишком-то хорошо знает свое дело. Не знает анатомии, не пользуется моей виселицей. Я слышал, он повесил последнего гайдука, Йову Чаругу, где-то в Славонии. Вот видите, за палачом аж в Сараево послали. Хотя он и не моей школы.
— Вы были знакомы со следователем Пфеффером?
— Судебным следователем на процессе заговорщиков? Да, но весьма поверхностно. Кто-то рассказывал мне, что он жив, поселился где-то в Карловаце. Его никто не любил, ни до, ни после покушения. Не могу понять, почему, а ведь он был исключительно честным человеком. Он был прекрасным знатоком своего дела, и никому не позволял давить на себя в чьих-то интересах. Таких вот обычно и не любят, потому что они никому не подыгрывают, уважают закон. Здесь, в Боснии, сильнее ненавидят именно таких людей, а не преступников, убивающих людей из-за их религиозных убеждений. В Баня-Луке был некий Лазарини, его тоже никто не любил, хотя, как говорили, лучше его там никого не было. Он не позволял им напиваться. Требовал, чтобы они работали. Ну так вот, и я тоже далеко не святой, но почему надо ненавидеть такого человека? Так и с Пфеффером. Были еще такие, только я их по именам не помню уже.
На самом деле он помнил, да только не хотел говорить о них. Он знал куда больше, чем можно было себе представить. Он был в самом центре общественной жизни.
43
Неопубликованная заметка В. Б.
(Примечание рассказчика: Не совсем понятно, что это — то ли часть беседы с Алоизом Зайфридом, то ли речь идет о независимом расследовании и умозаключениях самого В. Б. Также непонятно, намеревался ли он опубликовать текст, но потом отказался от этой идеи, или же ему было отказано в публикации).
Лихорадочное состояние после покушения в Сараево распространилось на всю страну. Как будто общество вспыхнуло ярким пламенем, и вот теперь горит и потрескивает, стряхивая с себя даже тех, кто мог бы помочь ему.
Само себя с ума сводит, натравливает одних на других, и вот одни сплачиваются, чтобы жечь, вешать и уничтожать, а другие дожидаются своего часа, чтобы в один прекрасный день отомстить им.
Виселицы не простаивают без дела в Боснии, Герцеговине, Сербии и Черногории. Кажется, что они вырастают сами по себе, в садах, у дорог, по обеим берегам быстрой реки Дрины, на военных полигонах, за окраинными домами многочисленных местечек. Вешают опытные и на скорую руку выученные, официальные и самодеятельные палачи. Вешает всяк, кто смеет и успеет. Главное, чтобы повешенный был православным, или, по крайней мере, чувствовал бы себя таковым. Месть, казнь, справедливость, суд и Линч — всякое лыко в строку, и никто не знает, кто дергает за ниточки этого театра марионеток. Кроме самой власти, которая казнит, в этом деле приветствуется всякая частная инициатива. Шюцкоры и клянущиеся императорско-королевским именем патриоты хватают, избивают, вешают и расстреливают. Но власть все-таки желает, чтобы закон оставался законом, по крайней мере, для внешнего наблюдателя, который смотрит и оценивает, и может сказать, где-то там, что здесь законом и не пахнет. Поэтому выбирается один какой-нибудь случай, и на его примере показывают всю сложность этого времени во всех его противоречивых деталях. Преступление, наказание, справедливость и истина, все здесь проблематично и непонятно, с какой стороны не глянешь.
Одна фраза возвысила дух Зайфрида, потрясла его, заставила дрожать и трепетать каждую его жилку. Кто произнес эту угрозу, это предвозвестие, эти пророческие слова? «Сотен виселиц не хватит, чтобы оплатить драгоценные головы убитых!» Сотни виселиц? Кто сумеет поставить вдруг столько виселиц и найти столько опытных палачей? Сможет ли он, единственный официальный государственный палач, перевешать всех арестованных и приговоренных сербов? Разве так много сербов участвовало в заговоре? А может, и больше, произнес перед Музеем умница Коста Херман. Если это сказал именно он, тогда точно, никакого сомнения. Он был близок с ними, ездил по их деревням, приглашал к себе.
Следствие идет разными путями, официально есть только один судебный следователь, Пфеффер, но это далеко не вся правда — должность судебного следователя фактически исполняет Почорек, фактический правитель страны, который и несет ответственность за трагическое происшествие, которому, наверное, мог бы воспрепятствовать, если бы сделал все, что следовало бы, но не сделал. Почему? По незнанию или по какой другой причине?
Что говорит патер Пунтигам, иезуит, пользующийся наибольшим доверием в столице?
Только одна организация может и хочет извратить божественный порядок в мире — масоны. Вряд ли они призна́ют это, но следует довести до их сведения, что церковь не так наивна, как государственная служба полиции. Потому что в церкви пребывает святой дух, который повелевает его слугам видеть то, чего не видят другие, потому как смотрят только глазами, но не сердцем. Это отец Пунтигам отчетливо видит сердцем, потому что сердце его чувствует и знает годы, если не десятилетия, что нам готовят. Когда набожные люди идут в церковь на молитву, масоны собираются в своих тайных мрачных ложах, чтобы договориться об изменении мирового порядка. Они мечтают завладеть престолами, если только не удастся их совсем свергнуть и создать республики.
Пунтигамова теория заговора безусловно была первой в ряду подобных теорий, которые начали множиться в этой части мира. Она безупречна, основана на многочисленных данных, раздобытых иезуитами с помощью собственной тайной службы. Не раз в своих проповедях, произнесенных по-миссионерски, завоевывая сердца людей силой веры и убедительностью личного примера, называя поименно некоторых высокопоставленных чиновников администрации края, он утверждал, что за целой серией покушений, среди которых одним из самых значительных является белградское, когда таинственная организация «Черная рука» уничтожила сербского короля Александра Обреновича и его супругу Драгу Машин, стоит новая, очень опасная балканская организация. У нее есть свои ложи в Загребе и Белграде, но белградская занимает ведущее место — она чрезвычайно опасна. В ней состоят члены двора правящего дома Карагеоргиевичей, а также ведущие сербские интеллигенты. Живя и обучаясь во Франции, они попали под влияние масонов, которые определили их жизненный путь и миссию на будущих Балканах. Они оплачивают людей, которые призваны исполнять их приказания, вбивают им в головы националистические и социалистические идеи, те идеи, создателем которых является сам сатана, воспротивившийся Божьему порядку на земле. Революции и убийства не Божье, но дьявольских рук дело!
Овладев Францией, они приступили к завоеванию Европы. Свобода, равенство, братство — дьявольский, а не христианский лозунг. Они уничтожили две монархии, теперь на очереди третья, защитница святой католической веры, габсбургская. Такой у них план. Каждое следующее покушение — дело рук масонских пропагандистов. Цувай, Варешанин, Франц Фердинанд — все это очевидно, но невозможно найти настоящих организаторов покушений. Потому что они используют людей, которые ничего не знают про истинную организацию, которая стоит за идеями анархизма. Мы стали свидетелями, гремел с кафедры Пунтингам, начала страшной грозы, которая изменит облик не только Европы, но и всего мира. Так стоит ли нам ощутить ее на своей шкуре, или же следует воспротивиться разрушению, движителем которого являются дьявольские вольные каменщики?
Высокий и худой, он и в самом деле походил на святого отца Игнация Лойолу, такого, каким его запечатлел испанский грек.
44
Отцовская записка:
«Наконец-то объявлена война. Есть и такие, которые только этого и ожидали, и совсем свихнулись. Окончательно и бесповоротно. А власть, где только захочет и сможет, хватает и вешает. Где-то для устрашения, где-то утверждают, что это опасные люди. Все они схизматики, говорил патер Пунтигам. Работы — выше головы, с ног валюсь от усталости. Не могу смотреть, как мой подручный вешает несчастных.
Как будто специально выбирает веревку потоньше, только и ждет, когда она оборвется, чтобы оскалиться, как актер в кинематографе, в этом, по мнению патера Пунтигама, дьявольском изобретении. Хлопает себя по толстой жопе и подпрыгивает. А потом все начинает сызнова, с таким же результатом. Что ты творишь, несчастный, сказал я ему однажды, но кретин все продолжал скалиться, как дурачок. Его тупая башка ничего не воспринимала. Однако частенько заявлял, что преступников не следует щадить, пусть они как следуют вкусят мучений.
Похоронили доктора Кречмара. Я не видел его несколько лет. О похоронах узнал совсем случайно. На кладбище и десятка человек не собралось. Сеял мелкий дождик. Говорил только приходский священник, да и то не о самом докторе Кречмаре. Только то, что положено по обряду, ни слова более. Кто-то за моей спиной прошептал, что доктор Кречмар перед смертью сам заплатил за похороны в приходской канцелярии. И еще этот голос добавил, я не обернулся, чтобы посмотреть, кто это, потому что наверняка не знал этого человека, так он еще добавил: «Ни кола, ни двора».
45
Основная часть текста В. Б., который никогда не был напечатан.
Я задал ему вопрос об исполнении смертной казни над покушавшимися. Он крутил, юлил, но я все-таки пришел к нему, чтобы услышать именно об этом, без всех прочих его рассказов я мог спокойно обойтись.
Душегуб, который повесил троих наших идолов, преступник, в котором, по мне, сосредоточилось все самое страшное, что принесла оккупационная власть на нашу несчастную землю, сидел в прохладной комнатке своего домишки на Быстрике и молчал. Он смотрел в окно, из которого мог видеть только крышу соседнего дома. На коленях у него, словно сиамская кошка, отдыхала цитра. Его пальцы, испещренные старческими пятнами, дергались, сжимались сами по себе, будто проделывая какие-то упражнения. Он не был похож на страшного человека, но при взгляде на него омерзительные мурашки пробегали по моей коже. Эта беседа не доставляла удовольствия ни мне, ни ему, но мы не могли избежать ее. Я ждал, когда он начнет говорить, так, как он это умеет, скорее всего, не совсем искренне.
— Я хорошо помню тот холодный февральский день. Холодные сараевские дни всегда легче запоминаются, чем теплые. Холод спускается с этой, северной стороны Требевича и встречается со второй холодной струей, что приходит от Илиджи и Игмана. Тяжко нам приходилось в те холода, не было дров. Дрова воровали, даже нас как-то обвинили в том, что мы украли несколько охапок дров. Наша тогдашняя домохозяйка, отвратительная усатая баба, у нее были какие-то дрова, а потом исчезли. Как раз тогда я прикупил немного дровишек у одного знакомого, он же их нам и принес. Так вот, та баба, Дорица ее звали, ухватилась за наш хворост и сразу в полицию. Вроде как моя жена его украла. Жена решительно отказывалась, она просто не могла этого сделать. Дома у нас было ужасно холодно, Отто часто болел, и дров нам не хватало. Но чтобы украсть — Боже сохрани! Дорица, или Доротея, жила чуть выше этого нынешнего нашего дома, в который мы переселились несколько лет тому назад. Дом у нее был двухэтажный, и эта бабища жила прямо над нашими головами. Кажется, они даже вцепились друг другу в волосы.
Я встал рано, оделся так, как обычно одевался для юстификации. Для меня, представьте себе, эта работа ничем не отличалась от прочих казней. Но я знал, что нынешняя имеет для истории ужасное значение. Война разгоралась, никто не знал, какая власть будет завтра в Сараево. Сейчас вам это трудно представить. За несколько дней до этого я спрашивал начальника тюрьмы, капитана Хорвата, что он будет делать, если комита или сербские войска прорвутся в Сараево. Смертельно побледнев, он ответил, что перестрелял бы всех заключенных!
Я спустился к Миляцке, прямо к Латинскому мосту, где все и произошло. Если дьявол захочет, все что угодно может случиться. Перед Австрийским банком я встретил безумного Гаона Хайма, которого пытались привлечь как участника покушения, потому что он стоял рядом с Чабриновичем, но это было просто смешно. Гаон — и покушение?! Мы, хорошо знавшие его, не могли понять судей. Но таково следствие, оно ковыряется так, что это ковыряние причиняет боль тем, кто к преступлению непричастен. Не надо злиться, я говорю — преступление, потому что все тогда так говорили. Так о чем это я? Да, Гаон Хайм глянул мне прямо в глаза и крикнул:
— Для кого сегодня веревку намылишь?
Я своим ушам поверить не мог. Лицо у него искривилось, как резиновая маска. Прищурив один глаз, другим он так посмотрел на меня, что я даже подумал: он не дурак, а хитрец! Как придворный шут, прикидывается придурком и говорит, что ему вздумается. Кто будет шута наказывать за его болтовню? Не знаю, я однажды спросил патера Пунтигама, почему он считается Божьим творением, а я — нет? Или мы оба, или никто из нас. Никто из нас, улыбнулся патер, или все мы. Для него дилемм не существовало!
Когда я прибыл с подручными, во дворе Окружной тюрьмы уже выстроили подразделение, которое обеспечивает исполнение казни, были тут еще люди, но не было судьи Пфеффера, который вел следствие. Он вроде как противником смертной казни был, мне один из его сотрудников доверительно сказал, что ему заговорщики были даже симпатичны, потому что они вроде бы искренние люди. Я тоже противник смертной казни, но при чем тут искренность — не понимаю. Они были заговорщиками, убийцами, они вмешались в дела, которые их никак не касались, но, несмотря на это, изменили столько судеб, принесли столько несчастий. А что еще только будет, мог я тогда с уверенностью сказать вам. Кто еще там был? Судья Давидзак, серьезный, мрачный человек. Да, он был вместо Пфеффера.
Имена заговорщиков тогда знали все, от мала до велика. Что я вам скажу, большинство жителей, по крайней мере, внешне, ненавидели их. Требовали их смерти. Данило Илич, Мишко Йованович, Велько Чубрилович, казнены между девятью и десятью утра. Это обычное время любой казни. После полудня не вешают.
С приговоренными, с которых еще в камере сняли кандалы, пришел священник Милан Мратинкович, учитель закона Божьего сараевской учительской школы. Он их исповедовал и проводил к виселице. Я слышал, что все трое в камере, перед самым повешением, интересовались, как обстоят дела на фронтах, особенно после уничтожения балканской армии Почорека на Цере. Этот священник Мратникович позже говорил, что Чубрилович уверенно заявлял: он понимает — свобода невозможна без жертв, и он ничуть не сожалеет о собственной смерти, поскольку уверен, что его народу воссияет свобода. Вы это знаете, но я хочу сказать, что мне было жалко этих молодых людей, гибнущих так бесталанно. Как это всегда бывает, головы им забили идеями другие, те, которые никогда не будут наказаны.
Мратникович прочитал им последнюю молитву. У него был прекрасный голос, благозвучный, какой обычно бывает у смиренных и хороших людей. Они были сосредоточены и спокойны. Вновь зачитали приговор, они спокойно его выслушали, и тут пришла очередь одного из них, пониже ростом. Так я запоминаю своих «пациентов». Это был Чубрилович. Сегодня все это знают. Как и то, что он показал себя настоящим героем, сознательно принесшим себя в жертву. Я и сегодня утверждаю, что не могу понять его. Не понимаю это упрямство. Но вы ведь и не ожидаете, что я начну рассуждать о виновности, вы хотите, чтобы я рассказал вам, как это было тем утром. Таким холодным утром, что мои подручные едва успели подготовить виселицу по всем правилам. Я настаивал на этом. Повешение не могло начаться без того, чтобы не были соблюдены все мои инструкции и правила. Чубрилович был крепким мужчиной, решительным, шагал уверенно, совсем не как в последний путь. Вот тут я вам что-то расскажу, чего народ не знает, да и вы, журналисты, тоже. По традиции, насчитывающей несколько столетий, барабанщик, пока на шею надевают петлю, что есть силы колотит в барабан, мелко, быстро. Если приговоренный и хотел бы что-то сказать, услышать его мог только палач. То есть я. Так вот, Чубрилович ничего не сказал. Как будто барабанщик оборвал его, я смотрел, как он молча открывает и закрывает рот. Наверное, хотел что-то сказать. Но не сумел, да будет ему земля пухом. То, что газеты написали, будто он крикнул, насколько я припоминаю: «С Богом, да здравствует народ, да здравствует…» — это неправда. Ничего он не сказал. Разве что в самом начале. Когда встал под столб, начал снимать галстук и воротничок. Я хотел помочь ему, потому что тот с трудом отстегивался, а он мне спокойно так сказал: «Не надо, я сам!» Так и сказал, не надо, я сам.
Вторым был Йованович, взвинченный, лихорадка его колотила, но собрался все-таки. И его слова оборвал барабанщик. Но мне кажется, он все-таки крикнул что-то вроде: «Да здравствует народ!» Ладно, а может: «Долой Австрию!» Что тут поделаешь, они нам императора убили. Так кто-то написал, и это совершенно верно.
Илич, Данило, самый серьезный из них, он мне показался самым странным. Есть такие приговоренные, которые вроде бы как присутствуют, но их нет, где-то они в своих собственных мыслях. Простились со здешним миром, хотя еще не отправились туда, где мы все будем. Кто-то толкует такое состояние так, кто-то — эдак. Говорят о твердости, убежденности, откуда я знаю. Не умею читать чужие мысли, говорю только то, что сам видел и слышал. Вот вам и все. Как видите, ничего особенного, я вам днями напролет могу рассказывать о всех тех, кого я со своими подручными перевешал за три года той страшной войны. Бывает, проснусь ночью в поту, увидев их, толпящихся вокруг меня, душащих меня. Уголовники мне никогда не снились. Политические — да, во время войны и после, и по сей день. Молодой Влайко Вешович, которого я повесил в Колашине. Он мне часто снится. Но во сне он мне кажется ростом выше и красивее, я бы сказал, как святой выглядит.
Вы все еще думаете, что именно я во всем этом виноват, я знаю, не надо мне это подтверждать. Многие мне так говорили. Не буду вам сейчас рассказывать, чего я натерпелся, но должен повторить то, что вы и сами прекрасно знаете. Сам император, пресветлый Франьо Йосиф, отказался помиловать приговоренных на процессе заговорщиков. Что я тут мог поделать? Отказаться казнить их и уволиться со службы? Кому бы это помогло? Разве плохо, что казнь была совершена идеально, как я это привык делать? Скажу вам, хотя вы мне и не поверите: я не знаю, был ли в империи палач лучше меня. Да нет, не здесь, это и без того ясно — в мире! Гуманность, мой господин, гуманность прежде всего. Никому я прежде не говорил, что один из этой троицы, о которой я сейчас рассказывал, не помню, кто именно, сказал мне: «Прошу вас, не мучайте меня долго!» Я ответил ему, как отвечал многим в течение всей своей жизни, а это более тридцати лет изнурительного труда: «Не беспокойтесь, я мастер своего дела. И секунды не продлится». И под конец еще скажу вам: более спокойных преступников я в жизни не встречал. Именно это спокойствие отличало их от уголовников, которые, как правило, рыдали, теряли сознание и просили о милосердии. Ничего подобного во время всей войны я не слышал ни от одного сербского патриота. Я должен это признать, как бы тяжело мне ни было. Бывало, мне самому хотелось призвать их покаяться, просить о милости, но ни разу не решился. Я не был таким храбрым, как они.
— А этот патер Пунтигам, которого вы то и дело вспоминаете, он посещал их в тюрьме?
— Я точно знаю, что бывал. Не с целью склонить их в католичество, в чем обвиняли иезуитов, но чтобы они искренне покаялись и спасли свою душу. Потому что они вплотную подошли к стене, через которую невозможно перескочить, теперь им следовало отречься от праздной жизни, которую они вели ранее, и всей душою принять Иисуса. Никто из этой троицы не понимал, зачем он им все это говорит. Так мне сам отец Пунтигам рассказывал. Знаю, что они все это рассказали священнику, вероучителю Милану Мратниковичу, который навестил их в ночь перед казнью, но он только махнул на все это рукой и угостил их ракией. Ракия здесь — единственная утеха и покаяние. Не только ваши вероучители и священники не любили отца Пунтигама, но и францисканцы тоже. Но это уже другая история, которая вряд ли вас заинтересует.
46
То, чего не видят отец и сын, видит дух повествования, видит их вместе, как в кино. Редкий случай отдохновения на войне, Зайфрид три дня дома. Смотрит на сына, который размазывает краски по листу бумаги. У окна, чтобы виднее было, прислонившись к раме своей горбатой спиной, горбом, похожим на разбитый мяч, такой маленький, что взгляд на него вызывает у отца настолько тяжкую печаль, которую можно разогнать только музыкой, оперся, следовательно, Отто горбом о раму и рисует. Несколько лет уже, как он перестал расти.
— Что рисуешь? — спрашивает его отец.
Отто показывает ему непросохший еще лист.
— Дерево, украшенное грушами? — спрашивает отец.
— Нет, — сердится Отто, — разве ты не видишь? Это бомбы.
— Какие бомбы? — спрашивает отец.
— Сербские бомбы, которыми украшено Сараево. Престолонаследник не мог остаться в живых, какая-нибудь бомба все равно разнесла бы его в клочья.
Зайфрид перебирает струны цитры, ему не хочется продолжать разговор. Выбирает глубокие тона, толстые струны, совсем тихие, которые гудят так, что можно расслышать даже самый слабый звук. Потом, вдруг, сам не знает почему, резко дергает струну «ми», и она взвизгивает, словно кто-то запричитал. Отто не может этого слышать, выходит из дома и смотрит на Сараево, которое бурлит необъяснимыми событиями и военной непредсказуемостью.
Иногда он все-таки разговаривает с ним, осторожно выбирая темы. Больше всего и чаще всего об искусстве и о городе, который принадлежит и в то же время не принадлежит им. Они как бы исключены из этого города, им было бы легче, если бы они оказались в другом месте, где их никто не знает и они не знают никого.
Отто рисует, отец играет с полным отсутствием духа, как будто и он парит над Сараево. Опускает взгляд на акварели Отто, просто смотрит на них, но ему кажется, что они тоже смотрят на него.
Совсем бледные, светлые краски, совсем как облачка, не оставляющие за собой и следа, из которых не может выпасть дождь, потому что они здесь лишь для того, чтобы мягко прикрыть солнце, чтобы оно не слишком обжигало. Как эти рисунки похожи на душу его мальчика, который боится мира, света, прочих людей. Они вдруг начинают нравиться ему, становятся близкими ему, как сам этот мальчик, который никак не может подрасти, но он все же видит в нем будущего человека. Сердце его сжимается оттого, что сын останется таким, вне мира, сколько бы не собралось в Сараево подобных убогих. Одним больше, одним меньше — ничего это не меняет, в конечном счете.
Сколько было таких дней? Так мало, что каждый из них они запомнили. Отец для себя, сын — для себя.
47
Отцовская записка:
«После прорыва сербско-черногорских воск в Романию в городе возникла паника, но власть запретила всякий въезд и выезд из города без пропусков. Наказания строго исполняются, все контролируется, но процветает черный рынок, торговля продуктами. Иногда, чтобы выжить, можно преступить закон. Но только в меру и очень осторожно.
Как-то раз собралась в «Персиянце» веселая компания и направилась в Пале, чтобы сразиться с сербскими отрядами. Дали им новые винтовки и боеприпасы, благословили убивать все, что движется или, по крайней мере, выглядит враждебно. Выстрелы гремят весь день, а к вечеру вижу, как одни бегут, а другие волокут израненных и окровавленных. Никто из них не показывался больше в тот день, забились по углам, месяцами я их больше не встречал в кафанах.
Когда же эти отряды опять вытеснили в Сербию и Черногорию, наступило время мести, и виселицы словно с ума сошли. Собственно говоря, грабители показали свою истинную натуру. Убивали из мести, за пищу, насиловали, просто из бесноватости. Верховодами в этом деле стали в основном пьяницы и гуляки из кафан, всех я их хорошо знал, именно те, что сбежали в тот самый день, когда их мобилизовали. Им опять выдали винтовки и патроны, опять позволили им убивать все, что движется и что выглядит враждебно».
Отец даже не подозревал, чего стоит матери выкручиваться, кормить нас двоих, потому что его в те первые два годы войны практически не бывало дома. Мы голодали, но все-таки не смертельно. Я знаю, что мама два-три раза подралась с женщинами из-за крапивы, что росла вдоль железной дороги, сразу над нашим домом. А чтобы усугубить драку, появился поезд и едва не передавил их всех. Мама вернулась вся в крови, как будто ее порвали. На правой руке кожа была содрана, от локтя до самой ладони. Она упала на острый щебень меж рельсов, а потом скатилась в кустарник под мостиком. Я боялся даже приблизиться к ней. Она мыла руку и плакала. Вода в тазу была краснее крови. Иногда я такой краской рисовал маки.
48
Итак, повествование рождается в архивах, церковных и государственных книгах. Где, кто, откуда? В газетах, журналах, монографиях. Вспомнил, описал, припомнил.
Из конца в конец этой страны отправляются облавы, чтобы направить в австрийское войско молодых рекрутов и отправить их походом в соседние государства, в Сербию и Черногорию, чтобы казнить их жителей, унизить, добить. Превентивно и противозаконно, потому что зло уже выпущено из бутылки. Зло, которое наэлектризовало Европу и весь мир. До такой степени, что не может оно больше оставаться в своем убежище, и потому начало бесноваться, совсем как ангел разрушения. Кто его оттуда выпустил — это уже второй вопрос.
Упакованные в вагоны, молодые люди в форме смотрят на край, которым проезжают, распевают свои песни, вспоминают прекрасные цивильные денечки. То и дело появляется выпивка, аромат вина смешивается, совсем как дома, с духом ракии.
Выжившие вспоминают эти дни, кто-то пытается описать их. Воспоминания вращаются вокруг винтовок, сражений, живых и мертвых. Но встречаются и воспоминания о красоте, женской, девической. Встреченной и возмечтанной там, куда их судьба забросила.
Не все сойдутся в оценке событий, в большей или меньшей степени возобладает чувственность, преувеличение или, напротив, принижение. Тот, кто будет читать их воспоминания в поисках собственной темы, задумается, вспомнив о другом читателе, который тоже листал эти страницы, но воспринял их иначе. А когда во все это вмешается время, воспоминания перетасуются и переменятся, как изменяются удостоверения личности при возникновении нового государства.
История черногорского генерала Радомира Вешовича и его семьи, начало движения комитов в Черногории, рождение, перерождение и вырождение — все идет в дело. И она, словно нитка в иголку, вдевается в рассказ о Зайфриде с другой стороны, как точка, поставленная в афере, о которой рассуждают годами, но так и не находят ей разумного объяснения. Подробно ее припомнит только один человек, который мог бы стать рассказчиком, числящийся в воинских списках как «присяжный переводчик и писарь», студент из Баня-Луки, а после сельскохозяйственный инженер, известный Милорад Костич, писатель-любитель, который оставил нам свидетельство о своем «знакомстве с палачом». Наш рассказ не может и не хочет пройти мимо этих драгоценных записок, развивающих то одну, то другую версию, связывающих и разделяющих действующих лиц этого текста.
Свидетелей более чем достаточно, о черногорских комитах написаны целые книги и газетные очерки, исследователи проявили столько страсти, присущей этому народу, но дух повествования велит заглянуть в воспоминания самого Зайфрида, смертельно уставшего от беспрерывных казней. У него столько работы, он так притерпелся к ней, что больше не возит с собой цитру, ночует по дороге в самых отвратительных корчмах, пытаясь забыть во сне все то, что с ним происходит. Возвращаясь ненадолго домой, с отсутствующим видом перебирает струны старого инструмента, словно ласкает дорогую его сердцу особу, и рассматривает сыновние акварели. Все увереннее зреет в нем мысль, что Отто — Божье творение. От этой мысли ему делается легче, мир больше не кажется замершим в нерешительности на перепутье, а если оно и так, то Бог обязательно вмешается. Без Бога ничего нет, и только вера может спасти нас. Все наши несчастья от утраты веры. Никто не кается, все только хулу изрыгают.
Прочитав в кафане «Сараевский листок», Зайфрид так и не смог составить ясную картину войны, что бушует там, вне Боснии и Герцеговины, а сейчас и вне Черногории. В провинции он узнает больше, хотя разговоры о положении на фронтах строго запрещены. Об армиях, ранее воевавших, а сейчас подписавших перемирие, он ничего не знает. Черногорский князь Никола согласился на эмиграцию и приказал войскам сложить оружие. Сердар Янко Вукотич и его генералы выполнили приказ своего господаря. Узнав об этом, народ пришел в ужас. Холодный расчет для обычного черногорца — дьявольское и противоестественное явление. Бог ничего против нас не имеет, говорят они, да вот только дьявол покоя не дает. А как же иначе, говорят в Сараево, шайтан покоя не дает.
Говорят, что Черногория на самом деле всего лишь продолжение Герцеговины, и что наконец-то под черно-желтой монархией объединились земли, которые и должны были соединиться. Но кому какая их часть принадлежит, неизвестно, а Зайфриду и вовсе до этого дела нет. А различные взгляды на принадлежность отдельных районов вообще кажутся ему идиотскими. Каждый раз, слушая подобные разговоры — а они постоянно ведутся в придорожных корчмах, он уходит, подавленный картинами повешенных по политическим обвинениям — сепаратизм, присоединение, виноват в том, не знаю в чем. А перед ним каждый старается высказать свои мысли, как будто он судья, который может в любой момент отправить их на тот свет.
И как же в обществе единомышленников говорят об этом?! Конечно же, неосторожно, но ведь именно эти единомышленники опаснее прочих, завербованные с помощью неизвестно каких угроз или обещаний, они всех сдадут с потрохами, даже тех, которые ни в чем не виноваты. Каждый шпионит за каждым. И не только ради денег, но по убежденности в том, что так и должно быть. Вот эти сербы, или там черногорцы, Зайфриду все равно, как они себя называют и кем себя ощущают, поставленные на место и завербованные, их более чем достаточно для того, чтобы Монархия перестала опасаться заговоров. Не пройдет и пары дней с того момента, как кто-то где-то, в городе или на горе, договорится о действиях против новой власти, а шпион уже доносит ближайшему военному гарнизону — тот же действует быстро и решительно.
И вот служба отправляет его туда, где он еще не бывал, в высокие каменистые горы, чтобы повесить приговоренных к смерти опасных преступников. Случались и убийства, не только ведь политическими преступниками приходилось заниматься, но все это Зайфрида и его подручных не касается. В путь отправляется всегда одна и та же команда, Зайфрид их словом в пути не удостаивает. Слышит их разговоры, хотя и не слушает их. Лучше бы он воском уши запечатал, только бы не слышать эту тупую болтовню и вздор. Он даже это слово выучил, наряду с прочими. Он давно уже знает язык, да и народ тоже, который на этом языке говорит. Но понимает его не так, как в первые дни. Теперь предстоит вешать черногорцев, чей господарь покинул свой народ и свою армию, подписал капитуляцию и сбежал. Так говорят, и никто этого не понимает, а многие и не верят в это. Полагают, что речь идет о каком-то грандиозном обмане, о котором всем станет известно, как только грянет со всех сторон. Никто не знает, что грянет и когда, но верят, что так оно и будет. А когда это случится, малые победят великих. Настанет день некой справедливости. Их справедливости, полагают. Как будто справедливость не находится всегда в руках сильнейшего, и как будто Бог не сильнейшему помогает. Если бы не помогал, не стали бы они сильнейшими. Так Зайфрид, когда ему надоедает глупая болтовня, разъясняет своим подручным, хотя они едва ли понимают его слова. Подвыпив, они забывают обо всем, что, впрочем, и неплохо, потому что жрать нечего. Пьяный человек никогда не требует закуски, а только еще выпивки.
Молодые люди в формах сидят по корчмам, пьют хорошее черногорское вино и завязывают бесконечные беседы о доме, о любимых девушках, о войне и мире. Перед ними фотографии красавиц-невест. Говорят на одном языке, может, в далеком прошлом их предки были братьями, а теперь одни — оккупанты, а другие — оккупированные. Те, что командуют ими, все-таки говорят на другом языке, на императорском, и требуют от своих подчиненных, чтобы те понимали хотя бы команды. «Имейте в виду, — говорят они, — мы знаем, на чьей вы стороне».
Все перемешалось и крайне наэлектризовалось. Разрядка происходит под виселицей, где в концентрические круги собираются почти все, местные и чужаки, поделившиеся на патриотов и предателей, виновных и исполнителей.
Наблюдаем за Зайфридом, как он передвигается от виселицы к виселице. Мы уже не в Сараево, а в Требинье, 1916 год, барабаны выстукивают свой ритм смерти. Объявленной и свершенной. Война где-то там, но и здесь умирают, не от пули, но на виселице. Список приговоренных настолько обширен, что Зайфрид сегодня уже не припоминает, кого вешал вчера. Он перестает интересоваться обвинениями, поскольку все они одинаковы — антиавстрийская деятельность. Но вот наступает важный для нас момент, когда Зайфрид покидает Требинье и отправляется в Черногорию. Голодный и недовольный мизерными суточными. Он чувствует слабость в ногах, каждое утро его будит тупая боль под правым нижним ребром. Что ни съест, все камнем ложится в желудке. Икает от голода! Даже получая пищу по особому пайку, временами боится умереть с голоду.
Наблюдает за армией, которая находится в постоянном движении. Где ни остановится на ночлег, там обязательно солдаты. Так было и в горной избушке у Колашина. Из всех юстификаций именно к этой приковано внимание общественности. И не только местной, но и европейской.
Здесь повествование следует сократить, потому что оно может раздаться в ширину, охватить другие темы и показать, что судьба генерала Радомира Вешовича вовсе не была ключевой в жизни этих молодых людей, и даже не в жизни их командиров. Дни похожи один на другой, вино вечно одно и то же, а вот женщины, да, те всегда в новинку. Они — утешение в мире, испытывающем невиданные страдания, всюду заваленном трупами, особенно здесь, у дороги, на самом выезде из Цетинья. Эти трупы неизбежны, как неизбежны здесь дикие горные камни. Кто-то мог бы сказать, что на хлеб денег нет, а на патроны хватает, но они об этом не говорят, не их это дело, менять заведенный порядок. Так было всегда и так пребудет вечно.
Скоро они запоют:
Император Карло и царица Зита, Что же вы воюете, коль у нас нет жита?!Но у власти пока еще престарелый Франя Йосиф, который дрожащей рукой подписывает бессмысленные смертные приговоры. Да понимает ли он вообще, кого и за что вешают? Зайфрид все чаще сомневается в этом.
Многие потом будут описывать эпизод, давший толчок этим событиям, когда генерал Радомир Вешович оторвался от своих конвоиров и убежал в горы. Его арест случился во время широкой облавы, которая проводилась с целью интернирования подозрительных солдат и офицеров распущенной черногорской армии. Главной личностью в изобличении потенциальных заводил народного восстания был гражданский комиссар Колашина, доктор Милош Лесковац, о котором говорили, что он — предвестник беды, словно фантом появляющийся то тут, то там, чтобы разоблачить врагов оккупантов и лично представить их военным властям. На сохранившейся фотографии мы видим его в обществе своих сотрудников и австро-венгерских офицеров. Разместившиеся в три ряда, они выглядят как единое подразделение, первый и второй ряды сидят, а в третьем стоят немые действующие лица этой драмы. В первом ряду, второй справа, Лесковац, расстегнутый и без шляпы, оперся правым плечом на австрийского офицера, затянутого в мундир по всем требованиям воинского устава. Кепи скрывает офицерский лоб и мысли, таящиеся за ним.
Кроме Вешовича, вспоминают то его братьев, то какого-то товарища, и двух солдат, которые конвоировали его, оба из Боснии, откуда же им еще быть. Патрулем командовал оберлейтенант, известный Адольф Пехар, о котором говорили, что он ветеринарный врач из Прнявора. На самом деле этот Пехар был родом из Плехана, деревни неподалеку от Дервенты, где находится большой католический монастырь. Некоторые, как и другие, переименуют его в Пехера, что никак не соответствует его настоящему имени. Вроде бы он командовал на немецком, что вполне вероятно, но ведь речь идет о человеке, который наверняка знал язык генерала Вешовича и, скорее всего, говорил на нем, так что тот точно понимал его. Адольф Пехер, или Пехар, погиб в той перестрелке, случайно, или же тот, что стрелял, преследовал именно эту цель — неизвестно. Неразрешимой остается одна загадка: кто стрелял? Утверждают, что стрелять могли все, потому что оба конвоира расслабились и оторвались далеко вперед от обладателя револьвера, а Пехар потребовал от генерала, чтобы тот поднялся в седло, чтобы ему было легче контролировать действия пленника. Происхождение револьвера также покрыто мраком. Был ли он где-то спрятан, или убийцы отняли его, так до конца и не выяснили. С места преступления бежит рядовой Иосиф Туранович, показания которого примут как основополагающие. Второй рядовой остается лежать раненным. Начинается паника, безрезультатная погоня и захват заложников. Все Вешовичи оказываются в колашинской тюрьме: самый старый, отец, потом мать, брат и сестра, жена и генеральский ребенок. На следующий день в тюрьме остаются только отец и брат, парижский студент. С ними еще два приятеля Вешовича, рядовой Мият Реджич и юный поэт Саво Радулович.
Обычное дело на войне, шантаж и угрозы. Месть чистой воды! Неистовство и бессилие!
Приказ был прост — если в ближайший четверг генерал не сдастся властям, заложники будут повешены.
Страх воцарился в Колашине и окрестностях. Страх и надежда. Отчаяние и воззвание к Божьей помощи, если таковая отыщется для этих людей, не склонных к молитвам и богобоязненному существованию. Они помнят время, когда их господарем был владыка, знают его поэму наизусть, но Богу внимания уделяют не много, не понимают они ничего в этом. Им нравится выглядеть заговорщиками, но легко соглашаются быть и шпионами, денунциантами. Если решат, что ты им не страшен, выставят себя патриотами. Есть связь с теми, «наверху», многозначительно скажут тебе вполголоса. «С генералом?» — спросишь ты их, и они кивнут головой. Информируют его. О чем? О том, что повесят его отца и брата, если он не объявится.
— Так что же ему, несчастному, делать?
— Одно из двух остается: спуститься с войском и всех перерезать. Это первое.
— Ну так на этом его австрияки и подловят! У них тут солдат хватит, чтобы всех комитов перебить. Они ведь тоже не лыком шиты.
— Передать ему это?
— Можешь.
— А если он все-таки сдастся?
— Кто же тогда народ за собой поведет?
— Куда поведет?
— На восстание, куда же еще.
— Зачем подниматься, если все равно подавят?
— А почему бы и не удалось? Главное, к Скадару пробиться, соединиться с другими отрядами, с союзниками, и устроить австриякам ад на земле!
— Не выйдет, швабы не дадут!
— Выйдет, точно говорю.
— Может, выйдет, а может, и нет. Кроме того, кто вы все такие? Что, все в комиты подадитесь? Где ж вы все раньше были, Бога вам в душу?
Собеседник умолк, размышляет, как бы получше ответить. Что, если тот шпион? И чей?
— Кто, если не мы, освободит народ?
— Время придет, и освободит кто-нибудь.
— Вот так вот, а мы в сторонке стоять будем?
— Зато в живых останетесь, дружище.
— А генерал, что с ним будет?
— Сам догадайся.
— Сдастся?
— Две головы за одну, и неизвестно еще, чья умнее.
— Как это? Разве генеральская не дороже тех двух?
— Я думаю, у того парня получше.
— Да у нас всегда на первом месте генералы были!
— Дали бы ему доучиться, он бы Черногорией получше генерала заправлять смог!
— А если нет?
— Да, да, всегда так было.
Кто это забылся и ухватился за рассказ как утопающий за соломинку? А спасения нет ниоткуда. Приближается четверг, в дверь канцелярии, где сидят доктор Эберле и молодой Милорад Костич, кто-то стучит.
— Входи, если не боишься!
На этом месте мы покинем другие источники и вернемся к тому, главному, который уже сам пробивает себе русло. Мы не можем не уважать его стремление. Он и расскажет нам, кто вошел в канцелярию. Мы ему за это благодарны.
49
Главный рассказчик не может понять, в чем разница между теми, кто приговорен к смерти чрезвычайным трибуналом и моментально расстрелян, и теми, что также приговорены к смертной казни только потому, что являются членами семей опасных, отвергнутых законом людей, которых нельзя расстреливать, но следует повесить. С соблюдением всех церемоний, положенных при повешении. Прибудет официальный государственный палач, из самого Сараево, если он только не обретается где-то здесь, поблизости, как составная часть мобильного карательного менеджмента, и повесит их. В нашем случае смертной казни через повешение ожидают генеральские отец и брат, вместе с еще некоторыми людьми, судьбы которых теряются на обочинах нашего повествования. В качестве рассказчика здесь появляется уже упомянутый молодой человек из Баня-Луки, который гораздо позже попытается изложить свою версию событий. Он-то есть не что иное, как привычный голос современника, который заявляет, что он все помнит, как будто память заменяет ему фотографический аппарат. В конце концов, все выглядит усредненным, и расстояние, и выдержка.
Бывшего гимназиста из Баня-Луки, Милорада Костича, арестовывают вместе с его приятелями и в качестве подозрительного рекрута отправляют далеко в Венгрию, в Надьж-Варади, где высокая комиссия объявляет его частично способным к воинской службе и присваивает ему должность «присяжного переводчика и писаря», поскольку он знает немецкий язык. Молодого Костича отправляют в суд, аж в Краков, где сильно пахнет пожарищами и фронтом. И здесь есть дезертиры и предатели, и все они практически не умеют писать. Но эта армия держится на законе и порядке, и если расстреливает, то только на основании параграфов, и казни совершает только государственный палач. А расстреливают и вешают часто, практически ежедневно.
Позже Костич напишет, что не очень хорошо знал немецкий язык, его больше интересовали естественные науки и сельское хозяйство. Переводя сердара Янко Вукотича, он неоднократно ошибался, и старый солдат поправлял его, хотя сам отказывался говорить на языке оккупантов, которым он владел в совершенстве. Тем не менее, Костич делал то, что от него требовали, и ему было намного легче, чем тем, в окопах. Когда его отправили в Цетинье, он даже предположить не мог, что его там ожидает. Несколько дней он путешествовал поездами и дорогами, забитыми войсками, и слушал во сне многочисленные языки Монархии, которая всю свою молодежь отправила на войну. Не знает, радоваться ли новому назначению, или все-таки лучше ему было бы оставаться подальше от своих. Потому что здесь он не может более забыться и не воспринимать каждого встречного как чужака. Тем не менее, он счастлив, что в крохотной черногорской столице не видно следов войны и что в основном здесь царит мир.
Если он не сидит в канцелярии, то гуляет по цетиньским улицам, где все так миниатюрно, словно на иллюстрациях к детским книгам, и любуется хрупкими девушками в национальных одеждах. В компании своих товарищей, айнеригеров, мечтает о жизни вне этих воинских рамок. Но что он видит вместо этого? Нечто вроде театрального представления, венская оперетта, а не жизнь, демонстрация воспитанности оккупационной армии, которой нет никакого дела до этого представления. У него другие заботы и другие дела. И эта армия, чье прочное, можно сказать, стальное ядро, составляют профессиональные австрийские чиновничьи кадры, что следуют за последними исполнителями, рассыпается как перекаленная опока. Чтобы дисциплинировать ее, как положено во всякой серьезной войне, вступают в действие строгие законы воинских чрезвычайных трибуналов. Особенно в отношении дезертирства, которое в последнее время приобрело невероятные масштабы. Дезертировали в основном сербы из Боснии и Герцеговины, из Хорватии, в основном из Лики, Кордуна и Бании, чтобы присоединиться к сербской армии, но бежали и другие, по самым разным причинам. Никаких исключений, смертная казнь через повешение, или расстрел. Когда приговорили бедолагу, в тело которого сразу после этого всадили семнадцать пуль, тот оправдывался одной единственной фразой: «Я ведь только детишек хотел повидать!» После этого молодой писарь и присяжный переводчик несколько дней не мог ни есть, ни спать. Блевал одной желчью. Ему снился сморщенный человечек в цветущем сливовом саду, окруженный детьми. Он смеялся и приглашал его пообедать. Но обеда не было, все пространство вдруг занимала огромная фигура доктора Эберле, отдающего взводу команду приготовиться к стрельбе. «Так, так им и надо!» — кричала его мелкая женушка. Что это за доктор Эберле?
Оберлейтенант д-р Эберле, крайне культурный человек и ревностный служака, посылал своей женушке нежные письма, варьируя начальную фразу от «Любезнейшая и драгоценнейшая моя» до «Наидражайшая», и сочиняя их, как правило, во внеслужебное время. Он готов был подолгу дискутировать, но никто не мог смягчить его позицию по военным вопросам — дезертир он и есть дезертир, какие бы доводы не приводил в оправдание своего ужасного антипатриотического поступка. Раны есть раны, дети есть дети, но держава покоится на уважении ее законов. Без этого она разлагается. Костич смотрел, как его нежное белое лицо застывает в момент вынесения приговора и приобретает восковой оттенок. И каждое слово его словно пуля. «Как это возможно…», — начинает.
Но все это лишь прелюдия к истории, которую Костич прибережет на свои зрелые годы, к истории, которая случилась в Колашине, городишке, затерянном в крутых черногорских горах. Из хрустального Цетинья, которое, казалось, было по сердцу старинным богам, его унесло в мрачные места, где все, казалось, угрожало жизни. Здесь скопились ненависть и сила, месть и страх, гибель одного малого королевства и надежда на воскресение другого, в которое плавно перетечет прежнее. Презрение к позавчерашнему господарю, призыв к восстанию против оккупантов, союз с сербской армией — все это приобрело мифические размеры в необычной истории, движителем которой был генерал Радомир Вешович. Или же он стал просто именем собственным всего того, что там происходило! Названием фирмы, за которым крылись вымышленные конструкции, даже тени которых так боялась новая власть.
Так бывает, когда заплетают особый бич истории — не женскую косу! Тогда встречаются самые разные судьбы, но ни за что не понять, какая из них главная, какая играет роль основы — прочного кожаного ремешка. Костич хотел быть главным, и чтобы вокруг него обвилась и оставалась так навсегда, обвитой, одна из этих девушек. Он мечтал о ней, и ближе к рассвету был вынужден древним солдатским способом облегчать ужасное телесное напряжение, усиленное общей слабостью. Но вместо молодой женщины, или рядом с ней, потому как и она позже появится, тут возникли: генерал распущенной черногорской армии, который пожелал стать предвозвестником новой державы и спасителем поруганной чести страны, которая, вопреки обычаям предков, сдалась оккупанту без сопротивления; некий католик из долины Савы, ветеринарный врач из Прняворы, чью фамилию позже исковеркает Костич, воспользовавшийся войной, чтобы перескочить в военной иерархии через пару ступенек и навести в бывшем королевстве Черногории закон и порядок, за соблюдением которого бдят строгие и, по его мнению, справедливые суды; а также кто иной, как не личность, само появление которой вызывает неудержимый страх, совсем как явление нечестивого накануне пробуждения, государственный палач Боснии и Герцеговины — Алоиз Зайфрид! И все они в одно общее для них мгновение жизни оказались в Колашине, городишке, чье имя вряд ли кто в Европе сумел бы выговорить.
На память Костича положиться нельзя, двадцать лет спустя, когда он опубликует воспоминания, то изменит в них имена большинства участников колашинской драмы, но останется портрет одной девушки, по имени Серна, о которой он будет мечтать всю жизнь. В европейской литературе встречаются произведения с такими девушками, которые более мечта, нежели действительность, более желание и потребность, осуществленная в наименьшей степени, и только сама жизнь может их оживить, как правило, во времена, когда происходят такие драматические события, когда рушатся империи, а люди исчезают, будто их никогда и не было. Те несколько дней, когда после омерзительной работы по переводу приговоров солдатам, пострадавшим от военного трибунала, он покидал канцелярию, чтобы увидеть Серну, растянулись для него на всю последующую жизнь. А когда за день до повешения молодого парижского студента Влайко Вешовича весь Колашин замкнулся в себе, исчезла и девушка. Костичу казалось, что он мог заплатить любую цену, лишь бы увидеть ее, но кому же высказать свои желания и страдания? Замкнутые в его душе, они не уменьшались, а, напротив, росли и жгли.
Вторая картина, без которой первая была бы неполной, изображает палача, которого ждали со дня на день. Правда, многие верили, что он так и не появится. Вероятно, это убеждение достигло и слуха главного героя драмы, генерала Радомира Вешовича, которому большинство земляков никогда не простит легкомысленности, с которой он почти всех их подвел под виселицу. Но то, что он своего брата, нежного Влайко, оставил висеть вместо себя, они восприняли как невиданное равнодушие.
Нет у солдата души, как говорили старики, откуда она у него возьмется. Ему не ставили в вину ни штраф, который был вынужден заплатить весь Колашин, ни нападение на австрияков, видимо, время сведения счетов не пришло. Но когда год спустя он вместе со своими товарищами сдастся австриякам, между черногорцами ляжет глубокая пропасть. Над этой пропастью и в последующем, как над черногорскими скалами, будет висеть тело молодого Влайко Вешовича.
Наш рассказ с благодарностью воспримет описание Зайфрида, которое, пожалуй, является единственным письменным свидетельством.
Сначала надо представить себе канцелярию, д-ра Эберле, который только что начал письмо со слов «Моя наидрагоценнейшая», а также Костича, который переводит на немецкий жандармские требования на вынесение смертных приговоров, то тут, то там несколько смягчая обвинения с помощью небрежных формулировок. Присутствует тут и третий, о котором ничего неизвестно. Едва слышен скрип пера по бумаге, и вдруг в комнату, сразу после нетерпеливого стука, входит человек, который, как многие надеялись, никогда не придет.
«Перед нами объявился пожилой сутулый господин в темном костюме и полуцилиндре. Левую руку он упер в бок. Его багровое лицо, испещренное фиолетовыми прожилками, в многочисленных морщинах и старческих пятнах, напоминало физиономию алкоголика. В правой руке старик держал кожаный чемоданчик и перчатки».
— Имею честь представиться: Алоиз Зайфрид, палач Императорско-королевского земельного правительства в Сараево.
Сначала он протянул руку д-ру Эберле, который принял ее, оторвав голову от письма, где все еще была изображена только первая строчка, умильное обращение к далекой женушке. Принимают его руку и остальные двое, но как будто нечто грязное и ядовитое. Они находились в таком смятении, что годы спустя Костич переименовал палача в Гуго, даже не расслышав, что тот назвал себя Зайфридом, а не Сайфертом. Вряд ли он услышал и монолог человека в черном, сутулого старика, которого могло сдуть ветром, но который ввергал их в страх и ужас.
— Не бойтесь, добровольцы, не бойтесь, я вам не страшен. С чего бы это мне быть страшным, напротив, я только выполняю свои обязанности. Я настоящий профессионал. Вероятно, и здесь меня знают именно с этой стороны. Это, конечно, неприятно, знаю, поверьте мне, я ведь и сам противник смертной казни, но такие уж времена, кругом смятение и возмущение, а закон следует уважать, власть здесь для того, чтобы делать свое дело, а я всего лишь частичка этой власти, куда незначительнее плотника, который соорудит виселицу. Он выстроит ее по моим чертежам, усовершенствованную, единственную в своем роде, гуманную, господа, абсолютно гуманную. Никаких мук, исключительно свершение правосудия. Никто никогда не совершал юстификацию повешением быстрее меня. Смерть наступает в одну секунду.
Каждый из тройки годами будет пересказывать монолог Зайфрида, и каждый из них все меньше будет верить в собственный рассказ. Именно так ли он говорил, или что другое сказал? В конце концов, на каком языке он говорил? Похоже, на здешнем, или все-таки по-немецки? Они слушали его, понимали и, казалось им, запомнили его слова, но детали ускользают, время течет, а вместе с ним и настоящие слова Зайфрида.
Отвращение настолько сильное, что они дождаться не могут, когда же он их оставит.
— И, должен вам признаться, как я настрадался! Не знаю, что и хуже — дорога или питание. Кости болят от тряски, голод не утихает. О суточных и говорить не смею со здешним начальством. Ох как тяжело! А с комендантом придется встретиться. Говорят, документы у меня не в порядке. Да разве такое возможно?! Такого раньше даже представить нельзя было в нашей империи, где все функционировало тик-так. Хотя я и противник смертной казни, но всегда поддерживаю закон и порядок. И работать привык. Мне выплачивают сущую мелочь за каждого пациента, едва хватает, чтобы выжить. А то, что у меня душа есть, никого не волнует. Что меня ранит смерть каждого приговоренного, особенно нынче, когда судят политических. Посмотрите, господа, как дрожат мои руки!
Костич видел руки девушки Серны, едва приметные, как ручки призрачной лесной вилы. Он не слушал палача, как и оба других, ждал, когда он наконец уйдет. Отвратительный человек, чуть ли не хором произнесли все трое, когда он закрыл за собой дверь, направляясь решать проблемы с документами и суточными. А они втроем, каждый сам по себе, продолжили размышлять о женщинах своей жизни.
Что еще выделяет агроном и писатель Костич? Одно известное имя, упомянутое палачом, учителя Чубриловича, который, как он сказал, выглядел «как святой». После никто в этой канцелярии не пытался продолжить разговор об этом, или поставить его слова под сомнение, или удивиться им. А старик не постеснялся сказать, не постеснявшись добавить, что речь идет о повешении убийц светлейшего эрцгерцога и его всемилостивейшей супруги. Как это повешение что-то сломало внутри его, хотя он и не бросил свою страшную профессию, потому как зарекся уходить на пенсию. Д-р Эберле не реагирует на эту непристойную интимную исповедь палача, его мысли как будто уже запечатаны в конверте вместе с письмецом наидрагоценнейшей женушке.
В ночь перед казнью никто не спит в Колашине. За день до нее выполнены все необходимые приготовления. Поднялась виселица, выстроены войска, зачитаны все необходимые в таком случае приказы. Ждут утра, чтобы свершилось то, чего нельзя избежать. Бой или повешение. Месть генерала или месть оккупантов. Если бы дух повествования промчался бы по домам, палаткам, тюремным камерам, он смог бы создать мозаику, напоминающую другие, тысячелетия насчитывающие картины. Но дух повествования сейчас присутствует при рассказчике, который все еще молод и влюблен. Он страдает от того, что никогда больше не увидит девушку, завтра наверняка они покинут город, неизвестно в каком направлении. Никогда больше он не вернется в Колашин. А заложников повесят, потому как больше некого. Так было всегда, и здешний случай вовсе не исключение.
Он это знает, потому что хорошо слышит и видит. За спиной Зайфрида — дорога, уставленная виселицами. Словно он тот самый кончик карандаша, который проводит линию новой справедливости и нового закона. Одновременно обозначая новые границы. Или перечеркивая прежние, кто его знает.
Генерал не придет с войском, потому что войска у него нет. И сам не явится, время еще не пришло.
Отца его освободят от угрозы смерти, он отправится в изгнание. Брата повесят. Костич со временем даже имя его подзабудет, не припомнит точно, как его звали, Влайко или Милан. Назвав палача другим именем, он другим назовет и жертву. Пациента, как говорил палач, потому что не желал брать на себя ответственность за свершенную казнь. Священника не было, только воинское каре и церемония, путь к эшафоту, где стояла черная фигура Зайфрида. Было тепло, пот стекал по позвоночнику, то ли от восхождения, то ли от страха. Будто они на Голгофу поднимаются, этот молодой Вешович, что не вовремя вернулся из Парижа, чтобы сложить голову, потому что где-то так было записано. Он, как и остальные, нес свой невидимый крест. «Нет смерти без судного дня…» — стучало в голове у Костича и изливалось чернильными строчками на бумагу. Его не было рядом с виселицей, он даже издалека не желал смотреть на нее.
В тот день, когда вся Черногория затаила дыхание, сама вспотев от восхождения, Зайфрид, словно на показательном выступлении, мгновенно перевел молодого Влайко Вешовича из жизни в смерть. Последние слова он произнес именно такие, какие и ожидались от патриота, но Зайфрид слышал подобное бесчисленное множество раз, а Костич — ни разу. Потому что его не было рядом с виселицей, и потому он не может быть свидетелем. Как таковым не может быть и генерал Радомир Вешович, войско которого с последней надеждой на спасение ждет приговоренный к смерти. Он не верит в свою смерть, и смерть тоже не радуется этому молодому человеку, которого вешают ровно через два года после покушения на светлейшего эрцгерцога.
Случайно ли то, задаются вопросом черногорцы, что это случилось в Видовдан? Часть этой истории знает протоиерей Булатович, который провел ночь с юношей, но он никогда и никому не сказал, были ли осужденным сказаны последние слова, и принял ли он святое причастие. Костич ничего не написал об этом, или просто позабыл, или не счел важным тот факт, что в ночь перед казнью в камеру к жертве приходил поп Булатович с вином и ракией, так что последнего он переименовал в Радуловича. «Какая исповедь, — скажет протоиерей своему сыну, — если они никакого преступления не совершили, никуда не годится, что невинные гибнут от рук злодеев и преступников».
Зайфрид как бы невзначай спросил, приносил ли протоиерей ракию и вино. Ему ответили, что да. «Нет у православных ни исповеди, ни отпущения, одна только ракия. Здесь и в Приморье еще вино. Вот и вся их молитва, и все покаяние. Причастятся так, и начинают поносить Австрию и нашего светлейшего императора».
Не следует забывать и доктора Милоша Лесковаца, который без малейшего содрогания или гримасы смотрит на несчастных, повешенных благодаря его ревностному служению. Совесть у него спокойна, а карман полон.
Осталась фотография повешенного Влайко Вешовича со связанными впереди руками, со спиной, прижатой к столбу для повешения — неповторимому, почти гениальному изобретению Алоиза Зайфрида. За столбом видны три деревянные ступени, по которым поднимается палач. Но его нет на фотографии, как и не существует детального описания его изобретения.
Назавтра Зайфрид будет надзирать за повешением еще одного такого же юноши, студента и поэта, стихи которого он не знает и никогда не прочитает. Прочих, например, крепкого капитана Мията Реджича, он тоже не помнит, мертвых их опускают на землю, и слышен их долгий выдох, это душа выходит и исчезает в вышине. До повешения учителя Чубриловича Зайфрид был убежден, что речь идет о воздухе, оставшемся в легочных альвеолах, но теперь, обратившись к Святому писанию, он ратует за старое объяснение.
Зайфрид смотрит на своего подручного, толстого как свинья Флориана Маузнера, как тот вешает Реджича, и просто глазам своим не верит: веревка лопается, новая попытка, и тот же результат. В конце концов, капитан мертв, но не повешен. Со сломанной шеей бросили его в яму, как дохлую скотину. Кто-то говорил, что он был еще жив, не только он, но и другие, однако эти рассказы не соответствуют истине. Это просто-напросто невозможно с медицинской точки зрения. Зайфрид знал это куда лучше, чем некоторые врачи.
На столбе остается висеть только младший Вешович, если есть хороший бинокль, с оптикой, произведенной в городе Йена, то с гор брат-генерал может рассмотреть безжизненное тело брата-студента. Других, тех, что в земле, он, как любой профессиональный военный, считает нормальным военным явлением. Но, похоже, он на это не смотрит и ничего не видит, потому как его, вождя повстанцев, сопровождает едва ли пара приятелей. Большинство черногорцев считают его бедой и несчастьем всего народа, который позволил замарать себя, и теперь они, припертые к стенке, вынуждены брать себе в комиты других вождей и новых генералов.
Их будут вешать другие палачи, среди которых окажется и пара цыган, которые что-то слышали о Зайфриде, но думают, что это не живой человек, а народное предание. Так что Колашин, проклятое, бедой отмеченное и заколдованное место, будет еще два года пользоваться крепко сколоченной виселицей, воспитывая и обучая новых палачей, чтобы хоть чуточку меньше пришлось расстреливать.
50
Мне очень хотелось быть объективным, несмотря на то, что пишу о своем отце. Несмотря на все оговорки, которые не хочу теперь здесь приводить, мы были совершенно разными, были и остались. Помимо всего прочего, разве не играет решающей роли то, что он всю жизнь считал себя австрийским подданным, потому что родился в Австрии, а я — в Боснии? Как объединить объективность историка и субъективность рассказчика?
Если бы кто-то составил список людей, бессмысленно погибших в этой стране, то он поразил бы читателя своими размерами. Он состоял бы из множества страниц, исписанных мелкими буковками, любыми — кириллицей, латиницей, готикой. Мне все равно — какими, пусть прочие со мной не соглашаются.
Тридцати лет гуманных казней не хватило, чтобы народ перестал быть кровожадным и суровым. Кто придумал помимо «фрай-кора» еще и «шюцкор»? Кому они были нужны? Как будто специально народ вооружали, чтобы он сам себя перебил. Но власть дала оружие своим сторонникам, католикам и мусульманам. Не надо быть слишком умным для того, чтобы понять, против кого это было сделано. Может быть, это и оправдывает государство, которое боится за себя, вот и ищет тех, кто хочет его обезглавить. Да только оно ведет себя как мясник. Когда я начинаю думать об этом, то не перестаю восхищаться отцом и его мастерством. Такого нигде больше не было, хоть весь мир обыщи.
«Шюцкоры» наслаждаются мучениями жертвы, им недостаточно убить ее, режут тупыми ножами, кожу сдирают с живого человека, словно с животного, только со скотины с мертвой сдирают; бросают людей в огонь, поджаривают на вертеле, детишек насаживают на нож или на штык, даже орехи колют на головах бедолаг, руки которым перед этим скручивают за спиной, не говоря уж об обычных избиениях, пытках голодом, изнасилованиях женщин и детей и прочих мелких пакостях, на которые человек идет легко и с удовольствием, и ко всему этому примыкают и некоторые официальные палачи. Первый среди них Маузнер, одного человека он трижды вешал, и каждый раз веревка у него рвалась, а один раз сломалась верхняя перекладина, потому что он, идиот, не признавал виселицу Зайфрида. Кровь течет реками, горят дома, мир перевернулся, зло становится все страшнее, и теперь лишь вопрос дней, когда страшный гнев Божий обрушится на этих добровольных душегубов.
Но отец мой тоже не мог понять жертв, которые, стоя под виселицей, взывают к какой-то свободе, к своему будущего королю, который проживает в другом государстве. Не желают использовать последнюю возможность, которую предоставляет им закон, чтобы громко произнести несколько слов во славу его императорско-королевского величества, своего императора Франю, нет, Боже сохрани!
Пишу я эти строки, и вижу отца с пальцами, застывшими над струнами цитры, как уставился он в черное жерло печи, где полыхает огонь, и слушает жестокий ливень, что колотит по крыше и листам железа, которыми покрыта прихожая. О чем он думает?
И вот, будто услышав меня, отвечает из своего далека: «О стране и о народе этой страны. В тяжкие военные годы я, как никогда прежде, много размышлял о всех тех, что пришли сюда, чтобы принести туземцам закон и порядок, чтобы ввести их в общество других цивилизованных народов Европы. Неужели и они думают о том же, о чем думаю я, каждый сам по себе, или же они уверены в том, что все это их ничуть не касается, и что они свою миссию все же выполнят до конца, и приручат этих дикарей, не понимающих даже, что эти люди трудятся в их интересах? Никогда уж мне не узнать, так они думают или иначе».
Вновь воцаряется тишина, а отец, словно вновь припомнив что-то, отстраненно трогает струны, извлекая из них несвязные аккорды, лишь бы только разрушить тишину и неизвестность, которая подкрадывается к нам из всех углов.
51
Дух этой жуткой истории вьется сейчас над свидетельствами отдельных личностей, переворачивает желтые газетные страницы, ворошит охапки забытых мучений.
Уже на второй год войны голод пришел в Сараево, нищие исчезли с улиц. Дохли как мухи. Собирали их живодеры и бросали в общие могилы, засыпав предварительно негашеной известью. Вслед за голодом явилась испанка, шастала по городским кварталам, поднималась на Быстрик, опустошала Белаву, возвращалась на противоположный берег Миляцки, взбиралась по склонам Требевича и спускалась на Врац. В городе стояла страшная духота, дышать было невозможно и к тому же запрещено, дыхание заражало лихорадкой, никто не был уверен в том, доживет ли он до завтрашнего дня. Богачи спрятались за толстыми стенами и коваными воротами, но болезнь перепрыгивала через заборы и стены, проскальзывала в замочные скважины, чья-то рука наслала мор, рука, которая казнила людей за все их прегрешения. По крайней мере, так говорил патер Пунтигам.
Что же разузнал Зайфрид о лекарстве от испанки? И от кого он это узнал? Те, кто слышал, так и не захотел запомнить услышанное: надо пить как можно больше чистой воды.
Откуда он это узнал?
Узнал в Требинье, где виселица работала без перерывов.
Вешай, чтобы не быть повешенным, или расстрелянным, Боже упаси.
Если сможешь отыскать немного еды, забирай ее с собой. Зайфрид привозил табак и обменивал его на пищу, на дрова, на лекарства для Отто.
Но спасла Зайфрида и его семью вода. Они пили много воды, хорошей воды, которую приносили из проверенного родника. Проще и лучше лекарства не было.
52
Из драгоценной записной книжки В.Б., монолог Зайфрида, не использованный в окончательном газетном тексте (удивляет терпение В.Б., с которым он выслушивал монологи палача):
«Из всех городов, которые я посещал по долгу службы, Требинье осталось для меня самым милым и самым красивым. Сейчас не трудно туда добраться, поездом, красота, по лучшей в мире дороге, подремывая или разглядывая дивные пейзажи. Вечером выезжаешь из Сараево, а будит тебя утренний свет. Такой необычный, что кажется тебе, будто ты еще сон видишь, и вот в таких-то чувствах, в таком штимунге въезжаешь в Требинье. Позади Попово поле, мимо которого тащился весь день до обеда, и вот тебе речка Требишница и сам город. Я родился в горах, где тоже много света, вовсе не мрачно, как принято думать, я не в лесу родился, не в ущелье, которых в этой стране не счесть, но тот свет совсем не такой, как здесь, в Герцеговине.
Почему я вам обо всем этом рассказываю? Из-за людей, вот почему. Люди здесь больше похожи на землю и камни, но не на этот свет. Мало кого этот утренний свет вынудил распахнуть душу навстречу. Об этом и проповедники говорили. Я долго не мог понять, как это и почему, но после покушения и начала войны, особенно в пятнадцатом и шестнадцатом году, у меня открылись глаза. Я никак не мог понять, откуда у людей такая жертвенность, никому не нужная, что у старых, что у молодых. Кто-то из тех, что вешал черногорцев на ветвях словно белье на просушку, сказал: они скорее герои, а не люди. То же можно было сказать и про герцеговинцев, тех, что живут между Требиньем и Невесиньем.
Сначала их с опаской отпускали сторожить дороги, мосты, другие объекты. Лучших из них — считалось, что они станут гарантом против саботажа на охраняемых ими участках. А как иначе, времена такие были. Государство должно защищать себя от саботажников. Я понимаю, что вы на все это смотрите совершенно иначе, но придется выслушать и другую сторону, которая теперь, похоже, замолкла. Хотя я ничем таким не занимался, а просто был в самом конце цепочки, особенно последние два года, когда виселицы были в работе ежедневно. Как и в Черногории, там не было ни одного местечка, где бы не стояла виселица, или ветки, через которую перебрасывали веревку, на которой вздергивали крикунов и молчаливых непонятно по какой причине. В основном сербов, и в основном политических. Все это хорошо известно. Был тогда некий Видак Шошич, живодер, он в шестнадцатом повесил за раз одиннадцать человек. В ремесле он не разбирался, вешал несчастных несколько раз подряд. Повесит его, веревка оборвется, он опять, и опять рвется, в итоге приходится бедолагу пристрелить. Мне известно, что именно так вешали старого черногорского капитана, звали его Петр Радоман. Я смотреть не мог, как они мучают человека, вместо того, чтобы облегчить ему последние мгновения жизни. В конце концов его расстреляли, потому что тот кретин вешать не умел. Вместо того чтобы у меня поучиться, все делали по-своему. Здесь не любят тех, кто знает дело. Вы должны знать обо всем этом, чтобы понять мое ремесло и мое отношение к нему. Сейчас уже все закончилось, но если вас это так интересует. Другие ничем не интересуются, кроме того, чем они сейчас, в данную минуту, занимаются. Может, и вы по той же причине пришли, но я все равно решил вам все рассказать. Не понимаю и никогда не пойму, почему меня люди боятся. Почему считают, что трубочист приносит счастье, а я — беду? Чтобы правильно изучить меня, а я знаю, уверен в том, что вы здесь частично и по этой причине, меня постоянно кто-то изучает, так вот, вы должны знать, как к нашему ремеслу подходили другие, а как — я. В чем между нами разница, почему я на несколько голов выше их.
Так о чем это я говорил, пока меня в сторону не занесло? Да, о Требинье. Несколько раз, особенно проездом из Боснии в Черногорию, я там вешал человек по десять. От совсем молодых, я даже не был уверен, что они совершеннолетние, до глубоких стариков. Как-то раз, после того Видака, я повесил девятерых, и без единой ошибки. Это было над городом, на том месте, что Церковиной называют. Прекрасный вид на город, в том месте Требишница течет по излучине неспешно, лениво. День прекрасный, хотя и холодновато, северный ветерок. Помнится, когда я оттуда на город посмотрел, на улицах ни одного человека не заметил, как будто город вымер, или будто это всего лишь мой сон, в котором нет места людям. По крайней мере, не таким, каковы они на самом деле. В тот год мне обрыдло вешать, даже уголовников. О политических и не говорю. Император умер, зачем же продолжать вешать его именем? Да, именно так я и думал. Стал противником смертной казни. Я бы не выдержал этого, если бы не цитра. Точно, нет».
53
В этом рассказе у Паулины Фройндлих Зайфрид нет собственного голоса. Как будто она в нем и не существовала. Может, они друг друга и разыскивают, но никак встретиться не могут, их пути все время расходятся, то в пространстве, то во времени. А если и появляется мать Отто, которая с годами все меньше становится женой Зайфрида, то рассказ скисает, ему становится неприятно — откуда она такая взялась? Между той порой и мгновением, в котором рассказчик сучит нити этой повести, пролегла настоящая пропасть времени — все, что нынче кажется неестественным, в то время, может, было совершенно обыденным явлением, которое нет смысла здесь подчеркивать и выделять. И все же, все же следовало бы приглядеться к ней с расстояния, равному тому, с которого мы разглядываем Зайфрида. Он вовсе не близок нам, сказано уже, что дистанция между нами соответствует рассказу о прошлом.
Миновали времена хождений по святым местам, веры в чудеса, нищета, через которую она прорвалась, спасая сына, хотя пороховой дым и голоса войны все еще парят над Сараево. Что скопилось в ее душе, и почему все это истекало из нее? Она словно в родник превратилась. Тает, иссякает, и ничем ей не помочь.
Зайфрид вернулся, когда Паулина была почти без сознания. Проваливалась и возвращалась, видела свою комнатенку, сына, который склонялся над ней, чтобы проверить, жива ли она, себя на том свете среди ангелов. Он знал старое лекарство, которое тридцать лет тому назад дал ему доктор Кречмар, когда он сам был как худой бурдюк, который ничего удержать не может, даже воду. Надо испечь ржаной хлеб, разрезать его пополам и пропитать ракией. Потом наперчить от души и горячим приложить половину к животу, половину к крестцу. И не один раз это проделать, а несколько. Но где найти, из чего это лекарство сделать?
Чудеса иногда случаются, ничего еще не потеряно, если Господь не сказал Своего последнего слова. Хлеб Зайфриду испекла соседка Мария, с которой двадцать лет тому назад у него была известная связь. Она отдала последнюю свою муку, а о ракии и перце он позаботился сам. Три дня шел бой за жизнь Паулины, днем и ночью, без остановки. Наконец им удалось увести ее от райских врат, как она говорила, или с края могилы, как говорили они. Она не испытывала к ним благодарности, хотя Мария не показывалась у них с того момента, когда она пришла в сознание, знала она, чьи руки отвели от нее предназначенную судьбу.
Она хотела умереть!
Сраженный этим желанием, Зайфрид более не пытался помогать ей. Оправившись от дизентерии, Паулина отказалась принимать пищу, и свою часть нищенского оброка отдавала Отто. Агония повторилась, теперь уже с предсказуемым исходом. Похоронили ее на Кошевском кладбище, над только что построенной больницей.
54
То, чего он хотел, но чего втайне опасался, свершилось. Всесведущий дух повествования знает это лучше других. Почти весь 1917-й Зайфрид провел без работы. Он неоднократно являлся в суд и военную комендатуру, чтобы узнать, просто ли его забыли или же отправили на пенсию. На третий или четвертый раз один из молодых чиновников крайне доверительно шепнул ему:
— Император Карл помиловал всех приговоренных к смерти и запретил в дальнейшем выносить и исполнять смертные приговоры.
— Разве смертную казнь отменили? — в панике переспросил его Зайфрид.
— Приостановлена, так было сказано. Иди домой и отдыхай, играй на своей цитре.
Да, только это и оставалось ему, однако он находил в цитре все меньше наслаждения. На этом дело не остановится, кто знает, что к нам придет из-за леса, из-за гор, так он думал, поднимаясь переулком к своему домишке. После стольких повешений, особенно за прошедшие два-три года, просто так вот взять и отменить смертную казнь, «приостановить», как сказал молодой чиновник — эта мысль в последующие месяцы будет грызть изнутри Зайфрида как тяжелая, неизлечимая болезнь. Потому что это решение предвещает огромные перемены, о которых, возможно, где-то и говорят, но только здесь никто и пискнуть не смеет. Или смеет, но никто об этом Зайфриду не говорит? А где бы ему об этом могли сказать? По кафанам он больше не ходит, доктор Кречмар умер, никого нет, чтобы сообщать ему новости. Опять же дополнительные выплаты рухнули, осталось одно лишь жалованье, которого едва хватает, чтобы заплатить за жилье. Случались годы, когда работы было очень мало, но чтобы вообще никого не повесить — для него это была катастрофа. А пенсией еще и не пахнет!
Когда еще только заговорили об отмене смертной казни, он уже знал, что большинство сербов хотели этого, а местные мусульмане были против. Они считали, что сербы требуют отмены именно потому, что они чаще всего становились жертвами, но ведь и среди них было немало таких, по которым веревка плакала.
55
Все страхи Зайфрида, кроме одного, материализовались. События шли своим чередом, как обыкновенное ненастье, не спрашивая обывателей, какой погоды они бы себе пожелали.
В Сараево, совсем как на маневрах, 6 ноября 1918 года входит первое подразделение сербской армии.
Боев нет, город никто не защищает, создается ощущение, что входящие войска вовсе не вражеские. Население не бежит, даже большинство тех, кто родился не здесь, а пришел сюда вместе с империей, которая в данный момент гибнет. То же и в других городах этой страны. Только гостиницы пустуют, готовые принять близящихся гостей. Позавчерашние постояльцы уезжают. Бесчисленное множество малых драм разыгрываются одновременно на этих закрытых, изолированных от публики сценах. Актеры устали, режиссер сбежал, свет ноябрьский, скупой, сараевский.
Зайфрид не знает, что происходит в городе, едва догадывается о ключевых событиях, и решает никуда не уезжать. 15 ноября входит и воевода Степа Степанович, не как при генерале Филипповиче, когда Сараево горело, сейчас оно кипит, там, внизу, под хижиной Зайфрида.
— Вот оно и случилось, — перебирает он струны цитры, — и должно было случиться. Должно, должно было!
Внизу кричат: «Добро пожаловать к нам, дорогие наши братья!», и Зайфриду кажется, что мелодия, возникающая под его пальцами, подыгрывает этим восклицаниям, звучит как музыкальное сопровождение, хотя он не имеет с теми людьми ничего общего. Его брат убит наверху, в лесу, и никто не знает, кто это сделал. Убит и забыт. Как и многие другие мертвецы, забытые в этой стране. За что их умертвили?
Когда это Ганс исчез? Пожалуй, лет тридцать тому, половина людского века прошла. А оставшаяся половина и без того никуда не годится.
Добро пожаловать к нам, добро пожаловать! И вот уже пальцы сами отбивают ритм, но Зайфрид не будет петь, потому что он никогда и никому не подпевал.
56
Можно было бы сказать, что объективный дух повествования нарисовал картину входа сербской армии в Сараево, но это описание исключительно поверхностно. Следовало бы описать по крайней мере тысячу разных входов, мыслей и настроений, чтобы понять то, что в действительности произошло в эти несколько дней. Потому что те, кто входит — не армия наемников, которых не волнует жизнь обитателей в Сараево. Со многими у них свои счеты, приятельские или враждебные, личные или куда как более широкие, патриотические или псевдопатриотические. Но стоило бы описать еще не одну тысячу встреч и ожиданий тех, кто ждет с распростертыми объятиями, и тех, кто притаился за тяжелой портьерой и со страхом смотрит на будущую набережную имени воеводы Степы Степановича, и тех, которым ни до чего нет никакого дела, кроме собственных вещей, упакованных и уже погруженных в вагон или какое-либо иное средство передвижения. Транспорт с литерой «G» на борту, с помощью которого спасают все, что только можно спасти.
Итак, прошло два года с того момента, как Алоиз Зайфрид словно вестник темного ангела уничтожения прошелся по Черногории от Котора до Колашина, где он повесил молодого Влайко Вешовича, а его помощник Флориан Маузнер, ярко выраженный швайнкерль — друга Вешовича, поэта Радуловича, и капитана расформированной черногорской армии Мията Реджича. С того дня профессор Йован Радович, комитский воевода, спит и видит казнь, на которой он отсутствовал, и мечтает о мести тем, кто эту казнь совершил. «Самый главный, — говорит Радович себе и другим, — выкрутится, а исповедоваться будет перед Богом. Я до него добраться не смогу, ни в жизнь это не получится. Тем более что для таких наказания на земле нет. Таких только Бог наказывает. Но я могу добраться до тех, что были хозяйскими руками, сочиняли приговоры, строили виселицы и затягивали петли. Вот их и надо отправить туда же».
— Ей-богу, — цедит он сквозь черные от копоти зубы, — я лично повешу палача. Вздерну эту черную ворону на первой попавшейся в Сараево ветке!
Скрываясь и страдая по черногорским высотам, он спал и видел себя здесь, в Сараево, куда он войдет с победоносной армией, осуществляя свою мечту. Однако приказ верховного командования и воеводы Степы Степановича более чем ясен: «Город не грабить, карать по заслугам нельзя самостоятельно и на улицах!» Однако кажется ему, если он не повесит палача, то не угомонится на том свете несчастный юноша.
Победоносный поход воеводы Радовича, специально для нашего рассказа, начинается с Колашина, где в освобожденном городе он держит перед собравшимся населением горячую патриотическую речь. В казарму, где содержали Влайко Вешовича, загнаны безоружные австрийские солдаты. Никто не знает, разоружили ли их насильственно, или же они сами побросали винтовки. Но воевода требует, чтобы народ отомстил. Октябрь в том году исключительно холодный, дождь пополам со снегом, выпало всего лишь несколько ясных и сухих дней. Но никто не мерзнет. Те, что пережили испанку, которая скосила больше комитов, чем австрийские пули, чувствуют готовность сражаться аж до судного дня. Им предстоят бои за освобождение больших городов и поход по старой Герцеговине аж до Сараево. Кое-кому неохота идти туда, довольно, что освободили Черногорию. Они были бы не против, даже если бы вернулся король Никола, но об этом нельзя говорить вслух, особенно при воеводе, который таких сразу отправляет домой, такие ему в отряде не нужны. Кое-кого из таких он даже арестовал. По приказу командира Адриатических отрядов полковника Милутиновича он осаждает Никшич и этой блестящей победой входит в историю сражений. Полковник Милутинович оставил письменную оценку этой победы: «Это предприятие исполнено настолько великолепно и так отважно, что нет ему равных в истории партизанских войн!» Сразу после этого полковник отдает своему новому командиру приказ направиться со своими отрядами в Герцеговину и далее — в Сараево.
Приняв командование над отрядами известного четника воеводы Печанеца, воевода Радович входит в Сараево в авангарде победоносного войска воеводы Степы Степановича. Как обычно бывает, когда одна армия уходит, а другая приходит, город весь на ногах, перепуганный и трепещущий, но одновременно и радостный, праздничное настроение стекает с гор, которыми окружен город, к отелю «Европа», где остановился штаб отряда, которым командует Радович. Всю ночь не прекращаются танцы в ресторане хозяина отеля Ефтановича, который время от времени думает, что его от радости хватит удар.
— Ладно, ладно, главное, что дождался, теперь и помереть можно, — бормочет он, пребывая на грани яви и сна в зале, задыхающемся от табачного дыма, сквозь который невозможно разглядеть звания старших сербских офицеров.
Радуется и воевода Радович со своим адъютантом, молодым Рашой Поповичем, который принес в номер корзину с едой и напитками. Полностью одетые, в комнате на втором этаже, лежат они каждый на своей кровати под распахнутым высоким окном, слушая голоса и редкие выстрелы, раздающиеся где-то в городе. Радович излагает своему адъютанту план завтрашней секретной операции по захвату палача Алоиза Зайфрида и транспортировке его на Требевич, где его, как обычного разбойника, повесят на дереве. Человек, который знает, где живет Зайфрид, будет ждать их перед гостиницей в семь утра. Они засыпают в одежде, под открытым окном, из которого на них струится освежающий сараевский ветерок.
В восемь часов незнакомец, который ждет перед гостиницей господ сербских офицеров, входит в отель и спрашивает про них у дежурного администратора. Парень, который поименно знает всех постояльцев, направляет его в номер 211. На стук никто не откликается. Незнакомец берется за ручку, и под тихий скрип незапертая дверь открывается. Он сразу замечает офицеров: неестественно скрюченные, они похожи на мертвецов. Начинается паника, допросы, ругань и угрозы. Однако пользы от этого никакой, воевода Йован Радович мертв, судя по всему, отравлен. Та же судьба постигла и его адъютанта.
Воевода Степа Степанович, который только через десять дней торжественно войдет в город, где ему будет устроена пышная встреча, по телеграфу приказывает провести следствие, которое завершается безрезультатно. Но черногорцы все еще подозревают нескольких человек, беспричинно или имея на то основания. Одного мало, но троих хватит, чтобы удовлетворить самые разные партии. Главный подозреваемый, Милош Лесковац, гражданский управляющий колашинского округа во время австрийской оккупации, ответственный за многочисленные преступления, преследования и казни, вовремя покинул Колашин, дождавшись сербской освободительной армии в Сараево с проявлениями крайней лояльности. Новая власть отнесется к этому с благосклонностью и вскоре примет его на службу в качестве ценного городского чиновника. «Вместо острога, — говорили в Колашине, — вот он где, гадина Лесковац, правит в Сараево!» Он ведь из Сараево и приехал в Колашин с оккупационными войсками в качестве профессионального полицая. «Сербов до мозга костей знает», — говорили о нем в сараевских полицейских участках. Лесковац любил украшать свои донесения латинскими изречениями. Lex semper dabit remedium, что в его переводе означало: не следует бояться закона, ибо он указует несчастному путь к защите, и по поводу каждого подозреваемого добавлял, что тот «состоит на службе у великосербской идеи и враждебно настроен к и.-к. власти».
Кроме этого карьериста, под подозрением были и другие: судья из этих краев Саво Меденица и некий Мило Дожич, которого освободители назначили председателем суда в Подгорице. У каждого из них был повод для убийства, хотя никого из них ни прежде, ни в ту ночь воевода Радович не имел в виду. Как и большинство комитов, он считал их выродками и видеть не желал, но не более того. У него не было никаких причин лично воздымать над их головами меч правосудия — пусть его вершат суд и история. Во времена, когда человеческая жизнь ничего не стоила, когда за кусок хлеба и мать, и отец шли на предательство, и когда почти невозможно было найти человека, который бы не был шпионом, сотрудничество с оккупантами, может, и не было таким уж великим грехом. Но ничего этого не знала ни наша троица, ни многие другие люди не знали. Перепуганные насмерть, они оказались в Сараево во время смены власти: одну они провожали, другую встречали с одним и тем же чувством — страхом за собственную жизнь.
На обнаруженной позже уже упоминавшейся фотографической карточке с изображением оккупационных офицеров и их черногорских подручных, выстроившихся, как тогда было принято, в три ряда, в первом ряду, где обычно размещаются самые важные для фотографии личности, мы обнаруживаем всю троицу подозреваемых в убийстве прославленного воеводы.
Брат воеводы Йована Радовича Сава, который из окна соседнего дома собственными глазами наблюдал сцену фотосъемки, уезжает в Морачу, чтобы отыскать виновного в смерти своего брата. Более решительный, нежели его брат профессор Йован, который бросил школу и ушел в комиты, он открыто заявляет, что всю отечественную предательскую гнусь следует удушить, потому что будущее с этой сволочью построить нельзя. Сейчас пришло время со всей строгостью рассчитаться с ними. Он средь бела подстерегает Мило Дожича у здания суда. Через правую руку, в которой он держит револьвер, переброшен черный плащ, который четыре года тому назад привез ему из Парижа Влайко Вешович. Он волнуется, руку с револьвером сводит судорога, а все тело бьет мелкая дрожь. «Помоги, Господи, помоги, Господи», — повторяет он молитву святого Савы. Наконец появляется особа, которую он поджидает.
— Простите, вы Мило Дожич? — спрашивает он.
— Да, я Мило Дожич, — отвечает тот, не подозревая, с кем он говорит.
Сава поднимает револьвер и убивает Дожича. Его арестовывают и приговаривают к многолетней каторге, но цепочку мести продолжают ковать другие. Потому что смерть спит очень мало, а отдохнув, продолжает свое бесконечное дело. Равно как и первоначальное преступление, если оно только бывает первоначальным, так и месть.
Во всей этой истории только Алоиз Зайфрид ни во что не замешан. Как и все несербское население Сараево, он проводит бессонные ночи, запершись в хижине, пытаясь определить, чьи это шаги, или они ему только почудились. Незнакомец, сарайлия, который ждал перед гостиницей мстителей, расскажет ему обо всем только год спустя, когда его выпустят из следственной тюрьмы. Сам же Зайфрид унесет эту тайну с собой в могилу, не поведав о ней даже своему сыну Отто.
57
Нет у меня ничего общего с событиями, которые разыгрываются вокруг меня. Одни уходят, другие приходят, что это значит в моей жизни? Кто-то, может, и скажет, что это значит, ну и пусть его, мне ему перечить ни к чему. Но для кого-то это значит многое, большие перемены. Отец говорил мне:
— Это переворот. Сорок лет кто-то здесь кое-что делал, а теперь должен уйти. Турки были четыреста лет, и тоже ушли. Кто-то остался, кто-то ушел. Многих я видел, что уходили, осыпаемые ругательствами, хотя другой работы они нигде не могли найти. Так и с нами теперь будет. Что нам с тобой делать, а? Давай останемся, и будь что будет.
Даже несмотря на данные им объяснения, я не понимал, почему он решил остаться. То, что он говорил, могло относиться и к нам, но вовсе не обязательно.
— Уйти всегда можно, пока голова на плечах. Как ты думаешь, Отто, сколько судей в этой стране?
Он редко обращался ко мне по имени. Каждый раз, когда он называл меня так, сердце мое начинало радостно колотиться, как у ребенка, удостоившегося похвалы матери.
— Много их. Многократно больше людей приговорили они к смерти только за три военных года. И что теперь с ними, дорогой мой, а? Расстрелять, повесить? Как ты думаешь, если их приговорят к смертной казни, кто их вешать станет? Я или этот кретин Маузнер? Или молодой Харт, у которого мозг величиной с грецкий орех? И если мне скажут: Зайфрид, повесь их — я это сделаю.
Я знал его страхи и его мысли в те дни и в те ночи.
Ожидая новую власть, новую армию — оккупационную или освободительную, кто бы мог точно сказать? — мой отец, Алоиз Зайфрид, переживает неизвестность, которую, наверное, переживают те, кто не знает, помилуют ли его или повесят. Он чувствует остановившееся время, ощущает лихорадку этого времени как дрожь огромного тела, очертания которого он не видит, но ощущает его как частицу самого себя. Он был и оставался частицей этого тела, этого чудовища, которого эти новые или забьют насмерть, или оставят подыхать своей смертью. Когда сюда входили нынешние, чудовище было оттоманским в чалме, драконом, которого следовало убить. И они убили его. Дракона сменил змей. А теперь и этот змей превратился в Горыныча, которому поотрубали головы. Или еще не до самого конца, но это вопрос дней.
Отец сказал мне:
— Знаешь ли, Отто, что наш вождь генерал Саркотич говорил во время войны про всех тех, кого мы после приговоров трибуналов вешали или расстреливали? «Смотрите, господа, все они сейчас изменники отечества! Ну а ежели удача на войне отворотится от нас, тогда они будут мучениками и героями своего народа».
Ничего не знаю о мучениках, мне своих мук хватает, более чем достаточно их. Отцовскую же муку пытаюсь себе представить, неизвестность первой ночи, когда городом овладели победители. Если вообще овладели. Наверное, все-таки да. Не было убийств, мести, поджогов. Если человек не был болен, то, кроме голода, ему ничего не грозило.
58
Неопубликованная заметка В. Б.
Он удивил меня знаниями событий, имен главных действующих лиц того времени. В конце концов, я ожидал увидеть совсем иного палача. Как будто я разговаривал с маэстро, которого много чему научила жизнь. Выучился ремеслу и поумнел, как говорят некоторые. Только ли ремеслу, а может, еще кое-чему?
«Я следил за тем, что будет происходить уже в следующем году, когда власть расставит людей на ключевых постах во главе системы, к которой принадлежал и я. Поставит рядом со своим главным человеком, который сидит в дворцовом флигеле, рядом с бывшим дворцом генерал-губернатора Боснии и Герцеговины. Победитель наших генералов, загадочный Степа Степанович. Не захотел во дворец, не привык он к ним. Идут к нему на поклон, как на прием к доктору, который должен поставить окончательный диагноз. Но он этого не делает, так, по крайней мере, говорят. Те, что остались, считаются лояльными, их принимают на службу. Не хватает специалистов для того, чтобы обеспечить ими все должности, необходимые для функционирования государственного механизма. Знаешь ли ты или не знаешь свое дело, так тогда говорили. Кто знает дело, для того работа найдется. И еще добавляли то, что меня сильно смущало — и если руки не в крови. Мои руки никогда в крови не были, еще чего не хватало. Но кое-кто имел в виду и меня. Я только следил за тем, кто будет работать в судах, потому что для меня это было важнее всего. Если придут люди с другого берега Дрины, как я того ожидал, то мне крышка. Все-таки этого не случилось, когда прежние господа в основном уехали. Думаю, и на том берегу не хватало судей. Откуда бы они у них взялись? В Окружном суде в Сараево остались в основном прежние судьи во главе с Йосипом Илницким, старым уважаемым господином, который руководил судом и во время процесса над заговорщиками. Насколько я помню, и в округе Баня-Лука остался старый судья, серьезный Эмиль Навратил. Я запомнил его, потому что он несколько раз похвалил меня. Помню нашу первую встречу, он пришел на юстификацию, чтобы посмотреть, как я работаю. «В самом деле мастерски, Зайфрид!» — сказал он. Побоку всех прочих, именно этой похвалой я всегда гордился. Потому что это была похвала знатока. Такие, как он, мой господин, были столпами австрийского законодательства, а не те военные преступники. Пока они заседали на своих постах, великая империя была крепка. Но продолжим о судьях. Меня удивили новые назначения. Кто-то глазам своим не верил и ушам, особенно те немногие сараевские сербы, которые занимали какое-то положение при прежней власти. Конечно, если их на постах оставили, зачем палача менять? Или продолжат вешать, или смертную казнь отменят. Если будут вешать, то это следует делать со всей ответственностью и мастерством. В этом случае люди с солидной практикой получат преимущество. И все-таки я был очень удивлен, когда меня вызвали в суд и вручили постановление о назначении меня государственным палачом. Не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем государстве сербов, хорватов и словенцев, которое теперь называется вроде как Королевство Югославия, так, да?»
Меня крайне удивило это заявление, потому что я ничего об этом не знал. Я задавался вопросом, могло ли такое быть на самом деле, то, о чем говорил этот человек, призрачно белые руки которого так пугали меня, что казалось: вот сейчас он меня ими удавит. А на самом деле они почивают на цитре, словно отдыхают после сорока лет напряженных трудов по накидыванию петель на чужие шеи.
59
Новости распространяются быстро, без помощи газет, их слышат и те, кому они не предназначены. Стоит только кому-нибудь произнести: «А ты слышал?» — и сразу все всем становится известно. Иной раз новость меняет свой характер: передающий ее не расслышал, прослушал, показалось ему, однако если дело идет о короткой вести, как, например, о прибытии посмертных останков заговорщиков, убивших престолонаследника Фердинанда, то тут едва ли может закрасться ошибка. О возвращении заговорили сразу после освобождения, но Зайфрид пока об этом не знает. О самом событии он узнал от сына, который услышал об этом неизвестно от кого, и поспешил сообщить отцу. Ему показалось, что это может заинтересовать старика, как он называл отца с самого детства. Эта новость действительно заинтересовала его, однако он ничем не выдал сыну своего интереса. Только произнес: «Хорошо», и продолжил смотреть в окно на город, разморенный летней жарой. Прошел июнь, липы отцвели, черешня, что росла сразу над домами, поспела. И дети ломали ветки и обстреливали косточками тех, кто возился внизу. Были и тутовые ягоды, и сливы-венгерки. Надо было внимательно смотреть, куда ступаешь, понос и блевотина перепачкали улицы и поляны. Зайфрид записал на бумажке:
«На летний Крестовдан, 7 июля 1920 года, в Сараево прибыл специальный поезд с посмертными останками Таврило Принципа и его пяти соучастников в Сараевском покушении, где — после торжественной поминальной службы и речей — погребли их в братской могиле на Старом православном кладбище, в Кошево. Вместе с ними был перезахоронен и Жераич, покушавшийся на Варешанина».
Вдалеке от всех участников церемонии, так, чтобы никто не мог его узнать, стоял Зайфрид, сам не понимая, зачем пришел, то ли из обыкновенного любопытства, или чтобы припомнить компаньонов этих превратившихся в кости молодых людей, которых он повесил в самом начале войны во дворе сараевской тюрьмы. Было жарко, сухой ветер поднимал пыль, которая летела прямо в глаза присутствующим, многие платочками вытирали струящиеся слезы — было непонятно, вызваны они пылью, или люди плачут по юношам, о подвиге которых говорили долго и нудно, Зайфрид не мог расслышать слов. Впрочем, эти речи его не интересовали. Он знал их содержание наизусть.
Почему он пришел? Те, кого он вешал, годами покоятся на этом кладбище, и он ведь ни разу не приходил сюда. Он мог бы ответить вопросом на вопрос: а зачем приходить, если тут не похоронен никто из его? Но что значит местоимение «его»? К кому оно относится? Или правду говорят, что убийца возвращается на место преступления? Судя по этому, он и есть преступник, с чем Зайфрид категорически не согласен.
Он вновь вспоминает сентенцию об изменниках и героях, когда одни превращаются в других, и отсутствующим взглядом смотрит в небо, в вышине которого кружится кобчик. Что он видит оттуда, сверху, в кустах, куда никому и в голову не придет заглянуть? Небо и кобчик, черная точка и синева, испещренная едва видными белыми облаками, совсем как на картинках Отто. Впервые он посмотрел на что-то как на акварели сына, которые ему не очень-то нравились. Детская мазня, вот что он думал о работах Отто. Но в том, на что он смотрит, кроме живописности, есть и своя музыкальная сторона. Простая, как проста сама природа.
Вдруг ему почудилась маленькая тема, будто кто-то послал ее прямо с небес, из того их местечка, где черной точкой кружит кобчик. Надо бы развить эту тему. Он повернулся и направился домой, чтобы проверить себя. Однако стоило только ему взять в руки цитру, как тема исчезла, словно ее и не было, он никак не мог ее припомнить. Только один аккорд, очень краткое ля-минор он извлекал несколько минут, полностью отсутствуя духом. Когда сын вернулся домой, с прогулки на Требевич, уложил в прихожей краски и кисти и вошел в комнату, то обнаружил отца опершимся правой рукой на стол, левой придерживавшим цитру: он спал.
60
Поскольку это повествование так или иначе изваяло его, оно дышит и смотрит так, как делал это он. Потому что оно и есть он.
Закрывает глаза и видит свое прошлое, бесчисленное множество виселиц, сквозь ряды которых он бредет. Осматривает их, будто деревья в саду, за которыми надо ухаживать. Он никогда не фотографировался рядом с ними, но картины все равно оставались в его памяти, такие отчетливые, будто все это случилось вчера. Он всех их видит, а они смотрят на него открытыми глазами, как будто ему предстоит решать их судьбу. И теперь он должен начать музицировать, ибо только музыка разгонит привидения.
Они навещают его и во сне, проходят по помосту и ждут своей очереди на повешение. Отчего ему снится постоянно рвущаяся веревка и человек, которого он после этого пытается повесить снова и снова? Огромный, толстый как бочка, он никак не может прислониться спиной к главному столбу, и только вертится вокруг него как скалка на веревке. Такого человека просто невозможно повесить никоим образом! Он немного смахивает на гайдука из Невесинья, который полчаса висел в петле и никак не умирал, прекрасно осознавая, что происходит вокруг него.
— Какая шея! — произнес кто-то из его подручных.
— Не в шее дело, — отвечал он, — а в вене, которая спряталась где-то внутри, и веревка не может ее передавить. Этого человека просто невозможно повесить. Надо снять его и застрелить.
— Отпустить его надо, — сказал кто-то в толпе. — Если повесить не получается, значит, Бог на его стороне.
— Не вмешивай Бога в наши дела. К смерти приговаривает судья, а не Бог. Надо его застрелить.
Сон никак не может продлиться до конца этого повествования, он опять возвращает Зайфрида к самому началу. Как будто кто-то просто перемотал кинопленку. Все тот же фильм повторяется следующей ночью.
61
Неопубликованная заметка В. Б.
Несколько раз я возвращался к разговору с Алоизом Зайфридом. Почему? Нет у меня ответа.
Каждый раз я вытаскивал из него что-то новое, обрабатывал, готовил к публикации, и в конце концов отказывался от нее. Все это длилось вплоть до того текста, который только что вышел в газетах. Почему?
То, что я опубликовал в «Освобождении» — мелочь, почти ничего. Я так обрисовал его, что до сих пор сам не могу узнать. Или так мне кажется? Может, я недоволен тем, что не смог обрисовать другого, интеллектуально более сильного и во всех делах более ответственного, например, одного из судей: с одной стороны, Илницкого, с другой — питомца Пунтигама, судью Куринальди, который председательствовал в суде над заговорщиками? Сбросив судейскую мантию, он надел сутану иезуита. Годами меня преследует мысль: почему жизнь может повернуться именно так? Или взять полицаев, которые в своих зверствах переняли нечто от древнего мастерства европейских палачей. В первую очередь гад Ивасюк. Пфеффер оставил воспоминания, на основе которых кто-нибудь сможет написать роман, а потом снять по нему фильм, но у меня вызывает отвращение их бескровная объективность. Потому что человек просто-напросто лжет там, где он должен быть объективным. Но, похоже, и я не могу быть объективным. Я и сам вижу это, и никому нет нужды обращать на это мое внимание.
Три раза я приходил в редакцию «Освобождения», и каждый раз с новым вариантом текста. Редактору идея нравилась, но он требовал подчеркнуть детали, которые для меня вовсе не были важными. Особенно тот факт, что палач получил место в государстве сербов, хорватов и словенцев. «Пусть народ знает, что творила антинародная власть!» — повторял он каждый раз. В конце концов даже вынес эту фразу в заголовок, связав казнь младобоснийцев с неожиданным названием статьи. «Разве хоть кто-нибудь может сейчас воспринять это как нормальное явление, не говоря уж о реакции на подобный факт?» Он спрашивал меня так, будто это я назначил австрийского палача на ту же должность в новой стране, старательно украшавшей себя национальными символами. Я не вдохновлялся его требованиями, но, признаюсь, меня тоже повергли в недоумение раздобытые мною же факты. Редактор выбросил мои пассажи о других повешенных, а также монологи о ремесле, и в конце концов я согласился с ним. Но не давала мне покоя одна мысль: откуда он знает, что в моем тексте хорошо, а что — плохо. Он не был опытным журналистом, даже вообще никогда ничего не опубликовал. Но он был близок к правящей Партии, что придавало ему уверенности, которой нет ни у одного писателя.
62
Кроме этих нескольких заметок, в которые я вставил отцовские записки, как мама иногда вплетала в волосы обрывки газетной бумаги, папильотки, как она их называла, я все-таки написал историю отцовской жизни. В конце концов, мне все равно, кому она принесет пользу. Я знаю о нем то, что знаю, а если и больше, то оно все равно уйдет со мной под траву в Кошево — Вторая мировая война близится к завершению. Первую я припоминаю с трудом, и вот теперь приходят новые освободители и приносят с собой все свое, новое, какое им дело до меня. Как когда-то здешним коренным жителям не нужна была наша музыка, у них были свои завывания и свои плачи. Как отец впадал в отчаяние, когда слышал в Романии крестьянские песнопения. «Будто медведи разревелись!» — говорил он. Да и здешние городские, цыганские мелодии он терпеть не мог, отгоняя от своего стола певичек и певцов. Как и все австрийские чиновники, он предпочитал свою музыку, своих музыкантов и певцов. Сколько такой музыки осталось в этом городе после падения Австрии и ухода ее чиновников?
Давно ушли чиновники этой пропащей империи, если только эта империя вовсе существовала. Когда пришли эти, горстка бывших чиновников и их детишек ощутили в себе голос немецкой крови, мы почувствовали себя швабами. Теперь же и этого нет, пришел конец. Для меня это ничего не значит, не о чем мне жалеть.
Вот уже несколько дней, как я смертельно ослаб, похоже, долго не протяну. Едва жив в этой холодине. Этой ночью впервые мне показалось, что отец и я — одно целое, несмотря на то, что я без него ровным счетом ничего не значу. А пока я пишу о нем, похоже, он без меня тоже никто. В последние дни своей жизни он без конца говорил о своих немногих знакомцах, которые уважали его как человека — о докторе Кречмаре и патере Пунтигаме. Вспоминал какие-то их присловья, поручения, советы и предупреждения.
Все-таки мы — братство, за которое так боролся патер Пунтигам. Но мало кто понимал это и следовал за ним. Жаль. Он говорил об этом так, словно повторял детскую считалку.
Я так не думаю. Сейчас, в конце, я должен кое в чем не согласиться с отцом. Я думаю, что он состоял в братстве мастеров, тех, кто всегда стремился к совершенству. Разве не говорил он всегда, что стремление к совершенству и есть главная отличительная черта каждого австрийца? После него никто так и не добился права именоваться государственным палачом. Не потому, что более не было нужды в палачах, а поскольку вместе с Австрией и моим отцом ушло время мастеров. А он свое мастерство не принес с собой, а совершенствовал его здесь, будучи боснийским палачом. Ein bosnischer Scharfrichter. Последний, достойный воспоминания. Хотя его могилу на кладбище в Кошево едва ли можно обнаружить, поскольку большинство здешних могил никто не навещает десятилетиями. Скоро здесь и меня похоронят.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





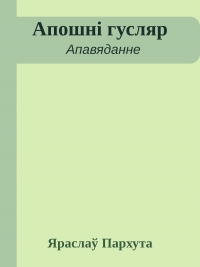

Комментарии к книге «Боснийский палач», Ранко Рисоевич
Всего 0 комментариев