Карин Ламбер Дом, куда мужчинам вход воспрещен
Будущей любви посвящается…
Невозможно, говорит Гордость. Рискованно, говорит Опыт. Безвыходно, говорит Разум. Попробуем, шепчет Сердце. Уильям Артур Уорд1
Заканчивается посадка на рейс 542 Париж – Бомбей. Пассажиров просят пройти к выходу номер семь.
Вот они, слова, которых так боялись четыре подруги. Остающиеся в Париже возбужденно тараторят, окружив путешественницу.
– Паспорт не забыла, цыпа моя?
– Нет, Симона, милая.
– Я положила тебе миндаль в кармашек рюкзака, – шепчет Розали.
– Ты ангел. Теперь я уверена, что не умру с голоду, даже если стюардессы объявят забастовку и не станут разносить обед.
Они приехали рано, слишком рано, успели выпить по нескольку чашек кофе, к круассанам и эклерам не притронулись, болтали о всяких пустяках, потом вдруг замолчали, надолго. И вот когда пришла пора расставаться, каждая припомнила тысячу важных вещей, которые надо непременно сказать. Пока одна переводит дыхание, вступает другая, а там и третья, пусть ей уже час хочется в туалет, – но куда уж теперь нестись всеми этими бесконечными коридорами, рискуя профукать вылет? – принимает эстафету. Советы да вопросы так и сыплются: «На взлете жуй резинку. Не купайся в Ганге. Пей только бутилированную воду. Привези нам четыре сари. Пользуйся берушами, если будет слишком шумно. Сколько жителей в Индии? Сколько голых мужчин, едва прикрытых полосками ткани? Звони, сообщи хотя бы, что долетела. Возвращайся».
– Вы не забыли, что мне сорок семь, девочки?
– Да, но ты впервые летишь в такую даль.
Рядом, будто возникшие из ниоткуда, обнимаются мужчина и женщина. Посреди огромного, переполненного людьми зала они видят лишь друг друга. Оба в белом, волосы перепутаны, губы припали к губам, до чего же они хороши – тело о четырех руках. И руки эти крадутся по обжитым местам, ласкаются, сцепляются. Вот парочка разомкнулась. На какой-то сантиметр. Шепчется. И приникла друг к дружке еще плотнее. Подруги не знают, что за слова они говорят – любви, гнева или утешения. Он улетает, а она остается – или наоборот? Расстаются ли они навсегда? Или еще ничего не решили? Откуда им знать.
– Чуть не забыла, Королева дала это для тебя. Когда устроишься в красивом местечке, посади их и подумай о нас.
Карла берет пакетик с семенами бамбука.
– Берегите ее.
– Обязательно. Ну все… иди, – говорит Симона.
И целует ее в последний раз.
Джузеппина смотрит Карле прямо в глаза:
– Buon viaggio![1]
– Ага! Хоть одна сообразила мне этого пожелать! Grazie bella![2]
Розали крепко обнимает путешественницу:
– Не забывай нас.
Они всё глядят и глядят ей вслед – как смотрят все, кто провожает дорогого человека, улетающего на край света и надолго, словно надеются, что он передумает. Но этого никогда не происходит. Карла оборачивается, улыбается и исчезает.
Симона нажимает кнопки на своем телефоне. Она звонит той, что осталась дома, на пятом этаже.
– Все, она улетела с семенами бамбука, мы едем домой.
Они пересекают аэропорт, взявшись под руки, подлаживаясь под шаг Джузеппины, которая приволакивает больную ногу. Они уже забыли неразлучную парочку, не слышат, как скандалит какая-то женщина, не желающая доплачивать за перевес, проходят, не видя, мимо мамаш, прикорнувших на банкетках в зале ожидания, мимо детей, цепляющихся за их юбки, мимо взрослых, уткнувшихся в планшеты. Они молчат, но руки их сцеплены, как и мысли. Втроем они усаживаются на переднее сиденье фургона. Сзади не втиснуться – там столики, кресла, картины. Но даже будь фургон пуст, они сели бы вместе.
– А помните, как приехала Карла…
– С высокой прической и в красных очках.
– И с огромным чемоданом.
– Вы забыли Травиату, попугайчика!
– Какая драма!
– А Жан-Пьер-то выступал, такой гордый!
– Ам – и нету!
– Крик Карлы слышал весь квартал.
Они похоронили Травиату под гортензиями. Королева тогда еще выходила. Она сочинила для них хокку на свой манер и прочла его над цветами.
Улетает птица. Небо и облака. Свет весны.Карла хотела немедленно уехать со своим огромным чемоданом и пустой клеткой. Розали сделала ей аюрведический массаж лба, а Симона испекла пирожки с яблоками – любимое лакомство Карлы. Она прожила с ними четыре года, а месяц назад сообщила, что уезжает в Индию и нашла кое-кого, кто поживет пока в ее квартире. Пусть не беспокоятся, это очень славная девушка.
– Ее зовут Жюльетта, нашу новенькую.
– Когда она въедет?
Джузеппина повышает голос:
– В этом доме так запросто не приживаются. Надеюсь, она не доставит нам хлопот.
Розали улыбается:
– Привыкнуть к счастью не каждому дано.
– А ведь это так легко, – подхватывает Симона. – Просто живешь в нашем доме. И все беды обходят тебя стороной.
– Разве что споткнешься на лестнице, – вставляет Джузеппина.
– Во всяком случае, ты надежно защищена от любовных горестей, – заключает Розали.
Все смеются.
– Притормози, красный!
Музыку выбирает Джузеппина. Они открывают окна и поют во все горло. Джузеппина знает слова наизусть, остальные подпевают: Lasciatemi cantare… con la chitarra in mano… Lasciatemi cantare… sono un Italiano…[3]
У Порт-де-Баньоле пробка, и они еле ползут. Спешить им некуда. Их не ждут ни дети, ни мужья. Только Жан-Пьер.
– Джузеппина, пригласила бы ты нас как-нибудь к себе на родину?
– Мммм, – мычит та.
– Мне так хочется увидеть Сиракузы.
– Мммм…
– Там жарко.
– Ладно, поедем. В моем фургоне. Уж как-нибудь постараюсь его освободить для такого случая.
Симона возбужденно ерзает:
– Подберем какого-нибудь автостопщика.
Розали накрывает ее руку ладонью:
– Оно нам надо? Даже если он будет красив как бог, думаешь, мы сможем его похитить и привезти домой?
– Я иногда забываю правила, – вздыхает Джузеппина.
– Да ты что, Джу, как можно?
– Потому что от мужчин я все равно защищена, у меня свой периметр безопасности.
– Как вы думаете, Королева поедет с нами на Сицилию? – спрашивает Розали.
– Ты же знаешь, она больше никуда от своих бамбуков. Даже на улицу не выйдет. Только когда вынесут ногами вперед.
Джузеппина паркует фургон у ограды дома. Три подруги выходят. Симона машет рукой соседу, который наблюдает за ними из-за занавески.
– Мсье Бартелеми на посту.
– Он-то нам не опасен, – уточняет Розали.
Джузеппина встает перед ними, подбоченясь:
– Эй-эй, девочки! Остерегаться надо всех. От и до.
2
– Черт!
– Что случилось?
– Я чуть не споткнулась о ступеньку.
– Зажги свет…
– Пробовала уже.
В темноте лестничной клетки все трое тараторят наперебой:
– Третий раз за этот месяц вырубается.
– Это не на лестнице, это по всему дому.
– Почему вылетают пробки?
– Слишком много чокнутых в твиттере шарится.
– Ой, зря ты злишься на них, они-то тут при чем.
– Одной Королеве хоть бы что. О, слышите, Бах.
– Она запасливая, у нее есть батарейки.
– Мне не батарейки нужны, мне… воздуху… я задыхаюсь!
– Сядь… дыши глубже… животом…
– Надо бы держать фонарик на комоде в холле.
– …представь себе волну… накатила… отхлынула…
– Кто-нибудь звонил электричке?
– …вдох… волна накатила…
– Она в отпуске.
– …выдох… волна отхлынула…
– Другую еще поискать.
– Я даже не уверена, найдется ли вторая женщина-электрик во всем Париже.
Они толпятся на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Розали бормочет мантру. Джузеппина просит ее прекратить нести эту чушь. Симона думает, что надо бы рявкнуть погромче, чтобы все успокоились.
– ЖАН-ПЬЕР! Ты меня напугал!
– Жан-Пьер? А я думала, здесь живут одни женщины!
– Кто это сказал?
– Это из-за Карлиной двери.
– Это я, Жюльетта. Я приехала вчера вечером. А кто такой Жан-Пьер?
– Вчера вечером… так быстро! – ахает Джузеппина.
– Жан-Пьер – единственный мужчина в доме.
– Жаль только, что он не умеет менять пробки.
– Ему-то что, он видит в темноте.
– Жан-Пьер, иди сюда, мой хороший, им просто завидно, что ты спишь в моей постели.
– Кот никогда не заменит мужчину!
– Слушайте, новенькая, Карла вам рассказала про наши правила внутреннего распорядка?
– В общих чертах.
– У нас здесь строго. Ни мужей, ни любовников, ни водопроводчиков, ни электриков.
– Ни даже доставщиков пиццы.
– Никаких мужчин!
– Никаких мужчин? – переспрашивает, запинаясь, Жюльетта.
Джузеппина теряет терпение:
– Вы ведь все поняли. Ладно, что делать-то будем?
– Если авария в сети, значит, кино посмотреть не судьба, – откликается Розали.
– Опять придется коротать вечер за скраблом при свечах.
– Ладно, только не жульничай.
– Я не жульничала, я честно выиграла, сложила «zephyrs».
– Это слово считается за три!
– И как нарочно у тебя были z и y!
– «Надо случаю опрокинуть муравья на спину, чтобы он увидел небо». Восточная мудрость.
– Очень ты похожа на муравья!
– Пойдем к тебе, Джузеппина. К тебе ближе.
Они держатся за перила. Симона цепляется за руку Розали.
– Идем с нами, Жан-Пьер.
– Справитесь тут одна, Жюльетта?
Жюльетта остается сидеть на пятой ступеньке.
Никаких мужчин!
3
Частный дом. Королева – любительница Баха. Странная встреча с голосами без лиц. Жюльетта по-прежнему не знает, как выглядят остальные жилички. Свет так и не зажегся. Хозяйки удалились играть в скрабл, а она легла спать в кромешной темноте.
А ведь она ощутила такой покой, когда впервые свернула в этот тупичок. Выцветшие кирпичные фасады, увитые плющом и глициниями, садики и дворики в цветах, откуда только взялся такой зеленый уголок в ХХ округе. Спокойствие, разлитое в этом заповедном оазисе, где, казалось, само время замерло, заставило ее замедлить шаг, посмотреть на небо, послушать птиц. Когда она толкнула кованую калитку дома № 15, движение это показалось ей привычным. Ощущение дежа-вю, чего-то уже пережитого, возвращалось и в следующие дни. Она попала туда, куда надо. Здесь и только здесь она должна жить.
Откуда же эта уверенность, ведь ей предстоит провести здесь несколько месяцев, не больше? Может быть, из-за скамейки, на которой, похоже, любила посиживать пожилая пара. Старушка, совсем крошечная, еле передвигала ноги. Старичок, покрепче, поддерживал ее под локоть. Жюльетта заметила, что они тщательно обмахивают носовым платком скамью, прежде чем сесть. Так они и сидели, молчали. Иногда он поправлял прядку седых волос своей спутницы, бесконечно бережно…
А может, из-за гортензий, так рано нынче распустившихся. Она всегда любила гортензии, а в этом мощеном дворике росли огромные кусты, малиновые, лиловые, а чуть подальше переливчатые, цвета индиго – самые удивительные, что расцветают синими, а потом розовеют…
Или, может, из-за смешного чертика с острыми ушами, вырезанного на деревянной двери. Он показывал язык, и ей было смешно. Если присмотреться, чертик оказывался женского пола…
Может быть, из-за комода грушевого дерева в холле и китайской вазы опалового стекла с букетом кивающих лютиков.
А может быть, ощущение объяснялось не этими милыми мелочами, а донельзя романтической историей дома. Некий итальянец, потерявший голову от любви, подарил его нынешней владелице. А потом растворился в ночи.
Описав ей квартал, Карла просто добавила: «Твои будущие соседки славные женщины, все очень разные. Нас совокупляет только наш общий выбор: в нашей жизни нет мужчин, и нас это устраивает».
Выбор глагола Жюльетта оценила.
4
На первом этаже живет Джузеппина Вольпино по прозвищу Козетта – «Малышка» на диалекте ее родины. Она просила никогда больше ее так не называть. Откликнувшись на объявление о сдаче квартиры, она на одном дыхании выпалила Королеве свою историю, словно желая избавиться от нее раз и навсегда. Хрипловатым голосом заядлой курильщицы она объяснила, почему у нее нет и не будет мужчин.
– Finito! Basta![4]
Если ты родилась в Кальтанисетте, на горе в сотне километров от Катании, и у тебя есть отец и трое братьев, твой выбор невелик: это их выбор. Ты будешь вести себя только так, как диктуют их обычаи и их репутация. Дыхнуть не посмеешь без их согласия. Сицилийская семья, uno poulpo con tentacoli![5]
Когда их земля вконец иссохла, Вольпино пришлось покинуть свои виноградники и оливковые рощи и наняться на угольную шахту на севере Франции. Но они по-прежнему жили как сицилийцы, сохраняя самое ценное – свою душу. Марчелло, Padre[6], никогда не улыбался. Он каждый день рисковал жизнью в подземных галереях, и его характер это не смягчило. Под сотнями кубометров земли он боялся быть раздавленным, как винная ягода на дне корзины. После работы он неизменно направлялся в бистро, летом и зимой в словно привинченном к голове картузе. Был он молчуном, решений своих не объяснял, и приподнятой брови ему хватало, чтобы выразить неодобрение. Mamma же зачерствела телом так же, как и душой. Не имея ни минуты присесть, она гнула спину с утра до темна, обслуживая мужчин клана. Никто не мог запретить ей думать, но ее дело было помалкивать. Только однажды, под конец ужина, – за столом были все, четверо детей за пять лет, – она осмелилась высказаться.
– Я ухожу, – сказал Padre, проверив, крепко ли держится на голове картуз.
– Пьяница, – процедила Mamma сквозь зубы.
Он схватил металлический кофейник «Биалетти», полный до краев горячим кофе, и запустил им в голову жены. Летом пятно сливалось с загорелой кожей, но зимой тень тянулась от шеи к вырезу платья.
В семье все делали вид, будто никакого пятна не существует. Джузеппина была еще крошкой, когда это случилось, но и сорок лет спустя глаза ее мрачнели, стоило ей вспомнить лицо матери.
Ее братья, Тициано, Анджело и Фабио, были как с одной матрицы: черные напомаженные волосы, щетина, рубаха нараспашку и цепь с распятием на волосатой груди. Брюки в обтяжку, руки в карманах, они ходили вразвалочку, поглядывая на женщин со смесью вожделения и вызова, а на мужчин как на соперников. И горе тому, кто назовет их итальяшками, нет хуже оскорбления для сицилийца.
Эти телохранители следовали за Джузеппиной повсюду и повторяли ей день-деньской:
– Nessuna confidenza con i ragazzi![7]
По их разумению, девушке не полагалось гулять, не полагалось пить, не полагалось курить. Девушка – воплощение добродетели. И однажды, когда она вернулась из школы с засосом на шее, они надавали ей оплеух. Три. По оплеухе на брата. Они были выкорчеваны из родной земли, и сестра оставалась их последним корешком, так что не дай бог ей стать сорной травой. И в свои тринадцать лет она стояла перед ними выпрямившись, глядела им в глаза и не плакала, только щеки горели.
Квартплату просили подъемную, но надо было еще понравиться домовладелице. Королева оценила силу характера, сквозившую в рассказе этой хромоножки, чье высохшее тельце напоминало насекомое. Серая прядь в черных волосах, глаза-угли, живой взгляд; одета среди зимы в цветастые колготки и шелковое платье фасона пятидесятых под великоватой ей старой замшевой курткой. Бесконечно длинный фиолетовый шарф, связанный кем-то, кто понятия не имел о лицевых петлях, довершал ансамбль.
Маленькая Джузеппина была полной противоположностью малышке. Каждое утро с пяти часов на ногах, даже не взглянув на небо, с неизменной сигаретой «Мюратти» в уголке рта она садилась в фургон и отправлялась заниматься своей лавкой на блошином рынке, искать старье или обследовать чердаки.
Королева сказала «да» без колебаний и никогда об этом не пожалела. Джузеппина тем более.
5
Жюльетта приглашена на последний этаж дома. С лестницы она слышит странный звук, напоминающий пение цикад. Она улыбается.
На стене пятой лестничной площадки висит афиша в старенькой раме, изображающая очаровательную девушку на пуантах, в белой пачке. «Королевская Опера. Стелла исполняет “Коппелию”. Суббота, 16 декабря 1972».
– Я слишком много на нее смотрела, поэтому вывесила за дверь.
Жюльетта поднимает голову. Женщина с афиши стоит перед ней, прислонясь к дверному косяку. Высокая, изящная – вот она, Королева! Прямая спина, расправленные плечи, ноги в шестой позиции; на ней балетки, идеального покроя брюки аспидного цвета и жемчужно-серый кашемировый свитер. Седые волосы собраны в высокий узел, открывая еще безупречный овал лица. Элегантность и простота, и особенно заметны глаза невероятного аметистового цвета. В ней и впрямь есть что-то царственное.
В свои семьдесят пять лет звезда не забыла овации того вечера: зал аплодировал стоя двенадцать минут, королевская семья присутствовала в ложе, на сцену летели букеты цветов. После спектакля кузен короля нанес визит в ее уборную и сказал: «Я пережил незабываемые мгновения. Вы самая красивая балерина в мире».
Самая красивая балерина в мире смотрит на свою новую жиличку. Свеженькая, аппетитные округлости под платьем в разноцветный горошек, бархатистая кожа и густые кудряшки цвета красного дерева. Лицо Жюльетты озаряют большие зеленые глаза с золотистыми искорками.
– Не удивляйся, что слышишь цикад. Я скучаю по лету… жара, лаванда, мое нагое тело на песке.
Карла, ты мне не все сказала!
– Заходи и закрой дверь. Просто чудо эти штучки, – продолжает домовладелица, показывая свой айпод. – Тут есть не только цикады, еще смех моего брата, он живет очень далеко отсюда, колокола деревни Сент-Элали, где я родилась, соловей, который поет у нас только с мая. И чайки, и много-много аплодисментов.
Жюльетта с восторгом оглядывает огромные окна гостиной – во всю стену. Ей кажется, будто она летит по небу.
– Добро пожаловать в мое королевство!
Изысканным жестом, вызывающим у Жюльетты зависть, Королева приглашает ее сесть рядом с ней на огромный диван, обитый красным бархатом. На низком плексигласовом столике свесились из вазы-шара бледно-розовые пионы, роняя лепестки на пол. Два бирюзовых стакана и такой же графин с грушевым нектаром стоят на зеркальном подносе рядом с крошечными лимонными тарталетками и пирамидкой макарони.
Совсем как микадо[8], если я возьму одно, все рухнет.
– Итак, крошка… в твоей жизни нет никаких мужчин?
На данный момент. Но ненадолго.
– Это обязательное условие, чтобы жить здесь. Мужчины дальше калитки не допускаются.
А посылать эсэмэски по ночам можно?
Властность этой женщины, незыблемость правил поведения в доме – сказать Жюльетте нечего. Ей нужна эта квартира. И все же не хочется лгать.
– Но есть Макс, мой лучший друг…
Королева не дает ей договорить:
– Никаких мужчин в моем доме! Никаких нарушений! Но город большой.
Она, верно, отрубает ослушницам головы, как Королева в «Алисе в Стране чудес».
– И чем же ты занимаешься?
– Я монтажер.
– В чем состоит эта работа?
– Сейчас я делаю подборку культовых сцен. Для ретроспективы.
Королева разливает грушевый нектар. Наполняет один стакан, подняв голову, смотрит на Жюльетту, наполняет второй и, прежде чем поставить графин на место, спрашивает:
– А как ты их выбираешь, эти сцены?
– Наверное, руководствуюсь эмоциями, – отвечает Жюльетта.
Две женщины смотрят друг на друга.
– Сцены, которые волнуют меня, которые я могу смотреть бесконечно, и они никогда мне не надоедают, как в «Людях и богах»[9]. Вы видели?
– Три раза!
С ума сойти! Я пью грушевый нектар в облаках с королевой, которая рубит головы и фанатеет от кино!
– Помните тот момент под музыку Чайковского, когда камера дает крупным планом одно за другим лица монахов, решивших проститься с жизнью?
– Ти-ли-ли… Ти-ли-ли… ти-ли-ли-ли… Это же музыка из «Лебединого озера».
Рука Королевы порхает быстро-быстро, точно бьющая крыльями бабочка, выписывая все балетные па. Жюльетта не сводит глаз с ее танцующей руки.
Когда я в следующий раз буду смотреть фильм, непременно вспомню это мгновение.
Королева, успокоившись, возвращается к действительности:
– А какую сцену ты любишь больше всех?
– Роми Шнайдер и Филипп Нуаре в «Старом ружье»[10], встреча в кафе, – без колебаний отвечает Жюльетта.
– Не помню, что они там говорят.
И Жюльетта разыгрывает сцену, меняя интонацию на каждой реплике, говорит хрустальным голосом за Роми, басовитым – за Нуаре.
Клара. Чем вы занимаетесь?
Жюльен. Я врач. А вы чем занимаетесь?
Клара. Я? Ничем.
Жюльен. Совсем ничем?
Клара. Ну, так, пробую. Это нелегко… Что с вами?
Жюльен. Я вас люблю.
Взгляд Жюльетты устремлен на террасу: сад в поднебесье словно продолжает гостиную.
– Бамбук в горшках! Потрясающе!
– Моя гордость и мое наваждение.
– Наваждение? Почему?
– Они могут когда-нибудь расцвести.
– Ну, и…
– Только однажды в жизни, для многих из них это случается раз в сто двадцать семь лет. Все бамбуки одной разновидности расцветают одновременно по всему миру, где бы они ни были и когда бы их ни посадили. И потом погибают, обессиленные, тоже все одновременно. Если в этот день дует ветер, говорят, что можно услышать, как бамбук плачет.
– Вы еще и ботаник?
Королева смеется:
– Знаешь, растения на свой лад не менее удивительны, чем люди. Они общаются между собой посредством летучих химических молекул.
– Коллективное самоубийство?
– Скорее что-то вроде генетической памяти. Представь себе, что у нас все особи мужского пола были бы генетически идентичны, как бамбуки, и тоже испустили бы дух одновременно! – Голос Королевы вдруг наполняется чувственностью. – А мужчин в жизни женщины должно быть много. Тысяча мужчин… тысяча искр!
Тысяча? Хорошо же они здесь спрятались.
– Мужчина, который подарил вам дом…
– Ты, похоже, уже в курсе.
– Карла мне сказала… простите… я не думала…
Выдержав долгую паузу, Королева продолжает:
– Фабио. Это Фабио подарил мне дом. Как сейчас его слышу: «Сделайте его своим оплотом, mi amore[11]»… Только на сцене можно танцевать каждый день одни и те же па с партнером и ни разу не упасть. А жизнь – это сплошной риск.
Королева встает, делает пируэт, задевает ногой цветы, и последние лепестки пионов осыпаются на пол.
Жюльетта смотрит на нее, ей забавно.
А, понятно. Она накурилась бамбуковых листьев!
Королева отворачивается от Жюльетты, чтобы скрыть лицо, которое исказилось от боли. Опять это окаянное бедро. Она садится в маленькое кресло, раскладывает тарталетки с лимоном на две тарелки. Свет из большого окна окружает ее золотистым нимбом.
Какая она красивая, когда спокойна.
– Любовь – это прыжок в пустоту, – тихо произносит Королева. – Когда у мужчин голова идет кругом, они цепляются за своих матерей, детей или за свои игрушки. Помню, Анри…
Жюльетта передвигается на самый краешек дивана, чтобы ни слова не упустить из откровения.
– Ему было шестьдесят два года, и глаза его блестели, когда он говорил о своей страсти. Придя к нему, я обнаружила, что вся гостиная в его квартире занята этой страстью. Это была электрическая железная дорога!
Восточный экспресс с мужчиной! Купе, облицованные красным деревом, приглушенный свет лампочек над изголовьем, накрахмаленные простыни, заняться любовью между Стамбулом и Санкт-Петербургом…
– Весь год он ждал, когда же настанет время ехать в Амстердам, где он покупал в очень специализированном магазине новый вагончик или шлагбаум для вокзала. Мужчины коллекционируют, чтобы заглушить страх смерти. Они не могут умереть, не купив где-нибудь еще три марки или паровозик.
Зачем она выкладывает мне все это? Ей, наверное, скучно здесь. Публики у нее больше нет. Я смотрю премьеру фильма… Среда, четырнадцать часов.
– А женщины тоже коллекционируют?
– Женщины коллекционируют редко. Я вот коллекционировала мужчин.
Королева и ее любовники-однодневки.
Жюльетта отвечает с улыбкой:
– А я коллекционировала Мартин: «Мартина на пляже», «Мартина в деревне»[12]…
– Мартина слишком уж паинька для меня.
Королева поправляет узел волос. Взгляд Жюльетты скользит по ее рукам, сухим и морщинистым, как пергамент.
Эти руки были когда-то тонкими, прекрасными, гладкими, они ласкали.
– Тысяча мужчин – одно мгновение. Все они безумно меня любили. Недели пламенных ухаживаний и полет на одну ночь, единственный.
А! Вот, значит, почему «Королева»! Смерть самцу!
– Труднее всего, когда десятки мужчин дарили мне корзины роз или драгоценности, это сделать выбор. Я появлялась и исчезала, смотрела, слушала. За мужчинами так увлекательно наблюдать.
– Любовь, – говорит Жюльетта, – это еще и мелочи повседневной жизни: ходить вдвоем на рынок, готовить в четыре руки, вечерами рассказывать друг другу, как прошел день.
– Любовь, о которой ты говоришь, – это торный путь. Настоящая любовь необузданна, это не сад, который возделывают.
В комнату залетает шмель, садится на край рамы. Королева встает, осторожно, двумя пальцами, снимает его, кладет на ладонь и сжимает пальцы. Открыв окно, ждет, словно колеблется, потом все-таки выпускает его на свободу.
Помилован!
– Я кружилась для них и видела, как глаза мужчин загорались; так загорелись они у моего отца, когда он впервые увидел меня танцующей.
Лицо Жюльетты мрачнеет, и Королева тотчас вспоминает историю со «сломанной рукой», которую рассказала ей Карла. В десять лет Жюльетта наложила себе фальшивый гипс, чтобы привлечь внимание отца и матери. Она носила его неделю. Родители ничего не заметили.
Жюльетта резким движением берет печенье. Потом второе. Пирамида рушится.
Королева, понаблюдав за смятением девушки, встает, гладит ее по щеке и медленно идет к террасе.
Она словно себя увидела молодой, красивой, привлекательной для всех.
– Я живу с моими воспоминаниями, и ограда вокруг дома – моя надежная защита.
Как она хороша. Она еще могла бы пленять.
Королева стоит, отвернувшись от Жюльетты, лицом к бамбукам.
– Я тебя оставлю… дорогу ты знаешь.
6
Я тебя оставлю.
Жюльетта садится на ступеньку. Закрывает глаза, замирает.
…Лето, каникулы в Этрета́, ей восемь. Родители оставляют ее в «Клубе Пингвинов» на весь день – для ее же блага. Так они говорят.
Три – это число они недолюбливают. А ей хочется одного – сопровождать их повсюду, шагать между ними, крепко держась за их руки.
Возьмите меня с собой, я не буду шуметь.
Сыплет дождь, и клуб забит детьми. Те, что постарше, штурмуют на улице батут. Другие, не столь отчаянные, и не столь закаленные, остались внутри: будто вольера, полная воробьев, щебет и трепыхание крыльев. Забившись в темный уголок, Жюльетта наблюдает за ними. Это напоминает ей школу, на школьном дворе девчонки тоже болтают о всяких глупостях.
Их языки лживы. Хуже всех Элоди: «По утрам, чтобы разбудить меня, мама забирается ко мне под одеяло, поет песенку и щекочет мне перышком щеку». Чушь! Я вот просыпаюсь сама. Я уже большая, я знаю, хоть мне и никогда не удается задуть свечи. Элоди и все остальные – врушки, и только. Они говорят, что от их мам хорошо пахнет и что они называют их ласково по-всякому: «Моя принцесса, моя красавица, милая моя». Глупые квочки, маменькины дочки… ступайте в ад – и точка! Я-то даже не успеваю вдохнуть ее запах, взметнется юбка – и пффф… Она всегда проносится мимо с такой скоростью, с какой мы бегали мимо Жизели, буфетчицы из столовой, когда у нее все лицо было в болячках от ветрянки.
Игры в «Клубе Пингвинов» затихают. Одни дети вскрывают пакеты с печеньем, другие достают из рюкзачков галеты или куски пирога, все такое чудесное, красиво завернутое. А у нее ничего. Родителям и в голову не пришло подумать об этом.
Я хочу есть! Хочу есть! Хочу есть!
Белокурая девочка в полосатом комбинезончике протягивает ей яблоко. Жюльетта прикусывает губу, хмурит брови, пытается выдавить «спасибо», но молча опускает голову.
Перекусив, все с головой уходят в новую игру – вырезают и клеят цветную бумагу, которая превращается в смешных зверюшек, а затем расставляют зоопарк на столе и поют. Ее играть не пригласили.
Меня никто не видит. Я невидимка.
Один за другим дети расходятся, бегут навстречу своим родителям, которые радостно делятся планами на вечер: сходить в пиццерию или отправиться на ярмарку, где устроены гулянья. К половине шестого все разошлись. В вольере тихо. Не слышно воробьиного щебета. Игрушки уныло лежат на полках. Жюльетта одна. В большом пустом зале. Без четверти шесть, шесть…
Так же было и в «Клубе Микки» в Довиле, и в «Клубе Морских Свинок» в Ле-Туке, и в «Клубе Юных Моряков» в Аркашоне. Я не должна плакать, иначе так разревусь, что не смогу остановиться.
Пепита, воспитательница, – маленькая нервная брюнетка с конским хвостиком – поглядывает на стенные часы, будто ждет, что оттуда выскочат родители. Ее взгляд мечется туда-сюда, от Жюльетты к часам.
Может быть, в этот раз они вообще не придут.
У Жюльетты кружится голова. Она трет большой палец об указательный, все сильнее и сильнее.
Может быть, мне надо было попросить девочку с яблоком взять меня с собой? Могут тебя удочерить, если родители живы?
Половина седьмого, семь. Никого! Пепита нервничает, изучает листок с именами и телефонами. Ничего. Даже адреса не оставили.
А меня зовут «Тсс»! Нехорошо, но лучше, чем ничего. Хоть какой-то шорох в тишине. Тишина такая огромная. И холодная. Больно, когда она окутывает меня. Иногда я кричу громко-прегромко: «ЕСТЬ ТУТ КТО-НИБУДЬ?» Но звук остается внутри, ему не выйти. Тишина всегда побеждает.
Пепита бормочет сама себе:
– Так мы опоздаем в кино. Он терпеть не может ждать. Веселенький же у меня будет вечер.
Куда же она денет меня? Где оставит? В кассе кинотеатра? В жандармерии?
Пепита ходит взад-вперед… окно, часы, дверь, список, Жюльетта. И снова по кругу. Конский хвостик мечется во все стороны. Жюльетте хочется вцепиться в ее ноги, чтобы она остановилась. Вдруг застыв и прервав свой монолог, Пепита поворачивается к Жюльетте и кричит:
– ДА ГДЕ ЖЕ ТВОИ РОДИТЕЛИ?
Жюльетта не знает. Они никогда не говорят ей, куда идут.
Была бы я красивой, могла бы гулять с ними, а так я буду точно пятно на их шикарной одежде. Вдвоем чище.
Чтобы прекратить допрос, она рисует отель, большой-пребольшой, у самого моря. Мисс Пепита кидается к телефону:
– Маленькая девочка… одна… поскорее.
Потом достает из сумки косметичку, накладывает тени на веки, подкрашивает губы помадой, глядя в зеркальце.
Какие красивые краски. А меня хотят стереть. И у них это очень хорошо получается. Я – последняя, о ком им придет в голову хоть чуть-чуть позаботиться.
Жюльетта прижимается носом к стеклу.
Если она красится, значит, скоро уйдет… никого не останется… только тишина и я.
Она слышит, как подъезжает машина, хлопают дверцы. Перестает дышать. Потом узнает «цок-цок» маминых босоножек на высоких каблуках, в которых ее ноги выглядят особенно длинными, а лодыжки особенно тонкими. Ее звонкий голос отвечает отцовскому басу. Сердце Жюльетты барабаном бухает в груди.
Они приехали за мной.
Из окна она видит, как отец склоняется к маминой шее, целует, покусывает, шепчет что-то на ухо. Такие красивые. На нем небесно-голубая рубашка, расстегнутая почти донизу и открывающая загорелый торс. На ней струящееся платье, которое колышется при каждом движении.
Как будто артисты из кино.
Они входят, смеясь, легкие, точно мыльные пузыри. Жюльетта кидается к ним.
– Осторожней, ты помнешь мне платье!
– Ну как, весело было?
– Очень долго.
– Ты всегда преувеличиваешь.
– Я думала, вы про меня забыли.
– Тсс!
Пепита уже вся издергалась.
– Мы закрываемся в пять часов. Я вам не бебиситтер.
Родители Жюльетты целуются.
Пепита бросает на них злобный взгляд.
Жюльетта любуется прекрасным маминым лицом.
Может, когда-нибудь она все-таки обнимет меня.
– Ладно, пошли, нам некогда. Мы уже опаздываем в ресторан, а надо еще завезти тебя в отель.
– Я есть хочу. У всех был полдник.
– Тсс!
Артисты из кино идут впереди нее, переговариваясь вполголоса.
«Ты помнишь “Клуб Пингвинов”?» Родители часто напоминают ей о том эпизоде, это как хорошая шутка, как связывающее их воспоминание. А ведь они забывали ее столько раз, в стольких местах.
Да, Жюльетта помнит. Все до мелочей. Это всегда с ней, засело в ее голове крепко, не выкорчевать. С тех пор у нее всегда есть при себе шоколадка.
А можно ли запастись впрок любовью, как сладостями?
Жюльетте хочется постучать в дверь Королевы, рассказать ей это воспоминание. Она смотрит на афишу, встает, спускается на второй этаж, ополаскивает лицо холодной водой, откусывает кусок шоколадного кекса, подумав, доедает его и уходит.
7
Жюльетта закрывает за собой калитку. На другой стороне тупика в окне первого этажа отодвигается занавеска и виден чей-то силуэт. Занавеска падает, когда Жюльетта сворачивает за угол.
Она идет куда глаза глядят, по переулкам, окутанная неожиданным теплом ранней весны, смотрит на спешащих, с багетами под мышкой, оживленных прохожих и пытается припомнить, что рассказала ей Карла, когда предложила пожить у нее.
Они познакомились в Институте кинематографии Луи Люмьера. Карла устроилась туда секретаршей, Жюльетта заканчивала последний курс. Однажды первая нашла вторую в коридоре – в слезах; это было в день показа дипломных работ. Пришли все родители, кроме ее. Карлу тронуло горе этой хорошенькой девушки с потеками туши на щеках. До конца триместра они частенько встречались, чтобы поболтать, потом потеряли друг друга из виду. А пару недель назад столкнулись нос к носу в синематеке. Карла собиралась на несколько месяцев в Индию. Ее квартира будет свободна. Они договорились о встрече, чтобы это обсудить.
– …В конце улицы справа «Брюссельская капуста». Это владения Николь и Моники, две бывшие почтовые служащие сменили корреспонденцию на тыквенные семечки, крупу киноа и всевозможные овощи. Особенно хороша капуста, какой у них только нет – романеско, фиолетовая, красная, зеленая, китайская… Никуда не денешься, все перепробуешь, это их конек. Чуть дальше по улице… книжный магазинчик со старинными деревянными полками. Книжный – это Марсель. Поэт! Какие он составляет карточки типа «читать непременно». Его вкусу можно доверять. Рядом с ним флорист. Его фишка – икебана. Этих двоих частенько увидишь в дверях, обожают потрепаться друг с дружкой.
Карла продолжала, Жюльетта молча пила кофе, ключи лежали на столе.
– Еще подальше магазин сыров, туда я никогда не хожу, потому что все цены заканчиваются на 99 после запятой, и это сильнее меня, не могу удержаться чтобы не накупить всего-всего. Слева скобяная лавка братьев Леруа. По старинке, в серых передниках. Если идешь мимо, непременно помашут тебе. А если зайдешь, наверняка забудут тебя обслужить, потому что не до того – обсуждают мировые новости… «Сборная Франции разгромила новозеландцев на чемпионате по регби… Депутат лично пожимает руки, чтобы за него проголосовали в воскресенье».
Карлу было не остановить. Жюльетта заказала еще кофе.
– По другую сторону сквера есть обувная мастерская, говорят, у сапожника золотые руки, но там я еще не была. У мясной лавки Кристиана есть скамейка. Он знаком со всем кварталом, так что со временем познакомит тебя с Жаком, а Жак со временем познакомит тебя с Эрве. Эрве – агент по недвижимости, в пятьдесят лет он все еще живет с отцом, матерью и сестрой. Они всюду ходят вместе, семейка Сантюри! Вышагивают гуськом, Эрве впереди, а замыкает шествие сестрицын белый пудель с кисточкой на хвосте.
Окончательно покоренная этой живописной картиной, Жюльетта согласилась на предложение Карлы, и та завершила: «Я буду тебе писать». Все устроилось очень быстро. У Жюльетты появился новый дом, а ведь она месяцами тщетно просматривала объявления. Вот только о жилицах этого дома она ничего не знала, кроме одного: все эти женщины поставили крест на любви.
Жюльетта все шагает, прогуливается. Провожает взглядом мужчину на «веспе». Он притормаживает, слезает с мотороллера. Зад туго обтянут джинсами. Округлый зад, просто идеальный.
Уф! В квартал мужчины еще допускаются.
Напевая «Fly me to the Moon and let me play among the stars…»[13], легким шагом она входит в «Брюссельскую капусту».
– Добрый день, мне, пожалуйста, три гольдена и пучок моркови, только без листьев.
– Для гольдена не сезон, возьмите боскоп[14], – бурчит Моника. – Морковочка из Нанта, с лучком и чечевицей – пальчики оближете. Только помойте ее хорошенько. Ботву я оставляю, в ней все витамины. Вот вам еще брокколи, берите, не пожалеете.
Жюльетта вдруг слышит шепоток за спиной:
– Вы только что к нам переехали…
Она оборачивается. Старичок, неслышно подкравшийся в мягких тапках, с очень бледным лицом, но розовыми щечками, одетый в брюки из толстой шерсти и жилет поверх клетчатой рубашки, смотрит на нее, держа в левой руке корзину цветов.
Единственный мужчина увязался за мной на улице, и тому сто пятьдесят лет, да еще в тапках!
– Я видел, как вы выходили из дома…
– Моя подруга уехала, я пока живу в ее квартире.
– А! Значит, и вы туда же… вы из секты!
Это временно.
– Когда-то, давно уже, там и мужчины были. А теперь ни одного не видно. Может, они их убили.
Немудрено, что люди судачат.
– Пока вы ходили за покупками, приезжал фургон электрика.
– Мы его ждали.
– И кто из него вышел – баба! Нет, куда катится мир?
Жюльетта решает вернуться. При виде столика из кованого железа со стульями ей хочется вдруг сесть во дворе, покайфовать немного, насладиться теплым воздухом. Она скидывает туфли. Пальцы на ногах раскрываются веером, обретя свободу. Для первой прогулки по кварталу она выбрала босоножки, совершенно негодные для мощеных улиц и крутых лестниц. Обуви у нее хватает всякой, но nec plus ultra[15] – босоножки из тонких ремешков на головокружительно высоких каблуках. Ноги в них выглядят длинными, как у танцовщиц. Но она знает, что ноги ее ненавидят за это истинное изуверство, и это просто из себя ее выводит. И все же, когда у нее мандраж – перед важным свиданием, например, или по другим особым случаям, – это сильнее ее, непременно надо взгромоздиться на каблучищи. Она носит с собой розовые пластмассовые сланцы. И когда нет больше сил, то достает их из сумки.
Она берет из пакета бокастое яблоко, вытирает его о рукав кардигана и с аппетитом кусает, вспоминая ягодицы мужчины с «веспы».
Выходит, боскоп округлее гольдена?
Большой кот, коренастый, на крепких лапах, пушистый, темно-коричневого с рыжинкой окраса, с янтарными глазами и внушительным хвостом, хрипло мяукнув, выныривает из-под куста гортензии. Настоящий лев! Он пересекает двор с видом властелина.
Единственный мужчина в доме – кот! Жан-Пьер! Интересно, кто дал ему такую дурацкую кличку?
Жюльетта смотрит на увитый глициниями фасад.
Карла сказала, что они поставили крест. Поставить крест! Уму непостижимо! Слово-то какое! Почему? Они сумасшедшие? Монашки? Я угодила в монастырь? Мне наденут на голову чепец… а мне совсем не идут шляпки… вот маме очень идут… как и туфли на высоких каблуках… как красиво – женская ножка в мужской руке… мужская рука… мужской голос… дом без мужского смеха… без мужских носков в ванной!
Распахивается окно на третьем этаже, появляется голова со стриженными под мальчика серыми волосами.
Женщина. Ну конечно.
С лейкой в руке она разговаривает с цветами, давая им напиться. Опускает глаза и, улыбнувшись, машет Жюльетте. Это Симона.
8
Симона Базен появилась в доме июньским вечером десять лет назад. С Королевой она познакомилась в книжном магазине. Они разговорились о японских орхидеях у полки садоводства. Балерина любила всех, кто от земли, и они друг другу понравились.
Симона рассказала ей о своем счастливом детстве в Вогезах. Еще совсем крошкой она выискивала улиток среди листьев салата в огороде и собирала яйца в передник. Очень рано начала работать в поле со своими родителями Фернаном и Маривонной. Зимой после школы помогала им кормить скотину. Вопросами о смысле жизни на ферме не задавались; радости были просты и доступны. Она визжала от восторга, вместе с друзьями плюхая ногами в ледяном ручье, и до сих пор у нее в ушах звучало «клик-клик-клик» велосипедной цепи, когда, отпуская педали, она как будто летела над маковым полем.
В ее деревне с населением в тысячу четыреста тридцать семь человек жизнь шла по накатанной колее, все друг друга знали, а спать ложились в восемь часов вечера. С коровами-то шутки в сторону, изволь быть на ногах каждый день в пять утра.
В двадцать три года она впервые села в поезд. Сойдя на парижском Восточном вокзале, замерла в ошеломлении: спящие на картонках бездомные, неоновые вывески, такси, грязь, автомобильные гудки, плотная толпа, и все в черном – ну вылитая колония муравьев, оккупировавшая метро и тротуары, кинотеатры и кафе, открытые в любое время суток. Знакомым казался только дождь. Ей не хватало запахов леса, одолевала тоска по простору полей. Но трудная жизнь родителей – это было не для нее.
Она проработала несколько месяцев в кафе «Круг путешественников», подавая кофе и скверные пироги, и однажды встретила там компанию уругвайцев. Она подсела к ним, и они наперебой рассказывали ей о своей стране, показывая фотографии холмов и долин. Всю ночь она не спала. Уроженке Вогез нелегко пуститься странствовать по свету. Ей оставили адрес в Монтевидео, и это решило дело. Она отправилась, одна, с туго набитым рюкзаком, бороздить дороги Уругвая и Аргентины. Трясясь в пыльных колымагах и переполненных поездах, помогая на фермах за стол и ночлег, она останавливалась где придется, если понравится пейзаж или произойдет приятная встреча. Она перестраивала мир со случайными попутчиками в автобусе, и они расставались, обменявшись адресами, которые она записывала один за другим в блокнотик.
Эта жизнь вдали от Франции продолжалась пять с половиной лет. Она вернулась в Париж с самой дорогой памяткой на руках: Диего! Ее обожаемый сын, рожденный от гаучо, встреченного в одной асьенде, где она трудилась не покладая рук несколько месяцев. Гаучо укрощал диких лошадей, Симона выращивала маис и ходила за курами. Она полюбила пампасы и своего красавца-кабальеро. Ей поверилось в эту невероятную троицу, в эту любовь, такую диковинную, но вселившую в нее безграничную надежду на будущее. Вот у нее и семья. «Любовь окрыляет». Так говорила ее бабушка из Вогез. «Вот увидишь, детка, когда встретишь свою половинку, тебе больше ничего не будет нужно». После шестидесяти лет брака во многое можно поверить.
Но жизнь распорядилась иначе. Перст ее судьбы оказался удручающе банален: однажды сентябрьским вечером она вернулась домой раньше обычного и застала своего гаучо с молоденькой англичанкой, красивее ее и не отягощенной лишними килограммами после родов. Маленький Диего катал машинки по полу в соседней комнате. Она не заплакала. Даже не закричала. Не закатила сцену. Не полезла в драку. Ничего. Она молчала. Словно приросла к полу от потрясения. В самолете, возвращаясь в Европу, она прятала свое смятение от сынишки, рассказывая ему истории про ковбоев – укротителей лошадей, которые мальчик с восторгом слушал, толком не понимая.
Она хорошо овладела испанским, и ей удалось найти работу переводчицы в туристическом журнале. С тех пор она жила одним днем, шаг за шагом, как бывало, когда ребенком взбиралась на свою горку. Нет уж, теперь ее не уболтать первому встречному идальго. И со временем она решила больше и не притворяться. Не подстраиваться под тех, кто ей не нужен. Быть счастливой иначе.
Прошли годы. Диего задул двадцать три свечи на торте, самое время сыну вылететь из-под крыла матери. Квартира на третьем этаже освобождалась, и она не могла не воспользоваться случаем, чтобы попасть в дом. Про установленные хозяйкой запреты она знала и готова была их соблюдать. Знала и то, что не будет скучать без мужчин, но с Диего рассталась с тяжелым сердцем. Вдруг, после всех этих лет вдвоем, некому было рассказывать, как прошел день, не для кого готовить. Некого баловать, некого любить.
Мало-помалу она обустроила свое гнездышко. У нее были беседы с Королевой, росток конопли, за которым она ухаживала, как за ребенком, внимательно наблюдая каждый этап его роста, и разбросанные по гостиной книги. Тогда-то и вошел в ее жизнь Жан-Пьер. Это укрепило ее в принятом решении. Нет мужчины – нет риска, что рухнет семья. Она бы не пережила, если бы пришлось с кем-то делить свое пушистое сокровище по неделям.
Сегодня, в пятьдесят девять лет, Симона по-прежнему переводила статьи. Высокая, крепко стоящая на ногах, она носила прямые брюки, мужскую рубашку и кроссовки, некогда бывшие синими. Коротко стриженные волосы, никакого макияжа, вместо духов запах марсельского мыла, «гусиные лапки» в уголках глаз – доказательство того, что она часто улыбалась.
Соблазнительный дух жаренного на сале картофеля, черничного пирога или свежевыпеченного хлеба всегда доносился из-за ее приоткрытой двери, словно говоря: заходите, перекусим, полюбуемся Жан-Пьером, поболтаем о том о сем, выкурим косячок, если будет охота.
А каждый четверг по вечерам она становилась то Марией-Магдалиной, омывающей ноги Иисуса, которого играл Ролан, лысый бухгалтер из крайне левых, то Барби, подругой Кена в исполнении Жака, служащего мэрии, невзрачного блондинчика в очках и с заячьими зубами. Она открыла для себя радость театральной импровизации.
9
Воскресенье. Симона поднимается на четвертый этаж и просовывает голову в приоткрытую дверь квартиры Розали.
Розали Лабонте… Некоторым людям на диво идут их имена. А ей вот фамилия подходит, как перчатка к руке[16].
Ее частенько можно застать с закрытыми глазами, замершую в позе не то полумесяца, не то саранчи. Сфинкс, королевская кобра, коровья морда[17] – последнее до слез смешит Симону – не являются для нее чем-то недостижимым. Стоять на голове Симоне столь же удобно, как другим на двух ногах, и она уверяет, что как только взгромоздится на голову, как все встает на место. Мысли в первую очередь.
Розали преподает йогу. Она дает по нескольку уроков в неделю актерам и соседям по кварталу. Но большую часть своего времени посвящает ассоциации, занимающейся трудными детьми. Розали предпочитает говорить «неспокойные, возбудимые, чересчур живые». Она часто думает о них. Особенно о Лине, которая в свои семь лет, с вечно нахмуренными бровками, похожа на озлобленную взрослую тетку. «Когда мы сердимся или нам грустно, мысли превращаются в прыгающих марсупилами»[18], – рассказывает им Розали своим ласковым голосом. Она учит маленьких подопечных медленному дыханию. И иногда они немного успокаиваются.
– Что делаешь?
Розали оборачивается. В который раз Симона думает, что Розали со своей светлой кожей и голубыми глазами – вылитая золотистая лань. Пугливая лань, зябко кутающаяся в две огромные шали, оранжевую и красную, одна поверх другой.
– Ничего.
– Давай ничего не делать вместе?
– Входи. Я заварила чай.
– Какой нектар у нас сегодня?
– «Тысяча улыбок»… смесь иланг-иланга, мандариновой цедры и имбиря с добавлением мелиссы, ванили и лепестков мальвы. Прелесть что такое!
Симона опускается в кресло, смотрит в окно:
– Муссон!
– Ты права, дома в такие дни лучше.
В дверном проеме возникает встрепанная голова Жюльетты:
– Я вас искала. Какие планы?
– Ждем погоды.
– «Земля неспешна, но бык терпелив»[19], – декламирует Симона.
– Что-то у тебя кислая мина, – замечает Розали.
– Sunday blues[20].
– Свернуть тебе косячок, цыпа моя? – спрашивает Симона.
– Лучше не надо. Боюсь приземления. А музыка у тебя есть, Розали?
Что-нибудь кроме тибетских песнопений.
– У меня есть тибетские песнопения.
– Пойду принесу чего-нибудь… Барри Уайта[21], хорошо для согрева.
Жюльетта уже привыкла коротать воскресные послеполуденные часы то у одной, то у другой соседки. Эти дни они проводят вместе в одной из квартир, пока не настанет время обеда у Королевы на пятом этаже. Одна мастерит, другая читает. А то медитируют, играют в карты, варят варенье.
У Розали покойно и умиротворяюще. Белые стены, бонсай, открытки, расставленные на камине.
– Сидней, Борнео, Луангпхабанг, – перечисляет Жюльетта. – Смотри-ка! Новая появилась.
– Сан-Педро-де-Атакама, – тихо произносит Розали.
– Это высоко, четыре с половиной тысячи метров!
– Это далеко, четыре тысячи километров!
Из ниши улыбается деревянный Будда. Перед ним рассыпаны цветочные лепестки, горит свеча, дымится палочка, распространяя запах сандала.
– Что он говорит, Будда, здесь и сейчас?
– Он говорит: «Отпусти то, что уходит, прими то, что идет навстречу».
Жан-Пьер, с комфортом развалившись на груди хозяйки, мурлычет от удовольствия, словно нет батареи уютней и теплей.
– Жан-Пьер, убавь звук, Барри Уайта не слышно.
Поведя ухом, кот глубже зарывается мордой в шерсть и урчит еще громче.
– Проста и незамысловата жизнь у кота, – вздыхает Жюльетта.
– Я бы хотела быть Жан-Пьером в следующей жизни, – добавляет Симона.
– Придется сначала подправить твою карму, – шепчет Розали.
– Кстати, о карме. Вы слышали по радио про оползни в ста пятидесяти километрах от Нью-Дели?
– Не волнуйся, цыпа моя, Карла не в тех краях.
– Vita di merda![22]
– А! Вот и ты, Джу. Очень вовремя, раковина засорилась, только ты способна мне помочь.
– Porca miseria![23] Почти ничего не продала, а когда уезжала, проколола шину. Морис, тот, что супницами торгует в соседней лавке, меня выручил.
– Выпей сперва чаю, – предлагает Розали, – расслабься.
– А глоточка красненького не найдется?
– Еще слишком рано для вина. Положить тебе ложечку меда?
– Эйнштейн сказал, что, если исчезнут с лица земли пчелы, человеку останется жить всего четыре года.
– Четыре года! Надо ловить каждое мгновение!
Жюльетта снимает их на камеру мобильным телефоном.
– Что бы ты сделала, Розали, если бы знала, что тебе осталось жить четыре года или даже меньше?
– Научилась бы управлять самолетом.
– А ты, Джузеппина?
– Vendetta!
Я, похоже, что-то пропустила, надо попросить Розали, пусть мне расскажет.
Они сидят с чашками в руках среди подушек, кто на пуфе, кто на диванчике. Сверху доносятся крики «браво!». Розали поднимает глаза к потолку:
– Меня тревожит, что она сидит там взаперти.
– Ну она выходит иногда на террасу, смотрит на небо.
– Она ни с кем не разговаривает.
– Разговаривает с бамбуками… и с нами.
– Мне больно за нее.
– Почему?
– Не знаю… Из-за ее уязвимости? Королева на закате царствования!
Розали поворачивается к Жюльетте:
– Когда ты увиделась с ней в первый раз, она выдала тебе свой коронный номер «тысяча мужчин… тысяча искр»?
– Ага, поила меня грушевым нектаром. И рассказывала истории.
– Только это ей и осталось – крутить одну и ту же пластинку, вспоминая былую славу.
– Раньше каждый ее выход был тщательно срежиссирован, она просто чудеса творила. Мужчины изнывали в ожидании, лишь бы она подарила им эти редкие минуты.
– Теперь она строит из себя гранд-даму со своими правилами и диктаторскими замашками, но все дело в том, что она боится стареть. Не может смириться с дряхлением тела, которое всегда было ее верным союзником и главным козырем. Не хочет, чтобы ее разоблачили, вот и прячется.
– До такой степени не хочет, что наглухо закрыла дом для всех мужчин? – спрашивает Жюльетта.
– Она не желает с ними встречаться, потому что не может больше пленять, и отказывается видеть, как женщины переживают то, чего она пережить уже не может.
– Она еще хороша собой.
– В тот день, когда докторша сообщила ей, что у нее поли… ревмато… артрит…
– Ревматоидный полиартрит.
– Вот-вот. Она вышла из кабинета, зашла в кафе выпить кофе и приняла решение: отныне ее любовники будут лишь воспоминаниями.
– И больше не выходит из своей квартиры?
– Мало-помалу суставы утратили гибкость, ноги уже не слушались, как прежде, пальцы скрючило, а потом все стало болеть. Переезжать она не хочет. Предпочитает жить в облаках со своими бамбуками.
И лучше не будет. Надо ей помочь. Я еще зайду к ней.
Все молчат. Розали подливает чаю, приносит миндаль и финики.
– Нам все-таки очень повезло, что мы живем здесь все вместе.
– А как называется этот дом? – спрашивает Жюльетта.
– Как называется?
– Ну да. Дают же имена домам у моря: «Ласточка», «Беззаботный», «Самсара»…
– Мы об этом думали.
Они действительно проводили целые воскресенья над словарями, обмениваясь словечками из юности и названиями любимых романов. Но так ничего и не придумали.
– В конце концов, это ведь дом Королевы, – говорит Жюльетта. – «Звезда балета»… «Небесная королева»…
– «Челестина»… «Каза Челестина»[24], – решается Джузеппина.
– Небеса означают блаженство. «Челестина» – мне нравится, – кивает Розали. – Симона… «Каза Челестина»?
– Si.
– Жюльетта?
– Я за.
– Джу?
– А как же! Это ведь я придумала.
Почти.
– Принято единогласно.
– Слушайте, небожительницы, лестницу не мешало бы подновить. Нам нужен маляр, – говорит Розали.
– МАЛЯРША! – поправляет Джузеппина.
– Мсье Бартелеми остановил меня на днях на улице, чтобы поведать, что электричка – вовсе не женский род от электрика, а слово аптекарь женского рода вообще не имеет. Аптекарша – это жена аптекаря, добавил он, очень довольный наглядным примером. Я не стала ему говорить, что в «Ларусс» уже десять лет как внесли изменения.
– Так кто знает женщину-маляра?
– Или хотя бы пенсионера?
– Почему пенсионера? Зачем непременно старик? – протестует Жюльетта.
Молодой и красивый, явится в спецовке и майке, от него будет пахнуть краской, но еще и мужчиной будет пахнуть, он предложит мне выбрать цвет и выкрасит мой этаж в три слоя.
– Довольно, Жюльетта! Ты тоже поставишь крест, когда поймешь. А пока, если хочешь здесь остаться, изволь соблюдать правила.
– Ладно, Королеву я понимаю, но вы… почему вы живете в доме, куда мужчинам вход воспрещен?
– А ты бы поселилась в кондитерской, если бы сидела на диете?
– Так это диета? – хмыкает Жюльетта.
– Мы не поставили крест на любви.
– Любовь, настоящая любовь – это прекрасно.
– Мы поставили крест на безумной надежде ее пережить.
– На русских горках.
– На полигамии.
– На мечте соединить Северный полюс с Южным.
– Мы не хотим каждый день по тысяче раз склеивать осколки.
– Не хотим свихнуться, обнаружив, что он – не тот, кем прикидывался.
– Не хотим ни в ком растворяться, лезть вон из кожи и подрезать себе крылья кому-то в угоду.
– Не хотим, чтобы нас дурачили, ради ласки или нежного слова.
– Не хотим быть смешными.
– Не хотим растратить все нервные клетки и впасть в наркотическую зависимость.
– В любви невозможно себя защитить.
– Единственная защита – воздержание!
ОНИ СУМАСШЕДШИЕ!
– Вас отравили, и поэтому вы объявили голодовку.
– Я не объявила голодовку, Жюльетта, – возражает Симона, – я выбрала другое меню.
– Вы слишком поспешили поставить крест. На земле три миллиарда мужчин. Я не понимаю вашей упертости.
– Никто не понимает. Особенно мужчины, которым невыносима мысль, что можно обойтись без них. «Дом, куда мужчинам вход воспрещен». Они в это не верят, вот и воображают, будто мы фригидны, нам по сто лет и из подбородков у нас торчат волоски.
– А я надеюсь, что когда мне будет сто лет, все равно какой-нибудь мужчина еще будет меня желать, – мечтает вслух Жюльетта.
– Если все женщины откажутся от мужиков, как мы, то этим мачо настанет конец! – заявляет Джузеппина. – Finito! Basta!
– Но чем же вы заменили любовь?
Любовь не заменить ничем!
Они молчат. Словно каждая ждет, что ответит другая. Когда Жюльетта уже думает, что попала в точку, Симона вдруг смотрит ей прямо в глаза:
– Мы не ищем замену любви. Мы заменили иллюзии, ожидание, терзания, зависимость, разочарования, семейную психотерапию и прочее простыми и доступными, милыми сердцу вещами, которые не сдует первый порыв ветра, не разрушит ударившая в голову дурь, не унесет весна.
Жюльетта берет еще финик.
– И вместо любви у вас гончарная мастерская и бассейн?
– Нет, целый мир небывалого блаженства!
– Жизнь без мужчин – это жизнь без соли, без сахара, без перца, без меда. Это вы ничем не замените, – не сдается Жюльетта.
Симона встает и, отойдя к окну, шепчет что-то неразборчивое.
– Что ты сказала, Симона?
– «Счастье – малая малость, которую можно погрызть, сидя на земле под солнышком»[25].
Жюльетта берет последний финик. Встает, направляется к двери, оборачивается:
– Вы еще пожалеете. Когда старушками в тиши у камелька[26] вам захочется подержаться за чью-то руку.
10
Розали машинально убирает чашки. Моет, споласкивает, снова моет. Мыслями она далеко, с Франсуа, в своей прежней жизни.
Все им удавалось. Им рукоплескали. Даже завидовали. Их имена были неотделимы одно от другого: «Розали и Франсуа», как фирменный знак. Dream team[27]: он – креативный директор, она – коммерческий. Она продавала клиентам, впечатленным кривой их товарооборота, рекламные кампании, которые придумывал он, чтобы убедить доверчивых потребителей в превосходстве их продукции. Они выигрывали тендеры, выбивали бюджеты, завоевывали сегменты рынка. Все разговоры были о стратегии, ретропланинге, целевой аудитории. Они были воплощением успеха и достижений. Двигались вперед в одном ритме.
Пять лет назад жизнь Розали рухнула.
В тот день, сидя в кухне, она чистила фасоль. Пел Анри Сальвадор[28], и она слушала его со счастливой улыбкой. «Это милая песенка, которую мне пела мама…» Слова напоминали ей детскую, ежевечерний ритуал: стакан теплого молока с ароматом апельсинового цвета и эта колыбельная, которая тихонько погружала ее в сон.
Франсуа вошел неслышно и положил свои большие ладони на плечи жены. Тело Розали узнало руки и тотчас сомлело от их тепла. Надежные руки, нежные, ласковые, знающие потайные местечки, где прячется ее наслаждение.
– Я буду петь эту песенку нашим детям, – прошептала она.
Франсуа молчал. Анри Сальвадор все пел и пел.
– У нас будет трое!
Она выпалила это, почти выкрикнула. Слова вырвались из самых глубин ее существа.
– Трое или четверо, как минимум трое: Флора, Бенжамен, Ариэль…
Руки Франсуа напряглись. Она чувствовала, как они давят на ее плечи, точно какой-то дурень слишком крепко сжал птицу, чтобы удержать. Она хотела встать, но руки не пускали. Она нервно рассмеялась, высвободилась, нашарила в выдвижном ящике ложку, взяла из буфета стакан, пустила холодную воду, выждала. Выпила маленькими глотками.
Он шагнул за ней к раковине и поцеловал в шею.
– Может, ну его к черту, этот обед? Побудем вдвоем. Пойдем в постельку.
Ей не хотелось в этот вечер в постельку, не хотелось делиться секретами под одеялом, хотелось открыть настежь все окна.
– У меня еще дела, пусти меня.
Он отошел, и она услышала, как он говорил металлическим голосом по телефону.
– Мы не сможем прийти… я простыл… в другой раз.
Сидя в своем кабинете в дальнем конце квартиры, он воображал себя в капкане этой жизни с детьми: шоколадные хлопья по утрам, портфельчики в ряд, фотографии в рамках на камине с малышами в теплых курточках и вязаных шапочках на качелях. Он словно бился об эти картины. Флора, Бенжамен и Ариэль на заднем сиденье семиместного однообъемника, а рядом она, беременная. Нет, не о такой жизни он мечтал. Не сейчас. Не так скоро.
Розали несколько раз перемыла тарелки, стаканы, приборы. Достала из шкафчика блюда и, пока терла их, ощущение больших рук на плечах, не дающих встать, вернулось еще сильнее и неотвязнее.
Когда она легла, Франсуа был уже в постели, с закрытыми глазами. Она знала, что он не спит. Его неровное дыхание прерывалось долгими вздохами. Без особого убеждения они пожелали друг другу доброй ночи.
Проснулась она от кошмара: она сидела в какой-то приемной, одна за другой окружавшие ее женщины скрывались за разноцветными дверями, за ней никто не пришел. Приемная опустела, и вот она сидит одна посреди комнаты на маленьком детском стульчике. У нее огромный круглый живот.
Утром они не сказали друг другу ни слова. Только выпили кофе, у которого был какой-то странный вкус. Еще много дней воспоминание о стиснувших ее руках возвращалось в самые неожиданные моменты: на улице, в кино, в супермаркете.
Через три недели Франсуа ушел.
В последний раз она видела его в октябре, это был месяц годовщины их встречи. Она знает, что было воскресенье, потому что три церковных колокола прозвонили незадолго до его ухода. Они собирались в тот день побегать в Булонском лесу. Но как он был одет? Она морщит лоб, припоминая. В широком сером свитере с высоким воротником или в черном? Она не уверена. Закрыв глаза, пытается придать четкость размытому образу, вспомнить его слова, когда он взялся за ручку двери. До скорого? Я схожу за хлебом? Bye baby? Я люблю тебя? Поцеловал ли он ее перед уходом? Он ведь знал, что уходит от нее насовсем.
Она провела день в тревоге, искала его повсюду. В понедельник примчалась в агентство в семь утра. Там он тоже так и не появился.
Первая открытка пришла в декабре.
«Я не могу, прости». Она перечитала десять раз, оторопев, в поисках какого-нибудь знака, хоть крошечного. Ничего, только австралийская марка. Сердце шальным барабаном отбивало удары в груди. Она одна пошла в больницу. Половины «Розали и Франсуа» больше не было рядом. Врачи с серьезным видом сообщили ей, что ее сердце бьется с частотой двести сорок семь ударов в минуту. Говорили о болезни Бувре, об электрическом проводе, который надо-де отрезать, чтобы это не повторилось. А она-то знала, что ее сердце сорвалось с цепи, пытаясь догнать бежавшего Франсуа, и если надо кого-то отрезать, то зовут его не Бувре. Они больше не функционировали в одном ритме.
В больнице и потом, выздоравливая, она часто вспоминала милый обычай, которому научила ее свекровь.
– Не забудь сказать «Помни дом» и побрызгать водой под ноги тем, кто отправляется в дальний путь. Чтобы они вернулись живыми и невредимыми, – добавляла она.
Розали часто брызгала водой. Но не в то октябрьское воскресенье, когда он ушел от нее. Какой смысл, она ведь думала, что он вернется через пять минут.
Когда ее сердце вновь забилось в нормальном ритме, прежней Розали больше не было. А новая хотела другой жизни. Начать все заново. Без него. Без его рук на ее плечах. Она старалась забыть их дуэт, идеального отца, воплощением которого он был для нее, и все то, к чему стремилась всей душой, – завести с ним кучу ребятишек.
Однажды она увидела объявление: «Прелестная квартирка в красивом доме (следовал адрес в квартале) ждет ЖИЛИЧКУ». Так в тридцать два года она поселилась в доме женщин, поставивших крест на мужчинах.
С собой она не принесла почти ничего. Оставила позади все свои плазменные панели, планшеты, смартфоны, автоответчики, все свои «вы можете связаться со мной круглосуточно» и «я перезвоню вам через пять минут», все свои связи и контакты.
Женщины из дома приняли ее в свой круг и подарили ей другую жизнь. Поблизости был бассейн. У нее вошло в привычку плавать каждое утро. Ей посоветовали заняться йогой. Она, прежде незыблемая, как ее жизненные ориентиры, обрела гибкость. Карла приобщила ее к медитации. Потом Розали захотелось передать другим то, чему она научилась сама. И мало-помалу она снова начала улыбаться.
Пять лет спустя она любит гулять в тишине в японских садах. Совершенство линий, деревца, подстриженные маникюрными ножничками, журчание воды под деревянными мостиками, кусты букса всевозможных форм – все умиротворяет ее и очаровывает. Она бы и хотела узнать край света иначе, чем по открыткам, но ни одна мантра не в силах помочь ей преодолеть панический страх перед самолетом. А главное – ей нравится думать, что дом женщин недалеко.
11
Джузеппина поднимается по знакомой лестнице, приволакивая больную ногу. Она знает как свои пять пальцев темное дерево закругленных от времени ступенек и полоску света на серой стене, когда на улице солнечно в этот час. На площадке второго этажа она встречает Жан-Пьера, который приветствует ее долгим мяуканьем, разворачивается и крадется вверх на ступеньку впереди. Сколько раз поднималась она по этой лестнице, чтобы разделить миску супа дождливым воскресеньем на диванчике у одной или другой соседки? Они называют это «дружбой, доступной в тапках».
В розовой тунике, шали и мягких брючках, босая, Розали сидит в идеальной позе лотоса так, будто делала это всю жизнь. Ее руки лежат одна на другой ладонями к небу. Взглядом она приглашает соседку сесть напротив. Джузеппина никак не может найти удобную позу, опирается то на одну ягодицу, то на другую, в результате сидит в шатком равновесии. Жан-Пьер, с комфортом замерший в позе кота, будто посмеивается над ее неуклюжестью.
Всякий раз, видя, как подруга хромает или морщится от боли, Розали вспоминает об аварии. Шел дождь. Джузеппина, беременная на шестом месяце, резко затормозила, чтобы не сбить прохожую, которая переходила улицу не глядя по сторонам. На мокрой дороге машину занесло. Рассеянная женщина осталась цела, а Джузеппину пришлось буквально собирать по кускам. Только живот, который она прикрывала руками, когда ее нашли без сознания, был невредим. Перелом бедра и оставил ей в наследство эту валкую походку. По заключению врачей она была вполне здорова. Последствия остались в голове. Сама она утверждала, что это память. Каждый шаг был для нее напоминанием, что она выжила только чудом. Дочку свою она назвала Фортуной – удачей. Когда ее выписали из больницы, муж, отец и братья забрали у нее ребенка, заявив, что она не в состоянии о нем заботиться: хороша мать, которая уматывает на работу в пять утра, да еще и хромоногая!
О Фортуне Джузеппина почти никогда не говорила. Она видела дочь только в каникулы, на Сицилии, у теток. Если те соглашались. Она боролась. Тщетно! Мужчины оказались сильнее ее материнской любви.
Каждый год 11 апреля, в день рождения Фортуны, она часами ковыляет куда глаза глядят, а потом пьет, пока, измученная, не забудется сном. У нее есть одна-единственная фотография дочки, которую она прячет под матрасом и иногда на нее смотрит. Не слишком часто.
– Знаешь, мысли – все равно что насекомые. Если тебе досаждает их жужжание, сосредоточься на дыхании. Внутри тебя есть оазис, в котором ты всегда можешь отдохнуть, расслабиться, – говорит ей Розали.
– Постараюсь думать о том, чтобы не думать, – бормочет Джузеппина.
– Ничто не заменит ежедневных упражнений на коврике, каждое утро, прежде чем начать день.
– Alle cinque del mattino?[29]
– Закрывай хорошенько окна и дыши, пока стоишь в пробках.
– Розали, у меня судорога!
– Сосредоточься на боли. Пошли сигнал к разрядке туда, где свело.
– Сигнал не дошел… телеграфист бастует!
– Ладно, на сегодня достаточно.
Джузеппина, кряхтя, поднимается, делает несколько неуверенных шагов, останавливается перед фотографией:
– Это твоя свадьба?
На голове венок из цветов, Розали и Франсуа смеются, стоя босиком в траве.
– Была, – выдыхает Розали.
– Я никогда не забуду мою свадьбу! La prima note di nozza…[30]
– Какой он был, твой муж?
– Сицилиец. Еще бы!
В этой семье, где все решали мужчины, мужа ей выбрали Тициано, Анджело и Фабио, а Марчелло сказал свое веское слово: «Ты выйдешь замуж за Луиджи».
Они не хотели повторять ошибку, допущенную с ее кузиной Беттиной, которой позволили гулять одной, а она возьми да свяжись с каким-то ничтожеством-неаполитанцем.
Отец пригласил родителей парня в дом, договорился с ними о дне венчания, устроил пышное празднество, чтобы все знали, что его дочь девушка и сочетается законным браком.
– Красивый он был, Луиджи?
Джузеппина морщится:
– Коренастый коротышка, кривоногий, губастый, с курчавыми волосами на ляжках и ягодицах.
Розали думает о Франсуа. Даже его имя она любила. И его нежные, ласковые руки, его перечно-лимонный запах, его плечи, его смех… Она любила в Франсуа все.
– В день нашей свадьбы, – продолжает Джузеппина, – собрались все друзья Луиджи, итальянцы и испанцы. Все сидели у телевизора в углу банкетного зала и смотрели футбол. Луиджи весь издергался, вставал, ходил кругами, снова садился.
Ей тогда это показалось трогательным: мачо дал слабину перед первой брачной ночью. А он-то нервничал в ожидании исхода матча.
– Когда фотографировали и говорили речи, когда резали торт, когда объявили первый танец, другие гости спрашивали: «Где же новобрачный?»
– Ну да, и где он был?
– Все там же, перед телевизором. Это было 3 июля 1990-го, полуфинал чемпионата мира, Италия – Аргентина. Сама понимаешь, ему было не до меня, новобрачному!
– У меня это было тоже летом, – мечтательно говорит Розали. – 23 июня. В тот день я сказала «да» на всю жизнь.
– А после свадьбы, когда гости разошлись, мой новоиспеченный муж спустил брюки взятого напрокат костюма и выловил свою штуковину в кудрявой черной чащобе. Он взял меня перед телевизором, глядя поверх моей головы повторы голевых моментов. И все кричал: «Dai Toto dai!» Тото – это Сальваторе Скиллачи, форвард из Палермо.
Джузеппина тогда не шелохнулась.
Луиджи решил, что ей нравится.
– А это был первый раз?
– У сицилийцев женщина отдается только одному мужчине. Когда по телевизору показывают секс, родители переключают канал или отсылают дочерей в другую комнату. Даже в восемнадцать лет! Я сначала вышла замуж, а потом узнала жизнь. Vita di merda!
– Но потом-то он стал ласковее?
– Чемпионат мира бывает раз в четыре года, но он продолжал брать меня точно так же каждый день. Я не смела ничего сказать, хотя предпочла бы посмотреть, как поет Дзуккеро[31] по каналу Rai.
Розали вспоминает свою свадебную ночь, такую непохожую, такую дивную, Франсуа чудесно все приготовил, подумал даже о свечах с ароматом корицы, наполнявших спальню благоуханием. Розали обожала корицу, и он это знал.
– Выпей-ка чайку, Джу, тебе на пользу.
– Отстань ты со своим чаем! Тоже мне спасение – чай!
Розали улыбается ей:
– Не хочешь чаю, сделаю тебе сок: свекла, яблоко, лимон, имбирь. Идем на кухню.
– Когда умер мой отец, я ушла от Луиджи, – продолжает Джузеппина, пока ее подруга выжимает лимон.
– Прощайте, мужчины?
– Vivà la libertà![32]
Розали поднимает голову:
– Ты встретила кого-нибудь еще?
– Многих. Чуда не случилось. Niente[33].
Был один придурок, который аккуратно складывал и вешал на стул свои брюки, прежде чем сорвать с нее блузку. И другой, с полным чемоданчиком игрушек, желавший все их на ней опробовать. Японские шарики; трехскоростное радиоуправляемое яйцо; вибромассажер с мигающими лампочками, инкрустированный стразами и играющий на выбор популярные песенки – «Солнечный понедельник», «L’Avventura» или «Ради флирта». «С чего начнем?» – спросил он с напористостью опытного коммивояжера… Еще один мечтал о платонической связи, решив, что она в свои годы уже прикрыла лавочку, но втайне надеялся, что ей удастся совершить чудо и разбудить его много лет спящее либидо. Он не предупредил ее: двойной конфуз – животный напор с его стороны и реальный отклик с ее!
– Всегда было одно и то же. Они тискали мои груди, потели, пыхтели. Это продолжалось часами. А я лежала морской звездой, дожидаясь конца. А ты, Розали, тебе этого не хватает?
– Я об этом не думаю. Удивительное дело: как будто выключаешься из розетки и очень скоро вообще перестаешь об этом думать. Тело спокойно. А ты, Джу?
– Нет! Без морской звезды я прекрасно обхожусь. А когда меня спрашивают, устроила ли я свою жизнь, я отвечаю, что да, устроила. Лучше! Без мужчин!
Джузеппина начала фотографировать в магазинчиках квартала. Она любила гулять одна и ловить бытовые сценки стареньким фотоаппаратом, который отыскала в лавке подержанных вещей. Теперь она нашла свое место в этом доме. «В этой семье переломанных рук, врачующих друг друга», – говорила она. Словно радость жизни пришла к ней, хоть и поздновато, и она отдалась ей, особо не сопротивляясь.
12
Жюльетта, запыхавшись, вбегает в студию. В ее темном закутке без окон громоздятся на полках круглые алюминиевые коробки, память об эпохе кинопленки. В кресле валяется старый номер «Либерасьон». На первой полосе – «Последний взгляд», великолепный черно-белый портрет Пола Ньюмена. Хоть глаза ее постоянно прикованы к экрану, Жюльетта любит окружать себя привычными вещами.
Один из ее предшественников, поклонник Шекспира, написал на стене: «Ночь создана для тех, кому дня мало»[34]. День и ночь часто неразличимы для Жюльетты. Завороженная кадрами, она вдыхает в них ритм, наполненность, жизнь. Без устали собирает пазл в разных вариантах, выбирая, с чего начать и как закончить каждый план с точностью до двадцать четвертой доли секунды. Сегодня перед ней мужчина и женщина лицом к лицу. Он обнимает ее. Жюльетта ловит себя на том, что не прерывает сцену. С ума сойти, какая дана ей в студии власть над эмоциями. В жизни-то все не так.
В приоткрытую дверь просовывается голова темноволосого крепыша. Макс. Председатель ее фан-клуба, названый брат и вся ее семья. И по совместительству монтажер в соседней студии. Он застает ее вздыхающей, с застывшей на мышке рукой. Стоп-кадр обнимающейся парочки.
– Любовь нужна тебе как хлеб!
Жюльетта кивает, поджав губы. Макс узнает обложку книги «Иудаизм для чайников», выглядывающей из ее сумки. Она часто читает ее урывками, надеясь найти отклик, нить, зацепку: Шабат, Шалом, Шана Това… Так ей легче ориентироваться, когда она смотрит «Это правда, если я вру!»[35]. Она видела фильм семь раз. Но иногда у нее еще возникают вопросы.
– Повторение пройденного?
– Не смейся надо мной. Я тебе уже сто раз говорила, я чувствую себя еврейкой. Пусть даже моя мать – единственная на свете еврейская мамаша, которая утверждает, что материнский инстинкт не дается от природы. Она служит тому живым доказательством, потому что у нее самой отродясь его не было.
– Еврейские мамочки утомительны.
– Моя не утомительна, ее просто нет. Родись я мальчиком, наверное, все было бы иначе.
– Она соревновалась бы с другими еврейскими мамочками, чей сынуля лучше.
– Я бы не отказалась иметь мамочку, которая кудахтала бы надо мной, закармливала, звонила по три раза на дню. Мамочку, которая тревожилась бы, сокрушалась, вздыхала, охала дрожащим голосом «ой-х, ой-х!» и до небес превозносила мои достоинства перед славным еврейским парнем. Не отказалась бы я и зваться Эсфирь или Рахиль, а не Жюльеттой, потому что служащий мэрии выбрал это имя наобум в календаре. Не отказалась бы иметь нос, узнаваемый издалека, как неопровержимый знак принадлежности к большой семье.
– Да, но ведь твоя фамилия Казан. А носить фамилию постановщика «К востоку от рая»…[36]
Жюльетта перебивает его:
– Это не даст мне Джеймса Дина в партнеры! А Жюльеттам в любви не везет. Ни одного Ромео на горизонте. Фильм моей жизни – «Хроника объявленного фиаско»[37].
– Обожаю твое чувство нюанса.
Семья – больной вопрос для Жюльетты. Макс это знает. В своей семье она родилась исключительно по какой-то ужасной ошибке. Родители всегда смотрели поверх ее головы. Единственная дочь без пьедестала. Дурное обращение с ребенком приняло у них своеобразную форму отрицания самого ее существования. Евреи, отрицающие свое чадо! Макс знает, каково ей существовать с этим комплексом, и всегда диву дается, что Жюльетта держится, что находит в себе силы жить, что сохранила самоиронию, что она может смеяться. Он обожает ее, свою названую сестренку. И не может понять, как от дьявольского союза двух патологий могла родиться такая прелесть. Зачем эти люди вообще завели ребенка?
Отец замыслил ее как проект, как предмет. Результат не оправдал его надежд. Несовершенный. Неадекватный. Он хотел обтесать ее, вылепить. Давал ей деньги за каждый сброшенный килограмм, заставлял одеваться в красное, решал за нее, с кем ей дружить, куда пойти учиться, выбирал хобби, образ мыслей. Потом, обнаружив, что глина неподатлива, потерял интерес. «Разочаровала, – говорил он. – Не стоит труда, не стоит любви». Мать же ее служила этому человеку – машина для удовлетворения его желаний. Она подарила ему дочь, как вещь, никогда на нее не смотрела, никогда до нее не дотрагивалась. Вещь ей мешала. Она была фанаткой своего мужа: превозносить его, обхаживать, пленять, быть во всеоружии, чтобы ему нравиться, – это занимало все ее время. «В слиянии с твоим отцом нет места элементу извне, – сказала она Жюльетте однажды, когда дочь решилась заговорить с ней на эту тему. – Когда его нет со мной, я как потерянная. Он – моя единственная семья».
Больше Жюльетта никогда ни о чем не спрашивала.
И Макс опекает Жюльетту, щедро дарит ей дружбу, старается отвлечь, когда она хандрит. Только однажды, вдруг взглянув на нее другими глазами, он спросил себя, не станет ли история названых брата и сестры прекрасной историей любви. Ответ был – нет. И они оба знают, что именно поэтому их дружба так крепка и долговечна.
– Ты, похоже, не очень-то сосредоточена на работе, – говорит он.
– Ты прав, займусь-ка лучше культовыми сценами, я еще не все выбрала.
– У меня не очень много работы, хочешь, помогу тебе?
– Это идея, я хоть успокоюсь.
– На чем ты остановилась?
– «Из Африки»[38], когда он моет ей волосы посреди саванны и читает стихи. Тот момент, когда она хохочет, а голова вся в пене.
– Фильмы про мужчин тоже бы не помешали.
Жюльетта молчит.
Макс произносит голосом Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят»:
– Переписчик населения задавал мне вопросы… я отведал его печень с бобами на масле и кьянти.
Жюльетта смеется:
– Ты классно ему подражаешь.
– И не забудь причмокивание, когда он облизывается.
– Не хочу я людоеда, мне хочется любви и романтики. Раз уж выбираю я, так воспользуюсь служебным положением.
– Ладно, давай твою горячую десятку.
– «Мосты округа Мэдисон»[39], Франческа Джонсон перед невозможным выбором, рука на ручке дверцы…
Жюльетта выдерживает паузу, нагнетая напряжение, как будто Макс не видел фильма. Роберт Кинкейд думает, что Франческа выйдет к нему. Их машины рядом, красный свет, проливной дождь… она колеблется… дрожит… рука падает… она выбрала!
– А ты, кстати, не прячь руку под столом в следующий раз, когда будешь ужинать с мужчиной, может статься, он ею завладеет.
– Мужчине еще надо понравиться. В тридцать один год я войду в книгу рекордов с моей внушительной коллекцией фиаско, фальстартов, миражей…
Жюльетте вспоминается Королева: Тысяча мужчин… тысяча искр.
Нет, ей хочется уравновешенности, покоя, нежности с одним-единственным. С каждой новой встречей ей кажется, что вот он наконец. Достаточно одной фразы, чтобы она тотчас выстроила план жизни: «Ты опасна, к тебе можно привязаться очень крепко и очень быстро», «Я сражен…» И – опля! Жюльетта видит себя в «Маленьком домике в прериях»[40]. Ей нравится начало истории, трепет, головокружение, мчащиеся галопом чистокровки с развевающимися на ветру гривами. Иллюзия заполняет на время ее бездонную пустоту. Помогает забыть руки, которые никогда ее не обнимали. Полная семья с транзитным мужчиной.
– Вечно тебе попадаются экземпляры! А! Как ты ездила на пляж с тем маньяком прошлым летом… напомни мне подробности.
– Опять!
– Пожалуйста… Не могу наслушаться.
Жюльетта встает, чтобы изобразить сцену в лицах.
– Не буду описывать антураж, ты знаешь…
Он открывает гараж и выносит канистры, чтобы наполнить их водой, не слишком горячей и не слишком холодной, и через два часа, когда они выйдут из моря, она будет как раз нужной температуры, чтобы им ополоснуться. Четыре емкости по двадцать пять литров. Сто литров на двоих. Я поправилась, но все же…
Он собирает шезлонги, зонтики, сумку-холодильник со льдом, лопату, грабли, очки от солнца, очки для чтения, очки для вождения. Полотенце для тела, полотенце для лица, пляжное полотенце. Кремы от солнца. Защита восемь, защита двадцать, стопроцентная защита.
– На пляж на неделю?
– На пляж на три часа!
Он ищет тапочки, чтобы не ступать по песку босыми ногами. Их нет ни в бунгало 1, ни в бунгало 2, ни в бунгало 3, ни в мастерской, ни в гараже, ни в сарае. Тапочки и пляжный коврик. Никакого песка и как можно меньше Средиземного моря на себе. Такова идея.
Я-то побросала все в сумку за три секунды и уже час как была готова.
«В кои-то веки ты рано встала», – сказал он.
Перед уходом он затеял постирушку. Три тряпочки. Десяток чистых ждут своего часа, но мало ли что, пусть будут, когда вернемся. Приходится ждать, пока крутится стиральная машина, а она еще иногда капризничает и решает вдруг остановиться, не закончив программу.
Наконец мы загружаем машину… он загружает машину. В определенном порядке. Полотенца, кремы от солнца, тапочки, шезлонги, зонтики, пляжный коврик, сумка-холодильник со льдом, лопата, грабли сзади; четыре канистры спереди. Смотрит с озабоченным видом на полный багажник. Что-то его не устраивает. Он вынимает все. Раскладывает на асфальте. Загружает снова. Канистры сзади, зонтики, пляжный коврик, шезлонги, сумка-холодильник со льдом, лопата, грабли, полотенца, кремы от солнца, тапочки сверху.
С него градом льет пот. Он говорит, что наскоро примет душ перед отъездом. Душ наскоро – пятнадцать минут.
На улице сорок градусов, но он сушится феном на малой скорости. Сушит бороду, волоски в ушах, на груди, в паху.
– И на заднице тоже?
– Тоже!
…Он запирает маленькое бунгало, среднее бунгало, большое бунгало, сарай, гараж, мастерскую. Ключи на колечках – один, два, три, четыре, пять, шесть.
Он заливает воду в стеклоомыватель. Проверяет уровень масла, давление в шинах.
– До пляжа шестьсот километров?
– До пляжа полчаса!
Он с тревогой озирается, убежденный, что хоть что-нибудь да забыл.
Проверяет навигатор, сигнал антирадара, зарядник айфона, зарядник айпода, настройку радиочастот Trafic Info, пополняет запас дисков.
– А ты не преувеличиваешь малость?
– Нет! Это укороченный вариант!
Выехали. Почти. Остановка на заправке. Ознакомление с ценами. Слишком дорого. Ищем другую заправку, цены ниже, но колонки пусты. Отъезжаем, слегка раздраженные. Особенно я! Возвращаемся на первую заправку. Он заливает полный бак. Сто литров.
Приехали на пляж. Полдень. Он ищет на переполненной стоянке лучшее место для парковки, подальше от других машин, которые могут дверцами задеть его авто. Трижды объехали стоянку. Безуспешно. Редкие свободные места не идеальны. Еще два круга. Одно место освобождается. Уф!
Он надевает антипляжные тапочки. Я – нет. Я весь год жду этого момента, когда смогу наконец с наслаждением погрузить босые ноги в песок. А для него песок и море – враги.
«У тебя недовольный вид, – говорит он, хмурясь. – Ты не забыла, что я затеял эту поездку, чтобы доставить тебе удовольствие?»
Тащимся по пляжу с четырьмя канистрами, зонтиками, пляжным ковриком, лопатой, граблями, сумкой-холодильником, шезлонгами, полотенцами, кремами, очками. В несколько ходок. Я молюсь про себя: только бы не встретить кого-нибудь из знакомых.
Он ровняет песок граблями, роет ямки глубиной около метра, чтобы воткнуть зонтики. Ориентирует первый по солнцу, наклоняет второй. Разворачивает пляжный коврик. Очень медленно, чтобы не попала пара коварных песчинок. Ставит шезлонг так, чтобы видеть свою тачку. Спиной к морю.
«Ты положила в сумку мои очки для чтения?» – «Нет». – «Одно-единственное поручение я тебе дал, а ты и его не выполнила». – «Простите, ваша светлость».
Позади нас – шезлонги и зонтики напрокат, три буфета, два душа!
Макс умирает со смеху. А Жюльетте невесело.
– И знаешь, что хуже всего? Ни на секунду он не подумал: «Какой я идиот!» А я ни на секунду не подумала: «Какого черта я делаю в отпуске с этим двинутым?»
– Что-то же тебя в нем привлекло поначалу?
– Он говорил «мы».
Макс закатывает глаза от такой наивности.
– Ты не там ищешь, я тебе уже сто раз талдычил. В наши дни родственную душу находят в интернете.
– Значит, она хорошо спряталась, моя родственная душа. Хоть бы какой-нибудь знак подала, а то пока…
Это Макс уговорил ее зарегистрироваться на сайте знакомств.
– Жюльетта, милая, люди встречаются на этих сайтах, влюбляются, женятся…
– А если я нарвусь на психопата?
– Естественно, нулевого риска не бывает.
Те, кто так говорит, стоят себе на берегу и смотрят, как вы бросаетесь в омут. Сами никогда не попробуют.
Он водил ее на множество вечеринок. Без толку. Она ходила на философские чтения, диспуты полиглотов, в The English Speaking Movie Club[41] и даже в клуб «Умелые руки». Нигде ей не встретился ни Джад Лоу, ни Жан Дюжарден[42], ни Аль Пачино, ни даже Денни де Вито. И вот несколько недель назад она решилась. Макс сам выбрал ей ник.
– «Принцесса-Недотрога». Ты хватил через край, Макс.
А почему меня нельзя полюбить под моим настоящим именем?
Однажды ночью, когда не спалось, она побродила по сайту. Ей представлялось, как разношерстная фауна, измученная, подобно ей, бессонницей, обделывает свои делишки в два часа ночи. Небрежно одетые, в щетине, с кругами под глазами. Загипнотизированные экраном своего компьютера, теплым светящимся пузырем в ночи. Точно дети перед рождественской витриной, ходят они по супермаркету родственных душ в поисках редкого товара, который наполнил бы смыслом их жизнь. Добрые и злые, лживые, праздные, отчаявшиеся, разочарованные – всем хочется быть кем-то для кого-то. Много народу толпится в отделе сладостей. Соприкасаются сердца. Короткие мгновения. Легкий трепет. Она не стала задерживаться.
– Нельзя опускать руки, – советует ей Макс.
– Не нравится мне бродить по супермаркету и класть мужчин в корзинку, кликать на иконки «продукты местного производства», «большой завоз татуированных», «отложить этого парня на 24 часа», «распродажа» или «вернуть в отдел». Терпеть не могу мельтешни и кастингов. Я люблю Элюара и Фрэнка Синатру, утонченность и гармонию. Я несовременна. Если романтика – это вчерашний день, то мне ловить нечего!
Они смеются. Жюльетте нравится работать с Максом, нравятся их перерывы на кофе. Вместе они не замечают, как проходит время.
Она показывает ему свои любимые сцены:
– Вот еще что у меня есть.
– Это же восьмидесятые годы.
– Да, но все равно сильно.
На экране Аль Пачино пожирает взглядом Мишель Пфайффер, а потом целует ее посреди цветочного рынка.
И вдруг:
– Как давно до меня никто не дотрагивался.
– Крик души!
– Это мысли вслух, хреново мне.
Макс поднимается:
– Иди сюда, голубка моя. – Его большие руки обнимают ее.
– Ух ты! Как хорошо, – вздыхает Жюльетта.
– В Соединенных Штатах есть клубы hugging[43]. Незнакомые люди обнимаются всерьез. И говорят друг другу: «I love you very much»[44].
– Вудсток возвращается! Не хватает только большого луга и рубах в цветочек.
А Макс уже развалился в кресле, закинув ноги на подлокотник.
– Не могу я больше просыпаться ночью одна на своей подушке. Я послужила бы отличной темой для песни Бенабара[45]. Хочу любвииии…
– Верь в свою счастливую звезду.
– Моя счастливая звезда взяла годичный отпуск.
– А что, если год подходит к концу? Когда у тебя следующее свидание?
13
Как правило, он приходит как раз к восьмичасовым новостям. Симона зовет его на лестничной клетке. Когда идут титры фильма, она начинает беспокоиться. Смотрит вполглаза, теряет нить, потому что Жан-Пьер в ее мыслях, вместо того чтобы быть у нее на коленях. В одиннадцать его все еще нет. Она снова выходит на лестницу, на цыпочках спускается посмотреть, не захлопнулась ли за ним дверь подвала. Нет. Что делать? Уже поздно, она не хочет никого будить. Джузеппина встает чуть свет, а у Королевы чуткий сон. Он скоро придет, никуда не денется.
Она оставляет дверь своей квартиры приоткрытой, на видном месте красивая миска, полная его любимого корма: припущенная лососина с соцветиями брокколи. Он вот-вот вернется и наверняка голодный, думает она.
Ложится. Ночь без теплой шерстки Жан-Пьера, без тяжести его тельца на ней – такого еще не бывало. Она сидит в постели, ждет, не зацокают ли его коготки по полу, не мелькнет ли кончик усов, пышный хвост. При малейшем шорохе думает, что это он, сейчас вскочит мощным прыжком к ней на кровать, примется покусывать за ноги, облизывать шершавым языком, выпрашивать ласку, ворочаться и сладостно потягиваться, такой пленительный и уверенный в себе. Она проклинает эти напоенные запахами дни, не дающие покоя самцам. Представляет себе Жан-Пьера мурлычущим на чужих руках, засыпает на несколько минут и просыпается с рассветом, как от толчка, вконец измученная. Похлопывает рукой по одеялу. Пусто!
На этот раз она позовет всех. Не знает только, с кого начать. Посылает эсэмэски всему дому: «Жан-Пьер пропал!»
Первой выходит, позевывая, из-за своей двери Розали:
– Жан-Пьер, Жан-Пьер…
На втором этаже открывает дверь Жюльетта. Ее голосок присоединяется к голосу Розали:
– Жаааан-Пьеееер…
– КТО-НИБУДЬ ЗАГЛЯДЫВАЛ В ПРАЧЕЧНУЮ? – кричит с первого этажа Джузеппина.
– Что случилось?
Все выходят на лестничные клетки, задирают головы. Королева, величавая в атласном пеньюаре и бархатных домашних туфлях, смотрит на них сверху вниз.
– Жан-Пьер не вернулся.
– Жду вас у себя.
И без тени колебания, в бумазейной пижамке, в футболке с надписью «Hello Kitty», в розовой рубашечке и цветастой ночнушке, в шесть часов утра все четверо спешат на пятый этаж.
– Я заварю чайку, – говорит Розали. – Это нам всем пойдет на пользу.
– Розали, чай его не вернет. Ты знаешь какие-нибудь штуки?
– Повесь открытые ножницы на гвоздь.
– Уже повесила, без толку.
– А завязать тряпку вокруг ножки стула пробовала?
– Не верю я в этот фокус с тряпкой.
– С ключами срабатывает. Насчет животных не поручусь.
– Он никогда не ночевал на улице, всегда спал со мной, он не ветреник. С ума сойти, что мужчина, что кот, ничего не поделаешь, привязываешься, – вздыхает Симона. – Я очень зависима.
– Мы все любим Жан-Пьера.
– Я выкормила его из соски, – продолжает Симона. – Он мяукал, мол, позаботься обо мне. Я сделала ему грелочку. Отдала свой мохеровый свитер. Сидела с ним ночами. Признаюсь, даже пела ему колыбельные. Я знаю, это смешно. Как сейчас помню, Николь и Моника мне сказали: «Не хотите котенка?» Я ответила: «Котенка? Не может быть и речи!» Они настаивали. Я сдалась, когда увидела его блестящий носик и янтарные глаза с медными искорками, в тоненьком черном ободке, как будто подведенные, и эту нахальную мордочку, и взъерошенную шерстку на брюшке, и ласковый взгляд…
Симона уже не может остановиться. Ее отчаяние трогает всех.
– А под гортензиями смотрели? Иногда он там прячется.
– Жюльетта, а нет сайтов для пропавших котов? Чего-нибудь вроде miyahoo.fr?
Я знаю только grandamour.com[46]. Стоп, Жюльетта! Сейчас не время об этом думать.
– Наверняка он нашел себе другой дом! – плачет Симона.
– Отрезать бы ему хозяйство, – кипятится Джузеппина.
– Жан-Пьера? Кастрировать? Никогда!
– Сделай стойку, – советует Розали, – это успокаивает.
– У меня и так голова кругом.
– Можно сходить к ясновидящей с фотографией.
– Помолчите, – говорит Жюльетта. – Послушайте.
Она открывает широкое окно.
– Гляньте-ка. Мсье Бартелеми у своего окна, он нас зовет.
– Эгей, девушки! Тут кое-кто вас ищет.
– Жан-Пьер?
– Жан-Пьер!
– Это Жан-Пьер.
– Какой Жан-Пьер? Я про вашего кота.
У Симоны вырывается крик:
– МОЙ МИЛЫЙ!
Она роняет чашку, не обращая внимания на чай, разлившийся по натертому паркету Королевы, выскакивает как ошпаренная из квартиры и мчится, задыхаясь, с пятого этажа вниз. Розали, Джузеппина и Жюльетта бегут на террасу, оттуда им отлично видно, как Симона пулей вылетает из дома, несется через двор, за калитку, пересекает тупик в развевающейся ночной рубашке, вбегает к мсье Бартелеми и выходит, прижимая к сердцу свой драгоценный трофей, измученная и сияющая, точно чемпионка, только что выигравшая финальный забег на четыреста метров с барьерами на Олимпийских играх. Поцеловав его раз пятнадцать, она поднимает голову и кричит растроганным подругам:
– Самое лучшее в любви – встреча после разлуки. Я знала, что уж этот-то мне не изменит!
14
Наступили теплые дни. Симона решила, что пора убрать в подвал зимние вещи и достать летние. Жан-Пьер путается под ногами, опрокидывает одну из неустойчивых коробок, оттуда вываливаются старые туфли на квадратных каблуках, с протертыми от многих часов танца подошвами. В последний раз она надевала их десять лет назад…
Она жила тогда на улице Алезии, на другом конце Парижа. После возвращения из Аргентины ее так и тянуло танцевать. Она нашла хорошую школу, надела черные брючки и – vamos a bailar la salsa![47]
Учителя зовут Карлосом. После нескольких уроков она купила новые туфли, на каблуках повыше, черные, лаковые, с украшенной стразами перепоночкой. Ей, обычно так мало интересовавшейся подобными вещами, вдруг захотелось краситься, быть привлекательной и ловить мелькавшее в глазах Карлоса удивление. Она надела красное платье с глубоким вырезом, застегивавшееся сзади на семнадцать маленьких пуговок, побрызгала духами «Белая сирень» за ушами и на запястья. От нее пахнет весной.
Обычно она танцевала с другими учениками. Бывало, и с женщинами, когда мужчины оказывались в меньшинстве. Она переходила из рук в руки: влажные, сухие, цепкие, теплые, холодные. От мужчины, сосредоточенно жующего резинку, к другому, обильно потеющему. Старалась избегать увальня, вечно наступавшего ей на ноги.
Сегодня впервые ее ведет Карлос. Он не очень высокий, глаза смотрят прямо в глаза Симоны. Под темной шевелюрой сумрачный, пронзительный взгляд, квадратная челюсть, пухлые губы. Он в белой рубашке, на которой не хватает одной пуговицы, и узковатых для него черных брюках, ткань скверного качества туго натянута на его ягодицах тореро.
Он обращается к группе:
– Оснывноэ па… бэдра подвыжны… колэны гыбкы… мужчына наступаэт, жэнщына отступаэт… мамбо… кик…[48] эсли ты не счастлыв сэгодня, спрячь свою боль за улыбкой. Ун дос трес… мэняэмса партнэрами… мэняйтэс.
Он по-прежнему прижимает ее к себе.
– А ты остаэшься со мной. Впэред, назад, в сторыну… нэ тэряй партнэршу, гринго, ты дэржишь в объятиях уна прынцесса!
Его «э» и «ы» забавляют Симону.
Он сжимает ее чуть крепче. От его кожи пахнет темным табаком и пряной туалетной водой.
– Нэ надо говорить… тэло само всэ скажет, – добавляет он тихо.
Словно тайный союз заключен между ним и музыкой, Карлос со звериной грацией скользит по паркету, который кажется эластичным под его ногами. Он обнимает Симону, закрыв глаза. Тропическая жара стоит в этот вечер или это ее температура поднялась на несколько градусов? Капельки пота выступают у корней волос. Шея горит. Ручеек стекает в вырез красного платья. Он шепчет ей на ухо:
– Когда ты танцуэшь, голова забываэт. Дай сэбэ волю, bailarina[49].
Она изо всех сил старается следовать за ним, только бы не споткнуться. Ручеек мешает сосредоточиться.
Урок окончен, ученики аплодируют, неторопливо расходятся.
– До следующего четверга.
Ни слова не говоря, Карлос обнимает Симону за талию, увлекает ее на лестницу и ведет по переулкам к крошечному бару неподалеку. Сидя на высоченных, неустойчивых табуретах, там потягивают в полумраке разноцветные коктейли. Он заказывает мохито, который она, пожалуй, слишком торопится выпить. От кислоты лайма по телу пробегает дрожь. Она вспоминает, что ojito значит «милый».
– Только с тобой мне хотэлось танцэвать сэгодня.
– Мои ноги двигались сами.
– Мнэ хочэтса познакомитьса с тобой блыже, узнать, кто ты.
– Я слишком много выпила, мне бы надо домой.
Он наклоняется к ней, гладит кончиками пальцев ее затылок, ямку под волосами. Ей кажется, будто табурет уплывает из-под нее.
– Я тэбя провожу. Обопрыс на мэня.
Она живет недалеко. Весь недолгий путь они молчат. В лифте он становится лицом к ней. Ее колотит. Что он себе вообразил? Может быть, думает, что она делает это каждую неделю, считает ее тертой? Прислонившись к зеркалу, он не сводит с нее глаз. Еще не игра, только преамбула, он смутил ее, выбил из равновесия. Она не привыкла к такой близости в замкнутом пространстве, не привыкла читать дерзкое, неприкрытое желание в чужом взгляде. Он подходит ближе. Его дыхание щекочет ей лицо. Черные блестящие глаза улыбаются. Приехали. Она ищет ключи, выигрывая немного времени. Едва отворилась дверь квартиры, он тащит ее в прихожую, крепко держа за руку. Другой рукой толкает дверь кухни, гостиной, ванной, находит наконец спальню. И чихает.
– Это всэгда, когда возбуждаюс, чыхаю.
Он обнимает ее, и она не противится, приникнув к сильным плечам. Тесно прижавшись, они танцуют медленную сальсу. Вдыхают друг друга, принюхиваются, их магнитные поля зашкаливают. Она чувствует животом твердеющий мужской член. Ей не верится, что она виной этой мгновенной эрекции, даже неловко.
А он шепчет:
– Секс – это уна импровизационе… это каждый раз другой танэц.
Она закрывает глаза. Карлос раздевает ее, медленно расстегивает пуговку за пуговкой – все семнадцать, – бережно обнажает плечо, сдвигает пальцем бретельку ее бюстгальтера на косточках. Она краснеет: надо же, надела эротичное белье, как будто заранее что-то замышляла. Палец тихонько скользит вдоль бретельки, касается тотчас твердеющего соска, потом другого, снует туда-сюда. Симона, замерев, не противится. Горячая волна распространяется от грудей к эпицентру желания. Красное платье соскальзывает на пол. Следом кружевные трусики. Она нагая перед этим мужчиной, нагая перед незнакомцем, которому готова отдаться в первый раз. Она думает, что он видит ее бедра, раздавшиеся после стольких лет скитаний и усталости, ее ляжки и живот, давным-давно утратившие крепость. Ей и хочется, и страшно. И хочется, и стыдно показывать свое тело, такое несовершенное. Она зажалась. Руки Карлоса продолжают нежно гладить ее живот, зрелый плод, отдающийся ласке молодого мужчины.
– Какая ты красывая, mi amor[50].
Вытянувшись на свежих простынях, белоснежных, прохладных, он изучает изгибы и выпуклости, следуя непредсказуемым маршрутом. Никогда еще Симону не ласкали так чувственно. Под руками Карлоса ее короткие волосы становятся шелковым пушком. Карлос приникает приоткрытым ртом к ее губам, их дыхание сливается. Она узнает вкус мохито, и ей это нравится. Он играет кончиком языка, покусывает ее губы. Чуть-чуть. Ровно столько, чтобы ей захотелось еще. Закрыв глаза, они читают тела друг друга азбукой Брайля. Нравятся друг другу каждой порой кожи. Их запахи смешиваются: темный табак, пряная туалетная вода, марсельское мыло и белая сирень. Он не спешит, приручает ее, у него вся жизнь впереди, он щедр. Она чувствует себя красивой, ее отпустило. Они целуются, целуются…
Решения, которых Симона держалась так давно, забыты, рухнули защитные барьеры. Она больше не крестьяночка из Вогез, не мама Диего, не обманутая женщина. Она – желание Карлоса. Она забыла о своих разочарованиях, о возрасте. Безудержно припадает ртом к его коже, жадно целует. Кожа горячая, влажная, сладковатая. Ласки все определеннее. Руки у Карлоса опытные, ловкие, руки знатока. Он направляет руку Симоны. Ее бросает в дрожь. Эта дрожь ей приятна. Перемешанное дыхание, всхлипы, нетерпение тел, неотложность желания, выгнутые чресла, восставшая плоть. Она отдается, раскрывается, как цветок, близкому наслаждению. Он входит в нее, самец, завоеватель, располагается, как у себя дома, замедляет темп, движется медленно, ласково. Его бедра колышутся, импровизируя невиданный танец. Он шепчет ей на ухо слова по-испански. Рефрен, задающий ритм его движениям. Темнота вспыхивает многоцветьем в глазах Симоны. Вцепившись в ягодицы тореро, она улетает далеко от своей спальни, далеко от Парижа и от Аргентины.
Он будит ее на рассвете. Много лет она спала одна, и вот обнаженный мужчина тычется членом в ее спину. Он входит в нее молча. Они едины. Слов не нужно. Молочно-белая кожа и кожа смуглая, пряности и сирень. Нет больше возраста, они спаяны, неразрывны, они породнились душами, слились, они – одно целое. Кончить несколько раз за ночь – такого с ней еще не было.
– Тела не лгут, – шепчет она и вновь засыпает, прижавшись к нему.
Симона поднялась первой, она ходит на цыпочках, чтобы не разбудить любовника. Ей приятно знать, что он в спальне, пока она готовит им завтрак. Когда она входит в кухню, ей бросается в глаза облупившаяся краска на стене напротив, и она отмечает краешком сознания, что надо будет этим заняться. Но сегодня утром ей не до того. Нечасто ей случается баловать мужчину. Она достает завернутый в салфетку хлеб, который испекла накануне, и отрезает несколько ломтиков. Хрустящий снаружи, мягкий внутри, то, что надо. Открывает баночку варенья, выбирает на полке чай с бергамотом «Сказочное утро», поправляет цветы в вазе, зажигает свечу, раскладывает фрукты в корзине так, чтобы палитра была гармоничной, ловит по радио классическую музыку.
«И в заключение нашей программы послушайте фантазию № 3 до мажор Шуберта».
Ей незнакомо это произведение, да и Шуберта, по правде сказать, она знает мало, но находит, что это будет идеально для начала дня любви. Тело немного ломит, но эта боль сладка. Ей вспоминается «эффект красного платья». Она улыбается.
Карлос входит в кухню решительным шагом, прошествовав мимо нее, направляется, как автомат, к радиоприемнику, выключает Шуберта посреди скрипичной фразы и садится на стул – очень прямо. Он кажется больше, чем был вчера. Ни единого звука из его рта. Ни дыхания из ноздрей. Сосредоточенный, пристально глядя на свои руки, он делает себе бутерброд. Ломтик хлеба прижат к деревянной дощечке, металлический ножик в правой руке, корки отрезаются без колебаний, клац-клац-клац-клац. Острие вонзается в масло. Движения точны и размеренны. Вперед-назад, вперед-назад. Ложечка погружается в варенье – ежевичное, домашнее. Ровно в меру. Ни капли лишней. Доза молока отмерена до миллилитра. Кусочек сахара расколот пополам резким движением, отрепетированным, усовершенствованным за годы. Помешал ложечкой, отложил ее. Отпил глоток чая, откусил кусок бутерброда, потом еще раз, и еще, и еще, поворачиваясь по часовой стрелке. Отопьет, надкусит. Пять поворотов к бутерброду, двадцать глотков чая. Ни дружеской улыбки, на напоминания об их ночи, ни даже движения ресниц. Молчание, только слышно, как челюсти перемалывают бутерброд и стекает чай в нутро латиноса.
Потом встает, направляется к двери, на ходу похлопав Симону по ягодицам, берет брошенную в прихожей куртку, посылает ей издалека воздушный поцелуй двумя пальцами.
– Ты была очэнь хорошэй учэныцей. Hasta luego[51], куколка!
Симона не в состоянии шелохнуться.
Она смотрит на баночку варенья, на хлебные корки, на цветы в вазе, на фрукты, к которым он не притронулся, на зажженную свечу, на безмолвствующий радиоприемник. Обходит стол, задвигает стул на место, задувает свечу, идет, как сомнамбула, в спальню, смотрит на смятую постель, снимает простыни, зарывается носом в подушку Карлоса и плачет. Как давно копились в ней эти слезы. Они не пролились в Аргентине. Не пролились за все эти годы одиночества. Опустошенная, униженная, сама не своя от обиды, она ест себя поедом за наивность. Он сказал ей mi amor, и она поверила, будто он ее любит. Запихнув белье в стиральную машину, Симона яростно поворачивает рычажок на девяносто градусов и со всей силы захлопывает дверцу.
Она возвращается в кухню выпить чаю. Но, не успев приподнять чашку, до краев полную «Сказочным утром», вдруг отталкивает ее, встает, открывает шкафчик, достает бутылку мирабелевой водки и, налив рюмку, опрокидывает ее залпом.
Симона выбрала не того мужчину. Она – женщина не для Карлосов. Ей подошел бы совсем другой.
Метр восемьдесят ростом, помятый со сна, плохо выбритый, ни дать ни взять бурый медведь на широких лапах, с родинкой над левой бровью – она млеет от этой не очень эстетичной нашлепки, – он вошел бы в кухню, на носу дымчатые очки в тонкой оправе, в руке сигарета, и пробасил:
– Ну что, милая, сделаешь мне кофейку… да покрепче… горяченького!
Его смуглое лицо, его гримаски, его неуклюжесть и беспечные повадки заполонили бы все. Он сказал бы «с добрым утром». Оценил бы Шуберта. Заметил бы цветы. От его раскатистого голоса, от ноток черноногого[52] выговора, напоминающего о родном Кастильоне, славно повеяло бы югом Алжира. Кухня запела бы. Вдруг наступило бы лето. Он сидел бы, прислонившись к стене за маленьким столом, и был бы у себя дома: Жан-Пьер Бакри![53] Мужчина с бархатными глазами смотрел бы на нее поверх чашки кофе, и сладостное тепло окутало бы Симону. Он погрузил бы ложечку в банку варенья с неловкостью лакомки, намазал бы густо, откусил широко; капелька варенья стекла бы с уголка его рта. Ему бы понравилось ежевичное, и она бы это видела. Он мог бы съесть всю банку и был бы доволен. А потом встал бы и звонко поцеловал ее в щеку:
– Ммммм! Моя Симона, вот это жизнь!
Она видела все фильмы с ним, знает наизусть все его реплики.
Но больше всего ей нравится, как он дает интервью. «Улыбку, если она не спонтанна, я не вымучиваю… предпочитаю искренность… герои – тоска зеленая… для меня человеческое существо – ходячий парадокс… я люблю людей, нежно отношусь к их хлипкости и маленьким слабостям».
Но Бакри наверняка не свободен. Таких мужчин больше нет. Лучше быть одной, чем довольствоваться вторым сортом. Бакри – или ничего!
Прошло совсем немного времени – и перед ней открылась дверь дома женщин…
Минуло десять лет. Симона стоит в подвале дома с танцевальными туфлями в руке. Колеблется, мечется из стороны в сторону, кладет их на полку, закрывает дверь, уходит, возвращается, забирает вновь. Может быть, она снова пойдет танцевать. Она еще не знает.
Поднимаясь к себе, она сталкивается с большим комом рыжей шерсти, который глядит на нее янтарными глазами.
– Иди ко мне, мой Жан-Пьер, иди, приласкай Симону.
15
Всю неделю стоят холода. Улицы опустели. Даже Жан-Пьера не тянет на ежедневную прогулку. В доме женщин тихо, все сидят по своим квартирам. На втором этаже у Жюльетты сплошные вопросы: мечтают ли ее соседки о мужчинах, думают ли о будущем, готовы ли так и прожить остаток дней без ласки? И на месте ли она здесь, с Королевой, разговаривающей с бамбуками, и фанаткой йоги, которая чуть что встает на голову? С тех пор как она поселилась здесь, ей не раз явственно представлялся закат ее дней. Сценарий всегда один и тот же.
Идет дождь. Жюльетта свернулась клубочком в дерматиновом кресле и смотрит в окно на сливающиеся серые краски неба. На ней фланелевая ночная рубашка, толстые бежевые чулки и уродливые тапки с помпонами. На коленях компактный радиоприемник, который она крепко сжимает обеими руками. На столике коробка шоколадных конфет. Все здесь старое: ковры, стены, мебель, люди. И она тоже старая.
Какой-то старик стучит ложкой по тарелке и вопит: «Компот, компот, компот!» Другой уставился в стену перед собой.
Временами появляются посетители. Они делятся на три группы. У первых унылый вид, вторые поглядывают на часы, третьи изощряются, как могут, чтобы увидеть проблеск разума в глазах тех, кого любят.
Реплики неизменны.
– А что у нас сегодня на обед?
– Санитарки не обижают?
– Не будь ребенком, ты же знаешь, как у нас тесно.
Соседка Жюльетты глуха. Она не слышит даже телевизора в общей комнате. От слухового аппарата, который предлагает ей доктор, отказывается. Она спокойна. Ее, должно быть, устраивает, что она больше не слышит идиотских шуток, которые кричит ей в ухо ее сын.
У Жюльетты посетителей нет. Ни детей. Ни любимого. Ни жениха.
И конец сценария-катастрофы всегда один и тот же. Старичок, похожий на тролля, с взъерошенными седыми волосами, улыбается ей. Задувает сто свечей на торте. Его зовут Авраам. Она откуда-то знает, что это принц. Прекрасный. Она распахивает двери, шкафы, выдвигает ящики. Но не находит ни бального платья, ни хрустальных башмачков. Бежит в свою комнату посмотреть, не висит ли над кроватью диадема. Кровать исчезла. Лишь костыли, вставные челюсти, судна.
Жюльетта вздрагивает: Жан-Пьер смахнул на пол книгу. Она хватает свой ноутбук и набирает адрес. Семнадцать тысяч пятьсот двадцать три мужчины зарегистрированы на этом сайте знакомств, только протяни руку и кликни.
Должен же отыскаться хоть один, чтобы спасти меня. Сегодня я найду мужчину! «Сегодня я завалю кабана!» – как говорят охотники. Мужчину, который посмотрит мне в глаза и скажет: «Я ждал тебя всю жизнь».
Жюльетта набирает новое объявление: «Я люблю босоножки на головокружительно высоких каблуках, городские легенды и черный шоколад с засахаренными апельсиновыми корочками». В рубрике «быстрый поиск» она выстукивает: «Женщина ищет Мужчину от 30 до 40 лет для Любви». Ну просто лавина парней! «Сирано, Красавчик-бандит, Зорро, Кис-кис, Эль-дьябло, Гэтсби, Джеклав, Привет-валет, Волчок…» У Жюльетты голова идет кругом. Перед ней дефилируют четыреста восемьдесят пять фотографий: пухлые щеки, тусклые лица, страшные рожи, сдвинутые брови, косматые бороды. Все быстрее и быстрее. Нет! Нет! Нет! Ни малейшего трепета. Фотографии общего плана не лучше: с пекинесом на руках, с ладонью бывшей на плече, с пластмассовым деревцем, с включенным телевизором (Canal+), с волосатым торсом, с большим мотоциклом. Она щелкает мышкой, открывая профиль.
Путешественник… это интересно! Куда же он собрался, путешественник? В Квебек на полгода. Не годится! Следующий!
На экране замигал конвертик: сообщение от «Зебулона».
Быстро здесь дела делаются, я же только что подключилась.
«Меня не волнует дата рождения. Морщинка может меня привлечь, взгляд смутить, походка пленить».
Я бы хотела быть единственной, кому ты это говоришь, Зебулон. А не двадцатитысячным кликом «копировать-вставить». Следующий!
«В нашей истории будет дивный свет и бьющие ключом мысли, нежность, неловкость, сладость, порыв и сдержанность, смех и звезды в глазах. Маленький Принц».
Если так будет продолжаться, придется идти на adopteunmec.com или dineradeux.fr[54].
На экране открываются сразу несколько окошек.
Надо же, «Лейка»… Наверное, любит фотографировать.
Вверху слева:
«Вы зашли ко мне и ничего не сказали. Кто вы? Я хотел бы увидеть ваши фотографии в полный рост, в профиль и со спины, прежде чем мы продолжим».
Он принимает меня за шкаф, выставленный на eBay! Следующий!
Внизу справа:
«Субботним вечером на нашей земле Париж играл джаз. Настроение было поэтическим, и воображение танцевало с образом: акробат и канатоходец на натянутой проволоке. Гэтсби».
Коснувшись пальцами экрана, Жюльетта тихонько шепчет:
– Ммм… Мне нравится эта тайна… Напиши мне еще, Гэтсби.
Что я делаю? Разговариваю с экраном? Я схожу с ума! И немудрено, так ум за разум зайдет!
Гэтсби исчезает. Появляется другой. Открывается диалоговое окно: «Денди247».
– Хотелось бы знать, пейзаж равнинный или холмистый?
– Изгибов больше, чем углов.
– Между нами что-то этакое происходит, тебе не кажется?
– ?
– Ты где обретаешься? Дай адресок!
– Я бомж.
Даже если бы я и хотела, парням в дом вход закрыт.
– Пока!
– Уже?
– А чего тянуть?
В 2013 году ложатся в постель, не зная ни имен, ни фамилий друг друга. Стрекоза и Кот в сапогах, со вкусом перепихнувшись, говорят: «Очень приятно, я Пьер Дюран». – «А я Жинетта Дюшмен». Смотри-ка, опять он, что он там говорит, Спиди-Денди?
– Тут русская секс-бомба только что зарегистрировалась. Надо действовать. Ты не передумала?
– Ты остаешься или держишь курс на запад?
– Я везде сразу. Здесь только выбирай. Напишешь бабе пару сообщений, посидишь за чашкой кофе и – опля! В койку! У нее прыщ на носу, следующая! У нее родимое пятно на щеке, переключаемся! Полтора десятка стучатся в стекло. И вдобавок это бесплатно. Бери пример с меня, пользуйся.
Тебе придется попотеть, если хочешь на мне жениться, Спиди247.
Жюльетте вспоминается маленький мальчик, тот, что отдал ей свой полдник, когда родители в очередной раз ее забыли: «На, возьми». Ей было семь лет, и уже двадцать пять лет она ищет его – защитника.
Наверняка он где-то есть, мой супергерой.
Она кричит на экран:
– Где ты? Покажись. Выходи из леса. Я ненавижу виртуал! Мне нужен настоящий мужчина! В машине рядом со мной! В отпуске! В жизни!
Она вскакивает, мечется по квартире, идет в кухню, съедает шоколадный пудинг, возвращается к компьютеру и падает на кровать. Пять часов утра. Еще двести тридцать семь мужчин онлайн.
Видела бы меня Королева!
Она кликает снова, и снова, и снова… она по горло сыта фотографиями. Стоп! Назад. Джад Лоу, затесавшийся среди уродов. Зеленый огонек! В сети! Он здесь! Совсем рядом!
От тебя пахнет кедром? У тебя теплый голос? Ласковые руки? Большое сердце, которое вместило бы все мои сомнения?
Она открывает его профиль, позабыв дышать. Читает… Это он! Она нашла его! Читает дальше. И внизу страницы – несколько слов: «Я ухожу с сайта. Я встретил женщину моей жизни. Я очень счастлив. Спасибо всем за ваш интерес и ваши сообщения. Удачи».
Не может быть! На какой-нибудь час раньше женщиной его жизни была бы я!
Жюльетта снова тащится в кухню, чтобы съесть второй шоколадный пудинг.
Приходит сообщение от «Берди», птички: «В данный момент все твои чакры закрыты».
У него что – хрустальный шар? Ни тебе здрасьте, меня зовут Воробушек, выпавший из гнезда, сразу в лоб – мол, чакры закрыты.
Она отвечает:
– Что значит – чакры закрыты?
– Даже зажаты. Первой должна открыться Ана Хата, врата души. Но потихоньку, не торопись.
Эта пташка для Розали. Они бы сели вместе в позу священного скарабея. Вот только Розали так и не забыла Франсуа. Все эти открытки на камине! Но как знать? Когда-нибудь. Или для Джузеппины. Ей нужен терпеливый, который приручит ее потихоньку, не торопясь. Откроет ее чакры одну за другой. То-то будет здорово – по мужчине на каждом этаже «Каза Челестина». Следующий!
«Вы не в моей возрастной группе. Я, надо думать, не тот, кого вы ищете. Нет в жизни совершенства! Эсташ».
Эсташ! Сколько тебе лет-то, с таким имечком? 73! Ты прав… я слишком молода, чтобы проводить зиму в Ницце. Следующий!
– Меня зовут Марко. Я люблю бродить по городу, открывать незнакомые места, заходить в темные залы под вечер, все фильмы с Одри Хепберн.
– В каком фильме она вам больше всего нравится?
– В «Римских каникулах».
– Мне скорее в «Войне и мире».
– Вы на нее похожи?
– Ничуточки, – отвечает Жюльетта.
Компьютер молчит.
В кои-то веки попала на мужчину, с которым можно нормально поговорить, и не идиота, так надо же было сайту зависнуть. Я, наверное, не туда нажала. Нет, это он отключился. Еще один такой – и я наброшу на компьютер простыню, как на клетку с попугаем, чтобы он уснул. Ну все, следующий будет тем самым. Ишь ты! «Зузу»!
Жюльетта смеется. Когда она была маленькой, соседкину черепаху звали Зузу.
Я не буду ему это писать, а то обидится.
Она набирает: «Кто вы?» Жмет на «отправить». Как будто это последняя шоколадка в коробке.
16
На первом этаже не спит Джузеппина. Жилище ее очень напоминает ее же лавку на блошином рынке. Все вещи тут с барахолки. Тележка носильщика с вокзала служит журнальным столиком. На старой цинковой стойке – затейливые подсвечники и три чучела маленьких леопардов. Напольные часы, тоже вокзальные, соседствуют с большими, начищенными до блеска металлическими буквами. Разнородные стили уживаются вполне гармонично: круглое кресло шестидесятых годов на современном мохнатом коврике оранжевого цвета, большой деревянный Пиноккио, у которого не хватает одной руки, зато нос невредим. Целая коллекция черно-белых фотографий в разномастных рамках: старые сицилийки в дверях своих домиков с закрытыми ставнями, нежащиеся на солнышке коты. У ножки разлапистого кресла, обитого фиолетовым бархатом, стоит бутылка сантагостино, уже изрядно початая. Джузеппина сжимает в руках фотографию Фортуны, своей дочки, которую так давно не обнимала. Прячет ее под подушку. И пьет маленькими глотками теплое красное вино, как пила в детстве, тайком, после трудового дня.
Это бывало всегда в сентябре…
Разросшаяся семья – три брата, три их жены и двенадцать детей – собиралась вместе для неизбежного ежегодного ритуала: в доме гнали контрабандное вино. Они всегда это делали. На родине, а теперь вот в этом городке на севере Франции. Ничто не могло им в этом помешать. С Сицилии приезжал грузовик, и они дожидались, когда уснут соседи, чтобы по-тихому выгрузить большие джутовые мешки, до краев полные черного винограда. Мужчины в несколько ходок спускали драгоценный товар в подвал рабочего домика в Валансьене. Голая лампочка качалась на проводе, заливая помещение желтоватым светом.
Джузеппина поднимает стакан, чокаясь с невидимым гостем.
– Видишь, папа, мне это нравится. Когда я была еще крошкой, мне подливали несколько капель вина в бутылочку с молоком. Это полезно для piccolini[55], говорил дядя Пепино. А позже я давила своими маленькими ножками виноград в двух больших деревянных чанах. Когда ты поставил меня туда в первый раз, края были выше моей головы. Весь день я должна была топтаться вместе со всеми. Так и слышу твой бас: «Avanti Cosetta! – Шагом марш, малышка!» Вечером я падала без сил, у меня болел каждый мускул. Ноги были лиловые, и несло от меня бормотухой. В школе девочки в розовых передничках смеялись надо мной.
В День святого Мартина вы с важным видом снимали пробу. В хороший год выходило четыреста литров на семью, по бутылке в день в течение года плюс еще несколько для крестин, дней рождений и причастий. Когда урожай был плох, ты рвал и метал… А через год все начиналось сызнова: грязные ноги, запах бормотухи, насмешки. Ваши традиции ломают девочкам жизнь! Я мечтала выучиться фотографии, хотела всем показать, на что способна, особенно братьям. Ты не разрешил. Сам ты не умел ни читать, ни писать. Учиться – смех, да и только, так ты думал. Ты убил мою мечту. Assassino![56]
Джузеппина пьет из горлышка.
– Пью что хочу, и не тебе мне запрещать. Больше никогда ни один мужчина не будет диктовать мне свои законы. Я свободна! Моим худшим воспоминанием детства я обязана тебе, папа! Ты помнишь? Крики, черный дым, перепуганные люди. Я делала уроки у тети Джины, когда услышала сирену. Сорвалась, побежала домой, а вокруг нашего дома уже стояла толпа. Пожарные не пускали тебя в дом, крыша вот-вот могла обрушиться, но ты сделал вид, будто не понимаешь по-французски, и растолкал их. Я видела, как ты вбежал в пламя и выскочил обратно, неся свои часы, цепочку с крестом и костюмы. Герой! Все соседи тебе аплодировали. Ты не вынес ни единой вещи, принадлежавшей маме или мне. Мне было двенадцать лет, и у меня не осталось ничего своего. Niente!
А теперь, когда я мало-мальски обрела покой, откуда ни возьмись эта девушка, эта «Жюльетта ищет любовь»! Явилась со своими дурацкими мечтами и всем заморочила голову. Когда я увидела ее с коллекцией туфель старлетки, сразу поняла, что ей нечего делать в нашем доме.
Джузеппина встает с бутылкой в руке, поднимается, хромая, на один пролет, отделяющий ее от квартиры Жюльетты на втором этаже. Волочить больную ногу сегодня особенно тяжело.
«Карла отправилась медитировать в свой ашрам и подсунула нам вместо себя беса. Моего мнения никто не спросил. А Королева-то сказала “да”! Плевать я хотела на королев. Долой монархию, к власти возвращается Муссолини!»
Она кричит через дверь:
– Что ты себе думаешь, новенькая? Я не вытянула счастливый билет, и тебе он не достанется! Решила, раз ты молодая да круглая в нужных местах, все у тебя получится? Так не бывает. Мало просто захотеть. Никто не заставит меня передумать, и уж тем более не девчонка, ни черта не смыслящая в жизни. До твоего приезда было лучше. Пакуй-ка свои чемоданы, а мы дождемся Карлу.
Джузеппина спускается на первый этаж, спотыкается, едва успев ухватиться за перила, возвращается к себе, запирает дверь, в последний раз присасывается к горлышку и швыряет бутылку в стену. Остатки вина стекают по голове и плечам Пиноккио.
«Я не ставила крест на любви, это любовь от меня отвернулась!»
17
Как всегда по вторникам, вот уже несколько недель, Жюльетта несет Королеве продукты из магазина. Список неизменно начинается с шести бутылок – стеклянных – минеральной воды «Вольвик», и младшая жилица, всегда предпочитавшая кино гимнастике, безропотно взбирается по лестнице с двумя тяжелыми корзинами в руках.
На лестничной площадке она узнает «Гольдберг-вариации» Баха и улыбается, вспомнив фильм «Английский пациент». Она могла бы воспроизвести его монтаж с закрытыми глазами, настолько крепко засел в памяти каждый эпизод. Она стучит, локтем толкает ручку, входит и, не успев даже пройти на кухню, чтобы избавиться от своей ноши, косится на бамбук на террасе – не высунула ли где свой носик почка?
Уф! Правда, если они цветут раз в сто двадцать семь лет…
Королева стоит в центре комнаты, ее фиолетовые глаза устремлены на Жюльетту.
– Стало быть, ночами ты, оказывается, таскаешься по мальчикам?
На меня стукнули!
– Кто вам сказал?
– У меня хороший слух.
Через три этажа? Бионические радиоуши, не иначе!
– Здесь их не было!
– Этого еще недоставало!
– Вы хватили через край с вашими бессмысленными правилами. По какому праву вы мешаете обитательницам этого дома снова попытать счастья?
– Они пришли сюда в поисках убежища. Я их защищаю.
– Нет! Вы их зомбируете.
Бунтарка резко ставит корзины на пол. Звякают бутылки «Вольвика».
– Им требуется передышка, убежище им нужно, чтобы зализать раны, собраться с силами и идти дальше. А здесь они точно в изгнании. Вы не можете так поступать с ними, любовь – это все!
– Я пережила тысячу…
– Знаю, «тысячу мужчин, тысячу искр». Но не всем же быть такими, как вы, дивами, коллекционирующими любовников.
– Замолчи, Жюльетта! Ты не знаешь, что такое жизнь звезды. Сегодня вечером в Нью-Йорке, завтра утром в Токио.
– Сколько уже лет вы не гастролируете?
Жюльетта смотрит на огромную черно-белую фотографию, занимающую половину стены: портрет мужчины, который хохочет, закрыв глаза. Она впервые читает черные буквы, которыми исчеркано его лицо: «безумие», его синонимы и всевозможные производные: «Рехнулся / Спятил / С ума сойти! / Без ума от радости! / Безумный мир / Сумасшедший дом». «Смешно до безумия» написано красным.
– Смеющийся мужчина – это красиво… В общем, теперь, надо понимать, этого единственного вам достаточно?
– У меня свои резоны.
– Но они-то, они еще слишком живые, чтобы поставить крест на любви.
– Не все такие, как ты, оголодавшая…
– Не такие, как я?! А почему Джузеппина кричала под моей дверью вчера вечером? Никто и не пикнул. Как вы объясните эти крики? Да просто она подыхает, оттого что никого не любит.
– Не лезь ты в это, девочка.
– Куда хочу, туда и лезу. Вы держите их при себе, как подданных, повелеваете ими… потому что вас это устраивает… чтобы не стареть в одиночестве. Вы выпускаете в окно шмеля, а женщины? Им вы подрезали крылья!
– Они улетают отсюда каждый день и возвращаются каждый вечер по доброй воле.
– А вы, когда они возвращаются, проверяете, не провели ли они кого контрабандой.
Королева опирается на подлокотник дивана и, морщась, садится.
Жюльетта не позволяет себе растрогаться от этой мизансцены. А может быть, гримаса адресована ее дерзости…
– Да вы и сами могли бы еще влюбиться.
– О! Я!.. Слишком поздно.
– Вам ведь не возраст мешает пленять, а ваша гордыня. Вы кончите соляным столбом.
– Я кончу как все балерины, которые измывались над своим телом, чтобы превзойти себя, достичь совершенства. Соляной столб без соли и шоколада. Только представь себе жизнь без шоколада. Да и все равно у балетных пачек нет карманов!
Если бы меня обнимал мужчина, мне бы меньше хотелось шоколада.
– Годы самопожертвования ради нескольких минут аплодисментов, – вздыхает Королева. – Сказка, высасывающая все соки. Нет больше энергии на физическую любовь. И потом, признаюсь тебе кое в чем… мы столько раз переживаем экстаз на сцене, что разве только боги могут заставить нас желать иных наслаждений. Равель говорил: «Моя единственная любовница – музыка». А мой единственный роман – с танцем.
– А Фабио?
– Фабио…
Лицо Королевы озаряется и хорошеет на глазах.
– Сартори. Он был директором Миланской оперы… Исключительный человек, утонченный, образованный… У нас были общие вкусы: итальянские озера, бельканто, старомодные особняки…
Как бы мне хотелось встретить красивого итальянца с домом в Тоскане… длинный стол под деревьями… большая семья, много шума и смеха…
– Любовь и рутина не уживаются, – продолжает Королева, словно читая мысли Жюльетты. – Останься я с Фабио на всю жизнь… он засыпал бы каждый вечер на одной и той же стороне кровати, и я знала бы, что он отправился в объятия Морфея, по знакомому храпу, с которым, при помощи берушей, свыклась бы. И у меня пропало бы желание, это естественно, через двадцать лет. Кому выносить мусор? Кому заполнять налоговую декларацию? Одни и те же слова, взгляд, постепенно теряющий блеск, время беспощадно. «Удиви меня», – говорит жена мужу, развалившемуся в кресле, как на рисунке Семпе[57].
– Вам выпало счастье встретить редкого мужчину, а вы струсили.
Королева уклоняется от новой стычки. Она предпочитает продолжить тему воспоминаний:
– Он понял, что я брошу его, и ушел первым. Подарил мне дом – и испарился, сам напуганный этой страстью, перевернувшей его душу.
Она с трудом сгибает ноги, чтобы обнять руками колени, и говорит тише:
– Может статься, что я прошла мимо иного счастья.
Женщины молчат. Жюльетта никогда еще не видела Королеву во власти сомнений. Балерина дрогнула. Нет, Жюльетта может видеть ее пошатнувшейся, но не упавшей. Она садится в ногах дивана.
– Когда мой отец в первый раз увидел, как я танцую, мне было десять лет. Мама была в больнице, она только что родила моего брата. После представления он повел меня обедать в шикарный ресторан. Я впервые открыла для себя изысканную кухню, хрусталь, романе-конти, услужливых официантов. А потом мы пошли в магазин и купили мне красивое бархатное платье. Он всем говорил: «Моя дочь – замечательная балерина». Через неделю у меня начались первые месячные. Его взгляд сделал меня женщиной.
Я продолжала танцевать, чтобы ему нравиться, чтобы снова услышать от него: «Моя дочь – замечательная балерина». Он умер внезапно, когда мне было двадцать. В газете написали «скоропостижно». Обаятельный, обходительный, низкий голос, изысканная речь, всегда верное словцо… Какой был мужчина… мой Папили!
– У вас есть фотография?
– В спальне. Ты увидишь… Он улыбается, склонившись перед маленькой девочкой в балетной пачке, а она делает ему реверанс.
А у меня никогда не было Папили.
18
Каждый день, направляясь за хлебом, Симона проходит мимо книжного магазина. Иногда заглядывает, иногда просто смотрит книги, выставленные в витрине. Ей хорошо знакома эта лавка. Запах старых полок из навощенного дерева и классическая музыка ее успокаивают. Ликование в голосе Марселя, когда он говорит о своей последней находке как об изумительного вкуса конфете, которую только что отведал, очаровывает.
Первую в ее жизни книгу ей подарила учительница в школе, это были «Проделки Софи». Деревенская девчонка, любящая читать, – такую редко встретишь. Родители бы ее не поняли. И она пряталась ночью в постели с фонариком. С тех пор так и осталась у нее привычка читать под одеялом.
Сегодня она пришла за подарком для Королевы. Биография Нуриева, может быть, или история русского балета… что-нибудь, что могло бы ей понравиться. Но начинает она с чтения карточек Марселя «читать непременно». Удовольствия ради, он так хорошо пишет. Всегда хочется купить сразу десяток. Она, однако, не поддается искушению.
Одно название привлекает ее взгляд в секции изобразительных искусств. Это каталог выставки «Мужское / Мужское» в музее Орсе. История мужского ню в искусстве с 1800 года до наших дней. Она проводит рукой по шершавой обложке, открывает том, ощущает пальцами бархатистость внутренних страниц, где выставлены тела, в цвете и черно-белые. Игра света и теней подчеркивает выпуклости и впадины. Кончики ее пальцев скользят по гармоничным изгибам, задерживаются на узловатых мускулах.
Как давно она не прикасалась к нагому мужчине? Последним был Карлос, учитель сальсы, десять лет назад, и это было в темноте. А тут – этот мужчина. Томный, расслабленный, дарящий себя ласке ее взгляда. Бесконечно длинная спина, округлые плечи, гладкая, нежная кожа. Симона водит пальцами по странице, по контурам тела, обводит кружком пупок.
Ей хотелось бы вылепить мужчину из мягкой глины, вымесить, как она месит тесто для хлеба. Придать ему форму своими руками, создать по своему вкусу. Она бы вылепила его лежащим, руки под головой, перевернула бы, наметила ямку на пояснице, подчеркнула изгиб ноги, выпуклое бедро, сформовала бугры ягодиц, великолепный рельеф полового органа.
Она косится на Марселя – тот погружен в чтение старой энциклопедии, очочки в стальной оправе сдвинуты на кончик носа, – потом снова смотрит на обнаженного мужчину в альбоме: человеческое тело, выступающее из холодного мрамора.
Ей вдруг представляется, будто он спит. И она там, на картинке, с ним. Ее присутствие будит его. Неподвижный мужчина поворачивает голову. Медленно-медленно. Видит ее, жестом приглашает лечь. Она ложится рядом. Их ноги переплетаются. Он протягивает руку. Ласкает ее грудь.
Резко захлопнув книгу, она отходит к секции садоводства, роется на полках, что-то листает не глядя, возвращается к изобразительному искусству и снова открывает книгу. Мраморный мужчина здесь. Не двинулся с места. Он ждет ее.
Его половой орган, напряженный, живой, исполненный желания, словно трепещет.
У Симоны вырывается долгий безмолвный крик.
Она выходит из магазина, не попрощавшись, забывает купить хлеб, встречает прогуливающихся людей, проходит мимо скобяной лавки братьев Леруа, не отвечая на их приветствие, уверенная, что произошедшее в книжном магазине пылающими буквами написано на ее лице. Как только она войдет в калитку дома, ее поймает с поличным на вожделении, чувственности, запретном удовольствии одна из «поставивших крест». А они – что они делают со своим желанием? Симона чувствует себя виноватой. Ей необходимо спрятаться, прийти в себя, забыть эту минутную слабость, остаться верной своему слову. Нет! Это было восхитительно, ей хочется еще. И не с фотографией. «Кто отведал сладкого, горького не захочет».
19
Следом за Розали они решили ходить раз в неделю в бассейн. Чтобы вылепить себе тело мечты, говорят они, смеясь.
Симона с некоторых пор задумывается об этом. Спрашивает себя, может ли она еще пленять… Она знает, что Аполлон из книги не про ее честь, что надо понизить уровень притязаний. Знает, что в обязательной шапочке будет выглядеть неавантажно, а тело ее не видело солнца с прошлого августа. Но ей и не хочется обманывать мужские взгляды. Она предстанет перед ними такой, какая есть. Пятидесятидевятилетней женщиной, плавающей в муниципальном бассейне.
Жюльетта счастлива присоединиться к их пчелиной деятельности. С первых дней именно так, пчелками, ей хочется называть обитательниц «Каза Челестина» – возможно, из-за их Королевы, которая живет на самом верху, как пчелиная царица в улье. Она с радостью ходит с ними в кино, на рынок – узнавать забытые названия овощей от Розали и Симоны, навещает Джузеппину в ее лавке на блошином рынке. Ей нравится запах поджаренного хлеба и гомон на лестнице. Нравится возвращаться вечерами в по-настоящему жилой дом и коротать воскресные дни за жужжанием. Но все это, увы, не греет ночью.
Вот они у калитки. В доме напротив отодвигается занавеска в окне первого этажа.
– Смотри-ка! Мсье Бартелеми, – говорит Розали. – Мы стали его главным развлечением. Он так скучает, с тех пор как не стало его жены.
По дороге они встречают Эрве, его отца, мать, сестру и сестриного белого пуделя с кисточкой на хвосте – семейство Сантюри в полном составе, – и Жюльетте думается, что они тоже, наверное, составляют престранную группу. Братья Леруа в серых передниках по обыкновению машут им, когда они проходят мимо скобяной лавки.
«Слишком поздно идти на попятный, – думает Джузеппина. – Я сказала им – в следующий четверг, а это сегодня. День выбирала Симона. Она почему-то особенно любит четверг. Может быть, потому, что мать рассказывала ей о выходных четвергах в вогезской деревне, когда она отправлялась на снегоступах охотиться на зайцев в лютую стужу. Остальные три, похоже, вполне в своей тарелке. Естественно. Им-то о чем беспокоиться? Идут себе впереди, шутят, смеются».
Симона, как настоящая жительница гор, шагает решительно и твердо.
Жюльетта задумывается, правильно ли выбрано время.
А Розали радуется предстоящим привычным ощущениям.
Бассейн выглядит мило, этакое местечко в стиле ретро: фаянсовая плитка, стеклянный потолок и, главное, допотопные индивидуальные кабинки для переодевания, окружающие его в несколько этажей. Инструктор открывает дверцы ключом-карточкой.
– С тех пор как они ввели ночные сеансы, здесь место встреч менеджеров-трудоголиков, страдающих бессонницей пловцов и геев, – говорит Розали.
Геев! Вот и найди здесь жениха на лето!
«Все эти люди любят плавать, – думает Джузеппина. – Тоже мне хобби!»
– Мне что-то холодно, пойду сначала выпью кофе и посмотрю на вас из буфета, – говорит она ворчливо.
– Идем с нами, – настаивает Розали.
«Ну почему я не сказала им, что боюсь воды? – грызет себя Джузеппина. – Попалась я в западню, как те зайцы, на которых охотилась Симонина мать».
Они боязливо идут по бортику бассейна со своими пластиковыми пакетами, смешные в одежде и обуви, и занимают четыре кабинки рядом.
– УХ ТЫ! ТЕСНОВАТО ЗДЕСЬ!
– Говори потише.
– Я как будто луковицу чищу… пуховик… сапоги… колготки…
– Не очень-то удобно, когда держишь руки по швам.
Интересно, покупают ли они еще сексуальное белье?
– У меня волосы не влезают под шапочку.
– А у меня тело не влезает в купальник.
– Завязывай с макаронами!
– Ха! Ха! Чтобы сицилийка завязала с макаронами!
Симона готова раньше всех. Она ждет их, озираясь. Температура воды двадцать шесть градусов. Это написано на табличке рядом с инструктором. Он сидит на металлическом стульчике. Наблюдает, порой с несколько отсутствующим видом. Она смотрит на его руки, скрещенные на оранжевых шортах. Крепкие, надежные руки. Скользит взглядом по его лбу, высокому и гладкому. Улыбнется ли он ей, когда она ухватится за лесенку, расположенную прямо напротив его стула? Проводит ли ее взглядом, когда она, осторожно ступая по голубоватой плитке, направится в женский душ? А открывая ей дверь кабинки, скажет ли что-нибудь о ее кроле на спине?
К ней присоединяются остальные: Розали в цельном купальнике, Джузеппина, закутанная в большое полотенце, Жюльетта в бирюзовом бикини, с телефоном в руке.
– Нет, посмотрите только на нас! Пухлячка, мерзлячка, спортсменка и старушка, – говорит Симона.
– Жаль, что нет Карлы.
– Постойте, я вас сфотографирую, – просит Жюльетта.
– Для обложки «Вог»? – прыскает Симона.
– Для Королевы. Ей понравится.
– Ты часто бываешь на пятом этаже? – спрашивает Джузеппина.
В бассейне плещутся волны: идет урок аквааэробики. Сколько женщин! Полтора десятка отважных созданий борются с силой воды и жировыми валиками.
Зачем, для чего все эти смешные движения? Чтобы нравиться, для чего же еще!
– Запишемся? – предлагает Жюльетта.
– В другой раз, – поспешно отказывается Джузеппина.
Жюльетта смотрит на двери кабинок. По пятьдесят на каждом из трех этажей. Открываются дверцы – всякий раз это все равно что клик на профиль с сайта знакомств.
Если у человека на голове уже шапочка, а на носу пластмассовые очки и прищепка, это по определению неприятный сюрприз.
Появляется чернокожая принцесса. Покачивая роскошными ягодицами, поблескивая гладкой кожей, она идет на бесконечно длинных ногах вдоль бассейна, не заботясь о впечатлении, которое производит на Жюльетту с ее округлостями.
Так нечестно! Это гены!
Маленький мальчик в трехцветных плавках и желтых нарукавниках налетает на Розали. Он тонет в слезах: инструктор, занятый уроком, его не заметил. Розали опускается на колени на мокрую плитку, чтобы заглянуть ему в лицо.
– Как тебя зовут?
– Трииии… стан.
– Твоя мама, Тристан, она какая?
– Кра… сиии… вая.
– Она сейчас придет, просто пошла пи-пи или за камерой, чтобы тебя сфотографировать. А ну-ка покажи мне, как ты улыбаешься.
Тристан корчит страшную рожу.
Подбегает мама – маленькая, краснолицая, с кривыми зубами, – прижимает сынишку к себе, бросает едва слышное «спасибо», и они, смеясь, прыгают в воду.
Маленький Тристан позабыл о Розали, и она опять одна. Она думает о Флоре, Бенжамене и Ариэле, своих вымечтанных детях.
– Я, пожалуй, поплаваю. Бассейн как-никак, полагается.
Лучший момент для Розали – это прыжок вниз головой в воду. Она чувствует себя дельфином. Вода смывает все мысли. Она перестает думать, когда плавает, тело расслабляется, ему хорошо. После она чувствует себя чистой, невесомой, звонкой, готовой встретить день или ночь. Все стрессы как рукой снимает.
– Я сейчас, – говорит Жюльетта.
Она заметила маленькую старушку, стоящую в нерешительности перед кабинкой номер семь. Купальник висит на ее хрупком тельце, как будто она скукожилась. Морщинистая, руки в пятнышках. Белые волосы связаны в пучок, шапочка в руке; вот старушка уже семенит осторожными шажками.
Это я когда-нибудь.
В последнее время Жюльетте кажется, что дни мелькают быстрее. Она смотрит на старушку – как бы та не поскользнулась. Ей хочется спросить, хорошую ли та прожила жизнь, была ли в этой жизни большая любовь. Но отвлекается на высокого брюнета, идущего прямо на нее.
А он ничего себе, этот, в черных плавках. Поднимет глаза? Нет! Такой весь из себя сосредоточенный, пришел поплавать. Как и все. И не стоит тебе плавать поперек дорожек, чего доброго, пришибут перепончатой рукой.
Симона смотрит на часы и решает плавать двадцать минут, не останавливаясь. С ее темпом это будет триста метров. Для начала она бьет по воде ногами, держась за доску. Ей кажется, что каждая нога весит тонну. Надо было надеть ласты. Все обгоняют ее. Какая-то мамаша с сыном в трехцветных плавках прыгают в воду, обдав ее брызгами. Она выпускает доску. Кроль на спине – ее фишка. Давненько это было! Она плывет медленно, надеясь не наткнуться на кого-нибудь. Осторожничает и у стенки, разворачиваясь куда менее грациозно, чем это делают пловчихи в телевизоре. Время от времени она поглядывает на часы – что-то стрелки не торопятся – и заканчивает свою программу, совсем запыхавшись. Двадцать минут в ее возрасте, пожалуй, все-таки многовато для первого раза. Она пытается послать инструктору телепатическое сообщение… оставляющее его совершенно равнодушным. Ладно, пусть не сегодня. Она придет в следующий четверг. Она видела в «Монопри»[58] купальники поярче и более открытые. Как знать? Может быть, они понравятся мужчине на металлическом стульчике. А если нет, что ж, на четвергах она поставит крест.
Сидя на бортике, Джузеппина смотрит на дорожки, где мельтешат, то выныривая, то скрываясь, руки. Загорелый брюнетик, фигуристый, торс в виде буквы V над тесными красными лайкровыми плавками и кривыми ногами, подсаживается к ней.
– Ты не плаваешь? Твои подруги уже в воде, я видел, как вы пришли.
Он похож на ее мужа Луиджи. Чего, спрашивается, ему надо?
– Мне холодно.
– Пойдем выпьем кофе?
– Lascia mi in pace[59].
– Жаль, ты миленькая. Смотри на меня, я сделаю сальто назад спецом для тебя.
Жюльетта и в воде думает о старушке. Она плавает, чтобы кожа была крепкой и гладкой, зная, что однажды, что ты ни делай, от нее останется лишь воспоминание. А потом она забывает и о старушке, и о мужчинах, и о своем теле. С удовольствием расслабляется в ласкающей воде. Чувствует себя легкой – это с ней нечасто случается.
Одна за другой они выбираются к Джузеппине.
– Уже час вас жду.
– Ты была в хорошей компании.
– «Прячь курочек, когда петух на дворе», – комментирует Симона.
– Петух в красных плавках!
– Я продрогла, – жалуется Джузеппина.
– Ничего удивительного, купальник у тебя сухой. Ты не плавала!
– Может, пойдем в хаммам?
– Отличная мысль. Латифа нас помассирует.
– Кожа после этого такая нежная! – подхватывает Розали.
Зачем нужна нежная кожа, если никто ее не ласкает?
Они входят в клубы густого пара и ощупью ищут теплые лавки.
– Как будто в горах.
– Только лыжников не видно.
– Люди, ау…
Все смеются.
Жюльетта вспоминает тот день, когда она вселилась в их дом:
– Помните, как мы в первый раз поговорили? Совсем как здесь, не видя друг друга.
– Такое не скоро забудешь. «Кот не заменит мужчину» – это ты сказала.
– И я по-прежнему так думаю.
Клубы пара безмолвствуют.
– Но вы-то, вы действительно поставили крест? – спрашивает Жюльетта.
Клубы пара сгущаются. Она настаивает:
– На всю жизнь? Или все-таки на время?
Первой откликается Симона:
– Никогда не говори «никогда».
Джузеппина срывается на крик:
– МЫ НЕ БУДЕМ ОПЯТЬ ЗАВОДИТЬ РАЗГОВОР О НИХ!
– Поставить крест на слове «люблю»? – упирается Жюльетта.
– Любишь по-настоящему только один раз, – вздыхает Розали.
– А желание? Куда оно делось? Улетучилось?
– Желание тает, как мы в хаммаме.
Жюльетта смеется:
– Будьте аккуратней, девочки! Оно дремлет и может вдруг проснуться, как спящий вулкан.
– Я не хочу доживать свой век с Жан-Пьером, – совсем тихо произносит Симона.
– Ах! Желание… прекрасная тема.
Все молчат, ошеломленные. В тумане хаммама прозвучал мужской голос.
А я думала, здесь только для женщин.
– Желание – это Этна, Везувий, Стромболи, – продолжает бас.
– Я думала, мы одни, – шепчет Розали.
– Вы поставили крест на мужчинах?
Все молчат.
– Я всегда возводил женщин на пьедестал. Женщины сильнее, мужественнее, искреннее нас. Я сошел бы с ума без женщины. Жизнь без женщины – не жизнь. Я люблю мою жену.
Это что за неопознанный объект, объясняющийся в любви к своей жене в хаммаме?
– Женщина – вулкан, и это чудесно.
Из клубов пара вырывается сдавленный смешок.
– Это же сказочно – желание изо дня в день.
Они больше не смеются, прижались друг к дружке теснее, сидят плечом к плечу, лица обращены к голосу.
– Я верю в искренность, в настоящие чувства. Мне отрадна мысль, что я проживу всю жизнь с женщиной, которую я выбрал и которая сказала мне «да».
В хаммаме воцаряется тишина.
Они всматриваются в клубы пара, пытаясь разглядеть в них силуэт. Хлопает дверь. Жюльетта встает, ощупью ищет выход, толкает дверь, смотрит направо, налево. Бас исчез.
Клац-клац-клац-клац. Инструктор открывает четыре кабинки. Жюльетта оказывается нос к носу со своим отражением в зеркале: лицо бледное, глаза красные, мокрые волосы прилизаны, под глазами следы от очков.
Я понимаю, почему мужчины так любят плавать.
20
Всякий раз, когда они садятся на красный бархатный диван, разговор переходит на личное. После давешней пикировки установился новый ритуал. Горячий шоколад и пирожные «мадлен», поданные в восхитительных чашечках и тарелочках из тонкого фарфора, поглощают в молчании. После чего Королева приступает к повестке дня:
– Опять гуляла ночью по Всемирной паутине?
Если скажу «да» – казнить, нельзя помиловать.
– Да.
– И они дерутся из-за тебя на дуэли?
Три года условно.
– Опасаться нечего. У меня не очень хорошо получается.
– Знаешь, в чем разница между компьютером и Аль Пачино? Аль Пачино – животное из плоти и шерсти!
Однако там попадались редкие виды. Целый зоопарк!
– Я обожаю Аль Пачино!
– Помнишь сцену танго в «Запахе женщины», когда он танцует с незнакомкой, чей запах ему понравился, – воодушевляется Королева и, поднявшись, скользит по паркету – одна рука на бедре, другая протянута к горизонту – в объятиях невидимого партнера.
Остановившись, она морщится от боли, потирает плечо и садится. Жюльетта будто бы ничего и не замечает.
– Но если ты еще не поставила крест…
Жюльетта смотрит Королеве прямо в глаза:
– Если я поставлю крест – упаду.
– Как это – упадешь?
– Любовь – мой центр тяжести.
– Ходить, танцевать, падать, стариться… Наша жизнь – сплошной дисбаланс…
– Иногда приходится учиться стоять на ногах самой… это очень трудно. Как вы можете жить без танца? Без мужчин?
– Это другая жизнь… Слушать цикад, страстно любить бамбук. Видишь то, чего раньше не замечала, маленькие радости становятся большими.
– Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь пошел мне навстречу.
– Мужчина не балансир. Мужчина – это игра, непредвиденное, момент безумия…
– А я бегу, чтобы не упасть. Боюсь пустоты.
– Похоже, пока тебе встречаются только странные принцы в бумажных коронах.
Которые улетают от первого порыва ветра.
– Идем.
Жюльетта входит в королевскую гардеробную. Все стены комнаты заняты шкафами с прозрачными дверцами. Десятки всевозможных нарядов развешены по цветовой гамме: белые, бежевые, светло-серые и дальше от ослепительно яркой фуксии до темной сливы. Лодочки, балетки, ботильоны – у каждой пары свое место. Жюльетта вспоминает свою обувь, сваленную грудой посреди комнаты. Две пачки висят на распялках. У одной корсаж обшит изумрудными перьями, у другой – из гранатового бархата.
Это ее музей!
– Сядь сюда, – говорит Королева Жюльетте, указывая на меховой пуф. – Что ты наденешь на следующее свидание? Только не что-то новое! Наряд, в котором с тобой уже было что-то хорошее, такой, чтобы уже зарекомендовал себя.
Мой старенький спортивный костюм, растянутый и с короткими штанинами.
– Знаешь, мир балета полон предрассудков. Одна балерина говорила мне: «Если вы надели костюм наизнанку, ни в коем случае не переодевайтесь, это к несчастью». И я однажды танцевала «Щелкунчика» в пачке наизнанку.
А если я надену наизнанку трусы, переодевать или нет?
– Я часто носила кольцо моей бабушки, – продолжает Королева. – Но каждый раз, когда оно было на мне, вечер оказывался неудачным. Теперь оно лежит в шкатулке. А если ты что-то забыла, возвращаться нельзя. За тобой следует ангел. Если ты вернешься домой, он тебя оставит.
Ангел пойдет со мной на свидание, мне это нравится.
– Соблазн происходит через движение. Не прячь свои округлости, показывай их с изыском. Демонстрируй шею, пока еще можешь. Мне-то слишком поздно, лебедь улетел.
– Вы…
– Носи вещи, похожие на тебя, цветные, веселые.
Королева протягивает ей шелковую блузку мандаринового цвета с головокружительным декольте.
Жюльетта ищет глазами зеркало.
Королева меняется в лице.
– Не ищи, их здесь нет. Примеришь потом.
Однажды вечером в припадке ярости она перебила все зеркала в квартире, от самых больших до самых маленьких, придя в ужас от безобразной старухи, занявшей ее место за стеклом.
А твои советы обольстительницы? Уж точно не шелковой блузкой, пусть даже мандаринового цвета, я их очарую.
– Скажи себе, что лучшее твое украшение – твой взгляд. Смотри ему в глаза…
Мотор! Съемка!
– Ничего не говори… а когда он задаст тебе вопрос… отвечай не сразу. – Она медлит. – Выжди… а потом удиви его чем-нибудь, не имеющим никакого отношения. Мужчину надо завести туда, куда он и не чает попасть. Будь неуловимой, как стрекоза, – он думает, что ты здесь, а ты уже упорхнула.
Очень я похожа на стрекозу.
– Но смотри! Это рецепт на один вечер, а не домашний супчик на всю жизнь.
Если это ради того, чтобы доживать свой век без зеркал, в квартире на последнем этаже, то я еще подумаю.
Королева останавливается перед Жюльеттой:
– Пользуйся моментом и уходи с трофеем.
Все-таки она молодчина. Вот бы Макс стал мухой, чтобы увидеть это. Ох, нет! Не надо мухой, она выбросит его в окно.
– С трофеем? Что за трофей?
– Ощущения. Огонек в глазах мужчины, электрический разряд, пожар.
Короткое замыкание!
– Не забывай, что это ты правишь бал.
– А я предпочитаю, когда мужчина ведет меня в танце.
– Это потому, что ты еще дебютантка.
21
Как и каждую ночь, Жюльетта оставила включенным радио, чтобы не просыпаться в тишине.
«Следы… смотрите на следы… следы шагов… наши следы… вы слушаете “Франс Интер”… начинаем… передачу “С нами говорят”».
Жюльетта заклинает радио, подтыкая со всех сторон уютное пуховое одеяло:
– Еще немножко!
В ватном тумане она улыбается, слыша голос Паскаль Кларк[60], спрашивающей своего гостя: «Мсье Маалуф[61], вы пишете в “Сбившихся с пути”: “Надо ли было уйти? Остаться? Бороться? Забыть?” Удалось ли вам приручить вашу идентичность? Пантеру, как вы ее называете…»
Жюльетта тоже хочет понять, откуда она взялась, ищет следы. Книга «Иудаизм для чайников» лежит рядом, открытая. В ногах кровати компьютер, журнал Studio Ciné Live[62], биография Педро Альмодовара, виановская «Пена дней», обертки от шоколадок и посреди всего этого бардака – пособие «Порядок от А до Z».
«23 сентября 2013, День святого Константина, ожидается хорошая погода, и окна в студии уже открыты».
Двадцать третье сентября! Это, может быть, последний день одиночества до конца моих дней! Что я расскажу ему о себе? Только бы он не спрашивал меня о семье и почему я в тридцать один год одна. Что бы сказала на это Паскаль Кларк? Уж она-то наверняка не задается такими вопросами. Вопросы она сама задает.
Фильмы, с тех пор как она посмотрела «Золушку», переносят Жюльетту в другой, лучший мир. Ей, выросшей без родительской ласки, уверенность, что и ее однажды полюбят, как любят в сказках и в кино про любовь, сохранила жизнь. Вот только своего Прекрасного принца она до сих пор не нашла. Да и есть ли он на свете? Что нет Деда Мороза, она знает с трех лет. Отец сказал ей однажды декабрьским днем: «Я не хочу, чтобы моя дочь верила во все это надувательство». Назавтра в школе она повторила это всем. Один мальчик заплакал, другой стал кричать: «Я ХОЧУ ПОДАРКИ!» Учительница рассердилась. Жюльетту наказали.
Выпроставшись из теплого одеяла, Жюльетта переступает через свою рассыпанную маленькую жизнь и смотрится в большое вычурное зеркало над камином. Ей хотелось бы проснуться стройной и загадочной. Но она видит женщину с непослушными кудрями цвета красного дерева и пышными формами.
Его ли я размерчика?
Он ищет в мобильном сообщение: «Всего двадцать часов до знакомства с вами. Я затаил дыхание. Зузу».
– Тронешь ли ты мое сердце, Зузу? – шепчет она своему телефону, кривя губы… – Уйдем ли мы с места встречи рука об руку?
Огромную надежду возлагает она на этого Зузу, как если бы он был последним мужчиной на земле. Ей не надо больше ни временного спутника, ни мужчины по мерке, который заполнил бы пустоту в ней до миллиметра. Не надо гигантского в мечтах и крошечного в жизни. Не надо встречи двух нетерпений. Самцов с твердым членом и зыбкими обещаниями. Ночей без завтрашнего дня. Она больше не хочет быть проходным двором. Хочет остановиться в своей безумной гонке, убрать подальше чемоданы. Просыпаться рядом с одним и тем же мужчиной каждое утро. Раздвигать занавески и говорить своему милому: «Что будем делать сегодня?» Возвращаться домой, где он ее встречает вопросом, как прошел день, и задавать ему тот же вопрос. Пусть будет несовершенный мужчина, пусть будут ласковые слова, нежные жесты. Что дальше – не угадать. Она ничего не хочет знать насчет откровений, клятв, удара молнии под симфонический оркестр, прекрасной истории любви в красках. Она хочет увидеть начало фильма, а не финальные титры.
Довольно умствовать, быстро под горячий душ.
Оставляя дорожку капель на полу, Жюльетта бежит через всю квартиру, чтобы взять со стула полотенце, и долго вытирается, закрыв глаза. Чистый мягкий хлопок всегда действовал на нее успокаивающе.
Она вспоминает советы Королевы: «Только не что-то новое».
Мне пришел в голову мой старый спортивный костюм, но в нем можно подумать, будто у меня 48-й размер.
Она надевает свое любимое белье, старые джинсы, шелковую блузку мандаринового цвета, пожалованную ее королевским величеством, очень надеясь, что блузка принесет ей удачу, расчесывает волосы.
Как бы то ни было, через три минуты от меня уже ничего не будет зависеть.
«А сейчас славные парни из Muse исполнят Feeling Good[63]. И вам того же желаем, тем более что сегодня пятница», – весело мурлычет голос диктора.
Жюльетта улыбается. Эта песня – знак, что свидание пройдет хорошо. К тому же сегодня не просто пятница, а День святого Константина.
Подхватив свою большую сумку, она швыряет туда вперемешку еще две туники, тюбик губной помады, флакон духов, тетрадь, три шариковые ручки, телефон, плитку шоколада. Смотрит на десятки пар туфель, сваленных в кучу на полу, колеблется между бежевыми и черными, выбирает те, что больше всех удлиняют ноги, – красные босоножки на невероятной высоты каблуках, женственные и неудобные, сказал бы Макс.
Потом берет с камина открытку с заснеженными горами Раджастана, пришедшую вчера. «Это не мы совершаем путешествие, это путешествие нас вершит, создает и творит. Ганеша, Шива и все здешние боги сопровождают меня. В этой стране люди сплетают гирлянды из жасмина, чтобы почтить своих божеств, а я сплетаю гирлянды из благодарности, думая о тех, кого люблю. Yanike Shandoshan hano: I’m happy! Я счастлива! Не волнуйся, моя Жюльетта, это не мистический бред. До встречи через три месяца. Целую. Карла».
Жюльетта сует открытку в сумку, набрасывает кардиган, трогает, выходя, мезузу, которую повесила на притолоку входной двери в день своего приезда, спускается на два пролета, поворачивает назад, возвращается в квартиру, бросает в сумку сланцы, хлопнув дверью, сбегает по лестнице, забывает закрыть за собой калитку и, обернувшись, бросает взгляд на дом.
Прощайте, девочки! Лично я не хочу ставить крест.
22
У Симоны запланировано на сегодня два дела: отдать в чистку большую скатерть Королевы и встретиться с сыном – ей хочется с ним поговорить. Уже несколько дней она об этом думает. С утра она трижды проходила мимо витрины прачечной, где работает Диего. Теперь, воспользовавшись моментом затишья, входит.
Перед ним большая стопка белья. Он видел, как она вошла. И по ее натянутому виду и чопорной походке догадывается о цели визита.
– Здравствуй, сын.
– Привет, мам.
Обычно она зовет его Пиупиу, но для серьезных разговоров в ход идет всегда «сын».
– Мне грустно.
– Я работаю. Сама видишь.
– Не беспокойся, я не спешу.
Симону не назовешь классической матерью. «Маргиналка», говорит Диего, когда злится на нее и хочет уколоть. «Как, по-твоему, я могу встать в строй с таким примером перед глазами?»
Она таскала его с собой повсюду; вместе они переезжали, вместе делали ремонт в новых квартирах, меняли работу, затягивали пояс в конце месяца, запоем читали и иногда выкуривали по косячку. Они лаются порой, но любят друг друга.
И она не может быть с ним в ссоре слишком долго. Поэтому всегда делает первый шаг. Он-то – порох, да и поупрямее. Аргентинская кровь.
Присев на пластмассовый стул, она смотрит, как он работает. Движения его точны и размеренны. Когда он разгружает машину под номером семь, низко склонившись над корзиной, она не выдерживает:
– Ты все еще злишься на меня?
– Да.
– Давай поговорим.
– Сейчас не время.
– У тебя всегда не время.
Ей хочется помочь ему разгружать машины, но предложить она не решается. Смотрит на него и ждет.
Она всегда недоумевала, как это ей, с ее заурядной внешностью, удалось произвести на свет такого красавца. С некоторых пор ей трудно смириться с приближением шестидесятилетия.
Никому и в голову не придет, что они мать и сын, думает Симона. Она – с серыми, коротко остриженными волосами, ненакрашенная, в мужских брюках и поглаженной на скорую руку рубашке, в кроссовках, все это ее не молодит. Он – в джинсах, ладно сидящих на бедрах, в белой футболке с прорехой на локте. Он похож на сексапильного англичанина, раздевающегося посреди прачечной под ошеломленными взглядами домохозяек в рекламе «ливайсов-501». С непокорной прядью, падающей на блестящие черные глаза, он красив естественной красотой. Породистый жеребец, весь в отца.
Он садится наконец на стул напротив нее, между сушкой и гладильным валком.
– Ни одну мою подружку я не могу привести к матери. На этот раз с Лорой у меня серьезно. Я не хочу ее потерять. А ей это покажется странным.
«Лора думает, Лора говорит, Лора готовит киш как никто». Мнение Лоры становится важным, думает про себя Симона. Когда она впервые увидела, как сын смотрит на женщину с восхищением, что-то странно торкнуло у нее в районе пупка.
– Вы все такие же чокнутые? Боитесь мужчин, что ли? Ты и одного не смогла удержать. Даже моего отца!
Он встает, вынимает простыни из-под гладильного валка, продолжает работать, не прерывая разговора. Интересно, думает Симона, кто научил его так складывать простыни? Не она.
– А как же тогда все эти фильмы про любовь, на которые ты меня водила в детстве и говорила: «Смотри, милый, как это прекрасно»? – Он снова садится. – Сколько уже времени ты там живешь?
– Десять лет.
– Десять лет мне вход воспрещен, как парии.
Это правда, думает Симона. У меня лучший в мире сын, а я даже не могу пригласить его к себе домой. Это уж чересчур. Королева могла бы сделать для него исключение! Хотя откуда ей знать, у нее-то нет детей. Может быть, мне стоит переехать?
– В квартале судачат, – продолжает он. – Это так и будет продолжаться?
– Я устала от этого спора, Диего.
– Любовь мужчины кое-что тебе дала. Вот он я!
– В моей жизни много замечательных мужчин. Первый из них зовется Диего. Есть еще Фернан, твой дед, достойнейший человек, мои друзья…
Диего перебивает ее:
– Почему же тогда ты поставила крест?
– Я не поставила крест на мужчинах. Я просто не хочу больше получать от них плюхи.
Две клиентки оборачиваются на нее.
– «Каждый стережет своих коров, и волк не страшен».
– Запершись в доме? «Каза…» как его там…
– «Каза Челестина».
– В заложницах у двинутой Королевы.
– Мы свободны. Мы добровольные квартиросъемщицы. И не небоскреб же это, просто небольшой дом. Пять женщин, одна из которых вовсе не поставила крест на мужчинах. В планетарном масштабе это ничтожное меньшинство, не эпидемия же.
Заинтересовавшиеся клиентки подходят ближе.
– Улей без самцов! Так бы и опрыскал его инсектицидом!
– Пара – не единственная модель. По-разному можно быть счастливыми.
Клиентки смотрят на свое белье, которое крутится в барабанах на программе деликатной стирки, а уши так и навострили, слушая Симону.
– Хочешь, я расскажу тебе про дом мужчин, куда запрещен вход женщинам?
– Этого, мой мальчик, не может быть. Никогда не поверю.
Две клиентки согласно кивают, не сводя глаз со своих трусов и бюстгальтеров.
Нет сегодня нежности между Диего и Симоной. Нет того нежданного счастья, заливающего ее щеки румянцем удовольствия, когда ее большой мальчик вдруг обнимает ее сзади и говорит: «Приласкать тебя, мамочка?»
– Я желаю тебе большой и прекрасной любви, сын. Если Лора тебе действительно нравится, не раскачивайся слишком долго. А то ведь «разборчивая невеста старой девой останется».
– В пословицах ты всегда была чемпионкой. А сама-то так замуж и не вышла.
– Мне никто не предлагал.
– А ведь мужчин-то хватает. Ладно, мне надо работать. Я еще должен сложить двенадцать пар простыней и сто двадцать пять полотенец для соседнего ресторана.
Симона выходит, шагает по улице. При мысли о ста двадцати пяти полотенцах для ресторана ей хочется пригласить сына на пиццу «четыре сыра» вдвоем. Без стопок белья и без дома между ними. Она возвращается назад, толкает дверь:
– Я приглашаю тебя поужинать сегодня вечером.
23
Он расхаживает взад-вперед: придет ли она? Его страшит этот переход от переписки к реальной жизни, когда девушка, надо понимать, ждет, чтобы он взял инициативу на себя. Если надо быть мужчиной и распускать хвост, пусть подаст явственный знак, чтобы у него хватило духу. О чем он будет с ней говорить? Он надеется, что у нее красивый голос. А то у последней был голосок Лягушонка Кермита[64]. Надо было ему надеть бежевый свитер, тот, что он никак не решится выбросить. Он чувствовал бы себя комфортнее, чем в этом костюме, в котором ходит на работу. Но он не успел зайти домой переодеться: не хотел заставлять ее ждать. Она опаздывает. Может, и вообще не придет. Он решает дать ей еще пять минут и тут видит вдали беличью головку с наушниками в ушах и ноги в красных босоножках на высоченных каблучищах.
Жюльетта вышла на две станции раньше. Если пройтись, слушая свой «душевный» плейлист, глядишь, и успокоится. Нет. Холодный пот. Перед рестораном «Senza Nome» мужчина поглядывает на часы. Антрацитово-серый костюм, белая рубашка, начищенные до блеска «вестоны».
Это, наверно, он, он ведь писал, что коллекционирует английскую обувь. Что-то не похож на фотографию, которую мне прислал. Выше ростом. Держится очень прямо. Вид уверенный. Должно быть, ему не привыкать. Что делать? Подойти? Не подходить?
Крепко сжав шоколадный батончик в кармане, Жюльетта уже собирается повернуть назад.
– Я жду «Принцессу-Недотрогу». Это случайно не вы?
Жюльетта чувствует, что краснеет.
– Нет… то есть да… вообще-то меня зовут Жюльетта.
Я прохожу кастинг на главную роль и не получила текста.
– Значит, «Принцесса-Недотрога» – это не вы?
– Ники меня раздражают, это мой друг Макс придумал.
Зачем я говорю о Максе?
– Вы правы, меня зовут Робер.
Я так и думала, ты не похож на Зузу.
– Вы легко меня нашли?
– Ошиблась пересадкой, я вообще рассеянная.
Уу! Врушка.
– Но вы все же пришли.
– Это Макс настоял.
Боже, до чего я бестактна!
– Спасибо Максу, – кивает Робер, спрашивая себя, что же это за Макс такой, в каждой бочке затычка. – Мне было любопытно узнать, кто скрывается за этим изящным слогом: «Узнавать друг друга постепенно, шаг за шагом, штришок за штришком, как пишется картина, как проявляется фотография». Это, надеюсь, не Макс писал?
– Макс мой лучший друг.
Робер достает сигарету из мятой пачки, предлагает ей. Уже несколько месяцев она не курила. С первой затяжки начинает кашлять.
Вот тебе и «Принцесса-Недотрога»!
Они так и стоят на тротуаре, ничего не говоря. Молчание затягивается. А вокруг продолжается жизнь. Люди идут мимо, огибая их.
Наверняка их кто-то где-то ждет. Кто-то, кому есть что им сказать.
Жюльетта посматривает на Зузу-Робера.
Я вижу, ты не решаешься предложить мне стаканчик вальполичеллы под папарделле алла ноче, о которых с таким энтузиазмом говорил из-за экрана.
Он потирает подбородок и щеки. Чувствует себя голым, пустым, без единого довода. Она продолжает посматривать на него искоса. И чем больше смотрит, тем яснее видит высокого сухаря в очках, свежевыбритого и очень самоуверенного.
И где же твоя трехдневная щетина, придававшая тебе невероятно задиристый и такой аппетитный вид?
А он? Он мечтает о милой девушке, которая взяла бы его за руку. Самоуверенных людей он побаивается, экспансивность напоминает ему его мать, высоковольтную диву, с которой он всегда чувствует себя не в своей тарелке. Надо полагать, эта монтажница с киностудии в декольтированной ярко-оранжевой блузке, с распущенной гривой и на ходулях знает наизусть все сцены киношных свиданий. Ему никогда не дотянуть до ее внутреннего кино.
А она? Она хотела бы встретить мужчину одновременно надежного и пылкого. Который крепко стоял бы на ногах и толкнул бы ее в подворотню, чтобы впиться пламенным поцелуем. Не бегуна на сто десять метров с барьерами. Марафонца, который держал бы дистанцию и после того, как схлынет всплеск новизны, когда тела воспаряют, а скептетизм спит крепким сном. Лесоруба-гуманиста, философа, разводящего устриц, из фильма «Маленькие секреты»[65], виноградаря, влюбленного в слова. Того, кто увлек бы ее, рассмешил, оторвал от земли. Жюльетта вздыхает. Какой он серьезный, этот Робер. Скучный, как дождь.
Мои феромоны подпирают стенку. Не хватает свинга, чтобы закружить их в танце.
Она слышит, как голос Макса шепчет ей на ухо: «Терпение, моя Жюльетта, чуточку терпения. Не спеши с выводами… Априори свои, разложенные по полочкам, смети одним махом».
Макс, заткнись!
«Не упирайся. Услышь тихую музыку, которую он играет тебе. Зайди хоть немного подальше».
Может быть, ты и прав. У него зеленые глаза, и я вижу краешек футболки с корабликами, высовывающийся из-под наглаженной рубашки.
– Знаете, я, наверное, поужинаю один.
Пять слов лопаются пузырями, унося благие намерения Жюльетты.
– Но почему?
– Зажигание не сработало.
Восьмилетняя девочка, которую словно стерли ластиком, стоит на тротуаре, и сердце ее ноет, а в животе поселилась пустота.
Я не его размерчика. Я одета не в тот цвет. Не принесла мне удачи эта блузка! Надо было раньше сообразить, она же совершенно немодная и к тому же мне жмет! Я не стройная и не загадочная. У меня никогда не будет тонких лодыжек. Высокие каблуки ничего не дают. Ген соблазна перескочил через поколение. Меня нельзя полюбить! И потом, я возвращалась в квартиру за сланцами, вот ангел и улетел. Все ясно!
Жюльетта запускает руку в карман, достает раздавленный батончик, сует в рот, роется в сумке, выуживает плитку шоколада с засахаренными апельсиновыми корочками, откусывает квадратик, второй, третий. Вот и нет второй шоколадки.
Сев на бордюр, она снимает босоножки, растирает ноющие лодыжки, надевает сланцы. Ей не хочется спускаться в метро, лучше пройтись пешком.
Домой. Проститься я немного поспешила!
24
Каждый раз одно и то же. Это вечное ощущение пустоты. В час, когда поднимается занавес, она не знает куда деваться. Включает телевизор, выключает, встает, ходит взад-вперед, смотрит на небо, на бамбук и снова садится. Берет со стола колоду карт. Делит ее надвое, схлопывает карты, тасует, раскидывает веером. Пасьянс всегда один и тот же. «Часы». Раскладывает двенадцать карт по кругу рубашкой кверху. Трижды. Четыре последних выкладывает в середину, переворачивает одну. Семерка пик; она кладет ее на «семь часов». Всегда надеется, что в конце выпадут четыре короля. Ни разу это ей не удалось.
Королева нервничает. Девять часов! В этот час она выходила в свет рампы. В этот час даровала себя публике, воспаряла. Вот уже тридцать лет с наступлением вечера голова идет кругом. Весь день она шла к этой волнующей минуте, последней перед выходом на сцену: возбуждение, напряжение, полузабытье – и первое па. Теперь ей каждый день этого не хватает.
Она снова раскладывает пасьянс. И снова короли появляются задолго до конца. Она собирает карты, тасует, постукивает колодой по столу, чтобы выровнять края до полного совершенства, и убирает их в футляр. Она думает о своих успехах и провалах, о своих козырях и джокерах. Как ни старается она держать ностальгию на расстоянии, та всегда настигает ее, а в этот вечер ей особенно лихо. Вечер дефиле. Все ее воспоминания проходят перед глазами, как на параде.
Ей вспоминается Симон, осветитель. Это он ставил свет в ее уборной в Парижской опере. Он точно знал, какое освещение ей нужно, чтобы видеть себя в зеркале красивой. Она никогда его не забудет. Вспоминается Альбер, который подгонял ей балетные туфли тютелька в тютельку по ноге. Твердые носки, гибкая подошва, расширенная пятка. Пуанты были разные, правый чуть отличался от левого. Он знал каждый миллиметр ее ног от лодыжек до кончиков пальцев.
Ей видятся бесконечные коридоры Лондонского городского балета. Она заблудилась там в вечер премьеры. Видится ее неверное па в третьей сцене первого акта «Спящей красавицы» в Берлине. С каким усилием она тогда удержалась на ногах, а все смотрели на нее. Ей видится па-де-де из балета «Юноша и смерть». Такое полное единение с партнером, когда улавливаешь каждый трепет тела другого, божественное слияние энергий. Видится ее соло в «Ромео и Джульетте». Одна на огромной сцене, в свете следующего за ней прожектора: пируэт за пируэтом, жете, фуэте. Центр мироздания для тысячи пар глаз. Чудовищная ответственность. Не выйди она на сцену – не будет ничего. Зрители заказали билеты за месяцы, мечтали об этом вечере. Они пришли увидеть легенду, ибо есть «легенда Стеллы»: она единственная прима, исполняющая свои соло с закрытыми глазами. Словно в гипнотическом трансе, она – цветок на ветру, птица, танцующий язычок пламени, и когда она возвращается на землю, толпа разражается громом аплодисментов. Каждый вечер она ставила на карту свою репутацию. Она должна была быть ослепительной – каждый раз.
Ей видится вечер, когда она стала звездой. Солисткой. Зал аплодирует стоя по окончании «Сна в летнюю ночь». Она выходит на поклон. Директор Оперы, появившись из-за кулис с микрофоном в руке, становится рядом с ней. «С согласия главного режиссера труппы я имею честь сообщить, что мадемуазель Стелла отныне солистка балета». Все выше и выше, приходится рисковать, выигрывать конкурсы, чтобы перейти в первый состав кордебалета, получить сольную партию, стать примой. Она была талантливой и упорной. Одержимой. Этот день вознаградил ее за все. Она сдержала обещание, данное отцу.
Теперь она сидит одна на огромном, обитом красным бархатом диване. Она больше не обожаема. Больше не грациозна. Больше не воздушна. Не юная девушка. Не фея. Бабочка с окоченевшими крыльями, приколотая булавкой.
Взгляд падает на третий ящик комода справа. Она уже прибралась месяц назад в нижнем ящике, том, где лежали вырезки из газет. Верхний пока оставила. Она знает, что в нем. Знает, что открывать его не стоит. Хоть и делает это иногда. Все чаще в последнее время. Она встает, берет свой айпод, кликает пять раз, находит нужную музыку. Регулирует громкость. Звуки «Лунного света» Дебюсси наполняют комнату. Она выдвигает ящик. Дефиле продолжается. Внутри сотни карточек. Тех карточек, что были приколоты к букетам цветов. Она берет одну наугад: «Каждый вечер Вы дарованы моему взгляду. Вы меня околдовали. Эдуард». Повсюду, где бы она ни выступала, он был в зале, в третьем ряду. Она берет другую: «Несказанное счастье переполняет меня, когда я вижу Вас на сцене. Вы воплощение грации и красоты. Не согласились бы Вы поужинать со мной? Александр». Эдуард, Александр, Шарль, Юбер, Мигель, Умберто, Владимир, Дэвид, Джек. Каждый ухаживал за ней долгие месяцы, и с каждым она провела одну ночь. Всегда только одну. Ночь, полную магии, как вечер премьеры.
Магия, позолота, бархат, огни – все это в прошлом. Наступает вечер прощания с труппой, с машинистами, с хореографом. Гаснут софиты, падает занавес, умолкает оркестр, пора скатать ковер на сцене, снять костюм и грим. Для нее же все повторится и завтра вечером. Не будет публики. Не будет триумфа. И любви не будет. Слишком поздно. Она выбрала искры.
Она запускает руку в лавину комплиментов и признаний, потом задвигает ящик – как всегда, не до конца, – поколебавшись, закрывает его совсем, берет маленький ключик, дважды поворачивает его в скважине, идет на террасу, к бамбукам, что-то шепчет им и бросает ключик в пустоту. Пусть случай решит, подберет ли его кто-нибудь.
25
– О моей подборке не говорим, – предупреждает Жюльетта.
– А я еще ничего не сказал, – отвечает Макс. – У меня перерыв, пока отправляется материал.
– Сил моих больше нет заниматься всеми этими иллюзиями. Не спрашивай меня ни о чем.
– Я иду за кофе, хотел узнать, не принести ли и тебе.
– Извини. Не могу я больше видеть, как они любят друг друга!
– Твоя последняя свиданка не удалась?
– Им-то легко, диалоги для них написаны. А я нарываюсь на болванов, которые говорят: «Если бы я знал заранее, не пришел бы». И вообще, я беру тайм-аут. – Она опускается в расшатанное кожаное кресло.
Макс замечает на ее столе свечу со звездой Давида.
– Опять ходила стрелять глазами в синагогу?
Жюльетта морщится:
– Я разочаровалась, мне надо было кого-нибудь простить. Глава пятая моей книги: Йом-Кипур. В этот праздник все проявляют милосердие, любовь, дружбу. Когда кончается день, врата Неба закрываются, и ни одна просьба больше не доходит до Бога, надо ждать еще год.
– Это отмазка. Йом-Кипур не сейчас, а ты даже не верующая! Тебе хотелось поглазеть на красивых мальчиков. Признайся!
Она улыбается:
– Они такие трогательные в своих кипах и талесах. Живот у них подвело, постились ведь со вчерашнего дня, а глаза такие черные, блестящие, и они так пылко молятся.
Макс тихонько посмеивается.
– И кому же ты даровала свое прощение, когда делала вид, будто молишься?
– Зузу… то есть… Роберу.
– А что? Прижимист оказался?
– Прижимист?
– Ну да! Разве он не повел тебя в ресторан?
– Нет! Он бросил меня на улице!
– И ничего не сказал?
– Нет.
– Жюльетта!
Она закатывает глаза.
– Что он сказал?
– Он сказал, цитирую: «Я, наверное, поужинаю один».
– Отличная сцена для фильма!
– Я тебя ненавижу!
– А я тебя обожаю! Ты моя божественная Жюльетта. Он заслуживает, чтобы его вымазали дегтем и вываляли в перьях.
Они хохочут так, что слезы выступают на глазах.
– Вот мы смеемся. А моя личная жизнь – Сахара.
– Ты помнишь первого?.. Как бишь ты его окрестила?
Чтобы собраться с духом, она смотрела на это как на игру. Загадывала, что должна до конца свидания придумать «жениху» прозвище.
Ему было сорок лет, бездетный и никогда не жил с женщиной. Несколько недель он посылал ей донельзя изысканную прозу, подписываясь «Поэт». Покоренная его словами: «…эта частица неба, что живет в нас, напоенная электричеством, ночная, дикая, неотъемлемая», она согласилась с ним встретиться. Выпить кофе где-нибудь в людном месте.
Она надела свое темно-фиолетовое платье, шелковые чулки, замшевые лодочки на немыслимых каблуках, приласкала Жан-Пьера и выпила перед уходом у себя в кухне стаканчик белого вина.
На лестнице она встретила Розали.
– Какая ты красивая.
– У меня свидание.
В тридцать один год еще рано становиться монашкой.
– Удачи, моя Жюльетта. Открой пошире свои чакры.
Он ждал ее в глубине бистро, в бесформенных брюках – когда-то, должно быть, коричневых, – в носках с Микки-Маусом и сандалетах; расстегнутая рубашка с коротким рукавом под жилеткой открывала молочно-белый безволосый торс.
– Здравствуйте, это вы Принцесса?
– А вы Поэт!
Он похож на горгулью с собора Парижской Богоматери. Душевная красота много значит, но все же!
– Хотите кофе?
– Да. Маленький эспрессо.
И быстро уйду.
«Поэт» произнес несколько слов почти неслышным голосом и совершенно без интонации. Жюльетте пришлось передвинуться на краешек стула, чтобы понять, что он говорит.
– Вы пьете с сахаром?
Неприятный душок защекотал ей ноздри.
Этот запах мне знаком.
Каждый раз, когда он начинал говорить, она подавалась вперед и тотчас отодвигалась.
Гостиная тетушки Макса, которую она никогда не проветривает, чтобы сквозняк не сдвинул с места какую-нибудь безделушку. Решено, я назову тебя Нафталин!
А потом он признался ей, что все его письма были цитатами из Кристиана Бобена[66].
– А!
Вот тебе и душевная красота.
– Я не мог вам дольше лгать.
Самозванец в сандалетах!
Ему хотелось продолжить вечер. Она коротко отказалась:
– Нет, спасибо. Мне еще надо запустить стиральную машинку.
– Такое вряд ли забудешь. В письмах он копировал пассажи из Кристиана Бобена: «Человек-радость». Хороша радость! В 3D изображении: горгулья в носках с Микки-Маусом и с запахом гостиной твоей тетушки. Нафталин!
– Смени параметры поиска. Забудь идеального мужчину, – горячится Макс. – Выбирай что попроще. Скажем, гигантское покрывало, связанное крючком.
– Тогда это уже не поиск, это оздоровительная прогулка!
– А бабы из твоего дома – им по жизни достаточно оздоровительной прогулки?
– Ну да. Они больше не стремятся нравиться, и это меняет все.
– А может быть, им хочется нравиться женщинам? Ты уверена, что они тебя не клеят, твои «поставившие крест»?
– Они не лесбиянки. И не монашки. Они просто выбрали другую жизнь. Они красивые, интересные, добрые, динамичные. Им весело жить. Меня это заставляет задуматься. Даже соблазнительно временами.
– Моя Жюльетта без мужчины! Это же «Крестный отец» без Брандо, «Индиана Джонс» без Харрисона Форда…
– Лично я бы предпочла, чтобы ты сказал: «Сисси» без Роми Шнайдер. Пойми меня, Макс, я просто хочу кого-то встретить. Не предвидеть, не знать заранее. Хочу сюрприза от жизни, а не шопинга в гипермаркете. Это ужас! Все по своим отделам: толстяки, лжепоэты, опытные бухгалтеры, чокнутые, сексуально озабоченные, старые холостяки, которым и так хорошо и они не хотят терять время. Те, кому просто нечем заняться. Те, кто пользуется анонимностью, чтобы свести счеты с женой или матерью через незнакомок. Закомплексованные, которые раскрепощаются в переписке. А какие экземпляры гарцуют в витринах с заманчивыми обещаниями: «Марк, парижанин, холост, 40 лет, 1 м 85 см, красивый, обожаю читать». На самом деле его зовут Поло, живет он в развалюхе в дальнем предместье, пятьдесят семь лет, женат, отец четверых детей, читает только предложения супермаркета «Карефур» и инструкцию по эксплуатации своей новой электродрели, а фотографию поместил своего кузена. Есть и такие, что выкладывают тебе всю свою жизнь, называют милой и посылают «нежные поцелуи» по всем адресам каждые двадцать две секунды. Иные торчат в сети двадцать четыре часа в сутки, ожидая, не мигнет ли конвертик. Они подсели и продолжают нюхать этот тяжелый наркотик, даже когда у них кто-то появляется: «Не беспокойся, сердце мое, я просто болтаю с корешами на форумах». Есть патологические вруны. Параноики, расставляющие ловушки своим бывшим. Просто депрессивные. Наркоманы, мифоманы, психи всех мастей… полный набор. Все хорошенько перемешать в шейкере, запустить акселератор неврозов: «Полет над гнездом кукушки», версия 2013 года и без Николсона! Мало кто действительно хочет познакомиться. А когда вдруг подумаешь, что появился наконец-то подходящий, поверишь ему, взлетишь высоко, и – бац! – никого, а с высоты падать больно, вот такой конец. Он исчез, и ничего ему за это не будет. Интернет – это не жизнь. Это как если бы можно было найти любовь, открыв банку сардин. Это лотерея «Евромиллионы», у меня один шанс из ста тридцати семи миллионов!
Она встает, отталкивает папки, шарит на полке, под столом, в сумке, в карманах, сдирает бумажку, бросает ее на пол и вгрызается, закрыв глаза, в шоколадку.
Макс с грустью смотрит, как она мечется. Для него как ножом по сердцу видеть свою красавицу Жюльетту в таком состоянии «ломки». Как могла ее мать ни разу в жизни не обнять ее? Он же видел ее школьную фотографию, она была прелестным ребенком, так и хотелось зацеловать. Она бережно хранит этот снимок, единственный из детства, потому что родители никогда ее не фотографировали.
– Тебе бы надо научиться усмирять чувство голода.
Жюльетта срывается на крик:
– ПРЕКРАТИ! Ты говоришь, как на практикуме по личностному развитию. «Усмирять чувство голода», да хрен знает что!
Когда хочется жрать, ничто не мило!
Повисает долгое молчание. Слышно, как вдалеке пролетает самолет. Макс смотрит на свечу, на заставку на экране, на бумажку, не решаясь ее подобрать.
– У меня есть два билета на концерт джазовой группы в пятницу. Пойдешь со мной?
26
Одна за другой они поднялись по лестнице, ведущей на последний этаж. Как и каждую неделю, им предстоит ритуальный воскресный обед. Ни за что на свете они не пожертвовали бы этим вечером. Протокол отсутствует, но они всегда наводят красоту. На обед к королеве в затрапезном не ходят, говорит Симона, хотя уж ее-то элегантность заботит меньше всего.
Стряпают они по очереди. Жан-Пьер, хорошо знающий привычки дома, уже устроился в первых рядах. Он смотрит вприщур на Джузеппину, надеясь, что она вознаградит его за компанию лакомым кусочком.
– Pomodori… melanzane… parmigiano… perfetto![67]
Она говорит, а Жан-Пьер отбивает такт хвостом, словно выражая свое согласие.
Симона обращается через широкое окно к бамбукам:
– Только не вздумайте зацвести, мои милые, Королева этого не переживет.
– Пахнет дивно! Что ты нам готовишь? – спрашивает Жюльетта; она только что пришла.
– Sorpresa a la siciliana[68], – объявляет стряпуха, помешивая в кастрюле деревянной ложкой.
Жюльетта снимает ее на камеру. Еще тридцать секунд жизни добавятся к тем, которые она копит уже несколько месяцев: Королева, выполняющая странный пируэт; Розали, приветствующая солнце; Жан-Пьер, взрыкнувший, как лев на заставке «Метро-Голдвин-Майер»; Симона в образе Марии-Магдалины.
– Чудеса a la Джузеппина… ммм! – комментирует операторша.
Стол неизменно накрывает Королева, «это королевская привилегия» – постановила она раз и навсегда. Сегодня вечером на столе белая льняная скатерть, усыпанная лепестками роз, высокие бокалы из венецианского хрусталя, свечи, плавающие в двух чеканных серебряных чашах. А посередине она всегда ставит фотографию танцовщика. Никто не осмеливается спросить, был ли он ее любовником.
Места ни за кем не закреплены, кроме Королевы, которая сидит во главе стола. По правую и левую руку от нее Розали и Симона. Джузеппина садится поближе к кухне, Жюльетта напротив. Жан-Пьер запрыгивает на последний стул и, покружившись, разваливается во всю длину, очень довольный жизнью. Со стены смотрит на них из своей рамы «Безумец».
Джузеппина читает вслух этикетку на бутылке вина:
– «Неотразимое из поместья Лакруа, из лучших сортов винограда, с богатым фруктовым букетом». – Она вертит бутылку в руках. – «Глубокий красный цвет с фиолетовыми отсветами, выраженный аромат черной смородины». Он опять нас балует.
– Кто это – он? – спрашивает Жюльетта.
– Неизвестный поклонник Королевы! Он доставляет ей вино, каждый месяц разное.
Королева добавляет:
– Сент-амур, квинтэссенция, маргинал, империал, мулен-де-дам, кло-де-ла-симонетт, конфидансьель…
– Он хорошо вас знает, – говорит Жюльетта.
Симона поднимает бокал:
– «Любовь есть хмель, безумный хаос»[69].
– За что пьем?
– За «Каза Челестина».
– За нас, – говорит Розали.
– За нас, – подхватывают все хором, поднимая бокалы.
«За нас». Эти слова отдаются эхом в голове Жюльетты.
Какой будет жизнь после дома? Без «воскресений в улье»? Я опять останусь в тишине. К Рождеству Карла приедет из Индии и вернется в свою квартиру. А я, где я буду? С кем? Макс уедет кататься на лыжах. Мои родители всегда встречают Рош ха-Шана, Пурим, Суккот, Новый год и другие семейные праздники, даже католические, вдвоем. Традиция, говорят они.
Джузеппина приносит тарелки. На подстилке из рукколы козий сыр и вяленые помидоры благоухают оливковым маслом, чесноком и майораном.
– Передай мне, пожалуйста, соль, – просит Жюльетта Симону, протягивая руку.
– Соль не передают из рук в руки, – вмешивается Королева. – Плохая примета.
И они с Розали обмениваются понимающими взглядами: их объединяет известная всем склонность к суевериям.
– Зато, говорят, если можешь вспомнить три кайфика за день, дольше проживешь, – подхватывает та.
– Три кайфика? Переведи, пожалуйста, – просит Джузеппина.
– Кайфик – это маленькая радость, момент благодати. У меня вот новый ученик. Он похож на Жана Рошфора, – негромко продолжает Розали.
– На Жана Рошфора нынешнего или двадцать лет назад, когда он играл «Мужа парикмахерши»?
– Двадцать лет назад.
– И что же?
– Мне стало жарко, я смутилась. Велела ему сделать сфинкса.
– Он такой же сердцеед, как актер?
– Да.
– Ну и?..
– Я встала в позу цапли, закрыла глаза и успокоилась.
– Вы не находите, что мы много говорим о мужчинах, с тех пор как здесь появилась Жюльетта?
Все смеются, кроме Джузеппины. Симона поворачивается к Жюльетте:
– Кстати, как твои дела, цыпа моя?
– Блуждаю впотьмах. Здесь мне хорошо, вокруг красивые люди, пахнет поджаренным хлебом, с лестницы по утрам звучит Бах, Жан-Пьер ходит по всем квартирам, и потом…
– А ты не думала о мужчинах из нашего квартала?
– Братья Леруа холостяки.
– Вопрос только, какого выбрать.
– Ты будешь прелестно выглядеть в сером фартуке за прилавком скобяной лавки.
– И станешь ходить на регби по субботам.
– BASTA! – кричит Джузеппина. – Можно поговорить о чем-нибудь поинтереснее. У вас и правда эта тема не сходит с языка. Заразились вы все, что ли? Когда возвращается Карла?
После взрыва Джузеппины повисает молчание. Жюльетта утыкается носом в бокал с «неотразимым».
Возможно, она и права. Кто-нибудь подумал, к примеру, о Королеве? Она предоставила нам кров за смехотворную плату, роскошно принимает нас по воскресеньям, а страдает одна, как гранд-дама. Что с ней станется? Я буду жалеть о перекусах на красном диване, когда съеду отсюда.
Словно подброшенная пружиной, Жюльетта поднимает бокал и громко говорит:
– За нашу Королеву!
Свет благодарности, удивительно похожей на нежность, мелькает в глазах их царственной хозяйки.
Потом разговор переходит на биографию Нельсона Манделы, которую они читают по очереди, и на десерт: запеченный инжир в карамели с морской солью, сычуаньским перцем и капелькой бальзамического уксуса.
Королева встает, делает несколько па и включает свой айпод.
Волосы, как летняя тьма, Бьются сердца с музыкой в лад, Медленный джаз сводит с ума, Сладкую боль звуки таят[70].Лео Ферре поет «Красоту»[71].
Она возвращается к столу походкой автомата. Симона, Джузеппина, Розали и Жюльетта отводят глаза. Она стоит, глядя на них с улыбкой, и молчит. Они тоже молчат. Слышится лишь песня…
Судьбу на радуге сыграй, По струнам жизни льется свет, И голоса в небесный рай Плывут, как дым от сигарет.Королева выдвигает ящик под скатертью и достает оттуда четыре свертка из темно-синего атласа. Она вручает по свертку каждой. Внутри фотографии неба под плексигласом – неба, заснятого из их дома в разное время дня и года. Каждая получает свое небо: небо грозовое, небо лазурное, небо облачное, небо звездное.
– Спасибо, что вы со мной, что разделили мою жизнь, – говорит Королева торжественным тоном.
Она садится и допевает песню до конца:
Красота! Кожаный клифт, платье в обтяг, Милый пустяк – блеск и каприз! Девочка в нем, словно моряк В море, где блюз веет, как бриз. Красота! А «Муди Блюз» поют про ночь, Про белый шелк и про фату, – Ты бросишь якорь в эту ночь, Танцуя, как прибой в порту.В комнату залетает шмель. Королева смотрит на него, но на этот раз не пытается поймать и выкинуть обратно на улицу. Пусть себе посидит на абажуре.
27
Розали идет домой пешком, спешить ей некуда, можно подышать бодрящим воздухом ранней зимы. Она проходит практикум с Рави, великим индийским учителем, который, проездом в Париже, преподает «Двадцать один этап медитации». Ее забавляет, что на Западе йога – мир преимущественно женский, а первые роли достаются мужчинам, которые как будто целый день едят яблоки. Слишком «дзен», чтобы быть честными? Ей самой с трудом удается не уснуть на двенадцатом этапе.
Она видит впереди, на другой стороне улицы, мужскую фигуру. Сердце срывается с цепи. Она торопится за прохожим. Он уже завернул за угол.
– Франсуа! – кричит она.
Мужчина оборачивается. Конечно же, это не он. Тяжело дыша, она идет в обратную сторону.
По дороге она заходит в «Брюссельскую капусту» купить цыпленка, выращенного на ферме в деревне, хлеб из полбы и зеленый чай. За прилавком Николь. Она выбирает ей финики.
– Пять или семь… я знаю, ты очень суеверна, – мурлычет Николь, – знаю, какие цифры ты не любишь… шестерка – нехорошо… восьмерка по кругу ходит. Я добавлю еще цветную капусту, обжарить с сухарями – просто чудо.
– Спасибо, Николь, привет Монике.
– Мой поклон Королеве!
Розали проходит мимо книжного магазина, отвечает улыбкой машущим ей братьям Леруа и встречает семейство Сантюри в полном составе: Эрве, отец, мать, сестра и сестрин белый пудель с кисточкой на хвосте. Занавеска напротив отодвигается, когда она подходит к калитке. И тотчас падает – она едва успевает увидеть морщинистую руку мсье Бартелеми.
Она берет свою почту с комода в холле. Два счета. Открытка. Она поднимается на четыре этажа, считая ступеньки, чтобы не думать об открытке. Бедром толкает дверь и проходит в кухню, с трудом удерживая в руках покупки, почту и большую сумку, в которую помещаются трико, коврик для йоги и благовония. Хорошо бы найти на кухонном столе книгу, которая лежала утром в спальне. Это было бы доказательством, что кто-то живет рядом с ней. Нет, все на своих местах. У нее всегда все на своих местах!
Она хочет приготовить цыпленка с лимоном и пригласить Джузеппину, у которой грустные глаза, с тех пор как братья сообщили ей, что она не увидит дочь в эти каникулы. И может быть, Жюльетту. Она научит их правильно дышать. Она улыбается: приятно принимать гостей.
Распахнув настежь окно, она смотрит на сгущающиеся сумерки и освещенные окна в домах тупика. Она знает, что открытка здесь. Недалеко. Но не хочет читать ее сразу.
Розали думает о своих родителях, чете Лабонте. Скоро у них годовщина свадьбы. Сорок лет – изумрудная свадьба, – а они все так же нежны друг к другу. Их любовь – просто коллектор какой-то. Она думала, что проживет так же с Франсуа.
И все же берет открытку. На картинке простирающаяся до горизонта равнина и где-то в конце маленький деревянный домик блекло-голубого цвета… Она переворачивает открытку… конечно, от него! Последняя пришла три месяца назад. Сердце бьется чаще. А ведь уже пять лет она не видела его глаз, таких же голубых, как этот домик. Франсуа ничего не объяснил. Не попрощался. Она изменила свою жизнь, но забыть его не смогла. Франсуа – первый мальчик, который ее поцеловал. Если закрыть глаза, ей тотчас явственно вспоминается вкус того поцелуя. Вкус вишен. Они ели их из пригоршни, и их губы как-то незаметно сблизились. До чего же она его любила! Не задумываясь, не ставя условий, даже не зная. В ту пору она думала, что замечательные мальчики растут, как цветы, – наклонись и сорви любой. А на самом деле – нет, больше красивых цветов она не встречала. Да и вряд ли заметила бы.
Он даже не знает, что она живет в этом доме необычных женщин. Она никогда не пыталась ему ответить. Что написать ему? Упрекать? Рассказать о своем безмерном горе? К чему? Если он бежал, значит, не мог иначе. С годами она поняла его, хотя так и не смогла простить ему трусость.
С ним и только с ним она хотела жить, иметь детей. Все было так прекрасно. А он дал мощного пинка их счастью. Счастье – это редкость. Бывает, что оно проходит, не всегда задерживается.
В те вечера, когда приходят открытки, ей снова отчаянно не хватает Франсуа. Тогда она закутывается в одеяло, крепко стискивает его на груди и прижимается животом к кровати, вцепившись в матрас, как в спасательный круг.
Франсуа ушел, и она знает, что он не вернется. Никакие ножницы и ниточки, приметы и суеверия тут не помогут. Но она твердо верит, что любить можно только раз, – любить по-настоящему, до безумия, с распахнутым сердцем. Что второй раз будет омрачен сдержанностью, опаской, самозащитой. Слишком близко? Слишком далеко? Нет такой рулетки, чтобы отмерить правильную дистанцию с тем, кого любишь.
Однако жить в доме без мужчин, утешать Лин на йоге и Тристанов в бассейне, стоять в позе дерева, пить чай с подругами, закрывать глаза, когда тебя волнует мужчина, – полно, выход ли это? А как у других? Они тоже дают слабину? Ей вспоминается мужской голос в хаммаме: «Это сказочно – желание изо дня в день… Мне отрадна мысль, что я проживу всю жизнь с женщиной, которую я выбрал и которая сказала мне “да”». А что, если Жюльетта права? «Любовь – это мед». Порой ей хочется выбросить все открытки от Франсуа в мусорное ведро.
Но как поставить крест на мужчине своей жизни? Учебника на эту тему в книжном магазине она не нашла.
28
Они пришли на концерт с опозданием. Жюльетта умирала от желания нырнуть под одеяло и уснуть, чтобы забыть свои бесперспективные свидания. У Макса привалило работы, он не поднимал головы до последней минуты, а когда она попыталась отказаться, и слушать не захотел.
– Обычно тебе только дай повод повеселиться. Не идти же мне одному. И потом, группа Push Up в New Morning[72] – от такого не отказываются.
– Холодно, – заныла Жюльетта, пряча нос в высокий воротник свитера.
– Вот именно! Потанцуем, разогреемся, все лучше, чем надевать ночной колпак в восемь вечера.
Макс ее опора, она не может ему ни в чем отказать.
– Ладно, ладно. Иду.
Зал затерян на безликой улочке, но Жюльетта любит это место, явно вдохновленное нью-йоркскими джаз-клубами. Маленький зальчик смахивает на недостроенный ангар, а между тем выступают в нем великие. Сюда можно прийти с закрытыми глазами, тебя всегда ожидает приятный сюрприз.
На красных стенах коридора развешены афиши легендарных концертов и черно-белые фотографии Сиднея Беше, Лайонела Хэмптона, Джона Колтрейна[73] и других виртуозов. Интерьер слегка обшарпанный, и места маловато, но от этого музыканты и публика только ближе. Когда атмосфера разогревается на несколько градусов, стулья сдвигают к стенам и танцуют.
Обычно Жюльетта здесь счастлива. Сегодня, взобравшись на высокий табурет, она рассеянно озирается. Взгляд ее задерживается на мужской фигуре, которая кажется ей знакомой. Здоровенный, в поношенных брюках, толстом свитере с высоким воротником и потрескавшейся в проймах кожаной куртке.
– Хочешь что-нибудь выпить? – спрашивает Макс.
– Как ты думаешь, тут есть грог? – отзывается Жюльетта, не глядя на него.
Она наклоняется вправо-влево на табурете. Когда мужчина двигается, ей видна только половина вышедшей на сцену группы. Его широкие плечи привлекли ее внимание. Сложен как грузчик, такому бы рояли перевозить.
– Что ты делаешь? Ты упадешь.
Грузчик оборачивается. Его взгляд, очень ласковый, не вяжется со статью гиганта.
Она накрывает ладонью руку Макса.
– Что с тобой? Видок у тебя еще тот.
– Странно, я точно знаю этого парня, вон там, но не могу вспомнить, где его видела.
Макс усмехается:
– Ну вот, теперь у тебя начались видения. Это горячка.
Я уверена, что мы где-то встречались.
– Пойдем поближе, сейчас начнется.
На сцене располагается разномастное племя – семь музыкантов и певцов. Один из них берет микрофон:
– Сейчас мы расскажем вам день человека из народа. Сидя у телевизора, он думает обо всех выборах, повлиявших на его жизнь, его надежды, его негодования… Мистер Куинси Браун!
Перебор гитарных струн, поперечная флейта, разухабистый синтезатор, ласкающий голос певца, исполняющего соул, и энергия группы сметают последние колебания Жюльетты. Она слезает с табурета и начинает раскачиваться на месте в такт музыке.
– Очень красивые! – говорит грузчик, глядя на ботиночки Жюльетты, замшевые, цвета сливы, зашнурованные красными атласными ленточками.
Фетишист женских ножек?
– Спасибо! Я выписала их из Лондона. Лимитированная линия – их выпущено только несколько пар.
– Редкие и танцевальные.
– Не могу устоять, мне так нравится их музыка.
– Сильно играют.
Ага, понятно, я вспомнила, где его видела.
– Скажите… не у вас ли случайно мои туфли?
Грузчик улыбается:
– Возможно.
– А… как вы думаете, они готовы?
– У вас есть номер квитанции?
– Э-э… с собой нет, но…
– Тогда зайдите в мастерскую.
– Значит, это вы мой сапожник? Обувная мастерская на улице Труа-Фрер, «Ахиллесова пята».
Он склоняется почти до пола:
– Жан, ваш сапожник, у ваших ног.
Сапожник, любящий Push Up. Вау!
У них завязывается разговор о Куинси Брауне, о его метафизических вопросах, о фильме, который мог бы рассказать его жизнь, об этой музыке, легко лавирующей между соулом, роком и фанком, о New Morning, куда оба ходят часто, но ни разу здесь не пересеклись.
Макс, прислонившись к стене, наблюдает за своей подругой, которая, улыбаясь, отвечает великану со стаканом в руке. Потом подходит к ним:
– Я, пожалуй, пойду. Устал. Еще успею на последнее метро.
Почему он уходит?
– «Последнее метро», как я люблю этот фильм! – откликается Жан.
Это сон, такого не бывает, помешанный на обуви киноман с серыми глазами.
Макс исчезает.
Оставшись вдвоем, они молчат. Жюльетта смотрит вокруг, на Жана, вокруг, на Жана, на Жана, на Жана.
Жан смотрит на Жюльетту. Серые глаза и зеленые глаза ведут долгий разговор.
Жан склоняется к ней и шепчет на ухо:
– I’m just a man[74].
Колоссально!
– Это моя любимая песня из их альбома.
Дыши, Жюльетта, дыши…
Они теперь у барной стойки, полусидят на табуретах.
Уйти, остаться? Что вообще делают в таких случаях?
– Выпьем по последней? – спрашивает Жюльетта детским голоском.
Поздно, слово сказано.
– Нет, – говорит Жан, – то есть… да, воды с мятным сиропом.
Он смотрит на ботиночки Жюльетты.
Она смотрит на его руки.
Руки, которые целый день имеют дело с женскими туфлями. Надо срочно сказать что-нибудь умное.
– Почему вы закрыты по четвергам с утра?
– А почему бы нет?
– Который час?
– Не знаю.
Взгляд Жана медленно скользит выше, к груди Жюльетты.
Не много он разглядит под моим толстым свитером.
– Пора, да?
– Что пора?
– Не знаю.
– Мы последние.
– В чем беда?
Ангар опустел, разошлись даже фанаты, музыканты зачехлили инструменты, а бармен убирает грязные стаканы со стойки.
Жан предлагает Жюльетте проводить ее. Метро закрыто, и они идут пешком. Она чувствует себя под защитой на пустынных улицах рядом с грузчиком, которому перевозить бы рояли.
В качестве телохранителя он наверняка лучше, чем мсье Бартелеми за своей занавеской.
Из водосточного люка вдруг раздается визг. Жюльетта отскакивает.
– КРОКОДИЛ! – кричит она.
– Говорят, они десятками водятся в канализации, – спокойно комментирует Жан.
– Замолчи, я правда в это верю! Упс! Я перешла с вами на «ты».
А ведь я пьяная!
– Их завезли во Францию туристы, миленьких таких зверушек. Некоторым удалось убежать, и они размножаются у нас под ногами. Андеграунд – им нравится такая жизнь, – объясняет Жан.
– Я обожаю городские байки… Элвис Пресли, Уолт Дисней и Майкл Джексон будто бы живы и скрываются где-то на необитаемом острове. Великая Китайская стена видна с Луны. Моя любимая – про красную рыбку, у которой памяти всего на пять секунд…
Жан заканчивает за нее фразу:
– И поэтому она никогда не скучает в аквариуме.
– Но в крокодилов я правда верю, – говорит Жюльетта, вцепившись в руку Жана.
Так они и идут дальше, под руку, болтая обо всем на свете и в общем-то ни о чем.
На углу тупика Жюльетта замедляет шаг.
Что делать? Что ему сказать?
Она останавливается перед калиткой.
– Значит, это правда, о чем все судачат в квартале?
Черт! Он знает.
– А что говорят?
Я просто тяну время.
– Что женщины из этого дома поставили крест на любви.
– Да, это правда, они поставили крест.
Жюльетта выдерживает паузу и добавляет едва слышно:
– Я – нет.
Жан берет лицо Жюльетты в ладони и осторожно целует в губы. И уходит.
Глядя ему вслед, Жюльетта не может не отметить, как упруга его походка.
Она улыбается, вспомнив, что ведь не хотела никуда идти сегодня вечером. Улыбается, подумав, что он похож на того десятилетнего мальчика, который однажды предложил ей свой полдник. Только ростом много больше.
Это, в сущности, так просто.
Она набирает код, бежит через двор, нащупывая в кармане ключи, натыкается на забытую шоколадку, поднимается по лестнице, раздевается, как автомат, и засыпает, позабыв включить радио.
Ее будит смс: «Ваши лодочки готовы. Я их начистил, они блестят!»
29
Грузчик, ему бы рояли перевозить… «Ахиллесова пята»… I’m just a man… Жан… вода с мятным сиропом… крокодил… Китайская стена… красная рыбка… поставили крест на любви… я – нет… они блестят… грузчик, ему бы рояли перевозить… «Ахиллесова пята»… I’m just a man… Жан… вода с мятным сиропом… крокодил… Китайская стена… красная рыбка…
Жюльетта вздрагивает от звонка мобильного.
Телепатия?
Улыбаясь, она отвечает – и тотчас улыбка гаснет, Жюльетта вскакивает, опрокинув стул, выбегает из студии, налетает в коридоре на Макса.
– Выключи все у меня… нет времени объяснять… мне надо домой.
Метро? Такси! Нет, не такси, если где-то демонстрация, я застряну. Что-то случилось с Жан-Пьером? Я не могу бежать на высоких каблуках. Сланцы? В сумке. Черт! Я забыла сумку! Нет сумки, нет билетиков, нет денег. Перепрыгнуть через турникет не получится. Прижмусь к кому-нибудь. Вот эта вроде худенькая. Вперед! Может быть, Симоне плохо? Да что же он не идет, этот поезд? Надо было ей сказать, чтобы вызвала «скорую». «Шатле», «Ле-Аль», «Этьен-Марсель». Еще одна станция. Потом пересадка. Конца не видно. Что за спрут сжал мне щупальцами живот и горло? Почему я так переполошилась? Розали, Джузеппина… где они?
Розали заканчивает сеанс медитации. Собирает подушки. Она знает, что до дома недалеко. Кинулась бы бегом, да ноги не слушаются.
Джузеппина выскакивает из такси в повязанном сикось-накось шарфе. Она продавала пару подсвечников девятнадцатого века, бронзовые с позолотой, когда зазвонил телефон. Поручив сделку и свою лавку Морису, она доковыляла, волоча больную ногу, до бульвара, поймала такси.
Жан-Пьер мечется по двору, как хищник в клетке.
Всем им позвонила Симона. Бесцветным голосом проговорила: «Скорей приезжайте… пожалуйста».
30
Бледное солнце слегка золотит облака – в точности как она любила. Длинные аллеи, вековые деревья и таблички с названиями редких цветов напоминают парк. Люди с лейками, с цветочными горшками в руках, со скорбными лицами.
Они стоят, сбившись в кучку, ни дать ни взять пчелиный рой. Карла прилетела накануне, под зимним пальто на ней длинное белое сари – траурное индийское одеяние.
Кто бы мог подумать, что сегодня они простятся с ней? Всего пять дней назад они собрались за воскресным обедом. Стряпала в тот вечер Симона. Жаренный на сале картофель, салат из одуванчиков, пирог с черникой. Они обсуждали, шутливо, но озадаченно, анонимную записку, которую кто-то бросил в почтовый ящик: «Если вам нужен мужчина, я готов». Может быть, мсье Бартелеми, так долго наблюдавший за ними, решился зайти за калитку? Может быть, Эрве Сантюри надумал сбежать от своего семейства? Или же объявился новый сосед? Кто мог знать, что ударит совсем с другой стороны?
Жан-Пьер как-то необычно мяукал под дверью на последнем этаже. Симона нашла Королеву лежащей на кровати, словно Спящая красавица, которую не разбудит больше никакой поцелуй. Ее все еще стройные ноги выглядывали из-под длинного платья из белого атласа. Того самого, что она надевала на обед с кузеном короля сорок лет назад. Увядшие руки сжимали айпод. Из динамика неслись непрерывные аплодисменты, а рядом – упаковка из-под снотворного. На террасе цвел бамбук.
Симона поняла, что это был последний удар, доконавший Королеву. Она долго простояла в комнате. Потом спустилась к себе и позвонила Розали, Джузеппине и Жюльетте.
Одна за другой они сели, прямые, негнущиеся, на краешек дивана, не сводя глаз с Симоны, расхаживавшей по гостиной. Ей нужно было увидеть их всех здесь, чтобы снова обрести способность думать.
– Что случилось?
– Ты выходишь замуж?
– Ты меня пугаешь!
Дождавшись, пока наступит тишина, Симона остановилась и тихо произнесла:
– Королева приняла решение проститься с жизнью. День наступил без нее.
Первой расплакалась Жюльетта.
Джузеппина тараторила без умолку:
– Perché ha fatto questo? Non è possible. L’ho vosta ieri, stava bene. A che hora l’hai trovata? C’erano medicine? E la casa Celestina?[75]
– Джу, я не понимаю по-итальянски.
– È encora qui? Voglio vederla[76].
– Но, Джу!
– А что, если я заварю чаю? Лепестки мальвы и…
– Отстань ты со своим чаем, Розали!
– Ты звонила в «скорую»?
– Симона, ты уверена, что это не обморок?
– Ох, девочки, это конец.
Кожаный клифт, платье в обтяг… Девочка в нем, словно моряк… В море, где блюз веет, как бриз… Ты бросишь якорь в эту ночь, танцуя, как прибой в порту… Они не услышат больше аккордов «Гольдберг-вариаций» с пятого этажа, ни чаек, ни колоколов деревни Сент-Элали, где родилась Королева.
Завяли анемоны в вазе в прихожей. Не пахло больше хлебом на лестнице. Жан-Пьер жался к стенам. Дом будто застыл.
Да и во всем квартале словно замедлилась жизнь. Королева жила здесь очень давно. Ею восхищались, ее побаивались, считали сумасбродкой, не понимали ее решения не допускать в дом мужчин, но она никого не оставляла равнодушным. Ее называли Королевой или матерью-настоятельницей.
В день похорон братья Леруа сняли свои серые передники, опустили железные жалюзи на витринах скобяной лавки, вывесили на двери табличку «Закрыто по случаю похорон». Закрылись и книжный магазин, и «Брюссельская капуста». Семейство Сантюри в полном составе отправилось на кладбище.
Все собрались у земляного холмика.
Тут и мсье Бартелеми – одной рукой судорожно сжимает ручки хозяйственной сумки, другой придерживает шляпу. Диего стоит поодаль, лицо наполовину скрыто капюшоном фуфайки; он ободряюще кивает Симоне. В первом ряду – седой мужчина, высокий, прямой, без трости, гордый красавец, даром что старик.
– Кто это? – шепотом спрашивает Розали.
– Один из ее любовников?
Увидев надгробие со свежей гравировкой, они поняли, что Королева продумала и организовала свой уход вплоть до мелочей.
Люсетта Мишо
1938–2013
Жизнь – натянутый канат
Мы все эквилибристы
Она также заранее пригласила скрипача и выбрала музыку. «Вправе ли мы быть счастливыми на похоронах, поддавшись чарам сонаты Баха?» – спрашивает себя Жюльетта, слушая это адажио, которое даже профанам говорит нечто большее, чем просто ноты.
Несколько бывших балерин тоже здесь с последней беззвучной овацией. Украдкой смахивая слезы с пергаментных лиц, они бросают охапки жасмина на гроб из красного дерева и уходят. Карла улыбается, вспомнив, что в Индии жасмин символизирует женские чары и носит поэтичное имя «королева цветов».
Незнакомец подходит к Жюльетте, которая держит за руку Симону, ухватившуюся за локоть Джузеппины, опирающейся на плечо Розали, привалившейся к Карле.
– Вы ее жилички? – выдыхает он.
Они кивают. Старик кланяется:
– Фабио Сартори. Piacere…[77] очень рад.
Фабио Сартори!
Жюльетта вспоминает признания Королевы в вечер их стычки: «Сартори… исключительный человек, утонченный, образованный… он единственный ушел от меня сам, прежде чем я его бросила. Когда он вернулся, много лет спустя, мы стали друзьями. С ним одним я делилась всеми своими переживаниями, своей слабостью и силой, своими сомнениями. Знаешь, дружба – это как очень мягкий теплый шарф, в который можно закутаться. Ты вот делишься с твоим другом Максом, это он – твой старый кашемировый свитер».
Жюльетта мнется. Момент не самый подходящий, но ей очень хочется кое о чем его спросить.
– Вы любите вина? Особенно красные, с красивыми названиями?
Печальные глаза на миг озаряются светом.
– Пока я жив, на вашем столе воскресными вечерами всегда будет вино. – Он глубоко вдыхает: – Когда я в последний раз говорил со Стеллой…
Из внутреннего кармана пальто он достает конверт. Руки у него дрожат, когда он протягивает его Жюльетте:
– Она попросила меня передать вам это… если с ней что-нибудь случится.
Жюльетта смотрит на своих подруг, словно испрашивая их одобрения, и берет конверт.
Люди постепенно расходятся с кладбища. Диего уже ушел, его ждет работа. Они помолчали после сладостных звуков скрипки, посмотрели, как скрывается гроб под комьями земли, и теперь им хочется пройтись, подышать. Под большим буком стоит скамейка. Не сговариваясь, они направляются туда. Жюльетта садится между Розали и Симоной, Джузеппина – рядом с Карлой. Два воробья что-то клюют у скамейки. Розали накрывает ладонью руку Жюльетты:
– Давай.
Жюльетта вскрывает конверт. Внутри ключи, связанные ленточкой. И письмо.
31
Дорогие мои, мои подруги.
Я пишу вам, глядя на небо и слушая пение соловья.
Вы только сейчас это узнали – меня зовут Люсеттой. Не самое воздушное имя для прима-балерины! А между тем я была Жизелью, Кармен, Коппелией, Золушкой и многими, многими возлюбленными. Я с триумфом выступала во всех столицах мира. Танцевала страсть, страдание, измену, смерть. И у смотревших на меня мужчин загорались глаза. Я обожала их ухаживания, бурные ночи, огни фейерверка. Но желание мимолетно, а поддерживать его пламя изо дня в день – большое искусство, в котором мне не дано было преуспеть. Я предпочла искры!
Мое усталое тело слабеет с каждым днем. Мой верный слуга предает меня. Мое пространство сужается. Я всегда жила в движении. Я не могу больше танцевать, не могу больше пленять, поэтому предпочитаю уйти – к Нуриеву, Бежару и многим другим. Я не хочу обратиться в сломанную куклу. Не хочу услышать, как плачет бамбук. Я еще могу станцевать последний акт и сказать: занавес!
Я не верю ни в рай, ни в ад. Буду ли я танцевать в ином мире? Не знаю. Но я надеюсь, вопреки всему, что мы еще где-то встретимся и под прелюдию Баха весело посмеемся вместе над тем, как боялись расстаться навсегда.
Думая так, я ухожу почти с легким сердцем.
Мы с вами создали нечто редкое, прекрасный дом, славное сообщество. Вы исключительные женщины, каждая на свой лад. Берегите себя, соседки.
Карла, ты воплотила в жизнь твою индийскую мечту, не забывай наш улей.
Розали, я знаю, что ты получаешь открытки от Франсуа. Ответь ему: «Не пиши мне больше» – и не вставай в позу цапли в следующий раз, когда мужчина тронет твое сердце.
Джузеппина, как насчет твоего соседа на блошином рынке, того, что продает супницы? Что, если ты приготовишь ему как-нибудь суп-пюре и пригласишь поужинать?
Симона, иди танцевать! Не все мужчины Карлосы.
Жюльетта, маленькая моя королевна, у тебя не было детства, которого ты заслуживала, а у меня не было детей. Но будь у меня дочь, мне бы хотелось, чтобы она была похожей на тебя – сильной, упорной, жадной до жизни, верной идеалам. У тебя отчаянный аппетит обделенных людей, так тебе удается держаться и не упасть. Ты давала мне отпор, и я восхищаюсь тобой за это. Скоро тебе не понадобится больше спать с включенным радио, чтобы не просыпаться в тишине. Ты найдешь себе пару. Аль Пачино уже занят, но твой мужчина где-то есть, я в этом уверена.
Мое убежище под небом теперь твое. Ты можешь снять афиши Стеллы и повесить вместо них зеркала. Если хочешь доставить мне удовольствие, оставь «Безумца» и облака.
Бесценные мои, я доверяю вам «Каза Челестина». Вы вместе придумали это имя, продолжайте же жить в «небесности». Наступил конец царствования, вам предстоит определить новые законы. Но никогда не отказывайтесь от крупиц безумия, сделавших нашу жизнь такой сладостной.
Я ухожу беседовать с ангелами, и, может быть, они научат меня летать иным манером.
До свидания, мои дорогие.
Ваша Королева32
Они сидят, убаюканные шелестом ветра в кроне бука, раскинувшего над ними свои ветви. Они молчат. И нет в этом молчании никакой неловкости.
У ворот кладбища стоит Жан, сунув руки в карманы куртки. Он ждет Жюльетту.
Подруги идут домой. Жюльетта и Жан не спеша следуют за ними.
– Что будем делать? Впустим его? – спрашивает Карла.
– «Отпусти то, что уходит, прими то, что идет навстречу», – тихо произносит Розали.
– Если мы примем сапожника, следующим явится водопроводчик.
– И скоро это будет дом женщин, который открыт мужчинам.
– Одна уже нашла обувку по ноге, – вздыхает Симона.
Жюльетта и Жан нагоняют компанию.
Стоп-кадр.
Горделиво помахивая хвостом, любимец женщин выступает из-под куста гортензии.
Взгляды встречаются.
Проясняется небо.
Джузеппина отпирает калитку.
– Benvenuto Giovanni![78] Эй, Жан-Пьер… пропусти-ка его, ты больше не единственный мужчина в доме!
Стоя у окна, мсье Бартелеми аплодирует.
Благодарности
Понадобился целый автобус болельщиков, чтобы поддержать мою писательскую мечту. Полные энтузиазма, верные, бесценные… мои дети, мои друзья, колоссальный старший брат, первая читательница-талисман, уморительный попутчик и снова читатели, многие и многие, безвестные и знаменитые. Все они дали мне крылья.
Тысячу раз спасибо!
Спасибо также отважному издателю, талантливому литературному редактору и доброй фее: Мишелю Лафону, Югетте Мор и Флоранс Серван-Шрейбер.
Сноски
1
Счастливого пути (ит.).
(обратно)2
Спасибо, красавица (ит.).
(обратно)3
Песня Тото Кутуньо «Итальянец» (примеч. авт.).
(обратно)4
Кончено! Хватит! (ит.).
(обратно)5
Спрут со щупальцами (ит.).
(обратно)6
Отец (ит.).
(обратно)7
Никакой фамильярности с мальчиками! (ит.).
(обратно)8
Микадо («высокие ворота») – настольная игра на развитие мелкой моторики. Состоит из набора бамбуковых палочек (классический вариант) или проволочек, покрашенных особым способом. Цель игры – вытащить из кучки палочку, не задев при этом остальные. – Здесь и далее, если не указано иначе, примеч. перев.
(обратно)9
«Люди и боги» – французский художественный фильм режиссера Ксавье Бовуа, вышедший на экраны в 2010 году. Трехкратный лауреат премии «Сезар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая операторская работа».
(обратно)10
«Старое ружье» – немецко-французский кинофильм режиссера Робера Энрико с Филиппом Нуаре и Роми Шнайдер в главных ролях. Премия «Сезар» в 1976 году.
(обратно)11
Моя любовь (ит.).
(обратно)12
Популярная во Франции детская книжная серия.
(обратно)13
«Унеси меня на Луну и дай мне поиграть среди звезд…» (англ.) – строка из знаменитой песни Барта Ховарда «Fly Me To The Moon», ставшей визитной карточкой Фрэнка Синатры.
(обратно)14
Гольден и боскоп – сорта яблок.
(обратно)15
Не дальше пределов, дальше нельзя (лат.) – изречение, по легенде написанное на Геркулесовых столбах в качестве предостережения мореплавателям, что ими достигнут край мира. В переносном смысле означает крайний предел, высшую степень чего-либо.
(обратно)16
Фамилия Лабонте (Labonté) означает «доброта».
(обратно)17
Позы йоги.
(обратно)18
Марсупилами – вымышленные зверюшки, персонажи популярного американского мультипликационного сериала.
(обратно)19
Перефразированная камбоджийская пословица «Бык неспешен, но земля терпелива».
(обратно)20
Здесь: воскресная хандра (англ.).
(обратно)21
Барри Уайт – американский блюзмен, пик популярности которого пришелся на середину 70-х годов.
(обратно)22
Дерьмовая жизнь (ит.).
(обратно)23
Здесь: свинство (ит.).
(обратно)24
Casa Celestina – небесный дом (ит.).
(обратно)25
Культовая для французов цитата из пьесы Жана Жироду «Троянской войны не будет».
(обратно)26
Искаженная цитата из хрестоматийного для французов стихотворения Ронсара.
(обратно)27
Команда-мечта (англ.).
(обратно)28
Анри Сальвадор (1917–2008) – французский певец, чья карьера охватывает шесть с лишним десятилетий.
(обратно)29
В пять утра (ит.).
(обратно)30
Первая брачная ночь (ит.).
(обратно)31
Дзуккеро (р. 1955) – итальянский певец, автор песен.
(обратно)32
Да здравствует свобода! (ит.).
(обратно)33
Ничего (ит.).
(обратно)34
У. Шекспир. «Сон в летнюю ночь».
(обратно)35
Фильм Тома Жилу (1997). Главный герой фильма Эдди стремится стать евреем, чтобы добиться расположения богача, благоволящего к этой нации, и завоевать любовь его дочери.
(обратно)36
«К востоку от рая» (1955) – фильм режиссера Элиа Казана, вольная экранизация одноименного романа Джона Стейнбека, с Джеймсом Дином в главной роли.
(обратно)37
Намек на фильм «Хроника объявленной смерти» (режиссер Франческо Рози, 1987) по одноименной книге Г. Г. Маркеса.
(обратно)38
«Из Африки» – кинофильм режиссера Сидни Поллака, вышедший на экраны в 1985 году. Фильм основан на автобиографической книге Карен Бликсен.
(обратно)39
«Мосты округа Мэдисон» – кинофильм Клинта Иствуда, основанный на одноименном романе Роберта Джеймса Уоллера. У фильма есть номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль и две номинации на «Золотой глобус» – за лучший фильм и за лучшую женскую роль.
(обратно)40
«Маленький домик в прериях» – длительный американский телесериал с Майклом Лэндоном, Мелиссой Гилберт и Карен Грассл в главных ролях, рассказывающий о семье, живущей на ферме в Уолнат-Гров, штат Миннесота, в 1870–1880-х годах.
(обратно)41
Разговорный киноклуб для изучающих английский (англ.).
(обратно)42
Жан Дюжарден (р. 1972) – французский комик и актер, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Агент 117: Каир – шпионское гнездо», «Агент 117: Миссия в Рио», «99 франков», «Артист», «Волк с Уолл-стрит».
(обратно)43
Объятия (англ.).
(обратно)44
Я тебя очень люблю (англ.).
(обратно)45
Бенабар (р. 1969) – французский автор-исполнитель и актер. Его псевдоним – это переиначенное имя клоуна Барнабэ.
(обратно)46
Название сайта переводится как «большая любовь».
(обратно)47
Станцуем сальсу (исп.).
(обратно)48
Движения латиноамериканских танцев.
(обратно)49
Танцовщица (исп.).
(обратно)50
Моя любовь (исп.).
(обратно)51
До свидания (исп.).
(обратно)52
Черноногими во Франции называют французов, родившихся в Алжире.
(обратно)53
Жан-Пьер Бакри (р. 1951) – французский актер, уроженец алжирского городка Кастильоне.
(обратно)54
Популярные во Франции сайты знакомств. Названия переводятся как «приручу мужчину» и «обед вдвоем».
(обратно)55
Малыши (ит.).
(обратно)56
Убийца (ит.).
(обратно)57
Жан-Жак Семпе (р. 1932) – французский художник-карикатурист. Является автором более 30 серий рисунков, опубликованных в 30 странах мира.
(обратно)58
Сеть французских гипермаркетов.
(обратно)59
Оставь меня в покое (ит.).
(обратно)60
Паскаль Кларк (р. 1963) – французская радио– и тележурналистка.
(обратно)61
Амин Маалуф (р. 1949) – французский писатель ливанского происхождения, лауреат Гонкуровской премии.
(обратно)62
Французский журнал о кино.
(обратно)63
Хорошее самочувствие (англ.).
(обратно)64
Лягушонок Кермит – самая известная из кукол Маппет, созданных американским кукольником Джимом Хенсоном, один из ведущих персонажей «Маппет-шоу».
(обратно)65
«Маленькие секреты» – фильм французского актера и режиссера Гийома Кане 2010 года.
(обратно)66
Кристиан Бобен (р. 1951) – французский писатель.
(обратно)67
Помидоры… баклажаны… пармезан… отлично (ит.).
(обратно)68
Сюрприз по-сицилийски (ит.).
(обратно)69
Строка из комедии Франсуа Понсара (1814–1867) «Честь и деньги».
(обратно)70
Перевод здесь и далее М. Яснова.
(обратно)71
C’est extra. Слова и музыка Лео Ферре. © Les Nouvelles Éditions Méridian & La Mémoire et la Mer. Печатается с разрешения Les Nouvelles Éditions Méridian-Paris и Éditions La Mémoire et la Mer-Monte-Carlo (примеч. авт.).
(обратно)72
Концертный зал в Париже.
(обратно)73
Сидней Джозеф Беше (1897–1959) – джазовый кларнетист и сопрано-саксофонист, один из пионеров джаза. Выдающийся исполнитель новоорлеанского и чикагского стилей. Лайонел Хэмптон (1908–2002) – джазовый музыкант, бэнд-лидер, певец, актер и шоумен. Джон Колтрейн (1926–1967) – американский джазовый музыкант. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор– и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер.
(обратно)74
Я всего лишь мужчина (англ.).
(обратно)75
Почему она это сделала? Это невозможно. Я видела ее вчера, она была в порядке. В котором часу ты ее нашла? Там были лекарства? А «Каза Челестина»? (ит.)
(обратно)76
Она еще там? Я хочу ее видеть (ит.).
(обратно)77
Очень приятно (ит.).
(обратно)78
Добро пожаловать, Джованни (ит.).
(обратно)







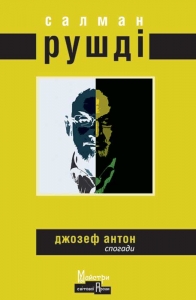

Комментарии к книге «Дом, куда мужчинам вход воспрещен», Карин Ламбер
Всего 0 комментариев