1
Жизнь в горах затихала.
Городок с остатками римских стен и развалинами древних ворот располагал к размышлениям о пути человеческом, о множестве трудных судеб, отгоревших на этой грешной земле. Она, эта земля, позовет и меня когда-то, и я не смогу отказать ей, как до сих пор никто ей не отказывал. А солнце все так же будет ходить по небу, а тени деревьев на земле будут то вытягиваться, то сжиматься под его пламенным оком. Вот и сейчас его око устало и сонно смотрит на мир из-за синеватой гряды гор, и все в городке как бы обволакивается сонливостью. Она чувствуется в походке людей, в их длинных, вялых тенях, в приглушенном шуме голосов. Разъехались курортники, схлынула летняя суета. И только у целебных теплых источников все еще взблескивают в руках больных белые кружки с длинными носиками. Исцелятся ли здесь эти люди? Сумеют ли продлить свое земное существование? И разве не является наша земля лишь одним мостиком на их человеческом пути? Прогуливаться с такими мыслями — занятие не из приятных, особенно если ты надеешься уехать отсюда здоровым.
Иду, взгляд мой скользит по лицам и отмечает то глубокие морщины на покатом лбу, то прищуренные пытливые глаза, то родинку на щеке, будто муху на куске брынзы; или темный платок на голове женщины, или трость в руке мужчины, которой он методично постукивает по мостовой. И вдруг одна пара захватывает мое внимание… Он — совсем седой, широкие плечи, чуть сутуловатая спина. Она — тоненькая, хрупкая. Рука в руке — ни дать ни взять — гимназисты. Молчат, наслаждаясь едва заметным прикосновением друг к другу, предвечерним ветром, дующим в лицо, таинственным разговором рук, а может, и еще чем-то, что доступно только им. Волосы мужчины светятся необыкновенной белизной. Где-то я видел и эти волосы, и плечи, и мне знакомы его размеренные неторопливые шаги. Я опережаю их, чтобы разглядеть получше. Там, где над рекой висит мост, я останавливаюсь, рву пестрые листья граба, облокачиваюсь на перила. Ярко-красный карминный цвет пошел по жилкам листьев, и, если смотреть на них против заката, они похожи на искусную вышивку.
И вот они приближаются. Я как бы нечаянно роняю листья, нагибаюсь, ловлю их и, разгибаясь, смотрю в лицо девушки. Заметив мое любопытство, мужчина замедляет шаги, и по его лицу пробегает тень недовольства. Он выпускает руку женщины. Ее рука ищет его ладонь, и она еще не нашла ее, как мужчина обращается ко мне:
— Как поживаешь? — И, не дожидаясь моего ответа, добавляет: — Познакомься, это — моя жена…
Его жена! Значит, это его жена!
Отблеском заката какое-то воспоминание вспыхивает в моем мозгу. Духота летнего дня, сгустившаяся под сводами школьного зала, бьет меня в лицо. Воздух пропах табаком. Хотя и темно, никому не пришло в голову засветить лампу: сумерки были в самый раз. Наказывают товарища и не хотят смотреть в его глаза. Не знают, правы ли они? Впервые им приходится наказывать за любовь. Молчат. О стекло бьется какая-то обезумевшая муха. С улицы долетают крики ребят. Уставшие аисты щелкают клювами и шумно вздыхают. Где-то за сельским кладбищем настраивают свои голоса лягушки, надеясь удивить небо тем, что они называют песнями. Пусть что хотят, то и думают. Засуха им надоела, так хотя бы слабую вечернюю прохладу воспеть — и поют. А люди молчат! Должны говорить, а молчат. Председательствующий вытирает пот пестрым платком:
— Есть желающие?..
Даже вопрос он не может досказать. Виновный сидит в первом ряду, и его белые волосы светятся мягко, устало. Пятьдесят лет упрятаны под этой белой копной. И вдруг любовь… С его старшей дочерью мы сверстники, в одном классе учились. Звали его Костадин. Друг моего отца. Сосед. И вдруг — любовь. Как дошло до этого? Как все случилось? Не знаю. Давно я покинул родное село и случайно попал на партийное собрание. Был проездом и в тот же вечер отправился в Софию. После короткой побывки в родном селе осталась в душе горечь. И вот эти белые волосы со странным блеском. Я будто снова слышу голос председательствующего:
— Если нет вопросов, тогда я объявляю решение? Значит, нет?
И сиплые голоса:
— Пусть он скажет…
— Что сказать?
— Сам знаешь…
— Знаю… вы должны кончать… Это я знаю…
— Тогда слушай… освободить от должности. Ты уже не председатель кооператива. И партийное взыскание…
Беловолосый слушает, словно не о нем это решение. А на крыше вздыхают аисты, словно они одни понимают, о чем идет речь. Мне неловко. Дядя Костадин в чем-то большом обманул меня, и потому я не расспрашиваю его, а просто-напросто спешу ехать… И сейчас вдруг лицом к лицу. У меня листья граба в руке. У него — тепло женской руки на ладони.
— Так… С моей женой вы, кажется, учились в одном классе, — говорит он мне и обращается к ней: — Вы знакомы, да? Не так ли?
— Да, в начальной школе. Потом он перешел, а я осталась, — еле слышно роняет она.
— Верно… Вспоминаю… — говорю, ничего не припоминая о ней…
— Разве все запомнишь! — произносит он, улавливая мою неискренность.
Наступает неловкое молчание.
Нам есть что сказать друг другу, но мешает ее присутствие. Я видел в его ладони ее руку, и это разорвало старые нити, которые нас с ним когда-то связывали, а завязать их вновь мы могли только без нее. Он понимает это, проводит по лицу рукой и говорит:
— Вечером жду тебя в новом ресторане… У стены… Ведь придешь? Ты мне нужен!..
2
Он пьет ментоловую. Наверно, зеленый цвет водки и запах мяты напоминают ему о полях, и он обретает спокойствие. Затихла музыка. В ресторане пустовато, ощущается отъезд курортников.
Беловолосый отпивает из рюмки ментоловой, и голос его делается все глуше и глуше:
— Крутимся тут, мне не хочется возвращаться в село. Куда угодно, только не в село. Противно мне там!.. Стал посмешищем… Но не жалею… Не жалею… Ты говоришь, был на том собрании? Я тебя не видел… Знаю, голосовали, не глядя на меня. Но и я на них не смотрел. Догадывался, многие посмеивались надо мной. Другие пришли, чтобы вразумить меня. Сказал им: сам все обдумал. Не ребенок, который не знает, что делает! Я должен был затаить на них обиду. Но вместо этого они обиделись на меня. Понимаешь, они на меня обиделись! Почему? Потому, что сочли мой поступок непорядочным. Вышел с собрания разбитый. Кажется, я лишился последних сил, не в состоянии был думать… Мысли мои рвались, как полова из барабана молотилки. Это еще ничего, но над этой половой проносилась буря и развеивала ее… Иду один и не знаю куда. Поймешь ли ты меня, совсем один, и вдруг появляется она, худенькая такая…
— Уходи! — говорю ей.
— Почему?
— Хочу остаться один, — говорю.
— Знай, я тебя жду…
— Жди, — говорю. Что-то душит меня. Болит, и боль эту не уйму никак. Луна такая огромная, светло как днем. Тени домов смялись, лежат на земле. Опостылело все вокруг, дома на меня давят, ни одной минуты не хочу оставаться на улице. Перешел реку по мосту. Вот и поля. Верещат кузнечики. Один мир, откуда я только что ушел, стремится заснуть. Другой мир, полевой, баюкает его своими беззаботными песнями. И они достигают гармонии. От уставших, отдавшихся сну ушли заботы, они переселились в неумолчные песни полей. Я был похож на них: меня, как и их, ожидала ночь — ночь без сна. Бросил пальто на стог сена и лег на спину. Небо, полное звезд — знакомое и незнакомое. Были годы, когда я мог дотянуться до него рукой. Тогда я смотрел на него с горных вершин после партизанских походов. Запомнилось мне оно с табунами бегущих
облаков, с неприятной влагой, холодом, пронизывающим до костей. Кажется, и звезды были тогда менее крупные. Впрочем, я за это и не ручаюсь, мне было не до звезд. Два года подряд мое внимание было приковано к земле, к селам, к людям. Иначе как бы я выжил.
Дядя Костадин выпил ментоловую и стукнул рюмкой об стол.
— Еще одну зелененькую, — произносит он. — Ну что, смотришь на меня и удивляешься: тот ли это дядя Костадин, который учил людей порядку, друг твоего отца… Он ли это? Нет, не я. Точнее, я и не я. Ведь ты тогда смотрел на меня глазами ребенка. А детские глаза умеют видеть только доброе, славное. Что ты видишь, стоя рядом с тополем? Ствол! А если отойдешь, увидишь все дерево. Так можно смотреть и на человека. Ты уже взрослый и, чтобы судить меня, хочешь взглянуть зрелым оком. Суди! Но сначала выслушай! Расскажу тебе о том, о чем не говорил никому. Почему доверился тебе, не знаю. Может, потому, что любил твоего отца. Замечательный был человек, много понимающий. Вместе мы закончили семь классов. Он остался в селе, а я пошел дальше. И достиг бы своего, но меня выгнали из гимназии. Поднялся я на холм, сел на вершине, подложив под себя форменную фуражку, и задумался. Что делать? Как показаться на глаза отцу? А вокруг меня сочная, весенняя трава, ромашки покачивают своими белыми солнцами, в вышине звенят жаворонки, ленивые ящерицы жарятся на камнях, с поднятого поля наносит запах влажной земли, и хочется лежать не двигаясь. От густого дурмана трав кружит голову. Но выше всего этого тревога. Она сильнее всех других ощущений. Тревога овладела мной еще до того, как директор сообщил об исключении меня из гимназии. Была раскрыта группа ремсистов. На допросах нас били, но из-за отсутствия доказательств отпустили. Мне все же пришлось уйти… Ты знаешь, с холма, на котором я сидел, крыши домов похожи на красные фески, лохматые колпаки. Такие колпаки обычно стояли перед домом твоей тети Тины — моей первой жены. Отец ее, меховщик, по утрам сушил колпаки, выставляя перед лавкой на болванках. Тина была крепкая, краснощекая девушка: при встрече со мной щеки ее пламенели как пионы. И хотя жили они богато, Тина не удержалась в гимназии. Начала учиться, но в первый же год вынуждена была уйти. Не давалось учение, науки оказались ей не под силу. У Тины были свои пристрастия: любила ухаживать за курами, махать в поле мотыгой. Старательная была, ты это знаешь. Любая работа, если она не касалась книг, спорилась в ее руках, и по дому управлялась она: пекла хлеб, кормила батраков, мельника, делала любую работу в поле, заменяя мать. И кто знает, почему в тот миг, сидя на холме, на своей гимназической фуражке, я вспомнил о ней. Может быть, старался отвлечь себя от мыслей о предстоящей встрече с отцом, не знаю. Всматривался в сельские крыши с надеждой отыскать двухэтажный дом, но купола церкви заслоняли его. С той стороны вылетали аисты и тянулись к болоту за холмом. Они пролетали близко от меня и были ясно видны, я слышал их вздохи и щелканье клювов. Аисты вышагивали мимо камышовых зарослей, доходили до часовни св. Петки и важно поворачивали в поле. Белые их нагрудники уже стушевала темнота, а я все еще не хотел возвращаться домой. Однако встречи со стариком нельзя было избежать. Когда я ступил на двор, он снимал соху с телеги и подбирал упряжь. Считая, что он не знает о моем исключении, я старался показаться беззаботным. Надеялся: расскажу матери, а она уж потом ему. Поздоровался и хотел пройти мимо, как вдруг сильный удар ременной сбруей обрушился на мое плечо. Попробовал отскочить, но запутался в ремнях и упал, и тут меня настиг второй удар. Потом удары посыпались градом, когда я валялся на земле и перестал их ощущать. Помню только, как сумел вырвать из рук отца ремни и кинуть их во двор соседей. Оттуда раздался смех, он-то заставил меня вскочить и броситься прочь со двора. Я помчался по дороге к лугам. Меня били в полиции, но никогда еще мне не было так больно. Ремни отца ударили по моему честолюбию, по моей гордости… К тому же этот смех соседа из-за плетня… Соседи все видели… Соседи… Нет, никогда я не прощу этого отцу, никогда! Долго бродил по заболоченным лугам и только, когда окончательно продрог, надумал переночевать в часовне. Подошел, и вдруг мурашки побежали по спине, тотчас покрывшейся холодным потом. С часовней были связаны россказни о духах, о таинственных ночных шумах. И хотя я не верил ни в бога, ни в черта, подошел с опаской. Под навесом, где был выложен камнем небольшой колодец, тихо плескалась вода. Или это мне показалось? На дверях часовни нащупал железные кольца. Они были связаны толстой проволокой. Раскрутил, толкнул дверь. Шум вспугнул кого-то. Горохом покатились мелкие шажки и стихли. Что такое! Пытался что-то разглядеть, но темнота была такая — хоть глаз коли. Чиркнул спичку. Огонек вспыхнул, затрепыхался, смигнул, будто кто задул его. Но все же я убедился, что в передней никого нет. Вслепую добрался до иконы святого, пальцы мои наткнулись на огарок свечи. Зажег. Огарков оказалось много, я собрал их и запалил все. Свет заиграл на иконах. Прислушался. Мелкие шажки снова простучали по каменному полу, кажется, со стороны амвона. Сверху вдруг свалился гром удара, и над грубой деревянной резьбой высунулись два кривых рога, а затем выглянула голова, будто любопытный сосед вновь подглядывал за мной.
Коза!
Кто-то запер ее в часовне. Коза заблеяла, и страх мой пропал. Заглянул в ее убежище. На полу лежало сухое сено. Я захватил охапку и постелил на две иконы, снятые со стены…
Беловолосый отпил ментоловой, зеленой, словно молодой клевер, хлопнул ладонью по столу. Я ждал, что он поднимется и уйдет, но он, помолчав, вновь заговорил:
— Ты можешь подумать: какое тебе дело до всего этого? Запутался в жизни, стал посмешищем, а теперь хочет оправдаться, морочит голову бабушкиными сказами, какими-то козами в часовне. Ты молодой, можешь думать что угодно. Но я тебе рассказываю это потому, что кому-то должен рассказать… Таково было мое первое неприятное возвращение в село. Подробно вспоминаю об этом, чтобы ты понял, где я ошибся. Так вот, если бы то возвращение в село было бы иным, может, я не дошел бы до нынешнего положения. Видно, святые, которых я подложил под себя, не простили мне своего унижения, заставили совершать торопливые мальчишеские поступки. Но это ради шутки… В ту ночь коза не раз вынуждала меня своими прогулками просыпаться. Она стучала копытцами по каменному полу, словно женщина острыми каблучками. Проснулся рано, весь промерзший. Утренний туман с болот проник через узкое оконце вовнутрь, казалось, часовня была полна молочного дыма. Я вышел, когда солнце только что поднималось из-за Трыцовского холма. Сидел и думал, что делать, куда податься? Аисты уже прогуливались возле камышей в поисках завтрака. Какая-то серая птаха, может, водяной бык, не знаю, всколыхнула тростник. Вот пастухи уже выгнали стадо на верхний луг. Я знал, что у них в сумке еда, но идти было далеко. Я надеялся разжиться хлебом и салом, когда они придут к ручью за водой. Придется выжидать, когда старик уйдет на работу. Тогда проберусь в дом, запасусь на несколько дней пищей, а потом — куда глаза глядят. От отца я ничего не ждал и не хотел. Я уж не маленький, чтобы утешать себя. Но голодным далеко не уйдешь. Не ужинал, да и позавтракать было нечем
Высохла роса на луговой траве, черная кандра распрямила стебли, когда вдалеке я увидел девушку. Пригляделся — Тина! Подошла, узнала меня — смутилась. Не ожидала увидеть тут, да и не знала, что я вернулся. Пришла, чтобы выпустить козу. Вчера вечером мельник запер ее в часовне, и теперь, идя на мельницу, Тина, по наказу отца, должна была выпустить козу. Перехватив мой голодный взгляд, Тина опустила передо мной свою сумку. Я не заставил себя упрашивать. Хлеб и сало показались мне необыкновенно вкусными. Наевшись, я неожиданно для себя стал хвалиться ссорой со стариком. Тина смотрела на меня, не скрывая своего восхищения. Наверно, в ее глазах я был героем. Поборов нерешительность, она спросила:
— А что теперь будешь делать?
— Работать…
— Где?
— Где угодно.
— Тут, в селе?..
— И тут, и в другом месте…
Эти планы возникли как-то сразу, сами по себе. Но все обернулось иначе. Работу я не нашел. И если бы не Тина, которая носила мне еду, пришлось бы вернуться к старику. Летом еще можно было жить: фрукты, помидоры, дыни. К осени я все же сумел устроиться на строительстве шоссе. Дробил камни для покрытия. Ах, как нужны были мне деньги! Я задумал жениться на Тине, мы уже были близки с ней. Отец отказал, и тогда Тина взяла да и убежала со мной. Перехватили нас в соседнем селе, на стройке. Меховщик долго упрямился, но, когда начались морозы, уступил, разрешил нам поселиться на мельнице. Старый мельник получил расчет, и некому было теперь следить за жерновами, принимать помольцев. А луг перед мельницей был забит телегами с зерном для помола. Отец Тины взял меня не как желанного зятя, а как батрака и всячески избегал. И только когда у нас родилась первая дочь, он разрешил Тине переселиться в дом. Понятно, я сделался в доме нежеланным призраком. Если я не садился, то не от кого было ждать приглашения. Попробовал пожаловаться жене. Она, не подумав, огрызнулась: «А ты хочешь, чтобы тебя на руках носили?» Прикусил язык, разозлился. Пробовал оправдать ее поведение заботами о ребенке, но не тут была собака зарыта. Чутье подсказывало: в ней что-то изменилось. Да, я уже был в ее глазах не прежним героем, а всего-навсего человеком без родословного корня. Потом родилась вторая дочь, третья. Меховщик сходил с ума. Он ждал наследника, а, как назло, у нас родились только девочки. Я слыхал, как он заглазно бранил меня. Но однажды выругал матом. Я вскипел. Чуть не пристукнул его сошником, хорошо, что он успел спрятаться за амбаром. А Тина не защитила меня, а встала на сторону отца. Что же, понять ее было можно, но простить? Пробовал увещевать, а она свое: если бы ты был настоящим человеком, отец не выгнал бы тебя… И куда я смотрела… Я… Вижу: плохи мои дела. Говорю себе: терпи, Костадин, да помалкивай… Тут шутки плохи…
Так жил, пока немцы не бросились топтать украинские степи. Терпел, все терпел. Радио гремело победными маршами. Отец Тины стал видным человеком в общине: старостой. Это еще больше развязало ему руки. Он не мог терпеть меня на своем дворе. Я стал пропадать на мельнице. Там и жил. Это оказалось буквально находкой для подпольщиков. Здесь можно было скрыть нелегальных, принять связных. Они приезжали на телегах, колеса которых были замотаны соломой, чтобы не стучали. Я встречал этих людей у шлюза, тут мы договаривались обо всем, и темнота поглощала их И нас, конечно, не раскрыли, если бы не тесть. Он приказал следить за мной. И хотя я был осторожен, они напали на след. Однажды телега подпольщиков сломалась. Мешки, которые они везли, пришлось выгрузить и спрятать в небольшой роще за холмами. Их обнаружили. Я узнал об этом случайно. Зашел навестить своих девочек, когда во двор неожиданно ворвался мой тесть и, не подозревая, что я рядом, крикнул своей жене, чистившей хлев:
— Нет, он сейчас не отвертится!
— О чем ты?
— Я ходил… Я опознал мешки.
— Какие мешки? — не поняла она.
— Наши! С мельницы! Их нашли в роще, за холмами…
— Они точно наши?
— Я не слепой!
— И что же?
— Что, что! За ним пошли сейчас на мельницу…
Ждать мне было больше нечего. Решение пришло мгновенно. Выскользнув черным ходом из дома, я миновал огород и спрятался на сеновале соседа Аскерче, а как стемнело, подался в горы, к партизанам.
3
Я слушал его рассказ, и, кто знает почему, в моей памяти оставалось только романтическое. Может быть, я так устроен? А может, долголетние занятия наложили свой отпечаток на склад моего ума, но я все еще не мог увидеть драму. Драма оставалась где-то там, вокруг партийного собрания. Я представлял, как частые звездочки в небе гасят мысли дяди Костадина, посыпая их звездной пылью, будто невидимая мельница на небе непрестанно вращала тяжелые жернова и заполняла ночь прозрачной мучной мглой. Кузнечики состязались в трелях, прогоняя сон. Увядшая богородская трава, прижатая его крупным телом, нерешительно расправлялась, обдавая его своим запахом. При каждом нервном движении новая пьянящая волна охватывала его, будто взрывалось пахучее облако. И только мысль о том, что произошло на партийном собрании, снова и снова острой иглой колет сердце, вызывая щемящую боль. Его путешествие не было завершено. По правде сказать, оно только начиналось. До сих пор был порыв, неосознанная молодость, стремление применить будоражащие силы, совершить подвиг, сделать явью свою мечту. И когда мечта его сбылась, он понял, что начинает жизнь, полную невзгод, с настоящими мучительными испытаниями. Он стал тем корешком, который, чтобы уцелеть, догадался срастись с землей. Так я представлял его внутреннее состояние после бегства из села. Без связей с партизанами, не пользуясь явкой на мельнице, где он не мог показаться, чтобы не попасть в засаду, уберечься… Все это проникало в меня вместе с его голосом, голосом, сиплым от скрытого волнения.
— Люди вокруг затаились. Время было не таким романтическим, каким представляете его теперь вы, молодые. Куда пойти, к кому обратиться за связью? Решил поискать встречи там, где небольшой одинокий источник как бы делит поля и горы. Я услышал о нем случайно. Два человека, оказавшиеся партизанами, упомянули о нем в моем присутствии. Они собирались у него отдохнуть, прежде чем отправиться в горы. С трудом нашел его, но все же нашел. Место это было покрыто колючим кустарником, и только одна чуть заметная тропинка вела к источнику. Едва пробрался сквозь заросли и устроил для себя нечто похожее на волчье логово. Поле было видно отсюда как на ладони, и почти рядом из-под низкого камня вытекал холодный источник. В воде, на которой лежала тень от камня, плавали листочки кустарника. Приходившие сюда люди почти совсем не оставили следов, так искусно они маскировали их. Но я надеялся, что они снова придут сюда. Надежды эти были иллюзорны, но они поддерживали состояние моего духа. Моя наивность, конечно, заслуживает удивления. Ночами я ловил каждый шорох, боялся упустить встречу с ними. Слух мой обострился до предела, а голод сделал меня еще более чувствительным. Может быть, я не выдержал бы, бросил бесплодные ожидания, если бы не открыл нечто невероятное. Черепах! С толстыми шероховатыми панцирями, побитыми камнями, неуклюжих, неповоротливых и жадных. Они на чешуйчатых ногах к вечеру спускались к источнику, чтобы утолить жажду. Черепахи спасли меня от голодной смерти. Я подстерегал их, как лисица, ловя шорох прошлогодних листьев под их ногами, дрожащими руками хватал, связывал их и вешал на веревку из козьей шерсти. Так я запасался едой. Солнечными жаркими днями пек их в кривой, выдолбленной в камне печке. Это продолжалось до той самой ночи, когда осыпь мелких камушков заставила меня замереть от напряжения. Камушки шелестели где-то вверху, надо мной, у тропы. Вслушался. Осторожные шаги замерли у источника. Мелькнули смутные фигуры: одна, две, три. Свои или чужие? Свои или чужие? Свои… Вскочил, шагнул навстречу и вдруг полетел в кусты. Черт возьми, своя же ловушка на черепах! Мой шум всполошил тех, у источника. Полыхнул выстрел, пуля щелкнула надо мной. Я поднялся. Звенело в ушах. Людей как ветром сдуло. Да были ли они? А если были, то наверняка больше не появятся. Подумают — засада. Ждать их снова бессмысленно. Но куда же, куда податься? В село! На следующий день, вечером, я спустился в долину.
Дядя Костадин поднял рюмку с ментоловой, но узрев, что моя еще не тронута, поднял брови:
— Ты что, непьющий?
— Почти.
— И я тоже. Но сегодня просит душа. Да что скрывать, начал прикладываться к рюмке с того собрания… Ладно… Слушай…
— Встретился я с селом ржавой, тревожной ночью. Небо покрыли облака, начерниленные, как ладони неопрятного ученика. Высоченные тополя, что росли во дворе Ванчо Аскерче, мели вершинами небо, но никак не могли его вымести. Припал к стене сеновала, прислушался — ничего, кроме свиста ветра. Ветер распахнул ворота, я вошел, залез наверх, на солому, сдвинул несколько черепиц в крыше, чтобы в дыру можно было выглянуть наружу и лучше слышать шумы. И заснул. Проснулся от невероятной духоты. От черепицы несло жаром. При каждом движении поднималась вокруг меня пыль, забивала ноздри. На дворе было настоящее лето. Резко пахло болиголовом. В дыру в крыше я видел, как буйно топорщился щавель, синела мальва своими граммофончиками. Совсем рядом слышалось тревожное жужжание. Вот оно что! Когда я проделывал дыру в крыше, потревожил осиное гнездо. Рассерженные осы искали виноватого и вот-вот могли напасть на меня. Этого еще не хватало! Осторожно спустил ноги и спрыгнул на землю. В углу увидел сено, но его было мало, чтобы упрятаться. Прижался к дверному косяку и в притвор увидел пустынные ток и двор. До полудня тут все было тихо, спокойно. Но вот на току появилась девочка. Я узнал ее: Ангелинка, подружка моей старшей дочери. Она была так мала ростом, что не подумаешь, что ей уже десять лет. Девочка выгнала двух овечек, маленьких, как и она, и стала пасти их в тени за хлевом. Она уселась на лужайке и начала плести венок из мальвы и харманской травы. Позвать ее? Нет, не стоит. Неожиданное появление Ванчо Аскерче прервало мои мысли. Он до времени вернулся с поля. Телега его была полна свежего клевера. Войдя в сарай, он сразу увидел меня, да я и не прятался. Мы ведь старые друзья. Он, конечно, удивился, оглянулся назад, не идет ли кто, и прикрыл ворота…
Спустя несколько дней мы отправились в горы. Вел нас старый, бывалый партизан. Ванчо решил не возвращаться на Эгейское побережье, в свою часть, где служил, а поискать прибежища под горными буками, у партизан. Проводник шел уверенно, это и нам прибавляло сил. Еще воодушевляло меня оружие моих друзей. Да и я был вооружен пистолетом. Раздобыл его для меня Ванчо. По дороге я шутливо рассказывал о своих запасах черепах, уговаривал спутников свернуть к источнику и там отведать меню моего тайного склада, но проводник строго выговорил:
— Впереди все будет. И черепах будете есть, и голодать — тоже. Надо спешить…
Но его предсказания не испортили мне настроение, и я продолжал подшучивать над собой за долгое и безуспешное сидение в своей берлоге. И над Аскерче подшучивал, над его странным прозвищем — Аскер, что по-турецки означало солдат…
Радость, владевшая мной, была вызвана тем, что я находился среди своих, напасть на след которых я было отчаялся. Ванчо не разделял моего настроения и косо посматривал на меня. Его волновала судьба своих близких, особенно детей. Что с ними сделают, ведь он дезертировал из армии? Военная служба ему, конечно, осточертела… И года не проходило, чтобы его не призывали на службу. Как станут листать списки запасников, обязательно узреют его фамилию. И когда бы его ни спросили, как он живет, он отвечал:
— Какая жизнь у вечного аскера? Разве что рассказать о солдатской службе? Чем другим еще можно похвастаться?
За это и прозвали его Аскерче. Тромба так прозвал.
Беловолосый умолкает. Перед нами стоит официант. Глаза его мутны, рука вцепилась в спинку стула — нализался…
— Ну, товарищи, будем платить?
— Уже пора? — спрашивает беловолосый и оглядывает пустой зал, сует руку в карман, но я опережаю его:
— У меня приготовлены!
Официант берет деньги. Пробует повернуться, по-солдатски пристукнув каблуками, но тут же валится на пол.
— Из дурака солдат не получится, — замечает беловолосый и направляется к двери. Я иду за ним. Жаль, что разговор наш прервался.
— Проводить тебя, дядя Костадин?..
— Как хочешь… Я что-то разболтался… А главного я тебе не сказал. Ты хочешь спать?
— Нет.
— Тогда давай пройдемся…
Идем вниз, к Девичьей бане. Темнеет парк. Вечерний ветер гуляет в пожелтевших листьях, будто прощаясь с ними. Усталый шепот, усталый вечер, усталая луна, неясная, смутная. И нас двое. И никого больше.
— Здесь жилое место, но людей не было, а там, в горах, где люди не должны быть, — они были, мы были. Бивак, землянки, часовые. Отчаянное дело. Да тебе ли рассказывать о партизанах? Писано-переписано о них, ничего нового больше не скажешь. Все-таки каждый сохранил свое, глубоко в себе припрятал. Сколько на нашем счету было немыслимых переходов и дерзких боев, пока не настигла нас беда. И когда? В канун освобождения. Третьего сентября как снег на голову свалились враги и разбили нас.
Пятнадцать наших товарищей погибли в долине под горой Медвежьи Ушки. С десяток попали в плен. Не знаю, как я вырвался из окружения. Вначале со мной был Ванчо, но в одном из боев он вдруг куда-то исчез. Двое суток я отсиживался в яме, на третьи сутки, ночью, голод выгнал меня, и я направился на взгорок, где было картофельное поле, и к полуночи едва добрался туда. Разрыл на ощупь два-три гнезда, но не успел я сунуть картофелины в сумку, как пулеметная очередь заставила броситься на землю и отползти. И вовремя! Послышались голоса солдат. Я побежал по тропе. Бежал и прислушивался. И вдруг стон, глухой, сквозь зубы. Я остановился. Человек! Шагнул на стон. Раненый услышал шелест ветвей, затаился, лязгнуло оружие о камни. Дурак догадался бы, что тот готовился стрелять, и я крикнул:
— Не стреляй, свой!
В ответ молчание. Я еще раз крикнул и в ответ услышал ясный, совсем близкий стон. Осторожно подошел, назвался. Ванчо! В темноте я разглядел его ужасную рану в живот. Пуля прошла наискосок. Ванчо еще мог шагать, я изо всех сил поддерживал его. Когда рана начинала невыносимо болеть, я клал его на спину, и мы отдыхали. Так спустились по тропе, не зная, куда она ведет нас. День переждали в зарослях. В сумке Ванчо нашлась горбушка хлеба. Я размочил ее в воде и накормил друга жидкой кашицей. А ночью мы снова спускались, поставив себе цель во что бы то ни стало добраться до долины. Тащились, как черепахи. Потеряли счет дням. Хлеб кончился, я давал Ванчо лишь воду, да и то совсем понемногу — глоток, не больше. Рана нагноилась, и он стал похож на мертвеца. Меня точила мысль: бросить его? Каюсь, однажды я его бросил, но вскоре, усовестив себя, вернулся. Жаль стало его, смертельно жаль. И сказал себе: коль придется умереть, умрем вместе. Вдвоем ушли мы с ним в горы, вдвоем и останемся там. Я тащил его, взвалив на плечи. Так мы оказались в долине. Красивый пестрый лесок, а за ним поля, маленькие, разбросанные там и сям, каменистые и скудные, но поля, предвестники человека, его жилья. И тут перед нами — дикая груша, отяжелевшая от плодов. Ослепленные, мы смотрели на нее. Я оставил раненого и бросился к дереву, наполнил сумку, набил за пазуху. Вернулся и прилег рядом с ним отдохнуть, да и заснул. А когда проснулся, сумка была наполовину опорожнена. Ванчо извивался от страшных предсмертных болей. Нетрудно было догадаться, что произошло. Мои попытки облегчить состояние друга оказались тщетными, и к вечеру он умер. Завалил я труп прошлогодней листвой, взял винтовку и пошел через поле, надеясь выйти к селу. Но не успел я пересечь шоссе, как услышал гул моторов — войска! И, перепугавшись, бросился назад, к лесу. Я знал, что где-то поблизости есть село болгар-мусульман, и направился к нему. Берегом реки с трудом добрался до поля партизанского связного Мустафы, засел в лесочке, надеясь увидеть его. Мне повезло лишь на второй день: он шел веселый, насвистывал что-то, и я ему позавидовал. Позвал его. Он выжидательно постоял и долго смотрел на меня, прежде чем подойти. Наконец узнал, улыбнулся, ошеломил меня новостью: все кончилось, наши друзья спустились с гор, захватили общину, и стал звать меня домой. Я не обрадовался этой новости, а насторожился: не может быть. Нас же разбили… Мустафа все тараторил и тараторил что-то о победе, о русских, и, чем больше он говорил, тем сильнее закрадывалось в меня сомнение.
— И Аскерче был с ними? — спросил я.
— А как же! — ответил он, не задумываясь.
Тут я понял: Мустафа не иначе как побывал в руках полиции и умом рехнулся. Я наотрез отказался идти в село. Попросил принести хлеба. Решил: подождем — увидим. Он сунул мне кусище мамалыги и, повернувшись, зашагал к селу… Его торопливость еще больше насторожила меня. И я поспешил покинуть поле, забрался глубоко в лес. В полдень услышал голос Мустафы, он звал меня, но я не откликнулся. Подождал, пока завечереет, и отправился к своему селу, ослабевший, отчаявшийся. Еле дотащился на седьмой или девятый день и пробрался на сеновал Ванчо. Я знал, что его нет среди живых, но тайно все же надеялся, что вот откроются ворота и он войдет, как входил когда-то.
Ворота не открывались. Подобрался к ним, выглянул наружу. Странно: на току сидела Ангелинка. И тут в моем сознании сместилось время, и мне почудилось, что все было, как прежде, и я никуда не уходил. Та же девочка, тот же ток, те же овцы. Протер глаза кулаком: нет, овец было три, а ток выровнен, и только по краям его росла трава, низкая и выгоревшая. Девочка так же сидела на траве, но не плела венок, а что-то вязала. Приоткрыв ворота, я позвал ее. Ангелинка испуганно вскочила, бросилась к плетню, но, прежде чем перемахнуть через него, оглянулась.
— Не бойся, — успокоил я ее, — я дядя Костадин… — Но она смотрела на меня недоверчиво. Я отметил, как она выросла, тело казалось куда развитее для ее лет.
— Если ты дядя Костадин, то почему прячешься? — спросила она.
Я пожал плечами: что мог ответить? Она тут же добавила:
— Уходи, а то позову русских…
— Каких русских?..
— Красноармейцев! — Девочка глядела на меня удивленно, непонимающе.
— Пришли?
— Пришли…
— Беги и позови их! — Я тяжело опустился на траву.
Девочка было пошла, но тут же вернулась, спросила:
— Ты ранен?
— Нет…
— Тогда почему не хочешь пойти со мной?
Я поверил ей и нехотя согласился:
— Ну ладно, пойдем…
Одни сельчане жалели меня, другие посмеивались, но никто не знал, как мне тяжко. По-другому отнеслись партизаны, те, кто побывал в боях. Они отправили меня в больницу. Вскоре я пришел в себя, поправился, и сельчане избрали меня председателем. Для фронта я не годился. И я занял тот стол, за которым еще недавно сидел мой тесть, и стал управлять селом. В доме без него все шло как и прежде. Тина привычно вела хозяйство. Но это была уже не та Тина, а другая, суровая и властная женщина.
Однажды мы поспорили, и я услышал от нее слова, которые так и подкосили меня: «Лучше бы ты не возвращался». Я смолчал. Отнес это за счет ее беспокойства за отца. А потом забыл — до этого ли было? Каждодневные дела съедали все мое время. В село приезжали бригады горожан. Много хлопот доставляли семьи фронтовиков. Переломное время требовало своих законов поведения, звало к чистоте и искренности во всем, ответственности за свое дело. Воровство, рвачество, несправедливость строго наказывались. Помню один случай… Может, и ты знаешь его? Пришла жена фронтовика и пожаловалась, что сосед пристает к ней, соблазняет, пробовал ночью в дом ворваться, о постели намекал. Что предпринять? Попросил приглядеть за ним. Уже в следующую ночь он попался: стучал в ее окошко. Наказали его, конечно. Но какое это было наказание… Как вспомню, так жарко делается и до слез стыдно за себя. Состреножили его бычьей цепью и повели по селу. А ребятня, улюлюкая, бежала за ним, кидала в него камни, кричала:
Сельский бычок Кандалы волочет!До сих пор мурашки по телу пробегают… При одном воспоминании этой картины. А если бы меня так повели и сельские ребята кричали:
Сельский бычок Кандалы волочет!Верь мне, застрелился бы. А он стерпел, сам себе плюнул в рожу, целый год не появлялся на людях, а потом где-то затерялся в жизненной сутолоке. Прошло, забылось. Только я не могу его забыть. Был я, как видишь, строгим судьей, а сам вроде до того же дошел, наказан за «подобное» дело. Но я говорю «подобное» не случайно. Рядом с ним, тем хлюстом, встать не хочу. Только на первый взгляд нас можно связать одной веревочкой… Послушай…
Никто не знал, что у меня творилось дома. Люди видели, как я сражаюсь за новое, из кожи лезу вон. В одно время я и ночевал в Совете. Районный комитет хвалил меня. Но разве кто мог подумать, что главные мои испытания не тут, не в Совете, а дома. Плач, проклятия по моему адресу: почему я и пальцем не пошевелил, чтобы спасти тестя, осужденного новой властью на десять лет?.. Тина, правда, иногда как бы трезвела, но старуха, ее мать, не давала мне прохода. Я молчал, а потом стал успокаивать их: ведь не к смерти же приговорили, отсидит свое и отпустят. На какое-то время в доме наступило затишье. Но вот на селе стали создаваться кооперативы. От меня ждали примера, и я записался. Но ничего не внес. Я был гол как сокол — хозяйство принадлежало тестю и моей жене. А она ни в какую: нет да нет! И выла как по покойнику. И я не выдержал. В первый раз поднял на нее руку, дал две затрещины. Но и это не воздействовало. Страсти особенно разгорелись, когда я выехал пахать поле за селом, где были огороды тестя. Тина бесилась, а старуха слала на мою голову всякие проклятия: чтобы я ослеп, собаки бы разорвали меня, руки мои отсохли бы до локтей. Терпел, терпел, но никто не знал, что у меня на душе. Мне хотелось снова удрать в горы не от новой жизни, нет, от дома удрать, от жены. Однако задумался: а как посмотрят на это мои товарищи, соседи? Скажут, заелся, возгордился, перестал владеть собой. Иди доказывай, что не виноват, что каждый день тебя едят поедом. Терпеливый я крестьянин, но и мое терпение кончилось. Вот-вот и лопнула бы семейная веревка, но сдержался. Чуть не решил все один случай. Как-то сторожа, охранявшие поля, привели оттуда табун разбушевавшихся женщин. Среди них была и моя теща. Старуха еле ходила, но тоже отправилась в поле, чтобы лечь перед трактором, кидать в трактористов камнями, комьями земли. Помню, машину вели двое русских ребят из роты, стоящей на отдыхе в городе. Алексея и Жорку послали к нам помочь вспахать поле своим тягачом. Я чуть не плачу от расстройства, а они смеются: успокоитесь, у Шолохова в романе, говорят, такая картина уже была. Сейчас бабы на кооператив злобятся, а потом их силком не выдворишь, знаем. В руках одного появилась гармонь. Затянул песню. А потом грянула плясовая, каблуки ударили о сухую землю. Наша молодежь выскочила на круг, и пошли танцы. Гора свалилась с моих плеч… На радостях забыл и про жену, и про тещу, и про скандалы. Но, когда вернулся домой, радость погасла. Опять не отдых, опять война…
Тина встретила в дверях. Слова ее были тяжелые как камни:
— Отца закатал в тюрьму и нас туда же хочешь?..
Детям стыдно ее слушать. Они — сентябрята, старшая дочь уже в комсомол вступила. А мать куда тянет? Я старался, чтобы о неурядицах наших никто не знал; что хорошего, если пойдут разговоры.
Я сообразил потребовать у тестя свою долю, сразу же записал на свое имя, а от него отделился. Меня уже никто не мог ничем попрекнуть. А было ведь всякое в первые годы. Оппозиционеры на нас клеветали, ты и сам знаешь. Потом провели национализацию. Началось массовое кооперирование деревни. Меня избрали председателем кооператива. Председателем! Я вроде бы им и не был. Разные инструктора таскались по селам, командовали: делай это, делай то. Надоело. Однажды не выдержал. Только что вернулся с Муранлийского поля, а инструктор тут как тут:
— Почему поле не засеял?
— Рано еще, — говорю.
— И вовсе не рано, — говорит. — Сей! План срывается.
— Ну что ж, знаю. Но земля вязкая. Всходы не пробьются.
— А это меня не интересует, — говорит.
— Ах, так! — хватаюсь за стул. Я, конечно, выкинул этого хлюста, вдогонку швырнул его портфель: проваливай…
— Я тебе покажу, — пугал, — увидишь!
Отделался выговором. Зачем я тебе рассказываю? Чтобы ты знал, как было. Теперь разве ж так! Есть у тебя план, а ты, принимая решения, сообразуй их с местными условиями. Свободно действуй. А тогда по учебнику: раз, два…
Вот и бегал я тогда с поля на поле. Люди смотрят мне в глаза с надеждой. Сплю мало, в голове ничего, кроме кооперативных забот. И так с раннего утра до позднего вечера. В один дождливый день возвращаюсь с поля. Завернулся в бурку, а двуколка еле тащится. Дождь такой мелкий, противный — сеет и сеет. Еду. Разные думы одолевают. Миновал реку, поехал напрямик, чтобы укоротить дорогу. Догнал женщину. Спешит, вижу. Останавливаюсь.
— Садись!..
Она поколебалась, но села. Промокла до ниточки, зубы стучат. Задержалась, говорит, на овощном поле. В лице, вижу, что-то знакомое.
— Ты, — спрашиваю, — не Ангелинка ли?
— Я, дядя Костадин…
— Выросла как!
— Выросла… Уже несколько лет замужем.
— Вот как! За кем?
— За Петром… Папунче.
— Ты знаешь Папунче? Бывший батрак меховщика, такой верткий, непостоянный. Настоящий человек из него не вышел, стал мелким хитрецом. У него не было ни клочка земли, но в кооператив вступил. Потом спутался с оппозиционерами. Кучу неприятностей нам принес, но мы терпели.
— Не повезло тебе, — сказал я.
— Повезло, не повезло — что делать? — вздохнула она. — А кто бы взял меня?
— Почему?
— Болела я… Плеврит.
— Но я же вижу, ты здорова.
— Ну и что? Раз уж пошла худая слава. Останови, я сойду.
Остановил. Сошла. Вот и все…
Зима была сухая, забот хоть отбавляй. А трудодень пустой. Ломали голову, как свести концы с концами. Ночи напролет заседали, спорили, ругались. Однажды, когда возвращались домой, партийный секретарь удивил меня вопросом:
— Послушай, Коста, давно собираюсь тебя спросить, да не хватает смелости. Говорят, Папунче чуть не убил свою жену, и все из-за тебя.
— Вот как! Почему же?
— Видел тебя с ней…
— Ерунда! Нечего людям делать, вот и чешут свои языки.
— Я так и думал… Да ведь болтают.
— И пусть болтают…
* * *
Беловолосый замолчал. Под нашими ногами сердито скрипел песок, как будто обиженный на то, что и ночью не дают ему покоя. Возвращаться домой было уже поздно. Где-то в стороне Таушанки начинали перекличку петухи. То наплывал, то откатывался сиплый лай собак.
— Отнял у тебя ночь на пустые побасенки, — проговорил беловолосый. — Что ж, продолжим или пошабашим? Давно так не откровенничал. Детям, что ли, своим расскажешь? Едва ли будут слушать. Друзья подумают — рехнулся. А с тобой вряд ли увидимся снова. Поэтому придется тебе выслушать до конца. Тот разговор с партийным секретарем забылся. Мне не было интереса до того, о чем болтали люди. Да и дела нахлынули, только поспевай. Весенние работы сменились летними. Началась страда. Для пшеницы не оказалось хранилищ. Строители, сооружавшие их, подались в Димитровград, и теперь некому было довести работы до конца. Мы раздумывали: раздать пшеницу на трудодни или часть засыпать в общие закрома? Члены кооператива давно настаивали скорее наладить коллективную выпечку хлеба. Пекарни были уже готовы, не хватало лишь складов для муки, и это мешало сдвинуть дело с мертвой точки. Кроме того, мне показалось, что завхоз крадет общественное добро. Одним словом — страдания. Заседания, бессонница, беготня за кредитами, споры. И однажды в потоке голосов, тонущих в табачном дыму, среди общей усталости услышал снова: «Папунче чуть не убил свою жену, и все из-за тебя…» И вдруг я ощутил ее как женщину. Вспомнил такую худенькую, промокшую тогда до нитки. И скрытая боль в ее словах: «А кто бы взял меня?..»
И опять оборвалась ниточка, забылась она. Да и не оставалось для нее времени. Жизнь несла меня, будто река в половодье, я силился ухватиться за что-нибудь личное, пусть и крошечное, но бурный поток отрывал меня, нес. Во время массового кооперирования были у меня грешки, и это вынуждало оглядываться. Остерегаться: а вдруг пристукнут в темноте. Однажды, когда я возвращался домой, на повороте улицы на меня напал кто-то. Нож скользнул по грубой ткани полупальто, чуть не проколол ее. Я выхватил наган, взвел курок, но не выстрелил. Мужчина был невысок ростом, хилый, бежал неловко, спотыкался. Папунче! Мне стало жаль… Не его, а ее… Словно она схватила меня за руку, упредила выстрел. Никому я не рассказал об этом случае, но стал более осмотрительным. Этот не сумел, другие могли оказаться ловчее. Особенно настораживал Тромба, ты его знаешь. Середняк, поля его небольшие, но хорошие. И когда мы решили кооперативом распахать поля за селом, а ему выделить землю в другом месте, совсем озверел человек, отказался вступить в коллектив. И с добрым словом мы к нему, и с угрозами — ни в какую! В конце концов решили привести его ночью в канцелярию. Убеждали, обращаясь к его разуму, — все впустую. И тогда я пошел на хитрость. Перед тем как отпустить Тромбу, я подмигнул сторожу, как бы давая команду: выведи и ликвидируй. Тромба не мог не заметить нашего безмолвного разговора. А когда сторож подхватил старое итальянское ружье, поправил острый штык и весь его свирепый вид говорил: «Берегись!», Тромба струсил. Дошел до двери, вдруг остановился у порога как побитый… Стоит минуту, другую, повертывается:
— Давай подпишу…
Подписал заявление. До сего дня не могу забыть, как кровь отлила от его лица, как пожелтело оно. А взглянул на меня, так взглянул, будто по щеке ударил. В глазах его прочел молчаливую угрозу. Ее я и побаивался теперь и потому, возвращаясь домой, был начеку. Как-то вскоре, после ночного нападения на меня, мы сидели с ним за рюмкой, я поинтересовался:
— Как поживаешь?
— Не жалуюсь…
— А помнишь ту ночь, в канцелярии?
— Помню…
— Сердишься на меня?
— Нет. На себя злюсь.
— За что?
— Долго валял дурака…
Выпили по второй, он и спрашивает:
— А ты помнишь тот нож?
— Папунче?
— Ага. Я его послал. Шапку перед тобой снимаю за то, что не пожаловался… Я догадался, ты его узнал, но пожалел. Долго удивлялся: почему? А потом сообразил: из-за жены…
Признаюсь тебе, не смог я ни ответить, ни рассердиться, ни обрадоваться. Только странная волна прошла сквозь меня и бросила в пропасть. Сижу и не ощущаю себя. Тромба без конца болтает, объясняется мне в любви, а я будто в другом мире нахожусь. Смотрю в темноту, вижу, как дрожит она под дождем. С ума схожу! Одергиваю себя: ты, Коста, что-то не того, подкрути винтики, а то потеряешь голову. Возвращаюсь домой, ложусь. Если скажу тебе, что я не спал ночь, не совру. Самое тревожное началось утром. Не выходит она из головы. О чем бы ни думал, мысли на ней спотыкаются. Надумал поля объехать. Сажусь в двуколку, беру вожжи в руки. Осень была сухая. Качу прямо к Червенаке. Там одна бригада сеяла озимые. Останавливаюсь, проверяю семена — лучшие из лучших. Стараюсь думать о них, а перед глазами жена Папунче. Иду через картофельное поле к пахарям, а в ложбинке завтракают женщины. «Доброе утро!» — «Доброе утро!» И вижу — она. Не смеет на меня взглянуть, жует вяло, задумчивая, побледневшая. А жена Коли Петуха говорит:
— Просолели мы от брынзы. Кисленького бы отведать…
— Кисленького! — говорю. — Одну минуту…
По-мальчишески резво бегу к мешкам, зачерпываю ведро семян и на шоссе. Как назло помаки — погонщики мулов везут кислые яблоки.
— Почем отдадите? — спрашиваю.
— По дешевке, — отвечают. — Ведро на ведро. — Высыпаю им зерно, беру яблоки — и к женщинам.
— Угощайтесь, — говорю. И глаз от нее не могу оторвать.
Вернулся домой и только тут пришел в себя: что я наделал? Променял семена… Лучшие из лучших…
Не знаю, как вы назовете это: подсознательные действия или дьявольщина, только с того дня стали происходить со мной странные вещи. С меня как рукой сняло прежнюю раздражительность и меланхолию. На годичном отчетном собрании один сельчанин не забыл напомнить мне о ведре семян. Критиковал меня, а мне было приятно.
Беловолосый передернул плечами и взглянул на восток. На вершины деревьев упали первые вестники утра. В низинах еще плотнее сгустилась темнота, а небо крыла странная бледность. Долетел гудок паровоза. Нахлынул грохот поезда и, удаляясь, постепенно превратился в протяжное гудение и затих. В воздухе запахло дымом. Или это казалось мне? А может, это дым домашних очагов? Люди уже вставали…
— Сколько веревочке ни виться, а концу быть… Конца же моей истории еще не видно. Наверно, он придет вместе с моей смертью. У Тромбы есть любимое выражение: из овцы можно сделать барабан, но из барабана овцы не сделаешь. Он повторяет это где надо и где не надо. Так вот, я оказался в таком же положении, когда обратного превращения не может быть. Что я такое — барабан или еще что, тебе лучше судить: ты был на том собрании. Но как же дело дошло до собрания? У людей короткая память. Быстро притупляется. Так случилось и с деяниями тех, кто был осужден в свое время. Моего тестя выпустили, вернулся он. Первое время жил тихо, но когда отдохнул, отъелся, зашевелился.
— Ты, — говорит мне, — должен найти крышу, свою крышу…
Гляжу на него — вытянул шею, как петух ощипанный, двумя пальчиками удавишь, а упрямится. Говорю себе: в порядочное дерьмо ты попал, Коста. Ударишь по нему — себя с головы до ног окатишь, наступишь — поскользнешься, так лучше уж помалкивай. И перестал его замечать. А он своей старушке:
— Дай этому батраку пять левов. Пусть купит постного масла и помажет двери… А то они скрипят, и я просыпаюсь, когда он вечером возвращается.
Старуха сует мне в руки деньги и проклинает меня. Во мне закипает злость, смотрю на Тину, а она склонилась над вязанием, усмехается.
— Эх, жена, — говорю, — весело живешь. Как в театре…
— А что мне, плакать? — отвечает.
— А если сделаю, как они велят, не заплачешь?
— А для тебя, — говорит, — слез нет. Выплакала я их, по отцу выплакала.
— Хорошо, хорошо, — говорю. — А дети?
— Что дети? — говорит. — У каждого своя семья, пристроились. Что им, детям…
— Значит, так…
Выхожу на улицу, а над селом небо такое широкое — самое время прогуляться. Звезды разбросаны, словно зерна рукой сеятеля. Иду в луга и мало-помалу успокаиваюсь. Говорю себе: Коста, как прекрасно, что есть луга, небо, звезды. Ты был когда-то мельником, твоя спина вечно белела от мучной пыли. Теперь у тебя белые волосы, а в душе темно. Кто встречал тебя улыбкой, кто тебе радовался? Никто! Оглядись, может, кто улыбается тебе. Нет, я не представил ничьей улыбки, а увидел ее — молчаливую, бледную, растерянную.
«А кто бы меня взял?»
Что-то сдавило мое горло, сжало сердце. С тех пор и началась моя новая жизнь. Друзья смотрят на меня — человек как человек, но никто не догадывается, что творится в моей душе. Все мои помыслы — об Ангелинке. Ищу встречи с ней и в то же время избегаю ее. Не молод ведь, а веду себя как мальчишка. Смешно! Запоздалые юношеские переживания ношу в себе. Стараюсь прибиться к городу, уйти от полей, от случайных встреч с ней. А что, если нарвусь на остроязыких женщин и она среди них… Тогда расхлебывай. Кончаю работу и бегу в город, к Жиле, дружку своему, играть в карты. Сражаемся до утра. Да и куда мне податься — тесть-каторжник не перестает упрекать, что живу под чужой крышей. Играем однажды, я вскинул руку, чтобы козырять, вдруг она повисла в воздухе. Слышу, Жила шутит с адвокатом, нашим картежным партнером: ты, говорит, с Папунче не получишь денег, как не увидишь своих ушей. Почему? Да потому, что тот чистый мошенник. Затеял разводиться с женой, поливает ее грязью, а сам и мизинца ее не стоит. Каким мошенником был, таким и остался. А ты помоги женщине избавиться от него. Пусть настоящей жизни отведает…
Скажу тебе, промолчал я тогда. Вернулся в село, и тут будто уши у меня вдруг открылись. В селе, знаешь, тайн не бывает, только были бы у тебя крепкие барабанные перепонки, чтобы слушать. Спустя месяц-два до меня дошло, что они развелись. Ангелинка вернулась к матери… Подкараулил я ее однажды вечером, а осенью пошел к адвокату. Но, прежде чем я развелся с Тиной, обрушилось на меня то собрание…
Прав я или нет, но знаю, что жить по-другому было нельзя. Думай обо мне что хочешь, ругай заблудшим стариком или еще как, все равно. Сколько тут продлится мое счастье, не ведаю. Она молода, а я?.. Что будет дальше, никто не угадает. Одно желание — не возвращаться в село. Да и кому я там нужен? Что мог, отдал все. На наши места теперь приходят молодые, ученые, агрономы. Они знают толк в деле. То, что начали мы, они продолжают с удесятеренной силой. Люди живут хорошо, зачем кривить душой. Так-то. Но меня все-таки не тянет туда. Заберемся куда-нибудь в Родопы, где меня не знают. У меня немаленькая пенсия, проживем. Она не привередлива. Что бы я ни купил ей, всему радуется, всем довольна. Когда думаю о своих бывших товарищах, не сужу их за то, что насмехались надо мной. Но одного не могу простить: не потрудились они понять меня. Одни из них догадывались, на каком огне я жарюсь, живя в доме меховщика, и все же поспешили от меня отвернуться. Это их дело. Не держу я камень за пазухой.
А сейчас: «Доброе утро!» и «До свидания!»
Беловолосый сунул свою руку в мою ладонь, тряхнул и крупными энергичными шагами пошел прочь. В сумерках раннего утра приметно белели его волосы, пока не исчезли за ближайшим поворотом. Ушел.
Ушла одна незаконченная история.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
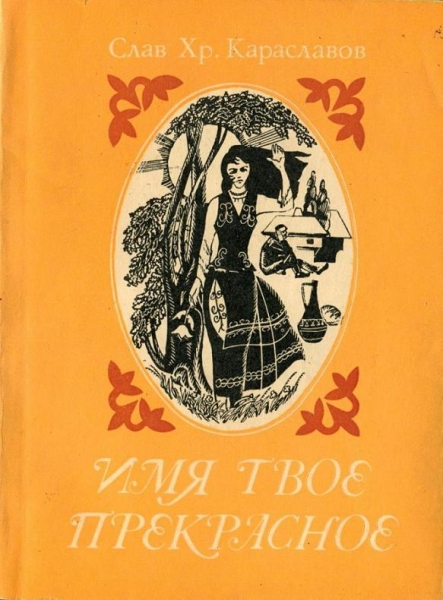

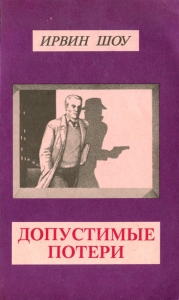

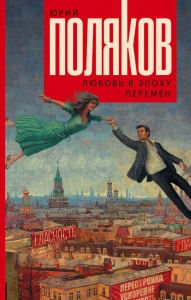
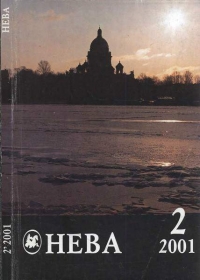







Комментарии к книге «Поздняя любовь», Слав Христов Караславов
Всего 0 комментариев