Что с вами, дорогая Киш?
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Если бы в юности моя жизнь катилась гладко, как по рельсам, я, наверно, не стала бы писателем. Во всяком случае, таким, каким стала», — признавалась Анна Йокаи. Она начала писать сравнительно поздно. Работала секретарем, потом референтом по вопросам культуры, потом старшим бухгалтером на предприятии, где трудились нездоровые от рождения люди, инвалиды. Растила двоих детей и одновременно училась заочно на филологическом факультете Будапештского университета.
Получив в 1961 году диплом преподавателя венгерской литературы и истории, А. Йокаи начала трудиться в одной из школ на окраине Будапешта, потом преподавала в гимназии имени Михая Вёрёшмарти. Педагогической деятельности, которую она считает своим вторым призванием, было отдано четырнадцать лет.
Успех к писательнице пришел сразу. Со времени дебюта (1966) вышло более десяти ее книг (романы, сборники новелл). На венгерской сцене идут две ее пьесы. В 1970 году она была награждена литературной премией им. Аттилы Йожефа, в 1974-м — премией Всевенгерского совета профсоюзов.
Анна Йокаи давно составила себе имя как мастер психологической прозы. Ее первый роман с необычным названием «4447» (1968) повествует о последних годах ветхого, полуразвалившегося, обреченного на слом дома, одновременно — расширительно — это и строгий суд, который вершит автор над старым укладом жизни. В романе «Обязан и требует» (1970) прослеживается история распада одного брака, «анатомируются» драматические, а порой трагические коллизии, возникающие вследствие взаимного непонимания двух людей. Новый этап в творчестве писательницы знаменует собой роман «Лестница Иакова» (1982). В этом лирико-философском произведении автор исследует трудные пути личности к свободе и гармонии человеческих отношений уже не на уровне семейного бытописательства, а как бы в контексте всей человеческой истории, всего мироздания. Немалый интерес у читателей и критики вызвала ее необычная, «двойная» книга — «Сожительство» (1987). Две повести, составившие этот том, написаны в разных жанрах, и тем не менее они созвучны, они объединены страстным поиском истины, философским осмыслением того, что преходяще и что вечно в нашей жизни.
И все же особым успехом у венгерских читателей, надо признать, пользуется новеллистика Анны Йокаи, о чем свидетельствуют и многочисленные издания сборников ее рассказов.
Тема большинства рассказов Анны Йокаи — повседневная венгерская действительность, реальные заботы и печали людей. Рассказанные ею истории — это исследование духовных и нравственных сил человека.
Венгерская критика много писала о «неординарности и суровости писательского мира Анны Йокаи», о «жестком, резко критическом тоне», об одержимости идеей нравственного совершенствования. Люди, которые лично знали А. Йокаи, удивлялись: такая уравновешенная, приветливая, терпеливая в школе и такая непримиримая, резкая, беспощадная в своих новеллах. Анна Йокаи пишет о том, что ранит, о том, что болит. «Не отпираюсь, — говорила она, — в нашей жизни меня в первую очередь занимают противоречия, конфликты и трудноразрешимые общественные и личные проблемы». Манере А. Йокаи чужда какая-либо идилличность, и вместе с тем прозе ее присуща не только суровость, но и глубина проникновения в психологию героев, скрытый лиризм.
Рассказы, составившие данную книгу, написаны в разные годы. Малую прозу Анны Йокаи отличает строгость композиции, экспрессивность стиля, тонкость и жизненная точность наблюдений. Новеллы разнообразны по интонации, по характеру письма. Любопытна история создания одной из них, представленной в этой книге.
Несколько лет назад журнал «Кортарш» предложил поэтам, писателям, критикам рассказать на своих страницах о вещах, которые их окружают в повседневной жизни. Так появилась серия лирических эссе, имеющих одинаковое название — «Мои вещи». Авторы этих эссе, поэты Андраш Фодор, Йожеф Торнаи, Отто Орбан, этнограф Дюла Ортутаи и другие, рассказали о вещах, которые их окружают: доставшихся по наследству, сделанных своими руками, подаренных друзьями, о вещах — свидетелях радостных и горестных дней, о вещах-реликвиях. Кто-то собирает предметы искусства, у кого-то коллекция камней, привезенных с берегов Черного моря, а у поэта Ференца Буды — коллекция орудий крестьянского труда, предметов народного быта.
Каждое эссе сопровождалось фотоснимками. Рассказы о вещах, перераставшие в лирические исповеди, позволяли заглянуть в мастерскую известных поэтов, писателей. Мир художника раскрывался с неожиданной стороны.
Откликнулась на предложение журнала «Кортарш» и Анна Йокаи. Ее эссе, позднее названное «Новелла о вещах», тоже сопровождали иллюстрации: картина Дежё Циганя, венгерского художника начала века, последователя Сезанна, керамическая фигурка «Нищенка» замечательной ваятельницы Маргит Ковач, танцующие козочки на фаянсовом изразце, а также Гонительница снов — бронзовая кофеварка — и старенькая авторучка, которая «много знает, знает, да только никак не может написать об этом».
Возможно, истории создания других новелл не менее интересны.
«В кругу семьи»… Название рассказа настраивает на идиллический лад. А что там, за названием? Что происходит на самом деле с семьей, которую принято считать микроячейкой общества?..
Янош Эдешхалми, герой рассказа «Жалоба в письменной форме», вероятно, напомнит русскому читателю гоголевского Поприщина из «Записок сумасшедшего». Поприщин в силу душевного нездоровья «начинал иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал». Приметы той же болезни налицо и у Яноша Эдешхалми, подающего своему врачу-психиатру жалобу в письменной форме, — и вместе с тем поражает его необыкновенная наблюдательность, глубина переживаний, обостренное ощущение «правды, обложенной ватой»…
Рассказы А. Йокаи отнюдь не создают ощущения комфорта, они задевают, ранят, заставляют задуматься, высказать свое мнение, поспорить. Нужно много любви и нужна воля, чтобы вновь обрести утраченные нравственные ценности, — эта мысль явственно слышится в рассказах.
Как не растерять человечность в суете повседневности? Как прожить в соответствии с провозглашаемыми нами принципами? Как приблизить желанную гармонию? Эти вопросы задает себе и читателям Анна Йокаи.
Л. Васильева
ИЗ СБОРНИКА «БЕЗ КАНАТА» (1969)
ЧТО С ВАМИ, ДОРОГАЯ КИШ?
В апреле у мужа Киш обнаружили рак легких. Хоронили его пятнадцатого сентября. Тогда же открылась сельскохозяйственная ярмарка.
Стоял прекрасный теплый день. Киш сидела у свежей могилы, грелась на солнце. Ноги в черных чулках удобно пристроила на груду камней.
Она уже оплакала бедного Пали, когда принесла домой заключение врача из поликлиники. Все остальное было как ненужное приложение. Картофельное пюре, судно, стирка белья. Бессонные ночи.
Полгода ждала — скорее бы конец. Люди любят собак, лошадей. И пристреливают их, когда те ломают себе позвоночник.
Киш три дня не умывалась. Смотрела на свои неровные, потрескавшиеся ногти. Она смертельно устала.
Чувство освобождения пришло к ней внезапно. Время в сутках вдруг растянулось до бесконечности. И это было для нее как подарок.
На следующий день Киш пошла на ярмарку. Съела пару дебреценских колбасок с горчицей. Сделала дома генеральную уборку. Переставила мебель в комнате и стала мыться два раза в день. Забрала домой Жужику от бабушки.
В октябре все еще просыпалась вдруг среди ночи, но потом, облегченно вздохнув, засыпала. Вскакивать уже было незачем.
В ноябре купила абонемент в театр и постригла волосы. В декабре взяла сверхурочную работу. Купила дочке итальянскую куклу и положила ее под елку.
— Только ты у меня и есть, — сказала она Жужике, — только для тебя и живу. Ты будешь отличницей в школе, круглой отличницей.
В январе начальник попросил ее перейти на более трудный участок. Так ей легче будет забыть о своем горе. Киш рассердилась. Ей нужно свободное время. У нее ребенок.
В феврале ничего особенного не произошло. В марте сама отремонтировала квартиру. В апреле отправилась гулять с Жужикой, но от шума и суеты воскресного утра у нее разболелась голова. Голова болела и на следующий день. С тех пор вечерами Киш стала рассказывать, как мучился ее бедный муж. Показывала пустые аптечные пузырьки. В одном из них еще оставалось лекарство.
В мае приболела немного. В июне ей предложили идти в отпуск, но она отказалась. Она вдова. И хочет отдыхать в августе. В один из дней, тогда еще шел дождь и по телевизору не было передачи, пошла к косметичке. Взяла у нее питательный крем для сухой кожи. Покрасила волосы в более светлый тон. Парикмахер уговорил. Ведь она еще так молода! Двадцать восемь лет.
В июле она отшлепала Жужику, потому что та очень просилась в цирк, а ей совсем не хотелось туда идти. Ей вообще ничего не хотелось.
В августе ей дали путевку в Матрахазу, в горы. Дочка много бегала, шалила. Кожа у нее стала как шоколадная. С ними в комнате жила пятидесятилетняя женщина, работница с фабрики. А вообще-то все отдыхали семьями. Через десять дней они вернулись домой. Жужа не хотела ехать, плакала. Киш опять отшлепала дочку.
В сентябре дворничиха, собирая мусор, спросила ее:
— Что с вами, дорогая Киш? Круги под глазами… Нехорошо так, все одна и одна…
Киш посадила на могилу анютины глазки, а по краям примулы и своей сослуживице по отделу зарплаты сказала:
— Знаешь, раньше жизнь у меня живее шла. С бедным Пали каждый день что-нибудь случалось…
И снова наступил ноябрь, а потом декабрь. На премию Киш преподнесла Жужике электрическую железную дорогу.
— Скажи, моя звездочка, красивая у тебя мама? — спрашивала она дочку у новогодней елки.
Эта зима была на редкость суровой. Они почти все время сидели дома. Однажды Киш приснилось, что с экрана телевизора сошел диктор, подсел к ней в кресло и обнял ее.
Весной Киш купила новое пальто и модный красивый костюм в дорогом салоне.
— Вам будто шестнадцать лет! — сказала дворничиха. — Желаю вам счастья, милая Киш.
Они часто ходили с дочкой на остров Маргит. Там гуляло много народу. Семьями. Или парочки. Один мужчина обхватил Жужику сзади за талию, приподнял и снова поставил наземь.
— Какая милая девочка!
И это все, что случилось в мае и в июне.
В июле Жужику взяли к себе бабушка с дедушкой. Киш уехала на Балатон. Поселилась в частном доме. По соседству жили шесть молодых парней. С утра они уходили с аквалангами на озеро. После обеда возились с мотоциклами. По вечерам играли на гитаре. Один из них спросил у Киш в последний день:
— Не скучно вам одной?
В поезде, когда ехала домой, у окна стоял высокий усатый мужчина. Крестьянин, едет в Пешт за покупками. Городскую легкомысленную жизнь не одобряет. Они смотрели, как проплывают поля за окном, как заходит солнце.
Поужинали в кабачке Яноша и поднялись на гору Геллерт. Весь город был залит огнями, они долго бродили по улицам. Киш все о чем-то болтала, о чем не вспоминала с девических лет. Может, незаметно для себя и рассказала всю свою жизнь. Только-то и хорошего было в тот вечер, что адрес потом в руке остался. Адрес, куда писать.
Но в августе письмо пришло обратно. Адресат по указанному адресу не проживает. В сентябре, когда исполнилось два года, как она овдовела, начальник проворчал раздраженно:
— Что с вами, дорогая Киш? Красивая женщина, хорошо зарабатываете, и дочка у вас умница.
Киш попросила дать ей сверхурочную работу, но выполняла ее механически.
А потом снова рождество. Новая мебель в кредит. Новогодний вечер у двоюродной сестры. Две чужие, захмелевшие пары.
В январе Киш записалась на курсы английского языка. В феврале бросила их.
В марте выскочила из прихожей и дернула соседскую девушку за волосы.
— Ты, шлюшка, нечего обниматься у моей двери…
— Что с вами, дорогая Киш? — с издевкой спросила девушка и рассмеялась.
Киш на две недели отправили в санаторий подлечить нервы.
Когда она вернулась домой, уже близилось лето и Жужи готовилась к школе.
Киш радовалась:
— Что за дочка! Ребенок для меня дороже всего на свете. Совсем взрослая стала. А мужчины? Зачем они мне? И потом… лишь бы какой мне и самой не нужен…
В ноябре пришел столяр починить сломанный карниз. Он стал недавно работать в их районе. Мальчишки потешались над его кривыми ногами.
Столяр вежливо поблагодарил за кофе и одобрительно причмокнул языком:
— Что ни говори, заботливые женские руки.
Киш расплакалась. Столяр был удивлен, по-отечески положил узловатую руку на ее колено.
— Что с вами, дорогая Киш? Мне вы можете сказать. Я человек простой, но многое чего уже пережил.
Столяр заходил еще два или три раза. А потом перестал ходить. У него была жена, славная, работящая женщина из тёрёкбалинтского кооператива, и два взрослых сына.
— Что с вами, дорогая Киш? — шутливо спросила Жужика как-то зимним утром. Когда это точно случилось, сейчас трудно сказать. — Что с тобой? Почему ты не протопила печку?
Киш не ответила, только глаза у нее забегали.
На одеяле лежал последний отцовский пузырек из-под лекарства. Пустой.
Жужика закричала.
Голова Киш металась по подушке. Доктор подоспел вовремя.
— Что с вами, дорогая Киш? — рассеянно спросил он, обхватывая пальцами запястье женщины.
Перевод Л. Васильевой.
© Издательство «Молодая гвардия», 1975.
БЕЗ КАНАТА
Август — период вегетации. Позднее, в сентябре, человек выбирается из песка и с новыми силами кидается изобретать велосипед. Осень побуждает к действию. Центробежные силы получают дополнительное ускорение. Кое-кто не выдерживает, таких машина вышвыривает. Но большинство наслаждается этим коловращением. Что и говорить, сентябрь — это миллион возможностей. Вот только какую из них удастся ухватить, а какая так и останется зыбким миражем?..
— Стоп, приехали! Что толку мусолить одно и то же, если в конце концов все рушится, а суть в том… — Морелли вскочил со стула в кафе и, поскольку даже отдаленно не представлял себе, в чем же суть, быстро расплатился.
Точно одно: сегодня двадцать восьмое августа. Через несколько дней премьера. До этого нужно проработать идею до мелочей. Времени на философствование нет. В бытность студентом классического отделения он как любитель показывал фокусы, а теперь, значит, снискав славу иллюзиониста, заделался философом? Глупо. Всему свое место. Сейчас главное — новый трюк. Продумать теорию, отладить эффекты. Технические решения останутся прежними, но вот монтаж должен быть иной, совершенно оригинальный!
Морелли торопился. Утром и после обеда репетиции, вечером сборная программа с воняющей потом летней передвижной труппой. Туда его, к счастью, не включили. И так довольно. Режиссер придумал для его номера новый световой эффект. Фонарики, как в луна-парке на гондолах. Сладко до тошноты, и потом, кого этим можно удивить?.. Бездарный тип.
В четыре репетиция. Если он опоздает, его опять запишут. А ведь он именно сегодня хотел вылезти со своей замечательной идеей. Пока еще не поздно. Изящная мыслишка. Коллеги оценят. Поджечь увеличительным стеклом птицу, и чтоб из пепла неожиданно вылетела точно такая же, живая! Птица Феникс! Да! Это уже творчество. Конечно, понадобится три голубя, зато иллюзия будет полная. Как у Кио. Нужно что-то новое, примитивные фокусы всем надоели…
Но разве это кто-нибудь понимает? Стелла с сестрицей знай раскачиваются на своих качелях да взлетают поочередно в воздух. Шнайдер, реквизитор, утверждает, что они даже переспать ни с кем не решаются, так трясутся за свою прыгучесть. У них и разговор всегда один: те четверть часа, что они находятся под куполом, костюм да блестки. Движутся они, правда, отлично. Глаз не оторвешь. Но так, само по себе, кому это нужно? Бахвальство капитана Вернера тоже непереносимо. Капитан Вернер!
Морелли уже десять лет работал в цирке, но так и не мог привыкнуть к именам. Капитан Вернер! То есть Янош Вермеш. А Морелли? Гашпар Марош. Когда подписывали договор, он еще пытался протестовать. «Нельзя ли, простите, остаться при своем имени?» — «Ну что вы, молодой человек! Иллюзионист Гашпар Марош! Разве это звучит?» Он хотел было объяснить, что так даже интереснее, но ему не дали и слова сказать. «Морелли! Это именно то, что нужно! Прекрасное имя! Вы же латинист по образованию! — с гордостью сказал кадровик циркового управления. — Морелли! Здесь и амур и мораль, необузданная страсть и строгие правила… уже само имя — искусство! Понимаете?»
Морелли вздохнул. В конце концов, и с этим именем дела его шли неплохо. Имя приобрело известность. Но почему необходимо, чтобы укротитель непременно был капитаном? При виде Вернера он не мог удержаться от насмешек. Стоило тому подойти, как он сразу же награждал его каким-нибудь званием. «А вот и господин полковник!» Вернер из-за этого считает, что он пренебрежительно относится к его занятию. А ведь он не с беззубыми зверушками работает. Зрелище на самом деле впечатляющее. Он в белоснежном камзоле, сам черноволосый, курчавый, с беспощадной улыбкой на губах… Женщины по нему с ума сходят. Не женится. Говорят, раз в неделю он устраивает оргии в каком-то тайном притоне. Из цирковых никого к себе не зовет. Как знать, куда он ходит и кто ходит к нему? Неудивительно, что Маргит слегка всем этим брезгует.
Морелли втиснулся в переполненный трамвай. Вообще-то смешно, что он женился на учительнице. Маргит преподает химию. Цирк она ненавидит. А его все-таки полюбила. «Ты не такой, как они, тебя ждет большое будущее» — любимая ее фраза. Куда ж больше? Его и так вся страна знает. Машина у них тоже есть. Сейчас в ремонте. Потому он и опаздывает.
Не сегодня завтра придет новенький, какой-нибудь начинающий. Крегер ушел на пенсию. Тони остался, у него все по-прежнему. Отличный был клоун десять лет назад в паре с дядюшкой Пали, бегемотом. После того как дядюшка Пали умер от тромба, Тони стал объезжать на земном шаре манеж, выставляя напоказ афишки с названием номеров. В прошлом году на пятидесятом представлении он поскользнулся, упал плашмя и расшиб голову. С тех пор не может удержаться на шаре. Но ни в какую не отступается… Скоро всех с ума сведет своим упорством. Никак не хочет примириться с тем, что вынужден на своих двоих обходить манеж.
Начало сезона всегда кошмар. Все как ненормальные. К тому же говорят, будто повысят ставки. Директору вечно подавай новое. «Тащите свежие идеи, ребятушки, свежие идеи…» Но по-настоящему новое вряд ли кто придумает. Если только он вылезет со своими птицами.
«Надо было взять такси, — подосадовал Морелли, — теперь опоздал». В пять минут пятого он вышел из метро. «Вечером не лягу, пока еще раз не продумаю номер. Реквизит, конечно, обойдется недешево, но оно того стоит».
В этом году, видно, последняя жара. В помещении будет еще душнее.
Морелли удивился. Арена освещена, но никто не работает. Пахнет песком и ковром. Он потянул носом. Еще какой-то чужой запах. Нафталин, точно нафталин!
Униформист дядюшка Марко сообщнически ему подмигнул.
— Добрый день, господин артист. Не опоздали, не беспокойтесь. Все еще в уборных. Новенький явился, господин Карчи с ним занимается.
Господин Карчи! Так называемый режиссер! Даже служители понимают. Значит, новенький? Тогда они все в общем зале.
Морелли порадовался. Он устал от замечаний.
В зале на его приветствие едва ответили. Все толпились вокруг Карчи и новичка. Лицо Карчи пылало красными пятнами, словно тело белокожих девушек после горячей ванны и мыла. Судя по всему, он был взбешен.
— Вы даже училища не кончали? — спрашивал он стоящего перед ним юношу. Тот не ответил, лишь отрицательно помотал головой. Ну и тип! Морелли тоже невольно почувствовал раздражение. Парень был не так уж и молод.
— Ему все тридцать будет, — неодобрительно прошептала Стелла и с чувством собственного превосходства тряхнула головой.
Напялил темно-синий костюм, темно-синий, в этакое пекло! Двубортный! Такие, с острыми лацканами, лет двадцать назад носили… а на ногах вдобавок бежевые туфли. Стоит в почтительной позе, будто крестьянин перед судом… однако есть в нем что-то развязное! Ага, конечно, рука в кармане! Ну что, скажите, за манеры? Каким ветром его сюда занесло?
— Но все-таки… кто вас аттестовывал, вас кто-нибудь видел? — с надеждой спросил Карчи. Вдруг он просто аферист, и можно дать ему пинка под зад.
— Видели, — ответил новенький, и Морелли еще пуще разозлился, услышав его голос. Покорный, тихий, далекий. Словно не он сам говорил, а радио у него в животе. — Многие видели… Товарищ Ковалич видел и еще… — Он перечислил имена. Всего двенадцать. Потом опять замолк, будто кто-то щелкнул выключателем у него внутри.
— Так… значит, видели. И у директора вы были… Ступайте, дети мои, дайте поговорить с коллегой… — нервно выкрикнул Карчи. Но никто не двинулся с места.
— Какую вы кончали школу?
— Классическую гимназию.
Все опять застыли в изумлении. Этот? Гимназию?
— И… где же вы работали до сих пор? — Карчи потеребил на носу очки.
— В Ниредьхазе, Дебрецене, Шашхаломе, Будапеште и Сечёде, — послушной скороговоркой перечислил новенький города. На лице его не дрогнул ни один мускул. Рука так и оставалась в кармане. Все-таки он ненормальный!
— В коллективе каком-нибудь?
— Нет, не в коллективе, — ответил этот субчик и наконец вынул руку из кармана. Боже, какие патологически длинные пальцы!
— Не в коллективе.. Так, от случая к случаю.
— Черт!.. — не удержался Карчи. — Ну и что же вы умеете? В чем оно заключается, то, что «многие видели»? Что вы хотите у нас делать?
— Это вы режиссер! Вам лучше знать, — сказал новенький. Руку он опять сунул в карман. В уголках рта заиграла пренебрежительная усмешка.
«Хулиган! Он просто хулиган!» — удовлетворенно подумал Морелли.
Карчи взревел:
— Попрошу не забываться!
Хулиган удивленно сдвинул брови. Словно не понимая. Потом махнул рукой.
— Я канатоходец. Знаете… Туда-сюда, туда-сюда… — и он показал рукой, — по веревочке…
Карчи хмыкнул. Парень счел беседу оконченной и, отойдя в угол, сел. Поджал под себя ноги, будто малое дитя.
— Ну хватит, начинаем репетицию, — захлопал в ладоши Карчи. — Я позову вас, когда дойдет очередь… вас… как зовут?
Новенький вскочил, поклонился, словно самый что ни на есть благовоспитанный юноша.
— Петер Крона…
— Ваше сценическое имя, господин артист! Сценическое… — кругом захихикали.
— У меня нет, — сказал Петер, — да и не нужно. Просто Петер Крона… Важен ведь не жаворонок, а песня, как известно…
Карчи был уже в дверях и оттуда обернулся.
— Что такое? Что там еще с жаворонком? — устало переспросил он и покрутил пальцем у виска.
Морелли тоже оглянулся. Петер Крона. Туда-сюда по веревочке… Сидит в углу с самым простодушным видом! Это он притащил с собой запах нафталина, это чучело жаворонка… Этот хулиган, или пижон, или просто хам… Этот черт его знает кто такой.
— Нет, прислать за три дня до премьеры! — шипел Карчи. — Все готово, афиши расклеены. Программа составлена, куда я его ткну?
— А что говорит старик? — поинтересовался Морелли. Все стояли за кулисами. Курили. Крона остался на манеже. Хотел сначала один попробовать с новой аппаратурой. Он ничего не принес с собой, только растрепанный трос да два крюка. Хорошо, что у них все есть. Тросы разной толщины, натягивающиеся между отличными пьедесталами. Мальчишка как в рай попал.
— Так что сказал старик?
— Ну что он мог сказать? Велел включить в программу, уверял, что останемся довольны. Просил не сердиться, что поздно сообщил, так уж вышло. Словом, как обычно.
— Еще вопрос, может ли он вообще что-нибудь?
— Даже если может… сколько еще придется с ним мучиться, чтобы выпустить на манеж. Если он действительно может что-то такое, с чем нам не стыдно выйти — и в этом «нам» было все: лучший коллектив страны, самый красивый цирк с наисовременнейшим оборудованием. — Мы здесь не в бирюльки играем.
Морелли выпустил дым. На сей раз он был согласен с Карчи.
— Чего и ждать, если артисты сами ничего не решают, — с горечью обронил Карчи. — В цветник в сапогах не лезут… — Он не упускал случая произнести эту фразу в подобных обстоятельствах. Бывало, получал по носу. Но Морелли он не боялся. До известной степени даже уважал его. Человек образованный, учился в университете, если с умом укрощать его фантазии, получаются классные номера. После нескольких его удачных трюков публика прямо-таки неистовствовала.
Морелли отвел глаза от Карчи и улыбнулся.
«Артисты… Бедный ты мой артист… — подумал он. — Дай артистам власть, разве было бы лучше? Вот уж когда действительно новому каюк… Ведь они патологически боятся всего непривычного. Их мнения не выходят за рамки общепринятого. Они еще могут простить, если кто-то прыгает выше, но если по-другому — никогда. А тут пришлось бы переступать через себя…» Морелли едва не растянулся на полу: мяч Тони скользнул ему прямо под ноги.
— Вы и тут за свое, пугало вы огородное? — Он сразу же пожалел. Не надо было. К счастью, Тони, кажется, не расслышал или не понял, потому что приветливо кивнул и покатил мяч дальше. Он едва мог обхватить переливающийся всеми цветами радуги шар. Задвинул его в угол и попытался залезть там, упираясь спиной в стену, вдруг получится. Стелла время от времени рассеянно поглядывала в его сторону, словно на перебирающую лапками муху, хорошо хоть оставили в покое, пусть старается. Бедный старик.
«Интересно, — размышлял Морелли, отряхивая брюки, — в нем совсем нет зависти. Стоит во время выступлений у главного входа, от души хлопает, кивает. Видно, что искренне рад чужому успеху…» Морелли даже растрогался.
Катока-Каталина, фея-джигит, хватила его по лопаткам.
— Послушай, приятель…
У Катоки все были приятелями. Морелли всегда поражался, как может эта коренастая, большеногая, большерукая, волосатая девица так легко порхать над крупом лошади. Он спросил ее однажды: «Как тебе это удается, Катока?» Она рассмеялась: «В поместье отца я в свое время без седла ездила. Приходилось и лассо бросать. Так что мне все нипочем…» Старики рассказывали, что Катока начинала свою трудовую деятельность в конце сороковых служителем при лошадях. Вон откуда вознеслась. Жаль, что она скоро состарится.
— Что я должен послушать, Катока?
— Скажи как человек понимающий, что красивее, яблоко или груша? — И она торопливо пояснила: — Я имею в виду женскую грудь… что красивее? Яблоко или груша?
Морелли разозлился. Опять эти пошлости! Они с Вернером два сапога пара, но того самовлюбленного типа он хоть может послать куда подальше. Теперь же он нехотя пробурчал, стараясь попасть в тон:
— Все равно, главное, чтоб не висела.
— Вот видишь, — прокричала Катока Вернеру, который обстригал ногти, — слышишь, ты, ублюдок?..
Морелли пришел в ярость. «Беда с этими артистами, слово за слово — и уже одна грязь, а им хоть бы что. Тонкости чувств почти ни в ком не осталось, о каком же творчестве тогда может идти речь?..»
— Ты что, заснул? Идем! — Стелла ткнула его под лопатку. — Этот сопливый щенок соблаговолил разрешить нам вернуться на манеж.
Новенький лежал на сетке. Карчи крикнул ему:
— Ну, дружочек, посмотрим, что нас кормит!
Крона вскочил. Снизу каната совсем не было видно. Наверное, он выбрал волосяной трос.
«Как он бестолково орудует шестом, — отметил Морелли. — Даже залезть как следует не может. Авантюрист…»
Петер уже стоял под куполом. Высоко, надо отдать ему должное. Но что он так возится? Думает, зрители станут ждать?
— Привет. Это еще кто? — На Морелли повеяло привычным запахом духов. Маргит и сама стояла рядом, просовывая ему руку под мышку. — Я пригнала машину, содрали девятьсот шестьдесят форинтов… Кто это?
Морелли поцеловал ее в лоб. Вот это женщина! Никогда ни капельки пота.
— Ты у меня золото. Это новенький. Судя по всему, большой недотепа, смотри, сколько возится…
Карчи заорал:
— Ради всего святого, делайте наконец что-нибудь, время идет!
Петер все стоял и вертел головой из стороны в сторону. Дважды он вытягивал ногу, но оба раза убирал ее обратно.
— Боится, — протянул капитан, — боится, бедолага.
Кругом засмеялись.
Наконец Петер пошел. Шест дрожал и качался у него в руках. Он сделал несколько шагов. Никто в точности не видел, что произошло, как он уже лежал с балансиром на сетке.
Все облегченно вздохнули. Сейчас он извинится и уйдет, этот искатель приключений. Ему бы поучиться пару лет, тогда, может…
Однако Петер даже не посмотрел в их сторону. В сердцах он пнул ногой основание пьедестала. Опять полез вверх с шестом… Они отчетливо слышали, как он выругался. Начал по новой.
Казалось, сейчас он опять упадет. Морелли даже на секунду зажмурился. «Ему, должно быть, ужасно стыдно, — подумал он, — ужасно стыдно, что мы тут все стоим и смотрим». Стук заставил его поднять глаза. Петер балансировал на краю каната. Шеста у него в руках уже не было. Потом он двинулся по едва различимой горизонтальной линии. Без балансира, слегка шевеля подрагивающими пальцами. Дошел до конца. Коснулся стойки и неожиданно повернул назад. Словно внимая звукам музыки, заскользил он обратно по канату.
«Сейчас что-то произойдет, — пронеслось в голове Морелли, — нет, он больше не свалится, что-то другое…»
Петер в третий раз проделывал свой путь. Вот он остановился на середине каната. Издал пронзительный возглас, словно утопающий, вынырнув из воды. Секунда — и он уже вращался под куполом. Прыгни он на сантиметр выше, наверняка разнес бы себе череп. Еще два шага вперед. Теперь он трижды перевернулся в воздухе. С Карчи пот льет градом… Прыжок, шаг, прыжок…
— Остановите его! Нельзя так искушать господа! — Морелли с ужасом узнал свой голос.
— Ты же не веришь в бога… — улыбнулась Маргит, но не ему, а туда, в воздух.
Прыжки теперь следовали один за другим, невозможно было разглядеть что-нибудь в этом безостановочном верчении.
— Сумасшедший хулиган, — угрожающе прошептал Карчи, — только сумасшедший может решиться на такое… Если он упадет, то полетит за сетку. Я не хотел его пускать, он меня вынудил…
— Он не упадет, — сказал вдруг Морелли, — не упадет. — И почувствовал облегчение. «Теперь я знаю, кто ты такой», — подумал он не без зависти. Остальные как хотят, а он не побоится сказать правду.
Невероятно быстрое вращение вокруг каната — и Петер без всякого перехода закончил номер. Пошатываясь, добрел до лестницы. Из последних сил слез вниз. Сел на песок. Уронил голову между колен.
— Его в дурдом надо, — прошипел капитан, но ему никто не ответил. Карчи в растерянности смотрел на Морелли. Стелла недоверчиво покачивала головой. Катока фыркала. Все были в замешательстве.
Морелли поискал глазами Маргит, но та уже исчезла. А как кстати было бы ее присутствие, когда он, охваченный волнением, произнес, умиляясь собственному великодушию:
— Это было восхитительно!
Все повернулись к нему в некоторой неуверенности. И он еще раз повторил, как бы невольно, покорный какой-то властной внутренней силе:
— Восхитительно!
Тут все разом загалдели. Капитан подбежал к Петеру и с силой огрел его по спине:
— Что же ты молчал, сукин ты сын?
Девицы набросились на него с вопросами. Но Карчи отогнал их.
— Спокойно, дети мои, сохраняйте порядок. Это было потрясающе, старик, если уж я говорю, потрясающе, значит, действительно потрясающе… На представлении, конечно, надо будет раскручивать все постепенно. На выходе подпустим какую-нибудь зажигательную мелодию, а самую изюминку прибережем под конец.
— Я считаю, ему нужно черное облегающее трико с серебряными парчовыми вставками, — восторженно предложила Стелла.
— Этот номер и в подштанниках будет смотреться! — пророкотала Каталина.
Новенький повел рукой по взмокшим волосам. Снял рубашку. Он был как пьяный.
Морелли разозлился. Ну что за скоты! Лезут, а ведь даже не понимают, о чем речь. Он тронул Петера за плечо. Его грела мысль, что только они с Петером по-настоящему понимают друг друга:
— Такого еще не бывало… слышишь?
Петер посмотрел ему в глаза. «Он совсем не рад, — изумился Морелли. — Но почему?» В груди заныло. Он вспомнил о своих птицах, своей великой идее. Не будет он ничего делать. Какой смысл. Теперь — после того, что они видели, — все это никчемно и жалко.
— Блеск! — воскликнул он еще раз и почувствовал, что превзошел самого себя.
В одобрительном гуле его глаза наткнулись на карлика.
— Правда, дядюшка Тони?
Тони сидел в углу и улыбался. Ногой он выводил на песке незамысловатые фигуры. Он что-то пробурчал, потом стер неразборчивые знаки.
— Что ты там говорил про птиц? — спросил Карчи в буфете.
— Пустяки… Ничего интересного, — отмахнулся Морелли. Он уже был не так доволен собой, как прежде. «Нельзя было допускать, чтобы тебя положили на обе лопатки, — думал он, — в любом случае нельзя. Искусство — вещь сложная, может, и моя работа тоже чего-то стоит, на свой лад…» — Признание собственной бездарности равносильно смерти, — лишь под конец фразы он спохватился, что произносит это вслух, Карчи.
— Верно, — кивнул тот и коротко вздохнул, — ах, как это верно! Всем бы твой талант! Представляешь, сразу две сенсации… Рискни, Гажи!
«Собственно, не такой уж он плохой парень, — с удивлением подумал Морелли, — и ведь как тонко играет! Он же понятия ни о чем не имеет, но как тонко играет!»
— Трюк, правда, жутковатый… Но мне нравится сама идея.
— Смотреться хорошо будет?
Морелли возмутился.
— Огонь, пламя, летящая птица… или мне голых баб жечь?
Карчи успокаивающе положил ему руку на плечо.
— Не сердись, старик. О форме тоже надо подумать. Вспомни, перед кем ты выступаешь. Речь не обо мне, но ведь это все-таки цирк, согласись?
— Цирк, цирк, — устало подтвердил Морелли, — это цирк.
— Ну вот видишь. Люди приходят сюда развлечься. Пойдем поговорим, я свободен до вечера.
Добросовестный какой. И почему он не пошел в почтовые служащие? Если сейчас остаться, Маргит будет ворчать. Впрочем, не исключено, что ее уже нет. Может, она обиделась?
— Ты не видел Маргит?
Карчи отвернулся от стойки и крикнул сидящим за столиками:
— Эй… вы не видели госпожу Маргит?
Морелли знал, что он говорит без всякой насмешки. Они уважали Маргит как человека со стороны, неизменно скупого на восторги. Боялись ее спокойных, широко расставленных глаз, острого язычка. Госпожа Маргит — это было принятое обращение, некий знак отличия.
Ответил капитан:
— Она на лавочке сидит в павильоне.
— В такую жару? — возмутился Морелли. — Что она там делает?
— Пока только беседует, — сострила Катока. — Беседует с героем дня.
Бедная Маргит! Хорошенькое удовольствие. Что ей этот канатоходец? Удивительно, как она до сих пор терпит. Сейчас появится в дверях и, надув губки, с благодушной иронией сообщит: «Я испросила у герцога соизволения закончить этот на редкость поучительный разговор».
Карчи взял Морелли за руку.
— Пойдем в кабинет. Захвати две бутылочки «Фанты».
«Ладно, — подумал Морелли. — Ладно. Мне все равно. Расскажу — не расскажу, сделаю — не сделаю, в конечном счете все равно. Главное — бороться, бороться до последней минуты».
— Если Маргит будет меня искать…
— Я ей скажу, — пообещал Тони. — Когда уйдет этот несчастный.
Несчастный?
Морелли зло уставился на Тони. Почему несчастный? Он не понимал.
«Все зависть, — решил он наконец, — все мы завистливые свиньи…»
— Что вы беспрестанно ерзаете? — накинулась Маргит на новенького. — Сидите спокойно. Вы что, нервничаете?
— Нет, — отмахнулся Петер, — злюсь.
— Почему? — спросила она и, спросив, почувствовала щекочущее волнение, которому сама удивилась.
— Вам не все равно? Вам ведь абсолютно все равно. — В его голосе была лишь спокойная убежденность, он не хотел обидеть.
Маргит усмехнулась.
— В общем-то вы правы. К чему болтать попусту. Вся беда в том, что в сознании двух людей даже самые простейшие понятия имеют разное значение… Мы произносим слова, и каждый вкладывает в них свой смысл…
«Ух, до чего же я умная, — подумала она и закурила сигарету, — только стоит ли изощряться в остроумии перед этим…»
Петер нерешительно протянул руку, чтобы дать ей прикурить, но на полпути рука его бессильно упала. Он немного помолчал, потом взглянул на Маргит.
— Вы чем занимаетесь? Вы ведь не в цирке работаете, да?
— Я жена Морелли, — неуверенно ответила Маргит. Знает ли он вообще, кто такой Морелли?
— А! Знаменитый Морелли! Тот высокий, лысоватый? Порядочный человек, должно быть.
Маргит звонко расхохоталась. Не обращая внимания на то, что у нее задралась юбка.
— Порядочный человек! Вот это здорово! Морелли — порядочный человек! Вы просто прелесть!
— Опять мы жонглируем понятиями, — спокойно сказал Петер. — Попробуйте вложить другой смысл в эти привычные слова…
Маргит обиженно вспыхнула. Ее хотят побить ее же оружием? Грубиян.
— Никогда не повторяйте других, даже такую важную персону, как я, любезный… как ваше имя?
Новенький произнес по слогам:
— Пе-тер Кро-на. Я, собственно, и не собирался повторять то, что вы сказали. Это слишком банально.
Маргит покраснела. Надо встать и уйти, бросив этого щенка. И зачем только она подсела к нему. Пытается грубостью прикрыть свою глупость. Под куполом он был, конечно, великолепен, но одно дело — там, наверху, а другое — здесь, внизу… Интересно, как он теперь выпутается?
Петер дотронулся до ее руки.
— Вы обиделись? В банальности тоже есть своя правда. Многие и до нее не дорастают. Иногда граница между банальным и глубоко самобытным весьма зыбкая… Вы чем занимаетесь помимо того, что греетесь в лучах мужниной славы?
«Его слова заставляют задуматься», — не могла не признать Маргит. В ней поднялось жгучее желание дать о себе как можно более исчерпывающий ответ.
— Я учительница. Печатаю статьи в специальных химических и биологических журналах.
— И вам не скучно? — наивно, как маленький, спросил Петер.
Маргит опешила, но тут же, сама себе удивляясь, с легкостью призналась:
— Ужасно скучно.
Петер удовлетворенно мотнул головой:
— Вот видите. А почему?
— Я об этом пока не думала… На первых порах, когда я что-то начинаю, я полна воодушевления. А к концу мне становится смертельно скучно. Странно, да?
— А почему вам становится скучно? — опять спросил Петер и поучающе поднял палец.
— Может, потому что… мало. Когда все готово, я чувствую себя, словно ребенок, устроивший в тазу бурю.
Петер по-мальчишески присвистнул.
— Если учесть, что вы учительница, в вас что-то есть. Только не надо сравнений.
— А чем плохи сравнения?
— Они не точны… Совсем не точны. Из-за них все расплывается.
— Кажется, я понимаю, — тихо сказала Маргит, и в ней вспыхнула тревожная догадка. — Вы стремитесь к совершенству, да? И то, что вы делали наверху, нет, так нельзя сказать, то, что произошло с вами наверху, — это поистине неподражаемо. Грандиозно!
Петер раздраженно притопнул каблуком.
— А я все-таки зол… словно я где-то напортачил… вы видели!..
Маргит пронзило радостью. У нее просят помощи!
— Видела! Это было великолепно, Петер. Клянусь, великолепно!
Петер откинулся назад.
— Тогда не знаю…
Маргит обиженно надулась.
— А я думала, вы все знаете.
Петер пронзительно рассмеялся.
— Этого еще не хватало! Надеюсь, у меня все впереди.
«Опять не понимаю», — призналась себе Маргит.
— Конечно, это прекрасно, когда человек постоянно недоволен собой.
— Не продолжайте, — перебил ее Петер. — Боюсь, мы сейчас собьемся на глупости.
Они вздохнули. Пахло выжженной травой и разогретой масляной краской. Пыльные цветы клонились к покрытой трещинами земле. Мир оцепенел в сиянии докрасна раскаленного солнца.
«Не знаю пока, — думала Маргит, поглядывая на неподвижные кусты, — не знаю, забуду ли я завтра эти цветы, эти узоры из белых камешков под ногами или буду помнить их долго-долго…»
— Сколько вам лет? — спросила она наконец, хотя ей было совсем неинтересно.
— Мало, двадцать шесть.
— А вам хочется быть стариком?
— Стариком нет, но немного постарше. Чтоб за плечами что-то было. Но увы, если ничего не происходит, то и не взрослеешь. Вы вот тоже остались ребенком.
— Я? — Маргит улыбнулась. — Мне почти тридцать. Знакомые считают меня слишком умной, муж иногда — излишне мрачной. А вы говорите — осталась ребенком! Боже!
— Все равно ребенком. Что в вашей жизни было? Считай, ничего.
— Неправда, — вспыхнула Маргит. — Раз мне пришлось такое пережить!
— Всего раз? — любезно осведомился Петер. — Любовь, наверное?
— Безумная любовь!..
— Этого мало. Один раз, одна любовь…
— Еще смерть матери, и дети… у меня могли бы быть дети, но…
— Не нужно об этом. Это серьезно, я понимаю. А вот вши у вас когда-нибудь были?
Маргит опять смешалась.
— Что вы хотите сказать?
— Я спрашиваю, страдали ли вы когда-нибудь от грязи, от ран? Сводило ли вам когда-нибудь нутро от голода?
Маргит непонимающе покачала головой. Петер протянул руку за ее спиной и запустил пятерню ей в волосы.
— Водились ли когда-нибудь вши в этой сверкающей лавине? — Его пальцы оглаживали затылок, неровности черепа.
Маргит, словно пес, молча отдалась ласке. Глаза ее закрылись. В памяти всплыл Морелли. Стихи, которые он ей читал. Браунинг, Китс, Ронсар, Малларме… Божественная музыка! Но сейчас она не помнит ни единой мелодии!
Петер отвел руку.
— Вам, наверное, надо идти.
— Я не тороплюсь, — быстро ответила Маргит и посмотрела на небо. — Тучи собираются… Может, будет гроза. А то жарко, сил нет.
— Какая нетерпеливая. Не любите ждать, романтику вам подавай, приключения.
— Это вы о грозе?
— О внезапных переменах. Прилетит облачко, принесет дождичка, и сразу полегчает… Вы ведь на это надеетесь, верно?
— А если я жажду бури, разгула стихий?..
— Не обманывайте себя! Все хотят счастья. Особенно вы.
— Кто это «вы»?
— Вы, женщины!
— Что, досталось от женщин? — спросила Маргит и почувствовала, что ей удалось свернуть на знакомую колею.
— Досталось? Нет. Не могу пожаловаться. Просто имел с ними дело, этого довольно.
— Вы так говорите, словно их у вас бог знает сколько было.
— А вам любопытно? Я и женат был.
— И что же, ушли?
— Нет, — спокойно ответил Петер, — она ушла от меня.
— Вы ее любили?
Петер повел плечом.
— Все не так просто.
— Не хотите говорить? — тихо спросила Маргит.
Петер молчал.
— Вы уже ни во что не верите? — Маргит прижала руку к животу. «Вот сейчас, сейчас все изменится…» — Не верите в случайную встречу, которая принесет вам избавление?
Лицо Петера дрогнуло, как у дирижера, услышавшего фальшивую ноту. Помолчав, он, однако, послушно ответил с некоторым оттенком горечи:
— В любовь, что ли? Нет… Вы уж простите. Было б только хуже, если б я попался вам на крючок.
— С чего вы взяли, что я… — воскликнула Маргит. Она делала отчаянные усилия, чтобы овладеть собой. — Вы что же думаете, что я…
Петер резко поднялся.
— Бросьте! Я ухожу.
— Вы вымокнете, — машинально проговорила она.
— Да оглянитесь. Чернота исчезла. Жарит сильнее, чем днем. А ведь солнце уже садится.
— Жаль, — улыбнулась Маргит и стала причесываться. — Так когда премьера?
— Пятого. Вы же знаете. Красивая у вас машина. «Мерседес»?
Она рассеянно уставилась на кремовый автомобиль за оградой.
— Да. Раньше была «шкода».
— Не много с ней возни?
— Да нет, пока бегает. Вот только бензин жрет.
— Конечно, недешевое удовольствие… Ну… я пойду. Надеюсь, еще встретимся, милая…
«Боже, он даже имени моего не знает!» — возмутилась она про себя.
— Маргит.
— Милая Маргит, до свидания! — выпалил Петер, поклонился и пошел.
Но у ворот он неожиданно остановился. Побежал назад. Поднял из-под ног Маргит белый камешек и застенчиво, словно мальчишка леденец, положил его на раскрытую ладонь Маргит.
Пять ее пальцев — будто когти хищной птицы — плотно сомкнулись над шероховатым кругляшом.
— Сил моих больше нет… Иди ты к черту! Перед премьерой для меня существуют только звери, могла бы уже знать! — орал на Катоку капитан тридцать первого августа.
— Ты думаешь, мне от тебя чего-нибудь нужно, скотина? Вон твоя вонючая слониха, иди к ней и целуйся! Самая тебе пара! — взвилась Катока и плюнула в капитана. Капитан швырнул в нее пепельницей. Катока схватила вазу, но Стелла вцепилась в нее и потащила в туалет, Вернера тем временем теснил к дверям Карчи.
Морелли просто рассвирепел.
— Скажи, — повернулся он к Петеру, который лениво позевывал у окна, — скажи, ну разве не позор? Это еще по-божески, а ведь в прошлом году мы их разнимали огнетушителем.
Возвратился Карчи.
— Что толку бежать за телегой, если тебя в нее все равно не посадят? Противно.
— Кретин ты, — высунула Катока голову из туалета, — я только раз хочу с ним переспать, всего один раз, идиот…
— Цыц! — гаркнула за ее спиной Стелла и втянула ее назад. — Не вылезай из-под крана!
— Сброд какой-то… а ты мучайся, делай с ними программу! Да я вам такого строгача влеплю за четыре дня до премьеры, что вы у меня посинеете! Здесь рабочее место, а не что-нибудь! Дома хоть перегрызитесь, а здесь чтоб был порядок!
— Совершенно верно, — крикнул через окно капитан, — пусть вместо меня Тони выходит, может, его сожрут вместе с вами со всеми в придачу, и будет полный порядок.
— Да ты, да я… — Карчи рванулся к двери, но Петер схватил его за руку, повернул к себе и улыбнулся в глаза. «Бросьте! Все это мыльные пузыри», — как бы хотел он сказать.
Карчи перевел дух. Высвободил руку и поискал глазами Морелли:
— Ну что с ними делать? Ненормальные…
— Вышвырнуть! Перевести кого-нибудь в другую труппу, — убежденно сказал Морелли.
— Да, но кого?
Морелли хмыкнул.
— Это пусть директор решает. Директор все знает, — забормотал Тони.
Карчи вздохнул. Один — скотина, другой — идиот.
— Надо выгнать того, кто виноват, — с достоинством докончил Тони.
— Кого резать, кого бить, все равно тебе водить… Это старые штучки, дядюшка Тони… Не знаю, насколько вас интересует мое мнение, но, по-моему, лучше сказать этой ретивой фее всю правду, — подал голос Петер.
— Какую правду? — удивился Морелли.
Петер широко раскрыл глаза.
— Хватит шутить… Вы действительно не знаете?
Они непонимающе переглянулись. Тони даже выпустил из рук мяч. У Карчи задергалась щека.
— Да о чем вы?
— Подите сюда, — призывно помахал Петер и подошел к окну.
Все с некоторой робостью последовали за ним.
— Я сразу обратил внимание…
Вернер сидел на корточках посреди сада, в гуще чахлого львиного зева. Он отщипывал один за другим густо-розовые цветки и с жадностью открывал и закрывал плотно захлопывающиеся чашечки. Потом, зажмурившись, стал мерно водить по лицу мохнатыми лепестками. Прошло несколько минут, а он все сидел, закусив нижнюю губу, казалось, весь в ожидании. Карчи только хотел сострить, как вдруг Вернер с обидой вскочил и принялся хлестать вокруг себя кнутом. Сбитые цветы кучками громоздились вокруг него.
— Нервы, — извиняюще прошептал Карчи, — нервы совсем никуда…
Петер обернулся к Морелли:
— Он уже не мужчина… Понимаете?
Морелли был ошарашен.
— Мне это и в голову не приходило.
— Что там у вас происходит? — похлопала Стелла Тони по спине.
Тони не ответил. Стоя на стуле, он смотрел поверх голов во двор. Остальные постепенно отхлынули от окна, а он все не двигался с места. Потом вдруг замолотил ногами по стулу, все быстрее и быстрее.
— Вы, — крикнул он, указывая на Петера коротенькими пальцами, — вы — растленный тип!.. Я вас ненавижу!
Зазвенел звонок на репетицию.
— Идемте, — сконфуженно позвал Карчи. Все с облегчением последовали за ним. Петер тоже вышел, скользнув по карлику безучастным взглядом.
Тони еще постоял на стуле, потом осторожно слез, колени у него дрожали.
В день генеральной репетиции Маргит бродила возле выхода. Ждала мужа. Белое платье ее резко контрастировало с почти негритянской чернотой загара. Вместо привычного запаха духов вокруг витал легкий солоноватый аромат.
— Чудный вечер. Я за тобой. — И мягким движением она опустила руки на плечи Морелли. Кивнула идущему следом Петеру. — Скажи, что ты в восторге.
— Очень мило с твоей стороны. — Морелли коснулся губами ее волос. И подосадовал. Он только что попросил Петера пройтись с ним. Хотелось услышать его мнение насчет номера с птицами. Неловко будет отсылать Маргит, раз уж она за ним приехала.
Петер неожиданно выступил из-за его спины. Склонился к руке Маргит, поцеловал и даже шаркнул ножкой. Он был определенно смешон.
— Вам в какую сторону? А то влезайте к нам, немного подвезем… — небрежно бросила Маргит и посмотрела на освещенную афишу на фасаде, куда розовыми буквами уже подписали: «Петер Крона, летающий человек».
Морелли ждал, что Петер ответит, но тот молчал.
— Видишь ли, радость моя, в чем дело… — начал он сам, — дело в том, что мы хотели немного прогуляться. Завтра премьера, а у нас еще кое-что…
— Что кое-что? — спросила Маргит.
«Нервничает. Ужасно нервничает, по голосу слышу», — подумал Морелли. Он уже почти решил, что поедет с ней.
— Речь идет о новом номере, ты же знаешь…
— А что о нем говорить? Мы же вчера с тобой все обсудили. Разве сегодня были срывы? Или шеф чем-нибудь не доволен?
— Ну что ты! Карчи очень нравится. Я могу быть спокоен.
— Так в чем же дело? Что за фокусы такие, хотелось бы знать? — Голос ее пресекался.
Петер тронул Морелли за плечо.
— Отложим до другого раза. Езжайте домой.
— Неужели? Вы разрешаете? Как это любезно с вашей стороны… — ядовито проговорила Маргит. Лица ее уже не было видно в быстро сгущающейся темноте. — Мое почтение!
— Но Маргит… — сделал последнюю попытку Морелли. И взял жену за руку. Маргит со всей силой впилась ногтями в его ладонь, потом оттолкнула его.
— Оставь меня!.. Я прекрасно без тебя обойдусь. Без вас обоих! Идите куда хотите! — И она стремительно кинулась к машине. Буквально рухнула на сиденье. Рывком сорвала машину с места.
Морелли в смущении прокричал ей вслед:
— Подожди у развилки! Слышишь? Не дури, Маргит!.. — Но машина уже скрылась из виду.
— Ничего не понимаю… Такой взбудораженной я ее еще никогда не видел.
— Премьера… — ничего не выражающим тоном сказал Петер.
— Ты думаешь! Но так волноваться! Не следовало отпускать ее одну.
— Ничего с ней не случится, — насмешливо буркнул Петер.
— Да я не о том, — сказал Морелли. Он представил себе ночь. Долгие рыдания, полосы света на стене, отбрасываемые ночником. Теперь уже все равно.
— Я, пожалуй, пойду…
— Брось, ничего страшного. Дойдем до пруда, а потом я отправлюсь домой. — Невольным движением он взял Петера за руку. Тот высвободил руку и закурил.
Молча они двинулись в путь. На улицах было еще людно. Хрустальное сияние выглянувших звезд слегка охладило горячий, сливово-синий воздух.
— Какое чистое небо. — Морелли показал на звезды: — Падают…
— Загадайте желание.
— А почему бы и нет? Я люблю всякую бессмыслицу.
— Наша профессия такая.
— Не профессия, а искусство… У меня, Петер, нет профессии.
— Однако зарабатываете вы неплохо!
— Ты что придираешься? Ты же прекрасно знаешь, о чем я говорю. И прошу тебя, давай на «ты». Впрочем, если не хочешь, скажи прямо.
— Да нет, отчего же, — запротестовал Петер, — просто как-то не получается. Язык не поворачивается, и все тут. Не обращайте внимания, говорите мне «ты».
«Уважает, — удовлетворенно подумал Морелли, — уважает парнишка. Комплексует, наверное. А ведь нет у него для этого, увы, никаких оснований. И он это быстро поймет».
— Слушай, откуда ты узнал, что Вернер импотент? Из-за того, как он тогда с цветами?.. — неожиданно вспомнил он про капитана.
Петер нехотя ответил:
— Да нет, это только так, нюансы. Я давно подозревал. Настоящий мужчина не бывает груб с женщинами. Даже животные и те… Возьмем хоть быков, они только друг друга бодают.
— Но он, кроме Като, никому не хамит.
— Ну как тебе объяснить. Помнишь, твоя жена приходила однажды на репетицию. В таком оранжевом платье без рукавов. Она облокотилась о барьер напротив Вернера. А я рядом стоял. Картина была откровенная, но она, конечно, не нарочно. А Вернер даже внимания не обратил. Только когда заметил, что я смотрю — ты уж прости, сам знаешь, как это бывает, — тогда только уставился. Напрягся изо всех сил, но без толку. Ничего не почувствовал. Тут он разозлился и без всякой причины пнул льва. С тех пор я уже не сомневался.
— Тебе не приходится напрягаться, верно? — шутливо спросил Морелли, но в голосе его послышалась растерянность.
Петер поднял на него глаза. И ответил с беспристрастностью естествоиспытателя:
— Нет. Я люблю женщин.
«Я чуть не поставил себя в смешное положение, — мелькнуло у Морелли, — впредь надо быть осторожнее».
Они свернули на безлюдную улицу.
— Что-то меня не тянет сейчас в кафе… Ты как?..
— Я хожу в кафе, когда на душе муторно, — сказал Петер, — оттуда выходишь как новенький.
— Из этой толпы?
— Конечно. Все на тебя смотрят, тут не закричишь. Дары цивилизации! Со временем я привык подавлять таким образом боль, как зевок в обществе.
— О какой боли ты говоришь?
— О всякой. Я не делаю из своих горестей стихотворные циклы.
«Он восхитителен, — подумал Морелли, — как ни грустно, совершенно восхитителен. И перешел наконец на «ты».
— Сядем. Сегодня у тебя не может быть плохого настроения. Все прошло отлично.
— Ты серьезно так думаешь?
— Послушай — да сядь ты наконец на лавку, — восторги не в моем духе. Я себе цену знаю. И голова у меня работает. Я не о том говорю, чего я внешне достиг, а о том, что́ я по сравнению с другими. Мне всегда хотелось быть лучше, понимаешь? Но не только ради себя… Впрочем, я не это хотел тебе сказать, а то, что, когда я увидел тебя наверху, я подумал — для меня все кончено. Ты был великолепен, это было настоящее, мне до тебя расти и расти… У меня еще никогда ни к кому такого чувства не было.
— Правда? Ты вправду так считаешь? — в волнении перебил его Петер, да так некстати, что Морелли почти обиделся.
«Ему до меня совсем нет дела! И зачем только я затеял этот разговор? Его распирает от успеха. Может, он из высокомерия, а не из скромности говорил мне «вы»?»
— Я всегда говорю правду. Вежливость в искусстве — пустой звук. Тебе это лучше других известно.
— Прости меня, — сказал Петер, с силой теребя его за рукав пиджака. — Мне так важно это слышать!
— Но ведь ты и сам так думаешь, разве нет? Подобные вещи человек всегда о себе знает.
— Не знает, — с отчаянием воскликнул Петер, — в том-то и беда, что не знает. Я с малых лет прыгаю на канате. И с тех пор все думаю, стоит это чего-нибудь или нет. Я уже и бросал, и перепробовал много всякого другого, а потом опять оказывался там же, снова и снова, на этой дурацкой веревке. Так скажите мне, вы скажите, стоит это чего-нибудь?
«Опять это «вы»! Крепко ему, видно, досталось, иначе откуда бы такая недоверчивость».
— Вот увидишь, ты будешь иметь потрясающий успех! Завтра увидишь.
— Успех! Это ничего не значит. Успех у меня всегда был. С шести лет, с первого выступления на улице Кишштацио. Я не о том.
— Понимаю. Тебе хочется нового, оригинального, как и мне. Но ты своего достиг.
— Это лишь бледное подобие. Я не могу тебе объяснить. Даже если новое, совершенно новое, чего это стоит?
«Что-то непонятно, о чем он, — раздраженно подумал Морелли, — какая-то у него каша в голове».
— Какие у тебя, собственно, проблемы?
— Да никаких… Просто стыдно иногда.
— Чего?
— Взрослый человек, а выделывает какие-то кренделя на веревочке.
— Но какие искусные кренделя, Петер!
— Все равно. Таскать мешки, или шить ботинки, или придумывать машины — это я понимаю… В этом есть смысл, хоть отчасти…
— Но ведь у тебя талант, — сказал Морелли, не найдя другого аргумента.
— Талант ничего не стоит. Эгоизм один. Он даже меня нисколько не спасает, не то что других. Чем выше я прыгаю, тем острее ощущаю стыд. Посмотреть, конечно, красиво. Но какой в этом внутренний смысл? Зачем я это делаю? Что жду от тех, кто на меня смотрит? Что я им даю? Если ты сейчас начнешь говорить про заряд бодрости, смену впечатлений, я тебя удушу.
— Не начну, — тихо покачал головой Морелли. Он откинулся назад и положил затылок на спинку лавки. — Не начну.
— Бессмысленно все! Люди смотрят, ужасаются, восхищаются, потом расходятся по домам и забывают.
— Тебе обидно, что забывают?
— Они не меня забывают. Мое имя они иногда и месяцы спустя помнят. Они забывают, что видели. А почему бы и нет? Я ничего им не дал, что может помочь, если вечером они свалятся от усталости или кто-то вдруг сыграет в ящик… Ничего, что они могли бы унести с собой!
Иллюзионист расстроенно слушал. Самоубийство — вести такие разговоры за день до премьеры. Надо бежать домой, под град упреков Маргит. И то лучше.
— Так ты хочешь доказать мне, что то, что ты делаешь, по большому счету ничего не стоит? — отрешенно спросил он наконец.
— Именно! — воскликнул Петер, и голос его прервался.
«Уж не плачет ли он? — изумился Морелли, и ему стало стыдно. — Не собирается ли он зарыдать? И от него я ждал совета?»
— Тогда объясни мне, — накинулся он на Петера, уже разозлясь, — объясни, почему, когда ты в первый раз спустился, почему я бросился к тебе в восторге? Почему у меня все настроение пропало заводить разговор о своем новом номере? Почему у меня такое чувство, что после тебя все халтура? Ну, отвечай, не то я обложу тебя как следует, если ты и дальше будешь ныть.
— Не знаю, — ответил Петер и, нащупав руку Морелли, сжал ее.
Гроза все-таки будет. Луна скрылась за тучами. Фонари еще не зажигались. От темноты у Морелли закружилась голова. Он затянулся сигаретой. Эта тлеющая точка — вот и все, что было. Она покачивалась, мерцая, перед их лицами.
— Не знаю, почему у тебя такое чувство. Но если бы ты сам додумался, если б сказал мне… подумай немного.
— О чем? — спросил Морелли, и у него перехватило дыхание.
— Сам знаешь, — понукающе прошептал Петер. — Что я даю? Для чего все это? Скажи, если тебя это так расстраивает… ну скажи!
Морелли закрыл глаза. Он с детства не выносил темноты. Ничего в ней не видел. Напрасно он ощупывал сырые доски скамейки. Предметы не помогали. Он потерял ориентировку. Сильно похолодало. От поясницы поползла дрожь, перебралась через плечо и достигла сердца. Тело ощущалось как не свое, словно от укола новокаина.
«Надо ему ответить что-нибудь, он ведь ждет…»
От него потребовалось физическое усилие, чтобы в непроглядной темноте ночи воскресить в себе огни генеральной репетиции, Петера под белым, усеянным звездами куполом, как он легко взмахивает в вышине рукавами своей шелестящей рубашки переливчатого шелка. Подобно огромной птице…
— Какие мы дураки, Петер… — неожиданно воскликнул он с ребяческой гордостью. Он слышал тяжелое дыхание Петера. Щелкнув зажигалкой, поднес колеблющийся язычок пламени к его лицу. Хотел видеть реакцию. Пусть хоть это на его долю останется. — Настоящие дураки. А ведь все так просто. Я теперь понял! Там, наверху… там наверху для тебя ничего не существует. Ты можешь обходиться без предметов. Ты бросил шест, помнишь?..
— И что же? — хрипло спросил Петер. Глаза его, будто семафор, сузились, потом опять широко раскрылись. — Что из того?
— Ты властелин своего тела, ты не можешь упасть… У тебя что-то есть, что-то такое, как крылья у птицы, — уже почти кричал Морелли. — Мы все зависим от предметов, но ты в них не нуждаешься, ты одержал над ними победу. Там, посреди пролета, над пропастью, ты совершенно свободно крутился в воздухе, я видел. Свободно, понимаешь? Как бы тебе объяснить? Этот размах… — его голос понизился до шепота. — Ты пойми, у тебя что-то есть, что-то такое, как крылья у птиц…
Петер перебил его.
— Правда, правда, — залепетал он в упоении, — и пусть все это знают, все как один… — Он залился переливчатым смехом. Хрустнул пальцами. — Да, в это я верю! Вот оно, оказывается, в чем дело! — И, совсем как на канате, он хлопнул над головой ладошами. — Грандиозно! Тогда действительно грандиозно!
Морелли закрыл зажигалку. Положил рядом. Волнение его улеглось. Тьма еще более сгустилась. Его покоробила безудержная, дикарская радость Петера. Он порылся в кармане, но нащупал лишь пустую сигаретную коробку. Смял ее и вышвырнул.
«Я лишний, — подумал он, — теперь уже я действительно ни на что не гожусь».
Он вспомнил, зачем пришел сюда с Петером. Горько усмехнулся. Но все-таки спросил, чтобы покончить с этим:
— Скажи, раз мы завели разговор… мой новый номер… как он тебе? Воскресшая из пепла птица Феникс… Символ понятен?
— Что? — рассеянно переспросил Петер.
— Неважно. Я только хотел спросить, как тебе нравится номер… — повторил Морелли и почувствовал легкую тошноту.
— Этот вот? Птица, зеркало и прочие штучки-дрючки? Хитро…
— Мысль в том, что… смерти не существует, все в мире возрождается вновь. Что-нибудь в этом роде… «Что за жалкий лепет! Надо встать и уйти».
— Задумано не без фантазии. Но, по правде говоря, все это в конечном счете обман. Ведь на самом деле твоя птица не воскресает… И ты это знаешь, и публика знает. Чуточку лжи, чуточку блеска, из самых благородных побуждений, пусть люди добрые подивятся… Как вы это называете?
— Иллюзией, — натянуто произнес Морелли и поднял глаза на загоревшийся грязно-желтым светом фонарь. — Ничего не скажешь, вовремя! Должно быть, совсем поздно. Не обижайся, но я пойду. Слишком много кофе выпил, теперь голова кружится… Пока, счастливый вождь краснокожих!
Он торопливо вскочил и убежал. Петер едва успел крикнуть ему вслед:
— Не глупи, старик, это тем хорошо…
Пожал плечами. Но не стал догонять Морелли. Его распирало ликование. Он готов был пасть на колени и громким криком возвестить о своей радости на все четыре конца света.
«Несчастные балбесы, — подумал он об остальных, но не почувствовал жалости. — Для них и вместо них это осуществил я, мне одному выпало такое, впервые…» И ему по-детски захотелось посмотреться в зеркало. Еще никогда он так остро не чувствовал уверенности в своем предназначенье.
«Голоса, голоса говорили правду», — вспомнился ему восторг Святой Жанны. Какая это была мука, бесконечное сомнение, самобичевание! А теперь эта до мозга костей пронзающая радость!
«Значит, действительно во мне что-то есть… Что-то настоящее. Силу притяжения удалось преодолеть… Тебе, тебе, именно тебе…»
Диск луны опять светил в полную силу. Петер с размаху вышиб из гнезд несколько камней, уложенных по обочине. Потом, понуждаемый остатками благоразумия, оглянулся. Никого.
Он засмеялся и — как когда-то в первый раз в детстве — встал на спинку скамейки. Легко пробежался из конца в конец, потом резко остановился. «Благодарю, благодарю», — произнес он неожиданно громко, раскланиваясь во все стороны, но тут же соскочил.
На дороге стоял ребенок и смотрел на него.
— Что, испугался, малыш? — шутливо прокричал Петер. — Не бойся, я тебя не трону.
Маленький человечек подбежал ближе и заглянул ему в глаза. Это был дядюшка Тони.
«Он пьян, — почувствовал Петер по резкому запаху палинки. — Как неприятно. Сейчас это совсем некстати…»
— Наклюкался, коллега? — спросил дядюшка Тони и сунул руку в карман. — Думаешь, мы в луна-парке?
— Это вы наклюкались, шли бы домой, — холодно сказал Петер.
— Домой, да? Идти домой? Значит, отбросы, ошметки человечества могут отправляться домой! Только господин артист останется здесь, паря в воздухе, великий артист и небо… Великий хам в своих павлиньих перьях…
«Не затевать же драку с калекой, да еще пьяным…» — подумал Петер и пошел от него прочь.
Тони, пригнувшись, забежал вперед. Обхватил руками фонарный столб. Подождал, пока Петер поравнялся с ним, и дребезжащим голосом прокричал ему вслед:
— Плевал я на твои чары! Меня тебе не соблазнить, я не то, что другие… Кто ты такой? Такое же ничтожество, как и я. Разыгрываешь из себя господа бога? Тебе плевать на нас на всех с высоты? Да я тебя…
«Пьян… вдребезги пьян, — подумал Петер. — Несет какую-то чушь…» — И он прибавил шагу.
— Ты все видишь и все знаешь, не так ли? Тебе все удается, остальные люди дерьмо! Ты один величина! Царь птиц!
«Гадость какая. Еще немного, и я перестану его слышать…» — подгонял себя Петер, не смея оглянуться.
Но последняя фраза все-таки долетела до него.
— Без каната… без каната попрыгай, если сможешь!.. А то ведь у тебя тоже канат под ногами, голубчик!
Петер остановился. Удар попал в самое яблочко.
— Ты меня ставишь в дурацкое положение, — говорил Карчи Морелли, наблюдая в дырочку за выступлением наездницы. — Вчера все было в порядке, а сегодня ты, видите ли, не в состоянии! Что с нами будет, если даже ты не понимаешь, к чему приводит анархия.
Морелли не отвечал. Это еще больше разъярило Карчи.
— Прошу учесть, что я вам не шут. В конце концов, я несу ответственность… Такая выходка может привести… — и он сделал угрожающий жест рукой.
— К увольнению? — спросил Морелли и улыбнулся.
— А что ты думаешь? И к увольнению. Я не тебя имею в виду, а вообще. Неделю работаем над новым номером! Ты полон энтузиазма, заражаешь меня, я уламываю старика, и теперь — на тебе, оказывается, все напрасно. И ведь никакой причины, обыкновенная истерика, как у всех.
— Сойдет и старый… — отмахнулся Морелли.
— Сойти-то сойдет! Но ведь ты артист! Где же твоя гордость? Или уже и в тебе не осталось? Никогда ничего нового?
«Бедный Карчи, — подумал Морелли, — если вытаскивать его из этой лужи, то только на сушу. Моря ему не переплыть».
— У нас есть Крона, — утешал он его. — Это гвоздь программы. В моих ухищрениях нет надобности.
— Ага, значит, ревность, — повернулся к нему Карчи. На манеже Катока уже соскочила с лошади и раздавала поклоны. — Старый осел! Мы еще поговорим с тобой в антракте! Теперь я тем более настаиваю, чтобы ты вышел с новым номером, — и Карчи понимающе, снисходительно похлопал Морелли по спине.
Морелли вздохнул. Сейчас очередь Петера. Потом его.
Конечно, он прикатил в последнюю минуту, свинья, уже прозвенел первый звонок. Его привезла в машине Маргит. Наверное, подобрала у входа в парк. Судя по всему, они успели обменяться любезностями, глаза у Маргит так и полыхали. Точно, наговорила ему гадостей — вот безжалостная, — лицо у Петера было пепельно-серым. Беда с этой Маргит! Никакого благоразумия, на всех нападает. Вот уж поистине, любовь слепа, с мужем для нее никто не сравнится. Вчера ночью, как ни странно, не было никакого скандала. Маргит клещом вцепилась в него и без конца повторяла: «Я умру за тебя, умру… я только тебя люблю, поверь…» Будто он когда-нибудь сомневался! Вот это страсть! Пусть он все потерял, это у него по крайней мере останется. Эта привязанность, которая дает силы жить. Что ни говори, а это настоящее. Не какое-нибудь кривлянье на публике. Петеру такого не испытать, никогда. Парить можно только в одиночку.
Морелли хотелось поймать Петера. Он не говорил с ним со вчерашнего вечера. Неплохо было бы услышать от него «спасибо». Но на это мало надежды. Скорее он себе будет благодарен. Сентиментальность не в его характере.
Тони помогал выносить снаряды. Катока уже закончила и прыскала под мышки дезодорантом. Карчи вытянул ее по заду:
— Сгинь, освободи место! Хорошо работала, как всегда. Только в другой раз не кланяйся так долго, хватило бы и половины.
Катока разрыдалась и убежала.
— Сумасшедший дом! — схватился за голову Карчи. — Если уж и эта ревет… Быстро, Тони, пошевеливайтесь… где Крона?
С трудом переставляя ноги, Тони подошел и уставился на Карчи.
— Вы, дядюшка Тони, вчера опять прикладывались, по глазам вижу! Идите и осмотрите реквизит. Где Крона?
Тони неуверенно показал за спину. Вздохнул, потом, держась рукой за бок, поплелся за рабочими.
— Он что, болен? — проводил его взглядом Морелли. Карчи сердито цокнул языком.
Появился Петер в расшитой сатиновой рубахе. Он шел, растягивая шаг, как в пантомиме, лицо его было похоже на маску. Когда он поравнялся с Морелли, ресницы у него дрогнули. Тот взял Петера за локоть. Почувствовал, что нужно что-то сказать.
— Выше голову! Соберись! Вспомни вчерашний вечер!
Петер дернул плечом и засмеялся.
— Подумаешь… — голос его звучал сдавленно и непохоже, как у чревовещателя.
«Вот ведь, божий дар у человека — и то паникует, — подумал Морелли, — к счастью, это пройдет, стоит только начать. Дело проверенное».
В зале уже играла музыка Петера. Нежный, приторный вальс. Но во время номера будет тишина — это Крона себе выторговал.
Перед занавесом Петер столкнулся с Тони. Мотнул несколько раз рукой, словно хотел протереть запотевшее стекло. Но Тони не ушел с дороги. Собирался что-то сказать — и не мог выговорить.
У Петера оставалось полминуты. Он смотрел на беззвучно шевелившиеся губы карлика, в его глаза, полные раскаяния, страха — и одновременно как бы торжествующие.
— Ладно, дядюшка Тони, чего уж там, — бесчувственно произнес он наконец и скрылся за занавесом.
Тони вздрогнул всем телом. Огляделся вокруг. Все уже стояли у занавеса, тянулись к щелке.
Тони протиснулся к Морелли. Тот в рассеянности оперся локтем о его голову. В дырочку он разглядел Маргит. Она сидела в средней ложе партера и ела глазами Петера.
«Как она его ненавидит, а все потому, что он меня переплюнул… — растрогался Морелли. — Любящая жена такого не переживет. Отлично Петер работает! Наверное, это музыка выбила его из колеи. Начало превосходное. Он спокоен, уверен в себе. Как птица. Успех обеспечен. И не просто успех, а безусловная сенсация».
— Спокойно, дядюшка Тони, спокойно, — похлопал он по нервно прыгающему черепу карлика, — все идет как по маслу.
«Как их много! — ужаснулся Петер, оглядевшись вокруг с мостика. — Что им от меня нужно? Ничего, наверное, они о себе думают, хотят немного повеселиться. У нас с ними нет ничего общего. Я попрыгаю, они получат то, чего ждали. И так каждый вечер. Теперь уже навсегда».
Петер наканифолил руки. Посмотрел на первую, самую толстую проволоку, потом на натянутые параллельно с ней в строгой очередности остальные, все тоньше и тоньше.
«Опять эти канаты, — вновь поднялось в нем отвращение. — Костыли для калеки… А что, если сейчас слезть и уйти, еще не поздно начать все сначала, попробовать что-нибудь другое… Но что?..»
Он больше не смотрел вниз. Привычным шагом дошел до середины первого каната. Страх отпустил. Его наполнила легкая, беспечная радость. «Смотрите, смотрите… Меня ждет большое будущее. Завтра все газеты поместят фотографии великого артиста…»
В голове прояснилось. Трюки доставляли наслаждение.
«В другой раз все-таки надену наколенники, — мелькнула мысль, когда он, тяжело дыша, прислонился к стойке. — Ноги слегка дрожат, лишняя опора не помешает… Не надо было поддаваться Маргит в машине, я просто спятил. Перед самым выступлением! Роковая страсть! Одна мерзость и ложь… Погрязла в дерьме…»
Сделав полный оборот вокруг каната, он перелетел на второй.
«Классный оборот. Смотрите, смотрите, чтоб вам глаза проглядеть! Так, собраться… Двойное сальто… Еще раз… Ну, еще разочек…»
Не давая себе ни минуты передышки, он перелетел на следующий канат.
«А теперь такие вот пироги… И такие… Чтоб вы накушались до отвала… Хохо-хопп, вуаля!»
Когда он спустился с третьего — предпоследнего — каната, зал неистовствовал. Все думали, он уже закончил. Раздавались возгласы:
— Вот это да! Невероятно!
Петер видел довольную физиономию Карчи и Морелли, помахавшего ему рукой. Тони с раскрасневшимся лицом колотил в ладоши.
«Спокойствие, — кивнул им Петер, — вы же знаете, главное еще впереди».
Случайно он встретился глазами с Маргит. Она послала ему воздушный поцелуй, так, чтобы никто не заметил. Петера передернуло. Он опять почувствовал отвращение, но потом пожал плечом.
«Мне-то что… — подумал он, — кесарю кесарево… Ну и получите. Меня это не касается. Я царь птиц…» От этого сравнения ему стало не по себе. Стыдясь, словно ему плюнули в лицо, он опять полез наверх.
Тряхнул головой, будто отгоняя мух. Послышался глумливый хохот. Видно, кто-то напился в буфете.
Петер сжал ладонями талию. «Сначала, как всегда… ну а потом вы только рты разинете…»
Он оглядел подрагивающую, туго натянутую проволоку. Почти невидимо уходила она к противоположной стороне, но она была там. Серебристо поблескивала над желтым, сухим песком.
Петер нащупал ее ногой. Тройное сальто — два пируэта — сальто на одну ногу — потом снова пируэты — целый каскад… и легкий соскок на тот мостик. Да, так он и сделает. Надо будет потом извиниться перед Морелли…
Петер подпрыгнул.
«Красиво, что ни говори… Неужели он смирился? Или стал соглашателем? А, не все ли равно? Лучший цирк страны! Рай!»
Под конец тройного сальто он совсем близко увидел купол. Ясно расслышал, как кто-то ахнул в тишине. Ему хотелось крикнуть: «Не бойся… Не бойтесь…»
Он так сильно оттолкнулся для пируэта, что подкупольные прожектора обожгли ему лицо. «Теперь сальто на одну ногу, потом последняя серия пируэтов — и я у цели! Чего вы боитесь?»
Он поискал глазами проволоку. И не нашел. Все было делом одной секунды. Под ним больше нет каната! Нагрузка оказалась чрезмерной — канат лопнул! Нет больше, нет!
«Я знал!» — хотелось выкрикнуть ему. Он рванулся вверх. Попробовал оттолкнуться от воздуха.
«Вдруг получится…»
Жгучие полоски света резали глаза, но он был спокоен. Ему казалось, что он поднимается все выше и выше, где-то там, рядом с противоположным мостиком.
«Получилось! — молнией сверкнуло внутри, уже без слов и мыслей. — Сейчас доберусь…»
Странно было лишь то, что купол, будто гигантский оборвавшийся парашют, отдалялся, уносимый струящимися потоками ветра, сжимался, а потом и вовсе исчез в тусклой бесконечности.
Он упал за сетку, на держащую столб металлическую скобу.
— Я дал ей успокоительного, — сказал четвертью часа позже дежурный врач и потушил над головой Маргит лампочку. — Она заснула.
Он тихо вышел. Морелли забыл спросить, что делать, если жена вдруг проснется. Он подтащил к дивану стул. Принялся разглядывать колпак из молочного стекла в потолке.
Говорят, когда несли накрытого бумагой Петера, Маргит кричала: «Это я… я во всем виновата…» — и била себя в грудь, стонала. Сперва казалось, она дурачится. Никто не мог понять, в чем дело. Но потом на губах у нее выступила пена, и она упала. Тогда ее перенесли сюда, на диван в уборной. Тащили, схватив за руки и за ноги. Прическа растрепалась. В волочившиеся по полу волосы забилась грязь, окурки. Когда Морелли прибежал от «скорой помощи», ей уже сделали укол. Пришлось еще повозиться с дядюшкой Тони, который с той самой минуты, не останавливаясь, гонял на своем мяче. В руках он держал железный прут, яростно вертел им из стороны в сторону и рокотал, тарахтел, словно взлетающий вертолет. Ни единого раза не упал, но больше не слышит ни звука. Он с быстротой молнии носился по гулким залам. В коридорной толчее все уступали ему дорогу. Потом Катоке надоело, и она набросила ему на голову одеяло. Он растянулся под ним на полу.
Морелли узнал все от врача. Так даже лучше, сухо, по-деловому.
Он поднял руку Маргит. Посмотрел, как она безжизненно упала вниз. Открыл кран, послушал шум воды. Закрыл.
Оглянулся на Маргит. Ему не хотелось, чтобы она снова встала и заговорила. Пусть лучше навсегда остается такой, неподвижной и бессловесной. Все достойнее и легче, чем притворяться. Даже согрешить по-настоящему не умеют, непременно приплетут великодушие.
Ему не хочется отсюда выходить. Остальные — после вынужденно долгого антракта — готовятся ко второму отделению. Нельзя поднимать панику. Небольшая травма, многоуважаемая публика…
Львы вроде отменяются, ибо капитан в считанные минуты нализался до чертиков. Карчи вырвал у него из рук пистолет — и где он его только раздобыл? — которым он хотел прикончить зверей. «Вонючие твари, — орал он, — лучше вы подохнете, чем я…» Его заперли в бутафорской, там храпит.
Даже сюда доносится возбужденное кудахтанье Карчи. Спорит с директором, кто виноват. Каждый хочет быть чистеньким.
— Но ведь канаты в полном порядке, и самый тонкий тоже…
— В нашем деле надо учитывать все… даже минутную слабость.
— Как могло случиться, что он упал за сетку? Может, она мала?
— Почему вы раньше об этом не подумали?
— Он сам во всем виноват… Растерялся, не доделал до конца…
— Нам нужны артисты, а не сумасшедшие, — это был голос Стеллы.
«Никогда не выходить. Ни к ним, ни на манеж. Но ведь придется… Петер! Если б я тебя хоть ненавидел! Ты все у меня отнял, все, а взамен не дал ничего… Как выносить эту пустоту? Кем же ты все-таки был? Кем? — шептал Морелли, и его шепот мячиком метался между четырьмя стенами. — Завтра все покажется иным… Что-нибудь придумаю. Человек меняется, живи он в полном кошмаре или полном спокойствии…»
Он представил истерзанного сомнениями Петера рядом с огоньком зажигалки, его глаза, устремленные в никуда. И вспомнил, каким торжествующим и надменным было его лицо в мертвящем свете неожиданно вспыхнувших неоновых ламп.
А теперь эта безжалостная, слепяще-белая полоса света, которая гонялась за вращающимся телом Петера, не отрываясь от него ни в вышине, ни в бездне!
«Вечный свет…» Все так нелепо и запутанно. Морелли беспомощно прижал ко рту руку. Чтоб с языка не лезла всякая чушь.
Он еще минут десять просидел так, в полубессознательном состоянии, когда в дверь постучали. Ввалился Карчи и начал трясти его за плечо. На лицо Морелли упало несколько капель пота.
— Твой выход… ты слышишь… тебе выходить…
Морелли поднял на него невидящие глаза.
Карчи повторил горячо, просительно:
— Иди, только ты можешь спасти положение. Пускай своих птиц. — Иллюзионист смотрел на него, словно не понимая, что тот говорит. Карчи затараторил еще быстрее: — Номер с птицами, Морелли! Это единственный выход из положения. Вся надежда на тебя. Люди не могут так уйти… Выноси своих птиц и жги… сколько влезет… Нельзя так отпускать людей. Ты понимаешь?
Морелли встал. Пригладил волосы.
— Конечно, конечно, — сказал он, — так отпускать нельзя. Понимаю. — Он провел рукой по лбу Маргит. И пошел готовиться к номеру. От дверей он окликнул режиссера: — Значит, так… как договорились. Начинайте с фиолетового, потом постепенно переходите на небесно-голубой. И учтите, резкий свет для этого номера не годится. В момент превращения дайте приглушенно-красный, а когда увидите, что птица взлетает, пошлите ей вдогонку самый что ни на есть ослепительно зеленый.
Перевод С. Солодовник.
ПОПУТЧИКИ
У него в кармане туристический паспорт, он едет из Будапешта в Италию, через Вену. Разумеется, слово «Италия» можно произнести иначе, в венгерской огласовке. Но в венгерской огласовке пусть произносят другие. Для него этот край — Италия.
Сколько всего уместилось в этом напевном слове, от «и» до «а»! Целый мир.
В Вену поезд прибывает после полудня. С Западного вокзала на Южный, с вещами. Потом в Италию, экспрессом.
Он откинулся на спинку кожаного сиденья. Хоть бы поезд не опоздал. В Вене будет дикая гонка. Говорят ли там по-английски? А то придется объясняться на языке мимики и жеста.
«Надо было выучить немецкий. То есть не немецкий, а итальянский, — его пробрала дрожь, — я ведь еду туда… в Италию».
Он закрыл глаза.
С вокзала на вокзал как-нибудь доберемся.
— Гляньте-ка, — подтолкнул его сосед, лысый мужичонка лет пятидесяти. — Гляньте-ка в окно… любопытная штука. Здесь даже хлеб убирают не так, как у нас… вот он, порядок-то!
Петер вежливо кивнул. Мужичонка только-только расслабился. До Хедешхалома он поминутно вытирал сверкавшую от пота лысину, а после ухода таможенников рубашка у него была — хоть отжимай.
— Не все то золото, что блестит, — изрекла дама в очках, многозначительно подняв палец. — Это нам хорошо известно!
— Как же, как же. — Мужичонка стушевался и плюхнулся обратно на сиденье. — Кто же спорит… ох-хо-хо…
Дверь купе отворилась. В проеме возник юный красавец с белозубой улыбкой. Он раздавал рекламные проспекты.
— Прошу вас… прошу вас… Приглашаем посетить нашу фирму… автобус номер семь, всего пять минут… самые доступные цены.
Петер отрицательно покачал головой, но за спиной первого юноши уже вырос второй и протянул новую пачку.
— Настоятельно рекомендуем… не пожалеете, — голос звучал бесстрастно и монотонно.
— Почему бы и нет, — донеслось из соседнего купе. — Давайте еще парочку, на память!
Петер взял один из проспектов и принялся изучать венгерско-немецкую рекламу. Глянцевая бумага, цветные фотографии.
Потом появилась девушка с рекламой ювелирных изделий. На ней была шелковая блуза и сандалии из змеиной кожи. Длинные волосы зацепились за ручку двери.
— Осторожно, малютка, — рассмеялся лысый. — Так недолго и без волос остаться. Хотя у вас как выпадут, так и вырастут…
Ни тени улыбки не мелькнуло на юном лице.
— Драгоценности оттенят вашу красоту… наши цены самые доступные, — пропела она, направляясь к выходу, потом резко остановилась и, не оборачиваясь, протянула назад свободную левую руку:
— Не найдется ли у вас прочитанных венгерских газет… любых…
Петер сунул в протянутую руку «Орсаг вилага» и «Лудаш Мати». Дама в очках, скорчив презрительную гримасу, подала «Непсабадшаг».
— Вы что думаете, они для себя просят? — обратилась она к Петеру, подметив в его взгляде жалость. — Не будьте ребенком! Они их продают! Здесь из всего делают бизнес. Можете за них не беспокоиться.
— Ну почему же? Ностальгия такая штука… — начал Петер, но поймал иронический взгляд лысого и осекся.
Скорее бы добраться до Венеции, отыскать маленькую, славную комнатушку… вот он, адрес, в кармане… И тогда, тогда… Пока все не в счет, это всего лишь дорога. Суета, нервы. На вокзале есть камера хранения. Быть может, удастся до вечера попасть в Шенбрунн. Холодный покой мрамора, а потом… потом — Италия, вечное, изменчивое сияние…
Как спросить по-немецки про трамвай до Южного вокзала? Welcher… Straßenbahn… geht[1]… to[2]… то есть нет, zu[3]… Английский только мешает!
Можно, конечно, порыться в вещах и достать разговорник. Но пользоваться разговорником — это как-то несолидно.
Собор святого Стефана внутри красно-бурый, мрачноватый, если судить по открытке. А в действительности там наверняка золотистые тона. Жизнь всегда богаче…
С оглушительным стуком распахнулись двери. В купе заглянула женщина. Темные волнистые волосы опущены на уши. Иссиня-черные брови срослись на переносице.
— Кто-нибудь едет на Южный вокзал? — В голосе женщины звучал напор. Попутчики уныло покачали головами.
— Никто? Вот те на! — Женщина скорчила гримасу.
— Я, собственно говоря… — промямлил Петер. Нельзя же не ответить!
— Вы? — воскликнула женщина, протискиваясь в двери. Большие груди ритмично подрагивали на каждом повороте поезда. — А сколько у вас чемоданов?
— Один… и еще сумка… — Петер в растерянности указал на багажную полку.
— Бог ты мой! А у меня-то целых три штуки! Ищу, с кем бы такси вместе взять. Слушайте, какое дело! Поедете на трамвае — за багаж так или иначе платить. Это выйдет шиллингов шесть, не меньше, и тащиться целых полчаса. А такси на двоих — не так уж дорого, и вещи таскать не придется. Десять шиллингов потянете или нет?
— Я, право, не знаю… — Петер в ужасе воззрился на прыгающие черные брови.
— Некогда рассусоливать! Двадцать минут осталось. Встретимся на перроне. Вы стойте себе на месте, а я вас найду — и прямиком на такси. Может, еще кто третий согласится, дешевле будет… Идет? — Женщина нетерпеливо забарабанила пальцами по вделанной в дверь пепельнице.
— Да, спасибо, вероятно, вы правы… — проговорил Петер.
Не слишком приятно, конечно… И все-таки он испытывал известное облегчение. Welcher Straßenbahn… нет, так и правда будет куда проще.
— Благодарю вас, — крикнул он женщине вслед.
На Южном вокзале он оставит багаж и будет свободен до вечера. Без багажа хоть пешком гуляй. А уж когда он осядет в Венеции… оттуда ведь все близко… Две недели! Столько ему отмерено. На самое главное хватит.
Всю жизнь он верил, что рано или поздно туда попадет. И вот, наконец, час настал. Нужно использовать каждое мгновение. Каждое мгновение — на вес золота. А на паршивые деньги — плевать!
— Вена славится чистотой… — громко сообщил лысый сосед. — Это уже пригороды. Дома типично австрийские. Ну и, понятное дело, машина у каждых ворот.
— А мне вот, к примеру, машина ни к чему, — очкастая рывками застегивала молнию на сумке. — Машины обедняют душевный мир!
Лысый презрительно хмыкнул.
Петер подумал, что надо бы приготовить шиллинги. Они каким-то образом завалились на дно чемодана. Роясь в вещах, он выронил на пол лезвия. Лысый услужливо склонился, помогая собрать.
— Лезвия в Австрию везете? Воля ваша… — и расхохотался, впрочем, вполне доброжелательно. — Да знаете ли вы, что тут за лезвия? «Сильвер», сударь мой, «Сильвер»! За филлеры! Лезвия в Австрию… Воду в Дунай…
— Если вы такой умный, скажите-ка лучше, где можно продать палинку и венгерские карты? — угрюмо спросила очкастая. — Хоть какие-то деньги надо иметь!
— Слушайте внимательно! — Лысый схватил женщину за руку и вытащил в коридор. — В магазинах лучше и не пытаться.
— Уф-ф… — вздохнул Петер, — до чего же все это…
Поезд замедлил ход.
Петер поспешил на перрон. Интересно, как эта женщина собирается искать его в такой толчее? Трамвай, трамвай, никуда не денешься… Welcher Straßenbahn… Конечно, можно взять такси и без нее. Деньги роли не играют.
Тем не менее он остановился на перроне.
Вокзал как вокзал. Разве что потише Восточного.
— Пять минут машу, а вам и дела мало, — черноволосая хлопнула Петера по плечу. — Сумку возьмете в левую руку, вместе с чемоданом. А вот этот дотащите до такси… ага, вот так… не сердитесь?
Петер поднял туго набитый чемодан. Чего это она туда напихала? Женщина шла впереди. Плотная особа. Что называется, в теле. Сколько ей может быть лет? Тридцать, сорок?
— А ведь мы до сих пор не познакомились, — выкрикнула женщина через плечо, на ходу отпихнув носильщика. — Полегче, папаша!.. Меня звать Марта!
— Петер Сомбати, — еле переводя дух, проговорил мужчина и остановился. Женщина тоже остановилась, разминая ладони.
— Ваш-то еще полегче других. Тяжелые, черти. Сомбати, говорите? Спасибо хоть не субботник[4], — изрекла она и тронулась с места.
— Как вы сказали? — Петер пытался не отставать, но застежка сумки нещадно царапала бедро. — Я не понял…
— Секта есть такая дурацкая… субботники… я кой-кого из них знаю. Ваша-то фамилия небось и не венгерская вовсе, от какого-нибудь «Зайдл» произошла…
«До чего же глупая баба, — подумал Петер, — скорее бы Южный вокзал».
— Ну вот вам и такси, — удовлетворенно объявила Марта и тут же заорала, обращаясь к облаченному в серый костюм шоферу:
— Эй, друг, как тебя там, открывай багажник! — после чего перешла на немецкий и довольно бегло разъяснила, куда им нужно попасть.
Петер сел в машину. Женщина втиснулась рядом.
— Вы знаете немецкий?
— Черта с два. Но не ехать же в большой мир дура дурой! Три месяца зубрила. Те слова, что могут пригодиться. Так что тут полный порядочек, не беспокойтесь. И с итальянским то же самое… Prego un bicchiere d’acqua[5]… поняли, чего я говорю?
— Нет, — быстро сказал Петер. — Собор святого Стефана далеко, как вы думаете?
— После обеда выясним. А вам чего надо-то? «Новембер» небось или, может, «Дарваш»? Это вроде там рядом…
— Да нет, я внутрь хотел зайти…
— Куда внутрь? — Марта поправила лямку комбинации. — Ну и жарища! Сняли бы пиджак-то!
— В собор, разумеется, — пробормотал Петер. — Не сниму, а то придется тащить его на руке.
— Понятно, — кивнула Марта. — Гляньте-ка, где там счетчик. Сколько настукало?
— Расплатимся как-нибудь. — Петеру бросился в глаза клочок волос, торчавший у женщины из-под мышки. — Вам отвечать… вы все это затеяли, — пошутил он.
— Будьте покойны. — Марта хлопнула Петера по колену. — Со мной не пропадете. Меня на мякине не проведешь!
«Славная в общем-то бабенка, — подумал Петер, — и потом, на вокзале я от нее так или иначе избавлюсь…»
— Знаете, чего стоило семьдесят долларов выбить? Из нашего района двенадцать человек просили, у всех — предприятия, а дали-то мне одной… Уж я-то своего не упущу! Вернусь домой — на-кася, выкуси! — продолжала Марта.
— Вы что, тоже чем-нибудь командуете? — удивился Петер.
— Ну не в «Орионе», понятное дело… Рынок Лехеля знаете?
— Нет… не припомню что-то…
Петер выглянул в окно. Странные здесь светофоры. Висят на проводах, прямо над улицей. Любопытно.
— Ну тогда смысла нет рассказывать. Есть там забегаловка, напротив рыбных рядов. Ресторанно-буфетная сеть, точка номер 7629. Вот там я и хозяйничаю.
— Хорошо зарабатываете, должно быть? — рассеянно бросил Петер.
Интересно, что это за серое здание на углу?
— Не жалуемся… А все ж таки каждый филлер на счету. Были два года на хозрасчете — тогда можно было дела делать. А страшно — риск, что ни говори. Я хвастаться не люблю, но недостач у меня не бывало. Баланс, отчет? Пожалуйста, будьте любезны…
— С пьяными, должно быть, возни много? — О чем-то ведь надо говорить, пока доедешь.
— Это ведь как поставить, — женщина рассмеялась, раздвинула ноги и обмахнула бедра подолом. — Когда кто не в меру разойдется, я выберу пьянчужку потише, пьяницы ведь, чтоб вы знали, делятся на шумных и тихих… Словом, подхожу я к тихому пьянчужке и принимаюсь его умасливать: вы, мол, такой интеллигентный, уж такой интеллигентный, не откажите слабой женщине в помощи, и вот, оглянуться не успеешь, а тот тип уже за дверью. Свои-то работнички никогда не помогут. Трясутся за свою дерьмовую жизнь.
Петер рассмеялся.
— Ничего не скажешь, разбитная бабенка…
— Бабенка? — Марта шутливо отмахнулась. — Чего это вы, дружочек! Я вам в тетушки гожусь. Вам сколько? Тридцать? Тридцать два?
— Благодарю вас. Тридцать девятый пошел…
— Да что вы! — изумилась Марта. На щеках у нее обозначились две глубокие ямочки. — Выглядите роскошно. Это, наверно, из-за светлых волос, и потом, лицо у вас такое овальное… Мне тридцать восемь, но меня вес старит. Ну и пусть, голодать не собираюсь… Кому не нравится, пускай не смотрит.
— У вас кожа красивая, гладкая, — вежливо заметил Петер. — У худых раньше появляются морщины.
— А знаете, летом, в такую вот жарищу, я прям как сарделька — кожа натянута, того и гляди лопнет! Потрогайте вот тут, сзади… корсета я не ношу… не мясо, а камень!
Петер неловко улыбнулся.
— Я и так верю, Марта, на глаз…
— Вот еще, — сердито воскликнула Марта, — небось подумали, я с вами заигрываю… дурака-то не валяйте! Знаете, сколько у меня детей? Трое! Можете не трепыхаться!
— Да что вы… — запротестовал Петер. — А далеко, однако, этот вокзал…
— А кабы на трамвае, да по такой жаре! Сколько вам выдали шиллингов?
— Точно не знаю… Что-то около четырехсот.
— Это уже кое-что… А где вы работаете, между прочим? Об заклад бьюсь — либо музыкант, либо учитель.
— Ничего подобного… ни то, ни другое. С чего вы взяли?
— А руки-то ваши… Пальцы длинные, белые. И сами вы такой неприспособленный…
— Почему это я неприспособленный? — раздраженно поинтересовался Петер. — Потому что щупать вас не стал? Это дело поправимое…
— Бросьте, — сухо ответила Марта. — Для этого дела ума не надо. Не нужно мне ничего такого. Просто я сразу заметила, что вы малость того — в облаках витаете. Нелегко вам в Италии придется. Еще обворуют, не ровен час…
— Напрасно вы волнуетесь. — Петер достал удостоверение личности. Глупо все это, ребячество да и только! — Вот, взгляните! Я занимаюсь рационализацией, на кораблестроительном заводе… это вам не институт благородных девиц… Там нужны люди бывалые, а не то запросто вылетишь за дверь… А еще я в столярной мастерской работал, раньше…
— Ну хорошо, хорошо, — негромко сказала Марта. — Насчет неприспособленности — это я не в обиду. Зато вам ума не занимать. Но вот про «Дарваш» вы впервые слыхали, об заклад бьюсь. По лицу было видно.
— Да бог с вами, Мартушка! — заметил Петер свысока. Глупо ввязываться в спор, особенно теперь, когда они вот-вот приедут. — Как не слыхать? Просто цели у меня совсем другие, и кроме того…
— Другие цели? — Марта откинулась на спинку сиденья. — Ну как же. Стриптиз посмотреть, винишка отведать… Я тоже не дикарка какая-нибудь! У меня, если хотите знать, тур есть! В Неаполь поеду, а оттуда морем на Капри… Но только все это — за форинты, я валютой сорить не намерена…
— Экономить я тоже умею, — пробормотал Петер, — но эти две недели мне хочется использовать как следует, на всю катушку…
— Вот и мне тоже! У меня даже планчик готов. Приедем — покажу. Заранее бабки подбила — расходы по максимуму, по минимуму — само собой, приблизительно…
Машину тряхнуло.
— Südbahnhof[6]… — нараспев произнес шофер, обернувшись к пассажирам. — Achtunddreißig[7]…
— Сколько там? — засуетилась Марта. — Сколько он хочет? Тринадцать?
— Да нет, побольше. Acht und dreißig… Тридцать восемь.
— Тридцать восемь шиллингов? Грабеж, да и только… Со мной работает одна, так она знаете что за тридцать восемь шиллингов отхватила?
Петер вытащил сорок шиллингов и пачку «Фечке». Чтоб не говорили: венгры, мол, жмоты…
— Вот, пожалуйста, двадцать шиллингов… — Марта сунула деньги ему в руку. — В другой раз поедем на трамвае…
— Оставьте, ради бога, — совсем по-свойски отмахнулся Петер. — Вы меня обижаете!
— Господи Иисусе! — Марта всплеснула руками. — Попробуйте теперь сказать, что я в людях не разбираюсь! Нечего со мной кавалера разыгрывать! Оставьте эти штучки до Пешта. И запомните хорошенько: валюта здесь — все, без нее никуда! Припрячьте-ка денежки получше, и никому — ни гроша… А не то пропадете! Такой уж тут закон!
— Скажите честно, на кой вам сдался этот собор святого Стефана? Церковь как церковь. Помолиться и дома можно. Не возбраняется. А магазины только до шести. Пятый час… — Марта нетерпеливо переступала с ноги на ногу. — Мы стоим рядом с Оперой. По карте выходит, минут за пять доберемся… Если, конечно, в хорошем темпе…
— Марта, милая, никуда я не пойду. У меня еще есть два часа в запасе… Мне бы очень не хотелось вас задерживать, идите себе спокойно, — сказал Петер.
— Смеетесь, что ли? Квитанции-то багажные у меня… Что же мне теперь, здесь, на улице, торчать? И потом, куда вы денете свои четыреста шиллингов? В Италию потащите?
— Поменяю… если, конечно…
— Знаете что? — вздохнула Марта. — Видно, судьба моя такая, ничего не попишешь. Так и быть, пошли в церковь. Даю вам двадцать минут. Потом — курс на магазин… Слушайтесь меня, не пожалеете! Вот, к примеру, есть у вас поролоновая куртка?
— Нету… — Петер, понурившись, двинулся вперед. — Я не хотел бы отнимать у вас время…
— Господи боже ты мой, нам, венграм, надо держаться вместе… Где он, этот несчастный собор святого Стефана?
Петер развернул план. Вообще-то у него была своя карта, он купил ее перед отъездом, пометил на ней собор святого Стефана и прочертил маршрут. Но та карта осталась дома, он забыл положить ее в сумку. Мартина же карта представляла собой, скорее, нечто вроде рекламного проспекта. На ней были отмечены исключительно торговые точки.
— Вот он! — Марта ткнула пальцем в какой-то черный квадратик. — Ну, полный вперед! Тут направо, потом прямо — и готово.
— Вы думаете?
Что ж, по крайней мере не придется плутать и нервничать по пустякам. Баба, конечно, кошмарная, но в какой-то степени может быть полезна. Да и потом, четыреста шиллингов действительно лучше потратить. Какая-нибудь редкая книга, красивая репродукция…
— Голову на отсечение! Да улыбнитесь же наконец! Завтра я так или иначе выпущу вас из-под крылышка. Вы ведь хотите осесть в Венеции, а мне ехать до самого Рима.
— У меня в Венеции адрес. Очень хороший… — пробормотал Петер.
— Ну вот! — внезапно воскликнула женщина. — Видите эту штуку со шпилем? Голову на отсечение, это он и есть, собор святого Стефана!
— Верно… — Петер оживился и потянул Марту за руку. — Вперед, Мартушка, бегом марш…
Собор оказался закрыт. Марта попыталась толкнуться в боковые ворота, но без всякого толку.
— Как же так? — расстроенно сказал Петер, в отчаянии уставившись на оконную мозаику. — Что за свинство такое?
— Что-нибудь придумаем! — Марта подбоченилась и принялась вышагивать взад-вперед. За нею с интересом следила пожилая австрийка. Марта показала ей язык.
— Ме-е-е… чего пялишься? Есть у вас еще «Фечке»?
— Да, вот две пачки, в кармане.
— Отлично! Давайте сюда! Сейчас найдем ризничего, сунем ему в лапу, без разговоров откроет… Только поживее, а то времени мало!
— Нет! — возразил Петер. Он отчетливо представил себе сцену с ризничим. Уговоры, подкуп. Это будет совсем не то. Удовольствия уже не получишь. — В другой раз… Может, на обратном пути… Это придется на воскресенье, тогда уж наверняка будет открыто… Бог с ним, Марта!
— Мне-то что! Не я сюда рвалась! — Женщина встряхнула головой. — Такой уж у меня характер: если чего решу, так своего добьюсь, хоть трава не расти… Да ведь люди-то все разные, чего и говорить.
— Не дразнитесь, Марта, а то повернусь и уйду.
— Останетесь без багажа… Ну-ну, не дурите. Пошли в «Новембер». Фирма новая, избаловаться еще не успели. Вот список: это мне надо купить. Ничего себе, да? — Марта схватила Петера за руку. — Ну, пошли же… Это рядом с мясным базаром, всего в двух шагах…
Петер рассеянно взглянул в подсунутый список.
— Поролоновый костюм… нейлоновый халат… блузка с кружевами… пять лаков для волос… сто лезвий… мужское пальто из оленьей кожи… Постойте-ка! На какие шиши вы собираетесь все это покупать? Сколько вам выдали шиллингов?
— Триста шестьдесят! — Марта рассмеялась и сунула бумажку в карман. — Всего триста шестьдесят… все остальное в лирах. Лиры выгоднее.
— А еще говорите, я не от мира сего! — высокомерно заявил Петер. — Дорогая моя, то, что у вас записано, обойдется по меньшей мере тысячи в полторы… Боюсь, вы просчитались.
— Ну и чудак же вы, скажу я вам! — фыркнула женщина. — Помните, на вокзале я потратила целый шиллинг на туалет… зачем, как вы думаете? Так и быть, сознаюсь: мне надо было выпороть из подола сотенные… и еще десяток долларов из лифчика.
Петер присвистнул.
— А как же таможня?
— Ну видите ли, такая толстуха, как я…
— Вы не толстая, вы полная…
— Хорошо, полная… Грудь большая — ну и большая, таможенникам-то что! Не лапать же меня на ходу!
— А вдруг личный досмотр?
— Ну да, риск есть. Кто не рискует, тот ничего не имеет. Под суд за это не отдадут. Мелка рыбешка. Да и потом, кто с двумя сотнями поедет — дураков нет…
— Почему нет? Есть. Полюбуйтесь, — кисло улыбнулся Петер. Он приготовил к отъезду четыреста форинтов: друзья уговаривали взять с собой хоть немного. Но в последнюю минуту раздумал. Неприятно как-то, не хотелось портить себе настроение из-за такой чепухи.
— Эх, нам бы с вами в Пеште повстречаться, — сокрушенно сказала Марта. — Сразу видно, женщины при вас нету.
— Нету, и слава богу, — нелюбезно буркнул мужчина. Что она себе вообразила, эта глупая курица? Разговаривает, как тетенька-учительница… Надо будет вечером сесть в другой вагон, под любым предлогом, а наутро — Италия!
— Ну-ну, не задавайтесь. Рано или поздно и вас приберут к рукам.
— Меня нельзя прибрать к рукам! Я, Мартушка, живу своей, особой жизнью, — гордо заявил Петер, откидывая волосы со лба. — Своей жизнью!
— Ну да, конечно. Это потому, что вы один. Вот когда каждый вечер под ногами трое сопляков, а в кровати калека…
— Что за калека? — спросил Петер.
— Муж мой… Уж десять лет как лежит… Да, таких украшений в Пеште не сыщешь. Так бы и стояла и смотрела на них…
Женщина уставилась на сверкающую витрину. Висел отпоротый подол, на одной из босоножек не хватало пряжки, по шее струйками стекал пот.
«Бедная, — подумал Петер, — вот так и живем… Бедная…»
— По-моему, мы у цели, — мягко сказал он. — Там, напротив, большая вывеска — «Новембер».
Марта очнулась и ринулась вперед.
— Давайте скорее, — закричала она. — Четыре сотни все ж таки лучше, чем ничего… Чего бы вы хотели?
— Вы в этом больше понимаете… Сделайте любезность, займитесь вместо меня…
Бедная женщина. Пусть порадуется.
Это еще не Италия. Пока можно себе позволить. По крайней мере у друзей не будет повода насмехаться.
— Просыпайтесь, приятель. — Марта, кряхтя, поднялась и задвинула кожаное сиденье. — Вставай, проклятьем заклейменный… Пять часов утра! Подъезжаем к Тарвисио…
Петер пробурчал что-то нечленораздельное. Ломило спину, ныло плечо.
— Ну ладно, бог с вами, подремлите еще чуток, мне не жалко. Положите ноги сюда, на мое место… Вытягивайте спокойненько, я выйду проветрюсь.
Дверь захлопнулась. Петер открыл глаза. В купе никого не было.
Он сел, нашарил галстук. Стянул серый женский пуловер. Марта заставила надеть, около полуночи, когда потянуло холодом с гор. У него, разумеется, есть свой свитер, где-то в чемодане. Да вот только чемодан не откроешь. Рубашки и поролоновая куртка переполнили его до отказа.
Сколько там осталось? Шесть шиллингов — трамвай на обратном пути. И все. Кому нужна эта несчастная куртка? Правда, она теплая и цвет приятный, пепельно-серый.
Петер закурил. Вытянул ноги. Выпустил дым в окно. Мимо проплывали горы и холмы. Очертания были размыты, все тонуло в сиреневом тумане.
Голова гудела. Дома, на кушетке, куда как удобнее. Большие белые подушки, шелковистая на ощупь перина.
Что правда, то правда. Если бы не эта женщина, торчать бы ему всю ночь в коридоре, на краешке чемодана. Кто бы мог подумать, что международный поезд так переполнен!
В девять они уже были на перроне. Он сразу же сказал Марте, что чрезвычайно ей признателен, но теперь сядет в отдельное купе, так, мол, удобнее… Прозвучало довольно неуклюже. Женщина хмуро подтянула к себе чемоданы. Когда подали поезд, они разошлись в разные стороны, еле попрощавшись.
Если б не эти паршивые таблички над сиденьями!.. — «Только по билетам». Кругом австрийцы, все едут на какой-то курорт возле итальянской границы. Перед тремя свободными вагонами столпилось человек двести, не меньше. Поляки, югославы и, само собой разумеется, венгры.
Петера оттеснили на перрон, к туалету. Тут-то он и услышал резкий голос: «Господин Сомбати… товарищ Сомбати… ау…»
Вместе с нею он прошел во второй вагон. Противостоять было невозможно. Больше того, он обрадовался. Далеко не безразлично, в каком виде прибыть в Венецию.
Удивительная все-таки баба. Взяла и убрала две таблички с номерами. И все с хохотком: «Пусть попробуют доказать, что это плацкарта… Могут толковать сколько влезет, моя твоя не понимай».
Разумеется, явился проводник. Разворчался. Марта наорала на него по-венгерски. В конце концов двое австрийцев обратились в бегство. Это были молодые парни. Марта похлопала их по спинам в знак признательности. Петер все это время сидел, забившись в угол и закрыв глаза. Потом убрались и остальные попутчики. Это было около двух часов, а до двух они без умолку горланили немецкие песни.
Сиденья тоже разложила она, соорудив некое подобие кровати.
В Венеции они будут около одиннадцати. Он выйдет, она поедет дальше. В общем, ничего плохого не было в этой встрече. Даже полезно.
В Венеции она ему не понадобится. Дорога — другое, дорога — это утомительно. Боже, какое счастье — попасть в Италию взрослым, разумным человеком!
Когда ему было двадцать три, его отправили на год в командировку в Союз. До сих пор обидно, что тогда он был совершенным щенком. Время текло сквозь пальцы, а он мирно прозябал, изумляясь всему понемногу — ни дать ни взять корова на летнем лугу…
Теперь — совсем другое дело. Теперь все будет по-настоящему!
Петер выбросил окурок в окно. Сосало под ложечкой. Поужинать накануне не пришлось. Если бы кофе! Хорошего, крепкого кофе!
Марта заглянула в дверь, потом вошла.
— Как спалось? Кофейку не желаете?
— Не дразнитесь, а то укушу.
— Охота была дразниться! Вы повыше, снимите-ка вон ту сумку! Давайте, давайте!..
Петер достал сумку. Оттуда выглядывал термос. Марта удовлетворенно прищелкнула языком. Отвинтила крышку. Понюхала.
— Обалдеть! Даже не остыл… Давайте вы первый. Сахар там есть…
Мужчина с наслаждением отхлебнул. Отличная мысль! Как ему не пришло в голову?
— Вы что припасли на дорогу? — поинтересовалась Марта, протирая крышку термоса салфеткой.
— Консервы… несколько банок, салями, еще какую-то колбасу, — принялся перечислять Петер. — Откуда мне знать, что может понадобиться в таком путешествии…
— Тоже мне наука! И этим вы думаете питаться две недели?
— В качестве дополнения… говорят, у итальянцев вполне сносная кухня.
— Ну да, очень даже сносная! Только не для нашего кармана. Приличный обед — примерно две тысячи лир. Посчитайте-ка! Проедите все деньги за десять дней. А как насчет платы за жилье?
— О господи, — разозлился Петер, — будет вам каркать, Мартушка… Все время деньги да деньги… разберусь как-нибудь…
— Помянете меня, как останетесь без гроша… Хоть бы спиртовку догадались захватить. Как по-вашему, отчего у меня чемоданы не в подъем? — Марта застелила свободное сиденье салфеткой и открыла две баночки паштета.
— Золото небось контрабандой везете, — пошутил Петер.
— Золото!!! Гуляш, тушеные легкие с кислой подливкой, фаршированный перец, уха, говяжье жаркое — все консервы, которые можно разогреть… Да еще картошка и лук.
Она сунула Петеру кусок хлеба, густо намазанный паштетом и украшенный сверху паприкой.
— Ешьте, а то нехорошо — кофе на голодный желудок!
— Картошку? — переспросил Петер и безудержно расхохотался. — В Рим — картошку и лук? — Он поперхнулся и закашлялся.
— Смотрите не задохнитесь! — Марта не выдержала и тоже рассмеялась. Зубы у нее были красивые, белые.
— Картошку в Италию… ой, не могу!..
Женщина внезапно нахмурилась.
— Ну и будет. Венеция уже скоро, так что недолго вам терпеть мои пролетарские замашки.
— Марта… мне это очень нравится!.. — весело сказал Петер и потянулся к Мартиной руке.
— Вам-то что, вам можно… Делаете все что вздумается… Вы сюда отдыхать приехали, развлекаться. А я пять тысяч форинтов выбросить не могу. Дети с самого Рождества слышат: нету, ничего нету, вот погодите, съезжу в Италию… Вы сами себе хозяин. А я одна тащу всю семью.
— Ну да, конечно же, вы правы, — успокаивал ее Петер, — что же мне уж и посмеяться нельзя?
— Почему нельзя? Смейтесь себе на здоровье. Думаете, меня для такой жизни растили? У меня, если хотите знать, аттестат есть! — Марта выдержала многозначительную паузу. — В Софиануме училась, не где-нибудь! Понятно, надеюсь, что это такое? Монахини и фортепьяно… А вышло так — и ничего не попишешь! Мужа моего в метро задавило… Восемьсот шестьдесят форинтов в месяц, инвалидность — семьдесят пять процентов. Прибавьте троих детишек-школьников, а потом уж говорите: деньги, мол, одни на уме.
— Вы очень славный и умный человечек, — успокаивал Петер. — Я совсем не хотел вас обидеть. Обстоятельства вас прямо-таки обязывают…
— Тащить картошку в Италию… не беспокойтесь, это я и без вас знаю. Но поглядеть кой-чего мне тоже охота… чего-нибудь… Я же не варвар все-таки…
Марта вытащила зеркало и спустила прядку на лоб.
Петер тем временем предался размышлениям о собственной жизни. Холостяцкая квартира. Книги. Полки от пола до самого потолка. Слева большая картина, написанная маслом. Купил в рассрочку перед отъездом. И никто не потребует отчета. В крайнем случае, если придется, посидит на хлебе с маслом. Тетушка Кати стирает, гладит, прибирает — словом, делает все, что нужно. Обед — в заводской столовой, а по воскресеньям — в «Бороштяне». Ужин приносит дворничиха. С одеждой у него не слишком. Но это его мало волнует. Внешние детали перестали его занимать лет этак в двадцать.
А тут — пятеро на каждый кусок! Это же ад кромешный, а не жизнь. Сколько можно заработать в такой вот распивочной?
— Счастье, что у вас такие сильные плечи… что в вас столько энергии… — Петер старался говорить как можно мягче.
— Поглядели б на мои старые фото — нипочем бы не поверили, что это я. — Голос у Марты сел. — В пятьдесят третьем я работала в кассе… парфюмерный магазин, в самом центре… Весила шестьдесят один килограмм, притом в зимнем пальто. Волосы длинные, черные, вот досюда…
— А как вы попали в… на нынешнее место? — осторожно поинтересовался Петер.
— Был один такой, в управлении работал, он и устроил, когда Агоша, мужа моего, изувечило. Все думали, от меня через месяц мокрое место останется. Да не тут-то было. Жить-то надо. Зачем — не знаю, но надо… так положено!
— А муж ваш… он ничего не может?
— Ничего. И того, о чем вы подумали, тоже… — грубо ответила Марта.
— Я имел в виду работу… — смущенно буркнул Петер.
— Работа? Смеетесь, что ли! Руки-ноги у него трясутся, словно на ниточках… Даже есть сам не может. Сейчас его моя старшенькая кормит… Одним словом, плохую вы подцепили попутчицу.
— Простите, мне казалось, это не я, а вы…
— Ах да, ну конечно… Из-за этого несчастного такси. Ничего, скоро отделаетесь. Тогда уж намечтаетесь в свое удовольствие.
— Что вы, Марта! Я бесконечно благодарен вам за помощь. — Петер старался говорить как можно убедительнее. Какой смысл ее обижать? И нужна-то ей самая малость — капля сочувствия. — Без вас я нипочем не нашел бы места… а я даже не поблагодарил вас как следует… Свинья, да и только… — продолжая великодушничать, он склонился и поцеловал ей руку. — Мир?
Марта зарделась и старательно натянула юбку на колени.
— Я ведь тоже красоту люблю, — тихо сказала она. — И романтику всякую понимаю… Знаете, какие на границе горы! Говорят, очень величественные!
— В Риме непременно посмотрите раскопки… и ватиканскую картинную галерею… это недорого, — горячо заговорил Петер. — И не подумайте, что я собираюсь глазеть по сторонам и сорить деньгами… Этого в двух словах не объяснишь. За свою жизнь я столько планов понастроил — хоть собрание сочинений составляй, и никогда ничего не выходило. Был юристом, потом надоело. Мне, понимаете ли, всегда хотелось видеть, что стоит за словами… Не умею я довольствоваться предписаниями, мне нужно самому убедиться, своими глазами…
«Ну вот, — мелькнуло в голове, — только исповеди не хватало. И кому — славной, но глупой бабе!»
— Ну да, — Марта широко раскрыла глаза, — ну да, всяко бывает…
— Я не рассчитываю, что вы поймете… просто к слову пришлось. Мне скоро сорок. Я шесть раз менял работу, а должности все были солидные, это факт. Уходил всегда сам, такого не было, чтоб меня попросили. Каких только премий не получал… Сидит во мне какое-то беспокойство, а ведь я уже не тинейджер.
— Нет, — пробормотала Марта, рассеянно кивая. — Вы не тинейджер.
— А жизнь проходит! Один мой приятель в тридцать шесть свалился со стула — и каюк…
— Как Жерар Филипп…
— Вот я и хочу по крайней мере знать, что к чему. Хочу понять, что все это значило? Неужели это так уж много?
— Вы небось изобретатель какой-нибудь или писатель? Муж мой вот тоже когда-то… — вяло улыбнулась Марта. Ее разморило. Негромкая ровная речь действовала на нее усыпляюще: в распивочной она привыкла к постоянному крику.
— Я самый что ни на есть заурядный человек! Самый заурядный мужчина, если угодно. Многие думают, что быть посредственностью обидно. А между тем именно перед посредственностью стоят самые большие задачи… Знаете, чем станет когда-нибудь посредственность? — захлебываясь, продолжал Петер. Эта женщина умеет слушать интеллигентно. Поразительно.
— Нет.
— Прежде всего, заурядные люди — самые сознательные… они действуют и знают, во имя чего… Работать-то мы и теперь любим, но частенько не видим ни смысла, ни цели… Человек должен смотреть на мир осмысленно! Осмысленно! А не таращиться абы как! Италия для меня — что море для пловца. Нужно много думать, чтоб хорошенько врезалось в память, а потом все использовать… Две недели, полные смысла! Я, конечно, останусь самим собой — и все-таки не совсем… Ведь это, может статься, последний шанс… Это я просто так говорю, себе в оправдание… Я вам, должно быть, дурачком кажусь. Мы, мужчины, как-то иначе…
Голова Марты свесилась на грудь. Тонкие волоски над верхней губой ритмично подрагивали.
Петер встал.
«Еще слава богу, что она заснула, — подумал он, выглядывая в окно. — Большая удача. К чему вся эта болтовня? Пускай себе едет в Рим и покупает свое барахло, а я обойдусь консервами. Без горячего, так без горячего. Несущественно. Вот только консервного ножа нету… И кофеварка бы не помешала, что и говорить…»
Марта спала. В Тарвисио ее разбудил паспортный контроль, но потом она снова заснула и проспала Удине, Болонью…
Петер смотрел на горы. Хотел сфотографировать, но поленился доставать аппарат.
Зловещие, неуклюжие белые глыбы. Расцарапали небо.
Ему стало не по себе. Если сейчас вдруг даст о себе знать камень в почке, он даже не сможет объяснить, что с ним. Дома совсем другое дело. Дома можно сойти на любой станции и пойти домой.
В самом деле, готов ли он к этому путешествию? Хватит ли ему денег? Что за адрес? Петер судорожно ловил ртом воздух.
По возможности не обращать внимания на мелочи — так он решил еще дома, как только попросил заграничный паспорт.
В Болонье подсели итальянцы — супружеская пара. Дама время от времени бряцала длинной золотой цепью, висевшей на шее.
Марта проснулась перед самой Венецией.
— Я что, заснула? — спросила она полусонно.
— И весьма основательно. Поглядите в окно — увидите море.
Марта зевнула.
— Серое какое-то. И солнца не видать.
— Еще появится… Мне нужно собираться. Я помяну вас, когда у меня подведет живот, а вы тем временем будете лихо разжигать спиртовку.
— Нитки, иголка есть у вас? — внезапно спросила Марта. Вопрос прозвучал агрессивно.
— Нитки, иголка? Нету.
— А если что-нибудь порвется? Что делать будете? Итальянского вы не знаете… Слушайте внимательно: prego, синьора, io oglio.
— Я говорю по-английски, — перебил ее Петер, — как-нибудь разберусь… Разумеется, с ангелом-хранителем проще.
— До Рима еще целых двенадцать часов… спина разболелась… — Марта подняла глаза на багажную полку.
— Да, путь не близкий… ничего не попишешь.
— Да ну его к черту. — Марта пнула ногой радиатор. — Блевать тянет. Одни дураки итальяшки кругом.
— Никак, испугались? А вы вспомните своих пьянчужек… — Петер поспешно снимал чемоданы.
Марта согнула руку в локте.
— Мускулатура-то у меня — дай бог… Гляньте, какие бицепсы… Уж если врежу какому наглецу — век помнить будет.
— Бедные мои денежки, кто теперь будет следить за ними бдительным оком?
— Надо же: не взять ни иголки, ни ниток! С ума сойти! Хоть бы венгр какой вошел в этот чертов вагон… Не выдержу я до Рима. Одна-одинешенька… — Марта выхватила из кармана платок и протерла ладони. — Сдохнуть можно…
— Ничего… как-нибудь… — неуверенно проговорил Петер.
— Как-нибудь обойдется, — кивнула женщина. Губы у нее скривились, как у обиженного младенца, лицо стало совсем беспомощным.
— Знаете, хорошо, когда есть с кем словом перемолвиться… Я все сама могу, никого мне не надо. Не в том дело. Венецию-то зачем пропускать? Пару денечков… очень даже стоит… Рынок дешевый… Да ведь если я слезу, вы себе такого напридумываете, уж я-то вас, мужиков, знаю…
— Ну что вы, — запротестовал Петер.
Поезд двигался над водой и свистел, замедляя ход. Нельзя же вот так взять и уйти.
— Если вам хочется, почему бы и нет? Меня вы, во всяком случае, не…
— И то правда. — Марта вскочила и рванула чемоданы. Они шлепнулись на сиденье. — Не пугайтесь, я вам на шею не сяду. Погляжу, чего да как, — и айда. Буду вас кофе поить, спиртовку одолжу… с покупками помогу, если захотите.
Поезд вползал под стеклянную крышу перрона.
— Я собираюсь бродить целыми днями… кое-какие заметки… — робко пролепетал Петер.
Дорогу придется спрашивать по-итальянски. Марта сумеет.
— Мне не хотелось бы вас обидеть, но ведь всякий сам знает…
— Ясное дело, — сказала Марта, — мы же не сиамские близнецы. Будете свободны, как птичка!
— Отдал… отдал-таки за тысячу восемьсот, мошенник! Не зря полчаса потратили! Совсем новенький, не заношенный. Наденьте-ка, а я погляжу! — Марта торжествующе потрясала жилетом.
— Только не здесь, — смущенно запротестовал Петер, — да и жарко к тому же…
— Другими словами: тащи сама, а мне неохота… Ну не дура ли я после этого?
— Сколько мне еще повторять, что я чрезвычайно вам благодарен? — раздраженно буркнул Петер. Третий день одно и то же. Рынок с раннего утра и до заката. У кого после этого хватит сил на вечернюю прогулку?
У кого? У Марты. Вчера подцепила какого-то простофилю итальянца, заставила угостить себя ужином, а потом оставила с носом. «Вот чудак». Что ж, можно и так сказать.
— Я уж вижу, мы нынче не в настроении. А ведь пока что все идет отлично. Помните тот шарфик болотного цвета, ну, тот, что утром видали? Надо бы за ним вернуться. Хорошенький шарфик, да и дешевый — дешевле не попадалось.
— Марта, дорогая! Возвращайтесь! У меня ноги гудят от этого бессмысленного шатания… Я пойду домой, отдохну, а вечером доберусь наконец до площади Святого Марка.
— А кто вам до сих пор-то мешал? Мы вроде еще в поезде сговорились: каждый сам по себе. И нечего меня упрекать… Будто я виновата, что вы выдыхаетесь в два счета, — быстро заговорила Марта, размахивая руками. — Помогли бы лучше, а то нашли себе тягловую лошадь… Вот он, терилен ваш, три метра. Вам небось такой и не снился, и все удовольствие — три тыщи лир.
— Не так громко, ради бога… Вдруг кто-нибудь поймет. К чему такое унижение?
— А чтоб не лезли! Мы и так унижены — дальше некуда! Только скажешь: «Унгерия», сразу носы воротят.
— Ничего удивительного… помните, вчера, на рынке, вы сцепились с торговцем из-за каких-то паршивых ботинок? Со мной рядом стоял хорошо одетый мужчина, так вот, он указал на вас своему приятелю и произнес: pure Italia! Настолько моих знаний хватает! Бедная Италия! — с горечью сказал Петер, забирая у Марты покупки.
— Бедная Италия? Да они же кормятся за наш счет! Всю эту Венецию давно бы морем затопило, кабы не паршивые иностранцы, что скупают их барахло, — выкрикнула Марта и принялась, сопя, штурмовать ступени моста Риальто.
— С чего это вас понесло на мост? — Петер грубо дернул ее за руку. — Опять заблудиться хотите? Утром мало было? Нужно пересечь эту улочку… с покупками я на сегодня покончил, поймите же наконец. Меня уже тошнит от бесконечных пестрых прилавков.
— А меня от каналов… Вода здесь какая-то тухлая, — в ожесточении заявила Марта. — По-моему, вот он, поворот. Хотя вы ведь мужчина, вам лучше знать… Об одном жалею: нечего было квартиру дешевую вам искать. Платили бы себе по две тыщи в день…
— По-моему, я еще в Вене сообщил вам, что деньги меня мало интересуют.
Они свернули в узкий переулок и пошли вперед, отбрасывая с дороги скользкую апельсиновую кожуру.
— Совсем неплохое было место. Рядом с площадью Святого Марка. Зато теперь мы рядом с рыбным базаром. Чудный вид открывается из окна — рыба при последнем издыхании. Пауки да раки куда ни глянь…
— Все вы одним миром мазаны… — Марта наугад повернула направо. — Эту вывеску мы как будто уже видали. Значит, правильно идем… Одним миром. Насчет красоты все поговорить горазды, а коли надо пальцем пошевелить — так нет, мы лучше поспим. Я на площадь Святого Марка еще позавчера сходила. Мне-то почему сил хватает?
— Вам-то? Да вы же машина… колосс, — грубо ответил Петер. — Мы снова не туда идем! Смотрите по сторонам!
— Да ведь это подло, в конце-то концов! — Марта остановилась, с трудом переводя дух. — Я ему жратву разогреваю, рубашку нейлоновую постирала, я — то, я — се, а он что себе позволяет! У меня, между прочим, билет в кармане, от Неаполя до Капри! А я торчу тут по вашей милости… Все жалость проклятая!
— По моей милости? — Петер сделал несколько шагов, пытаясь сориентироваться, потом вернулся обратно. — Я, что ли, просил вас оставаться в Венеции? Сами же побоялись путешествовать в одиночестве.
— Я побоялась? — Марта саркастически расхохоталась и уселась на каменный выступ. — Машина… колосс… чего мне бояться?
— Тем хуже… если вы действительно такой герой. Все-то вы можете, все-то вы умеете, а вот одной побыть — это вам не по силам… Душевное одиночество называется. Штука известная. Только не идет вам это, Марта. Прямо-таки смешно, как на вас поглядишь…
Марта не отрываясь смотрела на гигантский бумажный самолет, выставленный в витрине напротив. Рядом с самолетом красовался яркий плакат: стройная девица в костюме цвета спелой сливы с пышными белокурыми волосами.
— Чего вы встали? Шли бы себе, — произнесла Марта. — Вы уже все сказали. Кожа у меня толстая… Идите домой. Я уеду поездом восемь двадцать… К утру буду уже в Риме. Я ведь все понимаю…
Петер беспомощно топтался на месте. Прохожих не видать. В какую сторону идти? И рубашка сохнет там, у Марты. Еды почти не осталось. На ресторан теперь уже не хватит, после стольких покупок. Хорошо, если хватит на Академию… а еще Ка д’Оро… Дворец Дожа… Тихие вечерние прогулки… лагуны…
Марта плакала, вытирая слезы рукавом.
— Добра от людей не жди.
Петер подошел к ней и потянул за руку.
— Ладно, Мартушка… жара, мы разнервничались… Климат такой… Не горячитесь. Разумеется, вы поедете в Рим, только не сейчас… послезавтра, когда я поеду во Флоренцию. Ну скажите же наконец, куда идти?
Марта продолжала укоризненно всхлипывать.
— Помидоров на ужин купила… мелкие… крепенькие… так небось и хрустят.
— Ну и прекрасно. Ой, как есть хочется! Ну-ну, хватит злиться… я совсем не хотел вас обидеть. Очень уж вы чувствительны. Просто мне хочется наконец хоть что-нибудь увидеть, только и всего… Время летит незаметно, а я все еще не видел ничего из того, ради чего приехал, — уныло пояснил Петер. — Скоро восемь… Давайте наконец сдвинемся с места.
— Знаете что? — внезапно сказала Марта. — Видите указатель? Это проход к пристани.
— У нас нет денег на такие вещи! Сами говорили! — съехидничал Петер. — Только con pedi[8], пока не рухнем!
— Черт с ним. Сделаем исключение. Я плачу! Мы не пойдем домой, мы сядем на вапоретто и поедем на площадь Святого Марка. Уже холодает. На Большом канале вот-вот огни зажгутся… нет, правда! Это я в путеводителе вычитала. Увидите, какая красота! Ну, пожалуйста, ради меня… чтоб я не думала, что вы все еще дуетесь…
Петер покачал головой.
— А сумки?
— Я понесу. Я уже отдохнула. Мне ведь самой тоже хочется, будет хоть, о чем вспомнить. Двух сотен должно хватить… Послезавтра мне так или иначе уезжать, а то выбьюсь из графика.
Женщина решительно двинулась в направлении, указанном стрелкой.
Петер поплелся следом. Терпение! Есть такие нормы, которых не переступишь.
На вапоретто они вышли на палубу.
Стемнело. Окна дворцов были распахнуты, свет хрустальных люстр падал на воду. На берегу мерцали зеленые, красные, лиловые огни ресторанов.
— Красота-то какая, фантастика, да и только! — вздохнула Марта. — Ваша правда. Никаких денег не жалко.
Навстречу двигалась вереница гондол. Вскоре они поравнялись с вапоретто. Впереди — гондола-флагман, увитая гирляндами цветов. Гондольер громко распевал. Голову его украшала белая соломенная шляпа, длинные яркие ленты развевались по ветру. Черная вода мерно билась о борт.
— Потрясающе… видите, вот вы и получили то, чего хотели.
Гондольер поплевал на ладони и взялся за весла.
Петера пробрала дрожь. Он поднял воротник. Снова бутафория. Снова все на продажу.
Это, пожалуй, еще похуже, чем на рынке. Потому что тут ложь.
И вот, чтобы хоть как-то вынести невыносимое, он протянул руку и нащупал вздымавшуюся над поручнем грудь.
Они стояли среди каменных изваяний перед входом в галерею Уффици. Последний лоток остался позади.
— Прошу вас, сударь, дорога свободна, — сказала Марта. — Ты не опоздал. На все времени хватило, и нечего было меня погонять. Любуйся хоть целый час. Потом упакуемся и спокойненько пойдем на вокзал.
— Целый час! Глупость непроходимая! Час — в галерее Уффици! — Петер рухнул на резную деревянную скамью у ворот.
— Я, что ли, виновата, что вчера закрыто было?
— А позавчера? Позавчера мы впопыхах разыскивали Упимо. А после обеда ты истерически рыдала над пуловером, купленным в Венеции, потому что во Флоренции он оказался на двести лир дешевле.
— И толще! Вязка куда плотнее! Я полдня за тобой таскалась, чем же ты еще недоволен? Мало того: деньги в какое-то озерцо швыряли — там, во дворце Питти. Сколько лестниц в саду Боболи облазили без толку, до сих пор ноги болят… И сегодня из-за тебя припозднились, нечего было торчать да пялиться на каждом углу.
— О, если бы спохватиться чуть раньше! — громко воскликнул Петер. — Последний день! Доброта моя проклятая… теперь все пропало… смысла нет заходить. Все одно.
— Не знаю, с чего ты взбесился, — прошипела Марта, усаживаясь рядом с Петером. — Не кричи так, на нас оглядываются.
— С каких пор тебя это волнует? С каких пор тебе есть до кого-то дело? Раньше словом нельзя было ни с кем перемолвиться: ты тут же оттаскивала!
— Не пойму я… Разве нам в Венеции плохо было? Даже вино пили, когда тебе захотелось, да в каком шикарном месте, на площади Святого Марка! Тыщу двести выложили, а я не жалела… Музыка играла… и на Пьяцетте тоже… Помнишь?
— Когда мне захотелось! Стоило ехать за тысячу километров, чтоб отведать красного вина.
Петер взглянул на часы. Все-таки надо зайти.
— До сих пор ты злился, что я по рынкам шатаюсь… И на башню лазили, в двести лир обошлось… Лазили ведь. Сам говорил, чудесно, мол, какие, мы, мол, в сущности, букашки…
— Оставим это, — вздохнул Петер. — Нечего тут говорить. Теперь уж ничего не попишешь. У меня еще есть двести пятьдесят лир… загляну все-таки… а то дома самому себе в глаза смотреть не смогу.
— Ну и не смотри… На тебя не угодишь. Я тебя не попрекаю, но ведь тур-то мой из-за тебя прогорел… Ни тебе Рима, ни Неаполя. И на Капри билет просрочен… Совсем итальянской природы не повидала.
— Да кто ж тебя держал? — огрызнулся Петер и шагнул через порог. Марта за ним.
— И ты еще спрашиваешь? — Веки у нее покраснели. — Да я б давным-давно уехала, кабы ты не начал… тогда, на корабле…
— Сучка не захочет… — Петер пожал плечами и встал в очередь за билетом. Марта — за ним, вплотную. — Ты сама была очень не прочь. Муж-то у тебя калека, ничего не может.
— Очень любезно, нечего сказать, — прошипела ему в ухо Марта. — Я, выходит, поблагодарить должна?
— Нет! Только не пытайся все свалить на меня! Десять дней я проболтался в Венеции без всякого смысла… Голуби, Лидо, жара…
— Вот деньги, купи мне тоже! Ты думал, я снаружи останусь? Я тоже красивые картины люблю… и нечего тут смеяться! И в море ты купался, да не где-нибудь, а на самом что ни на есть модном пляже!
— Ну да, — сказал Петер. Тем временем они вошли в лифт. — Это тоже была твоя идея. А я все время трясся: вот-вот билет спросят.
— Будто я виновата, что мы — белые вороны… Меня саму зло берет на весь этот шик да богатство… Одни машины чего стоят! В барах сиденья подвесные… мятный напиток в шариках стеклянных… со льдом…
— Знаю… не утруждай себя. Кондиционеры, двухэтажные автобусы… Такие, как ты, ничего другого не видят!
— А ты-то, ты-то что видишь? — злобно поинтересовалась Марта. Они вышли из лифта и остановились у входа в огромную галерею.
— И я ничего другого не видел… не вышло, — с горечью ответил Петер. — Я-то думал, хоть во Флоренции, пусть не один, но по крайней мере спокойно… Подумать, открыть пошире глаза. Кто я такой? Кто такие те, кто живет рядом со мною? — Он уставился на белую статую, на гладкое тысячелетнее лицо.
— Какой-то ты все-таки ненормальный, — заключила Марта. — Экзальтированный какой-то… Делать тебе нечего, вот и психуешь. Мы так и будем здесь стоять?
— Боже мой, до чего же женщины глупы! — воскликнул Петер, размахивая руками. — У духа тоже есть свои законы, у духовного бытия… особые законы, вот их-то я и хотел…
— Духи? Ну как же, понимаю и не делай большие глаза. Это что, обязательно здесь надо? Дома времени не хватает?
— Это возможно только здесь, и нигде больше, — вскричал Петер, срываясь с места.
— Да про что ты ладишь все время, никак не пойму? Чего тебе надо познать? Гниющий капитализм? — Марта в недоумении покачала головой. — Так ведь мы и забастовку видали, если это твой интерес. Мог бы и сам знать: сливки они только сверху…
— Чушь! — Петер остановился перед входом в первый зал. Старые итальянские мастера. — Идиотское, бессмысленное путешествие!..
— Это для кого как, — упрямо сказала Марта. — Сливки, они только сверху, но если успеть их снять, то кому какое дело, что там, на донышке? Это ведь тоже философия, приятель, хоть и попроще да попонятней твоей…
— Правильно, — уныло пробормотал Петер. — Теперь уже все равно.
— И потом, — победоносно продолжала Марта, прислонившись к колонне, — без меня ты так или иначе не смог бы пальцем пошевелить… Всякие там духовности… в облаках витать — это пожалуйста, но тут…
— Все верно, — сказал Петер и отпихнул Марту. — Довольно. У меня осталось полчаса. Заткнись, сделай милость.
Они вошли в зал. Петер отыскал путеводитель и принялся нервно перелистывать страницы. На каталог не осталось денег.
— Заткнуться… — сдавленно прошептала Марта. — А по какому праву ты вообще-то мне тыкаешь? Только потому, что пару раз… У меня, между прочим, семья, младшая дочка — отличница… С ног сбиваюсь, чтоб они ни в чем нужды не знали… Я бы, может, тоже не прочь в гондоле покататься да на пляже поваляться… и собой бы занялась…
— Тебе ведь ничего больше не надо, правда? Предел мечтаний! Убогая программа. — Петер лихорадочно перелистывал страницы, слюнявя время от времени палец. — Этот раздел пропущен? Ну и черт с ним, все равно невозможно на бегу, в последнюю минуту…
Марта примолкла.
Они обошли зал. Петер рассматривал картины вблизи, потом отходил подальше. Марта повторяла все его движения, подобно тени.
— Это все не то, не то… — бормотал Петер. — Сейчас будут Боттичелли, Тициан…
Они переходили из зала в зал. В четвертом зале Марта сжала виски руками.
— В глазах темно… сейчас в обморок упаду. Святые, святые, все с нимбами, рожи каменные… Зачем притворяться?
— Обождите снаружи, — грубо рявкнул Петер. — Вы…
И с презрением махнул на нее рукой.
Женщина вздрогнула и быстрым шагом пошла прочь. «Вы» — вот что обидело ее сильнее всего. Выходит, она ему чужая, хоть они и спали вместе!
Петер посмотрел ей вслед. Он увидел ее в точности такой, как в самый первый день, в Вене. Вульгарное создание. Какая непоправимая глупость! В Пеште он бы на такую и внимания не обратил… так надо же именно здесь, с такой вот…
Он огляделся в тоске.
Что? Как? Осталось двадцать минут. На поезд опаздывать нельзя. Он и так уже дотянул до последнего. Виза только до завтра…
Его потянуло к какой-то странной картине. Он подошел поближе и прочитал: Альтдорфер… «Мученичество святого Флориана».
Лицо у святого Флориана оказалось тупым и начисто лишенным выражения. Зато эти, вокруг, разбойники, или как их там… как они наслаждаются муками своей жертвы, прежде чем бросить ее в воду с камнем на шее… божественно! Сплошное злорадство, веселье, так и слышишь шуточки: «Славная будет банька, старик…»
И тут же — сам святой Флориан с плоской, скучной рожей.
Почему такое возможно?
«Ну пошли, святой Флориан… — иронически улыбнулся Петер, понукая самого себя. — Ничего в тебе интересного…»
Паршивая бабенка, все из-за нее.
Один зал он ненароком проскочил и не стал возвращаться. Все равно система нарушилась. Боттичелли нужно будет найти под самый конец.
В полумраке небольшого зала висели рядом две маленькие картины. Посетители не обращали на них особого внимания.
Служителю стало жарко. Он подошел к окну и распахнул его настежь. На картины упали солнечные лучи.
Петер машинально проследил за ними взглядом и подошел поближе.
«Несение креста». Серо-зеленые, почти размытые фигуры, похожие на тени. На вершине горы и в долине, с крестами на спинах. Сложенные в кучу кресты. Поднятые кресты. Поваленные кресты. В небе и на земле, куда ни глянь.
Снова «Несение креста». Резкие, яркие краски — и все то же страдание. Стучит молоток. Работа спорится, срочная работа. Из-под человеческих тел выглядывает нежная зелень травы.
Минут десять Петер простоял у окна, не отводя глаз от картин. У этой женщины трое детей. Жизнь ее проходит среди пьяниц, в винном чаду. Муж лежит в постели и трясется. Трясется весь, с головы до ног.
Сейчас она сидит на скамье под аркадами. Потирает толстую коленку. Ждет, ругается. Плачет.
Раньше надо было, в самом начале… Пока он ничего о ней не знал.
Петер сунул путеводитель в карман. Ему больше не хотелось увидеть Боттичелли. Ему хотелось утешить Марту.
Это еще имело какой-то смысл. Все остальное так или иначе пропало, пропали драгоценные две недели, пошли псу под хвост.
Вена осталась позади. Близился Хедешхалом. Ночь в итальянском поезде прошла ужасно. Они попали в одно купе с многодетным семейством. Дети беспрерывно просились писать. Петеру и Марте так и не удалось сомкнуть глаз.
Здесь им повезло куда больше. В купе не было никого, кроме деревенской старушки, сидевшей у окна и бдительно охранявшей свои чемоданы.
— Кто на вас посмотрит, подумает — лимон съели, — проворчала Марта, — и давайте больше не «тыкать»… кто его знает…
— Спать хочется, — терпеливо улыбнулся Петер. — Все в порядке. Поверьте. Просто ужасно хочется спать. Все как будто в тумане.
— Ладно, ладно. Злитесь на меня, вот и все дела… Не спорьте. Я у вас козел отпущения.
— Я же еще вчера вам сказал: вы здесь ни при чем… просто так вышло.
— Вышло, еще бы не вышло. Понастроили воздушных замков, сами толком не знали, чего вам надо, а потом разочарованного изображаете…
— Верно, — кивнул Петер. — Но к чему все это?.. Ведь мы уже у самой границы.
— Две недели только и пыталась слово разумное из вас вытянуть… все понять хотела, как вести себя. Неужто нельзя было по-человечески сказать? Так ведь нет, ни в какую… Об заклад бьюсь, вы и теперь не знаете, чего вам не так… кукситесь больше для порядку.
— Да нет же, Марта, милая Марта, вовсе я не зол и не раздражен, — уныло возразил Петер. — Просто устал очень.
— Устали? — рассмеялась женщина. Глаза ее воинственно сверкали. — С чего это вам уставать? Вы же за все время пальцем не шевельнули… Недовольны просто. Вот и все дела. Испортила вам удовольствие, так ведь?
— Хватит. Ну пожалуйста, Марта. Довольно. Несколько часов, и все…
— У меня и в мыслях не было дома с вами встречаться… и телефон мой выбросьте лучше. Никого вы не любите, кроме себя.
— Подумайте о муже, он вас ждет… и дети тоже. Вы же любите своего мужа…
— Черта с два! — Марта без конца открывала и закрывала мусорный ящик. — Кабы любила… это бы еще куда ни шло… Выхода нету! Сидит у меня на шее. Не убивать же.
— Зато сколько вы всего накупили. — Петер продолжал гнуть свое. Глаза у него слипались.
— Ну, я-то знала, зачем еду! — Женщина похлопала его по ляжке. — Мне себя упрекнуть не в чем. Меня первому встречному с толку не сбить… Я, правда, многих красот не видала, чего и говорить… и билет на Капри пропал… Везувия вот не видала, к примеру. Ну и черт с ним со всем… не сидеть же теперь с кислой миной, как некоторые!
— Если б вздремнуть хоть немножечко… — грустно сказал мужчина. — Если б вы позволили…
Марта цинично пожала плечами.
— По мне, хоть… — Она резко отвернулась и достала таможенную квитанцию. Что-то оттуда вычеркнула.
Петер наконец смежил веки.
Главное — не падать духом. Года через три, ну, пускай через пять, он сможет снова получить визу. Можно попробовать еще раз. По-другому.
Правда, ничто не повторяется во времени. Таков закон. Эта возможность утеряна навеки.
Дома надо будет все обдумать, на ясную голову. Где срыв? Как могло случиться, что эти две недели протекли сквозь пальцы без всякого смысла?
Дома… в ванной, отделанной белым кафелем. Горячая вода… хвойный экстракт…
— Спите? — донесся до него голос женщины.
Он сонно захлопал глазами.
— Не сердитесь… я, кажется, малость нагрубила, — продолжала Марта.
Петер вздохнул.
— Не так-то оно легко, из всей этой роскоши снова обратно… Повернуться бы да начать сначала… Верно?
Петер неопределенно мотнул головой.
— Красиво все-таки, что ни говори… помните, колокол ударил, и голуби разом взлетели… Век не забуду. Злишься, дергаешься, а как вспомнишь… Ведь мы там вместе были, в конце-то концов, и воспоминание, значит, общее, правда?
— Ну а как же… — пробормотал Петер.
— А что подкупили кой-чего, так тоже жалеть не надо… Все так делают, и такие, что почище нас с вами… Раскрыли бы пошире глаза да поглядели вокруг себя хоть разочек, — по-матерински ласково сказала Марта.
— Не знаю, сейчас не знаю… смертельно хочется спать… смертельно…
— Ну спите, спите… взрослое дитя! Я буду охранять ваш сон. На вокзале меня встретит Палика, он у меня сильный, прямо на удивление. Если б не они… — Марта махнула рукой. — Ну-ну, баю-бай… Вот ужо дома споем. Только хорошее буду вспоминать…
Петер прикрыл лицо носовым платком.
Дома? Дома надо будет прокрутить все задом наперед, как кинопленку… необходимо найти корень собственной глупости.
Задним числом это несложно. Зверь и тот понимает, что такое ловушка, только надо сперва в нее угодить. Распознать заранее… вот это наука…
Две недели! И всего лишь десять минут перед «Несением креста!» Какая расточительность! Промотать все отмеренное время!
— А как мы экономили, как гроши считали? — говорила Марта, скорее самой себе, чем Петеру. — Мы же не миллионеры какие-нибудь!
Петер задремал. Сквозь сон до него доносилось непрерывное бормотание женщины:
— Вот эти полные чемоданы у вас над головой, они, сударь мой, как-никак ваши… Их никто не отберет.
— На таможне видно будет… — пробормотал Петер. Он проваливался все глубже. Краски мира сливались перед глазами. — А сейчас мне необходимо поспать… спать, спать, до самой границы…
Перевод В. Белоусовой.
УРОК ВЕНГЕРСКОГО
Вчера я проводила урок при открытых окнах. Солнечные лучи проникали в класс до самой кафедры, приятно согревали спину.
А сегодня опять льет дождь. Как зарядил спозаранку, так и лил все утро и пополудни. В школу я потащилась еще более уставшая и отупелая, чем обычно.
Мать на крик кричала всю ночь. Я дала ей три таблетки, а толку чуть. Дети беспокойно ворочались, но так и не проснулись. К крикам и стонам больной они привыкли, как к запугиваниям чужим злым дядькой или старьевщиком.
Пишта приютился в кухне, на ящике для грязного белья, — в зимнем пальто, надетом поверх пижамы. Чашку из-под кофе он не ополоснул, на дне прилип сахар. На плетеных из соломы шлепанцах — дырки от окурков, которые он затаптывал ногой. Нижняя губа брезгливо оттопырена. Понапрасну я окликала его, он не отвечал. Ничего удивительного, так повелось годами. Я крутила газовый кран, регулируя пламя в горелке. Сильнее, слабее — и снова то сильнее, то слабее. Языки пламени вырывались со змеиным шипением.
К четырем утра приступы боли у мамы утихли. Я протерла ей все тело одеколоном. Она попросила апельсинового сока, но пить не стала. Потом поинтересовалась, сдала ли я в чистку ее зеленый костюмчик.
Маме семьдесят пять лет. У нее рак кишечника.
С пяти до семи я спала. В половине восьмого дети ушли в школу. До полудня я занималась уборкой, кое-как сварила обед. В половине первого умылась, подкрасила губы. Повязала голову рваной дождевой косынкой. С трудом втиснулась в переполненный трамвай. Меня прижали к какому-то молодому человеку, я упиралась ему в грудь. Трамвай вез нас, как дрова.
В учительской столовой на обед была котлета с тушеной капустой.
Одна из преподавательниц опаздывала к уроку — у нее новый ухажер. Мы перемывали ей косточки, пока не прозвенел звонок, а потом не спеша потянулись к лестнице. Три минуты до начала протянешь — и то передышка. Мне сказали, что на чулке поползла петля. Я ойкнула, хотя вот уже четвертый день хожу с этой «дорожкой».
Урок у меня был в седьмом «б», то ли грамматика, то ли литература. Хорошо, что ребята знали расписание и даже учебник мне подсунули, чтобы я посмотрела, где мы остановились. При моем появлении класс дружно встал. Дежурный перечислил фамилии отсутствующих. Двое-трое ребятишек пересмеивались, но я не стала их одергивать. Успокоились сами. Секунд двадцать мы молча смотрели друг на друга, я и класс. Потом я вздохнула и сделала знак садиться.
Готовясь начать урок, я встала у среднего ряда и оперлась ладонью о парту. Взгляд мой случайно упал на лицо Кати Ковач — оно было все в синяках. Вызвать бы ее к доске: помнится, у нее плохая отметка и надо исправить. Вместо этого я, скорее из лени, поинтересовалась, где она ухитрилась так разбиться.
Признаться, я даже не рассчитывала на ответ, а Кати Ковач расплакалась. Старший брат колотит ее кулаками, гонит обратно на хутор. «Какой ужас», — сказала я. Близнецы Фаркаш презрительно ухмыльнулись. Разве это ужас? Вот у них в доме четырехлетнего мальчугана ставят на колени с завязанными глазами и бьют плеткой. А вот ее приемный отец никогда не дерется, похвасталась Энике Якаб, он только пьет. Всё пропивает подчистую, поэтому она и ходит зимой в спортивных тапочках.
Ребята заговорили наперебой, каждому было что порассказать. О матери какого-то мальчика, которая умерла от аборта. О тринадцатилетней девочке, которая покончила с собой.
Время от времени я вставляла реплики. Что я могла им сказать? Больше всего мне хотелось сесть вместе с ними за какую-нибудь парту в просторном классе, украшенном государственным гербом. Я видела перед собой маму в розовой кружевной нейлоновой сорочке, исхудавшую до тридцати двух килограммов. В руках у нее щипцы, она завивает волосы.
Я чуть слезу не пустила. И тут поднялся Пали Херберт и сказал, что он уже выбрал себе будущую профессию. Он будет палачом, такое занятие ему по душе.
Мне стало страшно. Хлопнув в ладоши, срывающимся голосом я потребовала тишины. Дети смолкли, выпрямились за партами. Глаза у них погасли.
Я тоже вытянулась в струнку и начала объяснять новый материал. Четко, размеренно, своим обычным тоном.
Составные предложения делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные. Сложносочиненное предложение объединяет две самостоятельные мысли, связанные между собой по содержанию. А сложноподчиненное предложение мы всегда сможем отличить… слушайте внимательно, дети, это очень, очень важно…
Тут я запнулась. Тронула пальцами макушку горбатенького Дюри Хорвата. Очень важно!.. Что именно?
Меня разобрал смех. Дети, удивленно вскинув головы, смотрели на меня, а я никак не могла остановиться. Постепенно мой смех заразил всех.
Уткнувшись лицом в парты, весь класс покатывался со смеху.
Перевод Т. Воронкиной.
ИЗ СБОРНИКА «МЯЧ» (1971)
В КРУГУ СЕМЬИ
— Сегодня уже два раза негров показывали по телевизору! — радостно завопил Пишта. — Уже два раза показывали… Один раз они танцевали, другой раз их били…
— Да замолчи ты! — прикрикнула на него мать. Она тащила Кристи в ванную, а та упиралась.
Арон Ковач хотел было что-то сказать, но промолчал. Домой он приходил усталый и понимал, что словами тут ничего не добьешься, почти ничего. А если он и говорил что, то позднее, когда фиалковым светом загорался ночник, он уже жалел о своих словах. Трудный сегодня был день в министерстве. Во-первых, было очень жарко, а жалюзи сломалось. Во-вторых, дядюшка Вили ни с того ни с сего начал под него копать.
— Пап, — сын толкнул отца в бок, — кино сегодня будем смотреть?
— Нет, не будем, — устало ответил отец. — Вам завтра рано вставать.
— А вот и не рано! — закричал Пишта и принялся носиться по комнате. — У нас завтра после обеда занятия! Можно мы посмотрим «Идут солдаты»?
В ванной раздался дикий вопль. Арон вскочил с кресла, подошел к двери.
— Что у вас там опять?
— Ничего, — голос Ирмы звучал приглушенно. — Мыло в глаза попало.
— Ну можно мы посмотрим? — Пишта дернул отца за полу пиджака.
— Па-ап, па-па… — позвала Кристи, — уже началось?
— Не вертись… Шею не даешь вытереть. Да угомонись ты, а то получишь у меня!
— Фильм не только для взрослых. Про войну. Ух, здорово! — Пишта нетерпеливо замолотил кулачками по диванной подушке.
Нет, дядюшке Вили определенно что-то надо. Разве прежде он решился бы критиковать какие-то его распоряжения… Еще две недели назад он же сам сказал на планерке: «Пока у нас работают такие толковые специалисты, как товарищ Ковач…» — и так далее, в том же духе. А теперь — «проверка была недостаточно тщательной». Что он хотел этим сказать? И вообще, собственно, кто он такой, этот Вильмош Шобер?
— Почему солдат показывают, а войны нет? — Пишта ползал на коленках перед самым телевизором.
В комнату влетела Кристи. С ее волос капала вода. Следом — Ирма с полотенцем.
— Кристи, сейчас же поди сюда! Никаких телевизоров, у тебя голова мокрая!
— А вот и не мокрая! Где мои тапочки?
— Пишта, найди сестренке тапочки. Да не лезь ты под диван, возьми щетку.
— Вот они под креслом… Пап, встань, а то мне не достать!
— Почему все обязательно надо раскидывать? — строго спросил Арон, но злости в голосе у него не было.
— Просто ужас до чего ты обленился, — обиженно сказала Ирма. — И все тебе не так. Лишь бы к чему-нибудь придраться.
— А за что их полицейские избили? — Пишта дернул отца за галстук.
— Кого-кого они избили? — заинтересовалась Кристи.
— Не знаю… в теленовостях показывали.
— Ну вот, а я этого не видела, и все из-за того, что ты мне ногти стригла. И вообще, зачем надо было стричь ногти?
— Живо угомонитесь! А еще лучше — шли бы вы спать.
— Ну, нам же во вторую смену, — хором запротестовали Пишта и Кристи.
…Какие основания у Шобера утверждать, что проверка велась недостаточно тщательно? Бухгалтера мы отстранили сразу же, чего ему еще надо?
— Делайте что хотите, если это вашей мамочке угодно!
— Нечего все на меня валить. Это, между прочим, и твои дети. — Сегодня Ирма была раздражена больше обычного. Верно, на работе что-то стряслось.
— Ты-то что нервничаешь?
— Ничего я не нервничаю… — буркнула Ирма и поправила угол завернувшегося ковра. — Устала просто. Имею я право устать? — И так как Арон ничего не ответил, она, выделяя интонацией каждое слово, добавила: — Сегодня опять одна все перестирала.
— А Бориш не приходила?
— Приходила, как же. Выпила кофе, а потом заявила, что не может остаться, так как у нее ногти в заусенцах.
— У меня тоже будут заусенцы, так ты мне ногти подстригла, — заявила Кристи, внимательно разглядывая свои пальцы.
— А полицейским их нисколько не жалко?
— Кого не жалко? Ну и дурень же ты! — не выдержала Ирма.
— А тех, кто сидят на земле и не хотят уходить…
— Если ногти в заусенцах, ее понять можно, — высказался Арон.
И почему Шобер так переменился к нему?
— Конечно, всех можно понять, кроме меня. Ты ведь знаешь, вторник у меня самый тяжелый день.
— Давай выключим телевизор, ляжешь сегодня пораньше…
— У тебя против всего одно чудодейственное средство — выключим телевизор! Ты же знаешь, я люблю телевизор. Он успокаивает.
— Тогда чего же ты хочешь?
— Я ничего не хочу. Только спокойствия и доброго отношения.
Арон вздохнул. Он вспомнил, какой Ирма была десять лет назад. Их поездка за город, гроза. Ее огромные, расширенные зрачки, трепещущие губы. «Ненавижу спокойствие, застой, неподвижность. Я хочу гореть, пока живу».
Он посмотрел на Ирму.
Ирма уже сидела в кресле, вытянув ноги, расслабившись. Лицо ее, обращенное к телевизору, казалось, вбирало в себя бледно-голубое сияние экрана — так вбирают в себя на пляже солнечный свет. Даже маленькое бра выключили. Кристи устроилась на ковре. Пишта елозил по полу. Наконец стало тихо. Рано или поздно все успокаиваются. Но пока существуют такие, как Вильмош Шобер…
— Эти последние известия мне уже надоели… Папа, скажи, почему людей сажают в тюрьму?
— Потому что они плохие, правда, папа? — уверенным тоном заявила Кристи.
— Сынок, я объясню тебе это как-нибудь в другой раз, потом, а пока скажу только, что есть плохие люди, есть хорошие.
— А те, которые сторожат в тюрьме, они — хорошие?
— До чего же ты глупый! Когда вырастешь, все поймешь, — торжественно объявила Ирма.
Пишта притих, сел рядом с Кристи, но на экран уже не смотрел. Стал крутить пуговицу на рубашке.
— В довершение всего Бориш сказала, чтобы я сняла кольцо, когда буду стирать, а то еще потеряю его. Представляешь?
— Почему ты не выгонишь ее? — возмутился Арон. — Какого черта ты ей платишь, если она так нагло ведет себя?
— Почему я ее не выгоню? А разве лучше, если мне вообще никто помогать не будет? У меня нет такого мужа, как у Штефи. Он хотя и врач, но не стыдится выколотить ковер.
— Эти твои образцы для подражания, эти жалкие импотенты…
— Ну что ж, ругаться ты можешь. А хоть раз прибраться в доме, пока я на работе, небось тебе и в голову не пришло. Уж у тебя-то золотое кольцо с пальца не слетит.
— А вот и слетит! — расхохотался Арон. И сразу умолк.
Ирма вскочила с кресла.
— И ты еще гогочешь? Думаешь, я забыла, что через две недели после нашей свадьбы ты продал обручальное кольцо?
— Я не продал. А отдал в залог, чтобы сходить с тобой потанцевать.
— Как же, сходить со мной потанцевать! Впрочем, теперь это не имеет значения. Когда ты продал ломбардную квитанцию…
— Ты прекрасно знаешь, что я ее потерял…
— Кино начинается! Начинается кино! — заорал Пишта. — Вот здорово!
Арон вышел в кухню. Поставил на огонь кофе. Ирма вышла вслед за ним.
Ни одного вечера нельзя спокойно посмотреть телевизор. Неужели это такая недосягаемая мечта? Неужели ей не надоели эти постоянные стычки и свары?
— Я могу выпить чашку кофе?
— А кто тебе говорит, что не можешь? — Ирму уже трясло от раздражения.
Волосы у нее грязные, слипшиеся — давно не была у парикмахера. Махровый халат распахнулся на груди, пояс развязался. Зеленые глаза сейчас казались серыми, губы — бледно-коричневые. «Но все еще красивые, — отметил про себя Арон. — А когда они гостили у ее матери — три или четыре дня — и на Ирме был бирюзовый костюм и туфли из змеиной кожи, на нее многие заглядывались. Все бы ничего…»
— Если бы ты знал, как я устала. Целый день носилась словно угорелая. И корректура пришла в последнюю минуту, отдать ее уже никому не могла. В издательстве был только этот болван Шойом, сто двенадцатую страницу набрали не тем шрифтом…
— А у меня, по-твоему, сплошной праздник был и в саду горели лампионы? Ты только сравни, какое напряжение у тебя на работе и какое у меня. Я тебе раз сто уже говорил: обстановка у нас сейчас для меня просто невыносимая.
— Ты всегда только о себе, — глухо проговорила женщина. — Всегда только о себе.
— А ты? Ты, конечно, заботишься о других больше, чем о себе? — Арон помешивал ложечкой кофе. Поскорее бы в постель и заснуть. Работаешь как вол, а отдохнуть дома нет никакой возможности. Хватит на сегодня криков, воплей…
— Ступай в свою барокамеру, пока мы туда еще не пришли. — Ирма с трудом сдерживала слезы. Пахло протухшими яйцами, газ все-таки давал утечку. Арон открыл в кухне окно. Ирма тут же подскочила к окну, закрыла его.
— Кто первый начал? Скажешь, не ты?
Арон чувствовал, что его все сильнее охватывает злоба.
— Я? А разве не ты сказала детям…
— Что? Ну что я им сказала?..
Они стояли друг против друга, как два разъяренных врага перед схваткой.
Ирма не упускала из поля зрения и черную чашку. Она из сервиза, как бы этот псих не швырнул ее на пол. А Арон думал: хорошо бы эта истеричка грохнулась в обморок — может, на какое-то время в доме станет тихо. «Бессовестный тиран, — думала женщина, — я тебе это еще припомню». «Сколько же в ней спеси, — злился мужчина, — а когда-то такая скромница была, дальше некуда».
Они оба поняли, кто из них что подумал. Арон, выдержав паузу, дотронулся до плеча Ирмы.
— Ты же знаешь, я люблю тебя, — сказал он.
— И ты знаешь, что я тебя люблю, — выдохнула в ответ Ирма и провела рукой по затылку Арона. Они любили эти передышки в бою. Их объятия тогда были такими страстными. «Мы только одно ценим друг в друге, — подумал Арон, — что оба хорошо притворяемся. Ни один из нас не открывает другому душу».
— Фильм начался, — сказал он и слегка ущипнул Ирму за грудь. Ирма куснула его за руку.
— Здесь? — спросил Арон. О Шобере он уже не думал.
— Ну да, — кивнула женщина и выключила свет.
— Газ не выключай, я хочу тебя видеть, — потребовал мужчина, но Ирма решительно запротестовала: «Нет, в темноте лучше». Поспорили немного, а потом все быстро свершилось. Хорошо, что Кристи закричала в соседней комнате. Они бросились туда. Кристи, завернутую с головой в пододеяльник, Пишта вращал, словно веретено за плечи. «Кружись, волчок, кружись, юла», — ликовал он.
Кристи заплакала. Она ничего не видела, и ей стало страшно.
Ирма закатила Пиште оплеуху.
— Тебе что, совсем не жаль маленькую сестренку, паршивец ты этакий? Так ты о ней заботишься?
Пишта растерянно потер себе щеку, а потом и он заныл:
— Я только поиграть с ней хотел. Уж и поиграть нельзя?
— Это так вы смотрите телевизор? — напустился Арон на Кристи. — Сейчас же выключу!
Дети сразу притихли, уселись на ковер и уставились на экран. Ирма тоже опустилась в кресло. Арон вздохнул с облегчением. Значит, его оставили в покое. Он вытянулся на тахте в углу комнаты. Если бы он рассказал Ирме, какой у него сегодня был разговор с Шобером, она бы или посмеялась над ним, или принялась его жалеть — и то и другое ему сейчас ни к чему. В конце концов, из министерства можно и уйти. Политически он чист. В партию, правда, не вступал, но и не выходил из нее… и это уже неплохо. Просто невозможно жить, когда твою работу не ценят. Уже второй раз ему поручают делать проверку вместе с Хусаром. Я бы на его месте… Но он жалкий обыватель, бумажный червь. А ярким индивидуальностям всегда достается.
Арон рассеянно перевел взгляд на экран. Какое-то сражение, какой-то майор. Майор отдает приказания. Солдаты стоят навытяжку, ладони прижаты к бедрам. На лицах — преданность и готовность выполнить любой приказ. Майор приветствует их добродушным, отеческим жестом. Солдаты по команде разбегаются. Майора показывают крупным планом, он заполняет собой весь экран. У него смелый взгляд, внушительный нос. Сияют знаки отличия.
— Они его рабы? — спрашивает Пишта.
— Опять глупости болтаешь, — не отрываясь от экрана, говорит Ирма. — Не видишь разве, они в форме?
Пишта взглянул на мать, минуту-другую сидел открыв рот, ничего не говоря.
— Осенью, когда я пойду в школу, я не буду такой глупой, как ты… — уверенно заявила Кристи.
— А ну повтори, что ты сказала, мелочь пузатая?! — Лицо Пишты перекосилось от злобы, он размахнулся и стукнул Кристи кулаком по голове.
У Арона лопнуло терпение.
— Вот скоты… Ну разве ты не скотина? Настоящая скотина, — Арон схватил Пишту и несколько раз ударил его.
Кристи засмеялась, захлопала в ладоши, на щеках появились две маленькие ямочки.
«Очаровательный бесенок», — подумала Ирма, выдирая Пишту из рук отца и оттаскивая в другую комнату.
— Незачем сразу скандал устраивать, ведь это дети…
— Это я устраиваю скандал? Воспитывать детей — разве не мой долг?
— И мой тоже! Ты никогда не занимаешься детьми, только лупцуешь их!
— И не стыдно тебе? Я забочусь о них гораздо больше, чем ты. Кристи целую неделю в одних и тех же носках ходит… — кричал Арон. Он знал, что носки эти Кристи носит всего второй день, но он уже распалился и остановиться не мог: — Кто хотел детей? Ты или я? Тебе это было надо! Так теперь и не сваливай на меня, пожалуйста, всю ответственность.
— Это твои дети! — в отчаянии завопила Ирма. — Ты не любишь своих собственных детей!
Плача, она схватила Кристи за руку, но та выдернула руку, не отрывая глаз от экрана — там в это время кого-то расстреливали. Пишта снова появился в комнате, остановился в дверях. Ирма подбежала к нему, обхватила его.
— Никого у вас нет… Только бедная мамочка… Понимаешь, сыночек, одна только мамочка. Поди к своей мамочке… — Пишта не сразу, но все же попытался высвободиться из ее объятий, нашел наконец, куда просунуть руку, и похлопал мать по спине. «Мамочка-а-а-а!»
— Я с тобой, мой мальчик, с тобой…
— Мама, я хочу такую фуражку, как у капитана…
Ирма сразу перестала всхлипывать. Она оттолкнула сына и отвернулась к стене.
Арон опустился на тахту в углу.
Зазвонил телефон. Ирма не двинулась с места. Мужчина тяжело поднялся.
— Твоя мать, — устало проговорил он.
Ирма вышла в прихожую. Очень быстро вернулась.
— Зачем она звонила? — нехотя спросил мужчина.
— Сердечный приступ. У нее снова сердечный приступ. Надо бы пойти к ней. А я сейчас в таком состоянии. Ничего, пусть примет лекарства.
Ирма вышла в другую комнату — смотреть фильм ей уже не хотелось, прижалась лбом к оконному стеклу. На стекле потом остаются маленькие круглые тусклые пятна — раз в месяц она их смывает. Может, ей заплакать? Хорошо бы заплакать. Но нет, не здесь. Не сейчас.
Солдаты по дороге месят грязь. Бредут куда-то. На лицах решимость. Ну и фильм! «Кому же мне рассказать о том, что сегодня случилось?» — думал Арон.
Перебрал всех своих знакомых, на душе от этого стало не легче. Еще в молодости он дал себе зарок — приятели как-то пересмеивались за его спиной, он сам видел, хоть они потом это и отрицали, — никогда никому не жаловаться. Честолюбие не такая уж плохая вещь. Человек хочет кем-то стать. Хочет кем-то стать, работая упорно. Не ради заработка. Хочет чувствовать, что он нужен… между прочим, это ощущение ему необходимо каждое утро, когда он нажимает на ручку двери своей конторы. Ему не зря выдали тот почетный диплом. А если кто-то работает лучше их, они просто не могут этого вытерпеть. «Ты допускаешь ошибки, Аронка… Ты тоже не совершенство… это была очень грубая ошибка». Их прямо распирало от злорадства! И Шари защищала старика. «А знаешь, по отношению ко мне он вел себя безупречно, — сказала она, глядя на него с напускным простодушием, — ребенка отправил в санаторий». И сразу начала говорить о том, что ей нужно двести форинтов, потому что коронка с зуба слетела. «Из-за тебя слетела», — добавила она с придыханием, имитируя волнение. Думает, наверно, что у нее очень естественно получилось. Ох, эти женщины! Какое счастье, что относительно Шари он не питает никаких иллюзий. Она нужна мне, размышлял Арон, потому что надоедает пить кофе все время из одной и той же чашки и в одном и том же месте. Хорошо, что много душевных сил на Шари тратить не приходится, во всяком случае, после Ирмы с ней отдыхаешь.
Ирма вернулась в комнату. Стиснула переплетенные пальцы, так что суставы хрустнули. Ее лицо, все в каких-то подтеках, походило на отбивную. Боже мой, грядет еще одна сцена, и деваться от этого некуда.
— Прошу тебя, выйди на минутку. Не бойся, никаких сцен не будет. Нам надо кое о чем поговорить.
Арона охватила паника. Может, бежать куда-нибудь? Когда Ирма наказывает детей, ей под горячую руку лучше не попадаться.
— Что тебе еще от меня надо? — Арон не скрывал своего раздражения. — Оставь меня наконец в покое.
— Как ты не понимаешь, ведь я… — Ирма заплакала в голос.
— Это же свинство! — заорал Арон, вскакивая с тахты. — Только о себе, каждый только о себе…
— Но я же не вижу, — закричал Пишта, — ты так встал, что я ничего не вижу!
Арон снова упал на тахту. Нет, надо бежать. Но куда? В кармане последняя двадцатка. А утром все это будет продолжаться. Куда бежать?
— Ну раз так… — Женщина вдруг перестала плакать. Голос ее стал вызывающе звонким. Она подняла голову, надменно поджала губы. — С завтрашнего дня все будет по-другому. Думаешь, на тебе свет клином сошелся? Поищу себе настоящего мужчину. Ты еще пожалеешь. — И она принялась энергично начесывать волосы.
— Ну что ж, ищи на здоровье, — презрительно бросил Арон.
— Ищи на здоровье? — взвилась Ирма и швырнула в стену расческу. — Ну и найду!
— Они его застрелят? — воскликнула Кристи и дернула Арона за руку.
Арон ничего не ответил. По полю брел солдат, а откуда-то из лесу какие-то люди стреляли в него.
— А где остальные? — спросил Пишта.
— Нету их здесь, ты что, не видишь? — поучающим тоном ответила Кристи.
А солдат все шел и не пытался уберечься от пуль, будто и не слышал их свиста. Его больше заботило, как бы не оставить ботинки в глубоком снегу. И когда он в очередной раз вытаскивал из снега ботинок, пуля наконец настигла его. Теперь только маленький бугорок, словно укрытый солдатской шинелью, был виден на поле. А потом медленно падающие снежные хлопья — до чего же эффектный финал! — скрыли и его.
На экране вспыхнули буквы: «Конец».
Ирма выключила телевизор. Каким блаженством, каким чудом была эта минутная тишина и мягкая темнота — после раздражающего серебристо-голубого света. Но уже включили верхний свет, загорелись матовые, молочно-белые плафоны люстры. Ирма потащила детей в спальню.
— Папа-а! — вопил, упираясь, Пишта. — Позови папу… я не усну, пока он не придет.
Ирма все же уложила его в постель и вышла.
— Будь любезен… у твоего сына возникло желание поговорить с тобой, — язвительно сказала она.
Арон тяжело вздохнул. Надо идти. Говорить, но ничего не сказать — это только их матери удается, но не ему. Кристи, едва положив голову на подушку, тут же заснула. А Пишта сидел на кушетке, завернувшись в одеяло, и ждал отца.
Ирма вышла в кухню, приложила к сердцу смоченное в теплой воде полотенце. «Не пойду, пока он не придет за мной, даже если до утра придется тут сидеть, скрючившись, — решила она. — Но уж и у тебя не будет спокойной ночи, изверг проклятый!» И начала перебирать рис для завтрашнего ужина.
— Почему так бывает? — спрашивал Пишта в соседней комнате у отца. — Почему людям нравится убивать друг друга?
— Тебе этого еще не понять, сыночек. — Арон рассеянно гладил ребенка по голове. — Люди не любят убивать друг друга. Но им приходится это делать, потому что много плохих людей.
— И мы поэтому убиваем индейцев?
— Кто это мы? Ты? Я? Наша мама? Что за глупости ты говоришь! Никто из нас индейцев и в глаза не видел.
— Но они злятся друг на друга… те и эти… ну, наши, то есть, ну, в общем, это плохо, правда?
— Не бери в голову, Пиштика. — Арон снова вздохнул. Мальчик слишком умен для своих лет. И фантазия разыгралась. Не для него все это. Нервы у него и так слабые. Нужно сказать ему что-нибудь хорошее, доброе, чтобы успокоить его. — Самое важное — и об этом надо помнить всегда, — чтобы мы любили друг друга и были счастливы, — наконец произнес Арон низким, глубоким голосом. Даже сам немного растрогался.
— Кто «мы»? — не понял мальчик.
— Мы — это мама, ты, Кристи и я. Наша семья, — Арон неуверенно описал рукой круг.
Пишта взглянул на него. Но ничего не сказал. Только задумался о чем-то и потрогал вздувшиеся жилы на руке отца. Потом лег, повернулся на бок и закрыл глаза.
Арон погасил лампу. Постоял в нерешительности, потирая виски. В комнате не было темно. Сквозь жалюзи с улицы проникал свет. Ветер то усиливался, то затихал, и позолоченная решетка на стенах комнаты то расширялась, то сжималась.
— Завтра, завтра, не сегодня, — пробормотал Арон. Впервые эти слова он услышал от своего отца тридцать лет назад.
Перевод Л. Васильевой.
© «Иностранная литература», 1984.
ПИРАМИДА
Балаж придерживал на животе пижамные штаны. Волосы были всклокочены, глаза еще слезились со сна. Ничего не подозревая, он отворил дверь на кухню. И — отпрянул. Вернулся в спальню чуть не бегом. Шлепанцы громко стучали по полу. Разбуженные шумом, подскочили в постелях дети, но отец проследовал через их комнату, не задерживаясь, и они опять упали на подушки.
Остановился он лишь посередине третьей комнаты, запутавшись ногами в халате жены.
— Что такое? — спросила Ирма из темноты. — Который час?
— Ты знаешь, она уже здесь!
— Не может быть… который час?
— К счастью, я только чуть-чуть приоткрыл дверь… так что вовремя успел отскочить!
— Подай мне халат!
Балаж шарил рукой по полу.
— Почему ты не вешаешь его на стул?
Он подошел к окну, чтобы впустить в комнату свет. Тяжелая портьера сорвалась и упала ему на голову.
— Ну что ты делаешь? — Жена терпеливо высвобождала его из тяжелой ткани. — Все же на трех кнопках держится. Масляное отопление открыл? Надо бы еще подтопить.
— Да она ковыряется там, на кухне. На который час ты ее вызвала?
— Она распоряжается временем по своему усмотрению. Не станем же мы ее терроризировать. В конце концов, она достаточно хлебнула горя.
— Ну ладно. Тогда, будь добра, ступай сама на кухню и приготовь кофе.
— Ты что, боишься ее?
Ирма запахнула халат, завязала пояс и вышла; но в детской остановилась.
— Кати! — позвала она нерешительно. — Ты не спишь? Может, ты поставила бы кофе?
— Сейчас, сейчас, — пробормотала Кати, еще в полусне. И тут же открыла глаза, поглядела на маленькую светловолосую мать. — Ох ты глупышка. Она ж тебе нос не откусит.
Кати сноровисто оделась, аккуратно застегнула на спине кнопки. Балаж и Ирма с завистью следили за четкими, точными движениями дочери.
— Ты хоть причешись пока, — сказала Кати отцу, — а я потом пришью тебе пуговицу. — Она указала на его пижамные брюки.
— Ох, а цветы? — простонала Ирма. — Когда же ты пальму пересадишь?
— Хорошая, удобренная земля — двенадцать форинтов… Дашь? Без земли нечего и пытаться.
— Ти-ши-на! — провозгласил сын. — В такое время полагается еще спать.
— Вставать по утрам нужно рано, — наставительно сказал Балаж, — это и полезно для здоровья. А днем можно вздремнуть часок-другой!
— Тебе-то можно днем вздремнуть! — Сын завернулся в одеяло и сел. — А вот мне, бедному трудяге…
— Организм Рики нуждается во сне, папа. Развивающийся организм…
— Не называй ты его этой отвратительной кличкой. У него есть вполне пристойное имя. Генрих. Разве не красиво?
— Уж написал бы ты, что ли, эту свою драму, папа…
— А она вытанцовывается, — весело отозвался отец и туже стянул впереди пижамные штаны. — Основную ситуацию я уже набросал… еще немного потасовать, уточнить место и время действия…
— Ну-ну, тасуй, — кивнул ему Генрих. Он легонько погладил свой подбородок. — Мне нужно побриться. Кати, ты купила крем для бритья?
— Мамусь… деньги на крем для бритья!
Балаж стоял с обиженным лицом. Ирма опустилась на стул и смотрела куда-то в потолок над шкафом. Кати ласково качнула ее.
— Мамусь… на крем для бритья. О чем ты опять задумалась?
— Я до половины второго не спала, — встрепенулась Ирма, — все проверила, шаг за шагом. По расчетам все сходится. Почему же раньше не получалось?..
— А мне здорово повезло! — Генрих одевался под одеялом. — Представь, вдруг бы мама назвала меня Кальцием. Или — Нитратом.
— Генрих — прекрасное имя, — возразил Балаж, — и королевское, и поэтичное в то же время.
— Знаю, папа. Да только все Генрихи уже написаны. — Сын надел очки. — Вот чего я боюсь.
— А сколько было Генрихов? — спросила Кати, приглаживая спутанные волосы матери. — Мамусь, надо еще и позавтракать.
— Восемь штук. Папе остался только девятый. А такого не было. — Он заметил, что у отца помрачнели глаза, и сразу вспомнил: «Его нельзя выбивать из колеи, мы должны быть с ним добрыми, чуткими». — Но, вообще-то, ты еще напишешь, вполне возможное дело. Да что там, наверняка напишешь.
— Не стойте же без толку! — Кати уже застлала постели и теперь ласково поглаживала локоть матери. — Одевайтесь, покуда кофе будет готов… а к тому времени…
— Кати, — проговорила мать с беспомощным видом, — она уже здесь.
Кати поморщилась. Короткие волосы заправила за уши. Ее личико сразу стало жестким и упрямым.
— Со мной она связываться не посмеет… — И Кати сделала глубокий вдох, словно перед прыжком в воду.
— Ну, не чудо ли? — спросила Ирма. — Кто бы поверил, что ей всего одиннадцать лет?
Она встала, вернулась в свою комнату, с трудом подтянула вверх жалюзи. Потом достала кошелек, высыпала его содержимое на стол, накрыла ладонью, и тут глаза ее остановились на формуле недающегося химического соединения. Ирма села, левой рукой отодвинула в сторону форинты, а правой уже что-то писала.
— Так ты не признаешь гротеск? — Балаж пошарил в карманах, ища сигарету; наконец Генрих предложил ему свои. — Но на кого же тогда и опереться, как не на молодежь? Я, разумеется, допускаю, что отдельные консерваторы… но чтобы ты, именно ты, в твои семнадцать лет…
— Сегодня у нас практические занятия, папа. Мне еще надо китель приготовить. И пять задач по математике! Обсудим-ка с тобой это вечером. Гротеск-то я, конечно, признаю. Еще бы! Но вопрос не такой простой.
— Вечно у тебя нет времени. — Шлепанцы Балажа подплясывали на полу.
— Что поделаешь… Гимназия, сам понимаешь. Раз уж я ввязался в это дело, так хоть аттестата с отличием добиться должен.
— У тебя во всем крайности. Чувство ответственности — прекрасно. Но ты посмотри на меня. Выплыл я так, середнячком, и все-таки… — Он изящным жестом описал в воздухе дугу.
Генрих, став к нему спиной, перебирал свои линейки. Когда он вновь обернулся к отцу, его голос звучал вполне естественно.
— Что ж. Ты гений. Но не все же — гении.
— Не будем впадать в крайности. — Балаж крякнул. — Не люблю крайностей, и в характерах тоже. Я талантлив, допустим. Есть у меня дар к обобщению… Угадай, с кем я ужинал?
— С кем, папа? — Сын терпеливо листал учебник.
— С Керещени… вот этот дело знает… Уж если он поддержит!.. Авторитетная фигура! Будущее за монодрамой. Теперь, когда руки у меня развязаны, я быстро войду в форму, вот увидишь.
— Но полставки все-таки не бросай, — сказал Генрих. — Я серьезно, слышишь, папа!
Кати внесла на подносе дымящийся кофе, бутерброды с плавленым сырком. Генрих помогал ей, освобождая на столе место.
— А как с обедом? Что будет на обед?
Кати уныло покивала головой.
— Морковный суп. И галеты в сметанном соусе. — Она подошла к отцу вплотную, и он перестал маятником сновать по комнате. — Пей, пока не остыл.
В комнату матери она сперва только просунула голову, потом вошла.
— Ох, — сказала она сердито, — а я денег жду. Ноги-то у тебя прямо ледышки!
Схватив концы ее пояса, она повела мать завтракать. Ирма послушно следовала за ней, хотя и оглядывалась на письменный стол.
— Идем, идем. Никуда он не убежит.
— Собственно говоря, две логические точки…
— Ладно, ладно, две логические точки… Кофе остынет, а у тебя потом желудок расстроится.
Ирма обняла дочку сзади, почти прижалась к маленькому ее телу, глубоко вдохнула легкий песчаный запах детской кожи.
Ирма чинно держала чашечку кофе, склонив голову набок, отпивала глоток за глотком и сосредоточенно всматривалась в рисунок блюдечка. Кати крутанула тарелку. Мать вздрогнула, но сразу же заулыбалась.
— Деньги, — быстро проговорила она, — я ведь не забыла.
Ее муж, в трагической позе Гамлета, выпил свою чашку залпом, словно яд. Он обрезал хлебную корку, сделал из мякиша «солдатиков» и опять словно маятник заходил по комнате; каждый раз, оказавшись у стола, он отправлял очередного «солдатика» в рот.
— Не накроши! — сказала Кати. — Тетя Хермелина рассердится.
— Хермина[9], — поправил сестренку Генрих. — Супруга доктора Альфонса Собослаи.
— Мама, ты уж решись! Ей что-то нужно. Ступай к ней, — Кати ободряюще похлопала мать по спине, — покуда она сама не пожаловала.
— Драму всегда оттесняли на задний план. — Балаж в неловкой позе присел на краешек дивана-кровати и листал хрестоматию по литературе для третьего класса. — Отрывки, кусочки… Но откуда? Я спрашиваю: откуда? Выходит, до концепции нам и дела нет?
— Не знаю, право, — медленно говорила Ирма, — ясно ли я вчера излагала… понятен ли был ход моих рассуждений. Ведь когда на подобную тему, вот так, в самой общей форме, говорится по радио, надо, чтобы материал был доступен… Хотя бы десять человек из ста что-то поняли…
Генрих выправил свой циркуль. Довольный, вложил его в бархатный футляр.
— Ты прекрасно построила выступление. И научный характер не был утерян, и форма при этом вполне доступная…
— Да-да, — оживленно согласилась Ирма, — это и нужно было. — Она тряхнула головой, ее глаза остановились вдруг на школьном халатике Кати. — А ну-ка, поди сюда! — На синем полотне было крохотное, с булавочную головку, пятнышко от яичницы; она поскребла его, потом лизнула языком. — Вот так. Всегда так делай. Люблю, когда ты опрятна. Ты же знаешь.
— Тетя Хермелина на кухне…
— Ну, Ирма, хватит тебе ребячиться, — сказал Балаж, — женщинам все-таки легче договориться… а я пока погляжу задачки по математике у этого молодого человека.
Кати держала перед матерью зеркальце, Ирма причесывалась. И слушала, как Рики втолковывал отцу:
— Ну что ты, предок. Какое ж это неизвестное. И быть не может, если A и B даны…
И еще знаком показала: терпение, сын! — так как заметила, что Генрих поглядывает на часы.
Кати пошла в комнату родителей за деньгами на крем для Рики и землю для пальмы; Ирма отправилась на кухню.
На какой-то миг в гостиной она отчетливо увидела, что большой торонтальский буфет зарос грязью, дверца шкафчика-бара липко захватана пальцами. А чего ради кофеварка-«турочка» оказалась у телевизора?
Дверь на кухню она открыла уже локтем: супруга доктора Альфонса Собослаи только что оставила на дверной ручке сметанный след.
«Могла бы я делать все это лучше? — думала Ирма, стараясь укрепиться духом. — Ну, хоть как-то держать дом в порядке? И вообще: можно ли как-нибудь иначе, в наших-то обстоятельствах?»
— Доброе утро, дорогая Хермина.
Супруга доктора Собослаи восседала у кухонного стола на табуретке, подложив под себя две нарядные диванные подушки. Она мыла посуду. Болтавшаяся на запястье золотая цепочка позвякивала о тазик. По запотевшему окну сбегали струйки воды. Над газовой плитой круто подымался пар из трех кастрюль сразу.
— Я открою… чуточку воздуха…
— Оставьте, Ирмушка. Галеты со сметаной полагается хорошенько распарить.
— Надеюсь, дети будут есть, — сказала Ирма и нерешительно приподняла крышку с одной кастрюли.
— Дети должны есть то, что им дают, — заявила супруга доктора Собослаи и с бесконечными предосторожностями вынула из тазика стакан. — У нас уж, кажется, всего было вдоволь, но ели мы то, что нам подадут.
— Мы больше привыкли к венгерской кухне…
— Вот-вот, то-то и оно, — улыбнулась Хермина. Сидела она совершенно прямо. «Право, хоть угольник ей к заднице приставляй», — мелькнуло у Ирмы, и она невольно постаралась выпрямить свою все больше сутулившуюся спину. — У них испорчен вкус… Ах, шнидлинг-соус…
— О, луковая подливка? Это хорошо!
— Нет, нет, душа моя. Не луковая подливка. Шнидлинг-соус… то есть соус из особо нарезанного лука. Небо и земля!.. Берется шесть желтков, два стаканчика сметаны, ложка оливкового масла…
— Завтра, будьте так добры, приготовьте тушеную говядину с галушками, — проговорила Ирма, делая вид, будто ищет в буфете сахар.
— Ох уж это мясо, одни жилы, гадость! А я и сегодня сколько в очереди простояла! И кто-то полагает, будто это оплачено. Да разве можно оплатить такое?
— Больше-то навряд ли.
— Отчего же. Кое-где платят и больше. Но я не в упрек. На нет и суда нет. Тысяча форинтов, и все. Это ведь только говорится, будто с питанием, — много ли я съем, так, поклюю только… Но на пищу скупиться нельзя, Ирмушка, никак нельзя. На готовке не сэкономишь, вбей я вместо пяти яиц три — вы такое и есть не станете, все оставите на столе, вот как позавчерашние крокеты.
«Да ведь ты их в уголь сожгла, — протестовала про себя Ирма, — у тебя всегда все пережарено-переварено, ты же хочешь за десять минут и убраться, и отстряпаться, и замочить белье, лишь бы к партнершам своим вовремя поспеть, партию в карты не пропустить…»
— Аппетита не было. Случается, знаете…
— Капризные вы все, — улыбалась Хермина Собослаи, — а вы, Ирмушка, несколько раздражительны. Когда мне было сорок, я не так выглядела. За мной один испанский атташе ухаживал, помню, он здесь проездом был из Швейцарии.
— Хермина, сегодня я вернусь поздно. Эксперименты сейчас в самой критической фазе. Прошу вас, если возможно, подметите хотя бы только гостиную. Муж ожидает днем посетителя, это театральный деятель, вы же интеллигентный человек, понимаете, как важно первое впечатление…
— Галеты в сметанном соусе очень трудоемкое блюдо.
— Да, — сказала Ирма, терзая кухонное полотенце. — Если можно, прошу вас, гостиную.
— Театральный деятель! Уж эти мне театральные деятели!.. Ференц Херцег в «Цецилии»… Ну, неважно. Когда-нибудь вознаградите — ложу предоставите, если однажды вдруг возьмут да и вправду поставят пьесу господина Блати…
— И белую рубашку, Хермина… ох эти порошки, и тут, видно, обман… но вы уж простирните дважды, раз порошки такие никудышные…
— Ну что ж. Ничего не поделаешь! — Супруга доктора Собослаи вынула руки из тазика с посудой, осторожно стянула резиновые перчатки. Взяла тальк, долго и тщательно протирала им пальцы. — Коль скоро такова теперь моя судьба…
— Да, вы просто героиня, право.
— В «Радиогазете» я видела ваше имя, — заметила Хермина; она передвинула табуретку вместе с подушками, опять водрузилась на них и принялась расставлять по полкам мокрую посуду. — Когда-то и мое имя могли бы встретить в газетах, да притом в иностранных, и не однажды…
— Да-да, гольф, гольф! — поспешно вставила Ирма. — Дело нешуточное!
— Я именно спорту обязана, что сохранила подвижность, в мои-то семьдесят пять лет! — Она слегка приподняла юбку. — Держу пари, ваши бедра не такие упругие.
Ирма попятилась.
— Ну что ж, галеты так галеты, — сказала она в дверях, — хотя что ни говорите, но о вкусах…
— Да уж, к чему желудок приучен с детства… Но вы должны ценить, у вас-то хорошо все сложилось. Руководитель химической лаборатории! Да не спешите вы так, Ирмушка! Вот тетрадка, просмотрите же, тут все точно, до филлера. Однако нынче всего лишь двадцать седьмое, так что прошу — пожалуйста, еще двести форинтов!
Она заставила Ирму взять в руки голубенькую тетрадку в клеточку; на обложке сверху — круглые аккуратные буковки Кати: «Каталин Блати, учен. VI кл. Дневник звена». Все это было зачеркнуто и крупным, острым почерком Собослаи написано: «Расходы по хозяйству».
Ирма даже не заглянула в тетрадь.
— Я и не сомневаюсь… но, если готовить попроще, чуть-чуть расчетливее…
— Еще проще?! — Хермина выхватила тетрадь. — Ну, я умолкаю.
— У меня сейчас нет денег. Поймите, пожалуйста.
— Восемь дней назад вы получили премию. А теперь эта лекция по радио. — Собослаи строго пригладила свои длинные седоватые волосы. — Нехорошо, милая, так скупиться, особенно на еду…
— Вы отлично знаете, — проговорила Ирма, уже чуть не плача, — вы отлично знаете, что я, можно сказать, одна содержу семью. А тут сверх всего такие огромные расходы! Дела моего мужа еще не в той стадии, чтобы он мог должным образом способствовать…
— А, господин Блати! — махнула рукой Хермина. — В наше время принято было, что мужчина содержит женщину. Женщина занималась только покупками, управлялась с прислугой. Не следует столько барахла заводить — вот хоть и картины, в рассрочку, и все эти вина, напитки…
— Но театральные деятели, знаете…
— Театральные деятели! Деятель начинается тогда, когда он приносит в дом деньги. Альфонс, бедняжка, тоже занимался делами, но всякий раз, едва его клиент за порог, Альфонс спешил ко мне и, постучавшись в дверь моей гостиной, опускал в корзину фарфоровой дамы рококо то сотню пенгё, а то и десять тысяч крон… Двести форинтов не деньги. А прислуга, хозяйство всегда стоят недешево. Всякое благо, удобство приходится оплачивать. Если вы мне этих двухсот форинтов не дадите, так к чему было и затевать…
Ирма облокотилась на холодильник. Кажется, где-то от чего-то двести форинтов у нее оставалось. В кошельке около сотни, но из них уже на бритвенный крем да на землю… Если бы позавчера не пришел счет за электричество… и потом, Балаж брал восемьсот двадцать форинтов на что-то, господи, что ж это было, да и взял ли он деньги или попросил только?..
— О противнях я уж и не говорю! Что можно испечь на таких противнях! И вся эта стеклянная посуда в комнате, эти гадкие трубки! Можно ли тащить всякую дрянь в дом, в приличную квартиру?
— К завтрашнему дню я достану денег, — сказала Ирма убитым голосом, — возьму у кого-нибудь в долг на эти четыре дня.
В самом деле, куда девалась премия? Кати обещала все записать.
— Где мои черные туфли? — спросил Балаж из-за закрытой двери.
Ирма совсем потерялась от страха.
— Будь добр, включи пока масляное отопление, — попросила она. — Мы еще не кончили.
— Одним словом, двести форинтов. — Супруга покойного доктора Собослаи опять опустилась на диванные подушки. — Вам еще повезло, что я взялась за ваше хозяйство. Вообразите, что было бы, окажись на моем месте какая-нибудь деревенская телка.
«Господи, хоть бы уж мне отсюда выбраться, — думала Ирма. Она задыхалась в этом пару. — А ошибка допущена, очевидно, в первой фазе. Хотя при таком ясном, на всех стадиях четко протекающем распаде…»
Балаж выругался — выругался вполне вульгарно, искренне, — и она машинально бросилась в переднюю.
Балаж стоял на пороге чулана, по его пижаме, прямо на ковер, ручьями стекало выбившееся из баллона масло.
Собослаи тактично отступила на кухню. Не хватало еще, чтобы галеты в сметане «прихватило» газолином!
Балаж проклинал тот час, когда родился на свет, а масло все булькало. Ирма прислонилась к двери. Она даже не замечала, что плачет, и слышала только, как поскрипывает дверной косяк от ее судорожно вжимавшегося тела.
Только что вошедшая с улицы Кати повесила на дверную ручку нейлоновую сумку. Подвернула рукава жакетки.
— Тряпку! — прикрикнула она на мать. — Сейчас не время плакать, мамусь.
Выскочил из комнаты и Рики, быстро отложил учебник по химии.
— Вон туда стань, — бросил он отцу, указывая в угол, — отойди с дороги…
Расставляя пошире ноги, он подошел к баллону, откатил его назад, завернул кран.
— Его сперва надо класть набок. Иначе давление выбивает масло. Закон физики.
— Все испарится! — Кати выкручивала тряпку. — Пол лакированный. А ковер почистим в «Ультре», будет новенький. Да снимай же пижаму, папуль! Только положи отдельно, прямо в ванну!
«Господи, — думала Ирма, понемногу успокаиваясь, — экий же невезучий. И как он сможет говорить о делах в таком-то состоянии».
— Пап, — сказал Рики и обнял отца за плечи, стараясь, однако, не испачкаться. — Ступай-ка да хорошенько помойся. Вот дурачье там, на заводе… налили доверху. Этак любой, хоть и самый ловкий… они доверху налили, понимаешь? Такой баллон только открыл — и хлоп… закон физики.
— Доверху налили, — повторил Балаж и словно ожил. — Ну разумеется. В этом все дело. — Он поглядел на жену. — Да не так-то много и вытекло, могло быть хуже. Вот дурни.
— Подумаешь, несколько капель, — поддержала его Кати. — Иди же мыться, — подтолкнула она отца к ванной, — так ты некрасивый. А ты, мамуль, — повернулась она к матери, — надень костюм с мехом. На улице похолодало.
— Пустяки, — присоединился к сестре Рики. — Чего тут слезы лить? Все ведь о’кей!
Балаж скрылся в ванной комнате.
— Кати, где мои черные туфли?
— О, хорошая примета! — крикнул ему вслед Рики. — Слышишь, папа? Ты слушай! Белочка вбежала, цап-царап, схватила…
— Где его черные туфли? — спросила Ирма и поцеловала пахнувшую газолином шею Кати.
— Во вторник мы отдавали их набойки ставить. А ты положила потом на шкаф, чтобы не забыть купить к ним шнурки.
— И шнурков нет?!
Кати сняла с дверной ручки нейлоновую сумку.
— Я хотела тянучку купить, ну, знаешь, такие длинные, тягучие… вот и вспомнила про шнурки.
— Господи, — воскликнула Ирма и опять расплакалась, — а ведь еще эти двести форинтов, тете Хермине… Куда деньги ушли…
— Ну, мама же! — Кати сердилась уже по-настоящему. Она оттирала промасленные руки газетой. — В воскресенье ты дала двести форинтов тетушке Перец взаймы. Я тогда же и записала.
— В воскресенье? — Теперь Ирма припомнила и сама. И даже другое вспомнила: Юци из лаборатории тоже должна ей, за три недельных абонемента на обед.
— Господи, господи, — повторила она, на этот раз с радостью.
— Все о’кей! — Рики взял под мышку учебник по химии и шагнул к двери. — Не устраивай психологический конфликт из пустяков.
Ирма застыла посреди передней и напряженно смотрела, как Кати, послюнив кончик шнурка, всовывала его в дырку. Лицо матери опять потемнело, Рики понимал: ей стыдно, а это уж хуже всего, потому что бессмысленно. Все равно тут ничего не изменишь.
— Мама! — Он обхватил ее за талию, словно приглашая на танец, и повлек за собою в комнаты. — Ты опоздаешь. А твоя работа — все же главное. И у тебя там так классно все получается…
Кати туфлей шутливо отсалютовала им вслед. Помогла и отцу, вымыла его помазок. Проверила на матери юбку — застегнута ли молния. Чего доброго, опять кто-нибудь в автобусе будет ей застегивать.
Первым вышел Балаж; он отправился в «Саварию» проглядеть утренние газеты — критические статейки «о коллегах». Рики знаком показал: выше голову! Прищелкнул пальцами: буду, мол, «болеть» за тебя.
Но с лестничной площадки отец вернулся.
— Генрих, — промолвил он сурово, — ты все же не забудь закончить тот пример по математике!
Ирма пообещала вечером вымыть Кати голову и слегка взлохматила ей волосы: «Не люблю, когда они у тебя жирные». Мимо кухонной двери прокралась только что не на цыпочках.
— Да не привередничайте. Ешьте, что приготовит!
Дети промолчали. Дверь они заперли на ключ. Рики несколько раз подбросил в воздух учебники, потом сел, ссутулился над своим столиком, ладонями прикрыв уши.
Кати достала блокнот со спиралькой и переводной картинкой на обложке: пряничным домиком. «Секретные заметки». Вписала: «С 10-ти до 11-ти — занятия. С 11-ти до 12-ти — игры». Потом слегка призадумалась, взяла кончик шариковой ручки в рот, но тут же старательно вытерла чернильное пятнышко.
«Наконец-то, — думала Собослаи, — наконец разошлись. Вот уж взбалмошное семейство. Может, они еще и подозревают меня, кто их знает? Будто мне нужны эти их жалкие форинты».
Честь прежде всего, в этом она всегда была особенно щепетильна. Даже когда продавец обсчитывал на десять филлеров, она не ставила этого хозяевам в счет.
— Ну не прелесть ли? — бормотала она, водя по кафелю мокрой тряпкой. — Хорошая работа сразу видна. — Тряпка хлюпала у нее в руке. — Да кто бы другой у них выдержал, в этаком бедламе?
Прибралась она и в ванной комнате. С отвращением выудила из стока щетину от помазка.
Бедняжка Альфонс, ему-то два лакея прислуживали. Но, приняв ванну, он мыл ее за собою сам. И всегда знал, куда что кладет… Порядок. А у этих порядка нет ни в чем. Взять хотя бы жену: уж решила бы, чего хочет. Нет, придет и таращится рыбьими глазами, словно каждое услышанное слово для нее нож острый. А ведь, кажется, куда уж тактичнее!
От кастрюльки распространялся кисловатый сметанный запах, Хермина с наслаждением вдыхала его. Мими Кошваи рассказывала на уик-энде, как готовятся эти дивные крошечные пончики, посыпанные шоколадной крошкой. Возиться нужно три дня, блюдо требует внимания, но зато и стоит того.
Подумаешь, знаменитость, инженерша. А бульон варит в той же кастрюле, в какой молоко кипятит. Что же, ее мозг, возможно, и удалось отшлифовать. Но манеры улицы Карпенштейн[10] пристали к ней намертво. Да и «господин писатель» тоже: как ни таись… но едва сядет за стол да, хлюпая, втянет суп — тут-то себя и выдаст.
Взяв веник с длинной ручкой, она пошла в комнаты. Рики и Кати подобрали на диван ноги. Они завороженно следили за тем, как она, оглядев ковер, нацеливалась на какую-нибудь соринку позаметнее и, прямая как палка, начинала рывками сметать ее.
— Из двадцати четырех состязаний за границей я выиграла двадцать два, — поведала она детям. — Вот придете как-нибудь ко мне, я покажу вам медали. И дивные кубки…
— Серебряные? — спросила Кати.
— Чистого серебра… их у меня целый шкаф, под стеклом стоят…
— А вы их продайте. Правда, почему вы их не продадите? — Кати что-то быстро писала в блокноте. — За кило две тысячи… Ну, допустим, лет пять вы еще проживете, а скарба этого наберется у вас килограммов двадцать, — вот как раз вам и хватит… и не приходилось бы на нас трудиться, эти тяжелые сумки таскать.
— Ты маленькая бесстыдница, — объявила супруга доктора Собослаи, — твоей матери следовало бы получше тебя воспитывать. Разумеется, если бы сама она получила воспитание.
За двадцать минут она покончила с уборкой всех трех комнат.
«Этим неряхам и так сойдет… Думают, я позволю над собой измываться».
Ровно в двенадцать она приступила к обеду. Дважды позвала детей: они, конечно, невежи, но есть им все-таки надо, а тут все витаминное, вкусное. Наконец отозвался Рики: «Пожалуйста, пообедайте одна, тетя Хермина».
Этот Рики из всех самый терпимый. Он даже походит немного на ее Адамушку, хотя в последнее время она своим Адамушкой не слишком довольна. «Ты записался в университет марксизма, сынок?!» Она не верила собственным ушам. Однако невестка сразу заткнула ей рот — не ваше, мол, дело. Вот и Кати, когда вырастет, будет точь-в-точь как эта Жужа. Типичная пролетарка, крикунья… но, видно, что-то такое в ней есть, да… клюнул же на нее почему-то бедный Адам. И ведь сколько ни пытайся такую воспитывать — напрасный труд. На рождество купила ей серебряную театральную сумочку, а она смеется только да сумочку на цепочке вертит. Оно и точно, смешно — руки-то у нее как лопаты.
Хермина педантично разложила вокруг синей тарелки столовый прибор, бумажную салфетку, поставила воду.
Ела медленно, с наслаждением. Потом закурила. Нынче она особенно торопилась: к двум часам должна прийти Рожика.
Она заглянула в буфет — проверить, все ли необходимые припасы налицо: полагается, чтобы всегда всего было вдоволь, даже с излишком.
Пятидесятиграммовую пачку чаю она взяла себе. Чай не какой-нибудь, экстра, на коричневом фоне золотая пирамида, на заднем плане — пальмы, а внизу верблюд. Эти-то чая не пьют, только кофе глушат литрами. «Вы уж хоть домой его заберите, что ли, — сказала вчера Ирма, с несчастным видом повертев в руках тридцатифоринтовую пачку. — Его и покупать-то не следовало бы, к чему? Это лишнее, право…»
«Из вашего дома я и кнопки не вынесу!.. Впрочем, если вы намерены просто выкинуть, тогда что ж, придется взять».
Собослаи пустила воду, отодвинула в сторонку хозяйкины кремы. Адамушке не нравится, что она носит спортивный берет набекрень и лыжные брюки. Мало ли что! Не хватало и ей обрядиться в плиссированную юбку, ходить с вечно спущенными чулками, как эта бедненькая Ирма Блати. Спортивный костюм молодит.
Четверть часа она ждала на автобусной остановке. Автобус пришел полупустой. Жила она в Липотвароше.
«В собственной квартире — квартиросъемщицей, — любила она повторять. — Комментарии, по-моему, излишни».
Когда Альфонс умер во время уборки кукурузы в Дерешпусте, куда он был выселен, и выяснилось, что «прямой необходимости не было», ей эту комнату вернули — одну из четырех.
И она, и семейство «главного квартиросъемщика» старались не встречаться. К тому же это были уже другие. Те поспешно обменялись, еще в пятьдесят четвертом.
Дома Хермина переоделась. Нейлоновый халат она не любила, надела другой, из плотной ткани, современного покроя.
Чай из пачки она высыпала в жестяную баночку. Все не поместилось, на дне немного осталось. Хермина Собослаи хотела положить пачку на стол, но тут позвонила Рожика, и она, уронив пачку, со всех ног бросилась ей открывать. Платит-то она Рожике по часам.
— Целую ручки, — поздоровалась Рожика. — Ой, сейчас сброшу туфли… — И тут же побежала в комнату. — Интересное дело, — сказала она весело, — ну, никак не хотят окошки эти ужаться хоть самую малость.
— Значит, так, Рожика: сперва с уксусом, затем бумагой. И рамы тоже, да как следует, вы знаете, тут я придирчива.
— Ладно уж, — сказала Рожика, — ваши вкусы, милая барыня, нам известные. Чай не впервой у вас, да и не в последний раз…
— …я потому говорю, что в прошлый-то раз два тусклых пятна все ж остались.
«В башке твоей они остались, эти тусклые пятна, — думала Рожика. — Самой-то небось на лестницу и не влезть, кляча ты старая, так бы и плюхнулась оттудова. Да ты б тут же обделалась со страху, приведись тебе на этакой высоте стоять, между небом и землей, да еще руки поднявши».
— Уж мы постараемся… а вы себе прилегли бы покойненько.
— Прилечь днем, Рожика? Днем — никогда. На будущей неделе натрете мне пол.
— Пол натереть — четырнадцать форинтов, милая барыня. Да за мастику еще.
— Я не мелочна, вы это знаете. Денег у меня немного, но я не мелочна. Не то что Блати. Вы ведь знаете, я договорилась на полдня ходить к ним, надо же пополнить мою скудную вдовью пенсию… Веду все их хозяйство, беседую с детьми… труд не позор. Я и встарь так же говорила, вы, верно, помните.
— А то как же. Ваша милость всегда трудились, что правда, то правда. — Рожика уже стояла на верхней ступеньке лесенки. — Сейчас открою окно. Накиньте шубку-то.
— Свежий воздух, Рожика! — Супруга доктора Собослаи вытащила из-за шкафа клюшку для гольфа и сделала несколько круговых махов, справа и слева. — Немного движения, чтоб мускулатура не расслаблялась! Придет время, и коммунисты одумаются, опять введут этот спорт, он же исключительно рентабелен. Для приезжающих на летний отдых иностранцев. Чистая валюта для страны!
— Точно, это точно, — отвечала Рожика. «Вот как польет сейчас вода ей на шею, небось разахается. Ничего себе демократия. У этой времени вагон на всякие глупости, а ты тут надрывайся сверх дворницкой своей должности, ежели хочешь, чтобы дитя твое чего-то добилось в жизни».
— …я ведь никогда не была врагом социализма. Мы, вместе с мужем моим, всегда были люди социально мыслящие. Может, и вовсе бы на эту сторону перешли, кто знает, если бы с нами не поступили так… Кто ж одобрит, чтобы одному — все, а другому — ничего? …и нынче ведь кое-кто так и сорит деньгами. Видели бы вы, Рожика, этих Блати. Вот вы настоящая рабочая женщина, от природы сообразительная: ну, скажите, правильно это, чтобы при пяти тысячах в месяц ни на что решительно не хватало?
— Форсу много! — рассудила Рожика.
— Даже этого нет. У них и порядочного платья-то ни у кого не найдется, я ведь вижу. Суетятся, и туда, и сюда, где-то там служат, ну, правда, ее имя иной раз по радио услышишь, а муж, тот пьесы пишет — получает-то в своем бюро переводов маловато, вот и прирабатывает, на пьесы свои разбогатеть хочет…
— Ох-хо-хо… — Рожика бросила вниз шарик из скомканной использованной бумаги. — Ну-ка, ловите, ваша милость!.. А ведь за такое еще и платят! Знаю я одного мастера из двадцать третьей квартиры, резчик по дереву, так он покупает материал за гроши, а потом — хватает же совести — по четыре сотни за своих уродцев просит — их в том большом магазине продают… ну, в том, что в центре…
— Зато вам, Рожика, надрываться приходится.
— Вот-вот. А я надрывайся, — повторила Рожика с глубочайшей убежденностью. — Ну, я-то сильная как лошадь.
Пожалуй, старуха все же права. Иной раз видишь такие квартиры: летний вечер, горят цветные лампы, а хозяева посиживают себе на балконе, таращат глаза на улицу, из комнат музыку слышно. И чем уж они такие особенные?
— …я их, Рожика, даже жалею, знаете. Люди они неплохие. Девочка, та, правда, грубиянка, но ведь чему ее и учат-то в школе! Вы бы только видели, что я там застала, когда взяла на себя эту обузу… Баллоны с газолином в кладовке для продуктов! А туфли, а платья — чуть стали малы, уже не нужны, а ведь немножко переделать, подправить, были бы как новенькие.
— А чего ж они делают с ними? — живо спросила Рожика.
— Да что же, выбрасывают… им, видите ли, некогда.
— Барыня, миленькая, а вам не попадалось там что-нибудь такое, с оборочками?
— С оборочками?.. Ну-ну, погляжу! Уж лучше вам, чем на помойку.
— Ну как, можно слезать-то? Сверкает, будто полированное, тут и солнышко поскользнется да шлепнется…
— Вон там еще, в правом углу, Рожика! Не жалейте, трите покрепче!.. Ха, правящий класс! А все ж без меня им не обойтись! — Хермина Собослаи опять положила клюшку для гольфа в футляр от скрипки. — Представьте, я их попросту спасла — спасла от голодной смерти!
— Ну, я уж спущусь, это здесь в стекле изъян…
— Трите, трите!.. Меня-то они почитают. Там никто голоса не повысит. Да, ежели человек умеет себя поставить, так и нынче еще… Эта несчастная инженерша, она инженер-химик… что делать, приходится, при таком-то бездельнике муже! А эти ее горы химикатов, этот смрад!
«У тебя тоже смраду хватает, — думала Рожика, — тряпье-то все старое, нафталином пересыпанное… а какое славненькое балетное платьице сладила бы я из этих тряпок для моей Тилдике! И духи твои тоже — уж такой запах от них тяжелый, нет чтобы каким хорошим дохнуло…» Она сердито смотрела сверху, как Хермина Собослаи нажимает на обтянутый темно-зеленым шелком мячик, как прыскает одеколоном через тоненькую трубочку пульверизатора. «Так и въедается в парчу-то…»
— Терпеть не могу запах пачулей, — говорила Собослаи. — По запаху в квартире сразу можно судить о хозяине. У Блати все пахнет одной только пылью. Они говорят — от книг; но это запах пыли, книги-то все на открытых полках, столько денег получают, а застеклить не на что… Представьте себе, если бы я так же держала мое серебро… — Она подошла к горке и легко провела рукой по стеклу.
— И это все настоящее? — спросила Рожика, спускаясь.
— Все! Один к одному! Пока перечистишь, целый день уйдет.
— Да вы мне только скажите. Уж я их так начищу…
— О, нет, Рожика! — улыбнулась Собослаи. — Это уж я сама. Этого я никому бы не доверила. — Она подошла к окну, наклонилась к самой раме, послюнила кончик пальца.
— Там краска облупилась! — сказала Рожика. — Понапрасну царапать изволите. Пора бы уж и побелить рамы-то…
— Знаете, сколько бы я получила за все это, если бы продать решила? Столько денег сразу, пожалуй, мы с вами и не видывали с тех пор, как форинт в моде.
— Дак ведь для вашей милости это дороже стоит. — Рожика раздумывала, не спросить ли ей тринадцать форинтов вместо двенадцати. — Когда-нибудь это еще ой как пригодится вашей милости. Никого не слушайте.
— Я вас, Рожика, люблю. Вы от природы разумны. Пожалуйста, соберите пух под кроватью. И потом, еще пол на кухне… я, правда, дома никогда не готовлю, на ужин съем сухарик — и ладно, но эти так все изгваздают, просто сил нет смотреть… А какая была кухня! Белый с голубым кафель, встроенная мойка, и это в тридцать восьмом!! Стол покрыт этернитом…
— А что толку в разуме, милая барыня? — воспросила Рожика из-под кровати, наполовину под нею скрывшись и болтая в воздухе мясистыми, в красных пятнах ногами. — Коль в школе не учился, только на такое вот и годишься… Эх, ведал бы мой бедный отец, самостоятельный ремесленник, что на этакое растит меня… — Рука ее на что-то наткнулась. Она ощупала непонятный предмет. Вроде колечка. Повернулась набок, волнуясь, сунула находку в карман. — Ну вот, теперь чистота, загляденье прямо…
— Сейчас сварю вам кофе… но вы уж тогда вынесете заодно и мусор?
— Дак это я для вас просто так, не в службу, а в дружбу… Ох, вот только сбегаю на минуточку…
Она заперлась в уборной. Разочарованная, молча потрясла кулаком. Плоская формочка для пышек. Похоже, у старухи и нет драгоценностей. Эти затейливые серебряные чашки-плошки — все ее имущество. И разве ж речь о том, чтоб украсть или что… Вот только колечко бы для Тилдике, как подрастет…
А супруга доктора Собослаи тем временем тщетно искала кофе. Сосед запер от нее свой буфет. Хотя как уж распинался шесть лет назад: «Что наше, то и ваше, тетушка Хермина».
— Увы, Рожика, увы…
— Э, не беда! А вот ежели вам оно без надобности, так видела я в прошлый раз у вас лиф, в блестках весь… когда мы от моли вещи перекладывали. Тилдике три наряда нужно для экзаменов: будет танец Розы, потом венгерский чардаш и менуэт… Вот этот лиф для менуэта бы, может…
Рожика села на кухонный стул; круглый гребешок, державший волосы, ослабел, и они упали на ее взмокшее лицо, грязные бороздки пота потекли на грудь, в разрез платья.
— Что поделаешь, сердце у меня уж не прежнее… как перевалило за сорок, оно сразу чувствуется. Да еще парадное по ночам отпирать, вы не поверите, как это тяжко. И после всего слышишь о таких вот, как эти ваши, не знай кто…
— Что ж, — вздохнула Собослаи. — Я отдам этот лиф. Для вас не жалко. А вы хоть шкафчик кухонный помойте, это же раз-другой тряпкой провести, только и всего…
«А ведь она могла бы Тилдике завещать свое серебро, — вдруг осенило Рожику. — Ужо поспрошаю старьевщика. Что, как это музейские ценности».
— Ни в чем уж радости никакой не вижу, верите ли, вот только Тилдике… успехи ее. — Глаза Рожики увлажнились, она подалась на стуле вперед.
Собослаи взглянула на будильник.
— …вот и давеча преподавательница ее хвалила. Если и дальше, мол, так пойдет, на будущий год переведут в группу успевающих… Балетные тапочки двух видов просила, для экзаменов белые и чтоб ленты крест-накрест, до коленок. — Она показала на собственной ноге, поверх забинтованной щиколотки. — Барыня милая, ну чисто сказка! Да я и послала бы вам билетик на менуэт, если б пойти изволили. Родители должны продать по двадцать пять билетов, это вроде подарка к окончанию учебного года, да плата за обучение — два форинта в месяц. Как же вы думаете, чего ради я и надрываюсь так! А тут еще Фери, мой муж бывший, да вы его знаете, ваша милость, он снимал у вас хрустальную люстру, когда она уже наполовину оборвалась… словом, Фери все суется с уговорами: не надо, мол, да не надо, зряшние траты, не для этого он алименты платит. Завидуют. Очень завидуют, и в доме нашем живет учительница одна, пощупала как-то руки моей Тилдике, талию и головой покачала — фигура, мол, не балетная, а вы бы только посмотрели, как она пируэт выделывает… Нет, выучу ее, сама хоть с копыт долой!
— Правильно, — сказала Хермина и опять бросила взгляд на часы. — Не позволяйте влиять на себя. Интересы ребенка прежде всего. Она многого может добиться, с таким-то выигрышным по нынешним временам происхождением…
— Не все ж в землю носом уткнувшись жить, право слово…
— Лиф она получит! — Собослаи направилась в комнату. — Я его разыщу. Она этого заслуживает, такая миленькая, складненькая девчушка.
«Примитивна. Как же она, бедненькая, примитивна! — Хермина раздраженно рылась в шкафу. — Но спорить с ней себе дороже, вымоет кухню кое-как. А ведь какая жажда выбиться, наверх вскарабкаться! Да почему бы и нет, если самый дух времени лесенку подставляет…»
Она отодвинула теплый носок для лыж, набитый лавандой, вынула табачного цвета брюки для гольфа и кремовую, натурального шелка английскую блузку. Положила костюм на колени, присела на днище открытого шкафа. Ее ноги странно подергивались, словно готовые к бегу, с губ срывались французские, английские слова, сопровождаемые трепетным подрагиванием запястья…
Рожика опустилась на четвереньки, плеснула на каменный пол кухни воду со щелоком. Двенадцать форинтов за час, а старуха — надо же! — еще и минуты высчитывает.
Но и то сказать, одна ведь она как перст. Так бы и заросла грязью, силенок-то у нее всего ничего, сундук отодвинуть и то не могла бы. А уж комната! Битком же набита, заставлена вся, кому это нужно, и хоть бы одна завалящая какая пеларгония!
Рожика увидела пакет из-под чая — едва не накрыла его мокрой тряпкой. Поднесла к уху, на донышке еще что-то шуршало. Чай экстра. Тилдике пригодится. Пусть попробует.
Протирать кухонную мебель она и не подумала. Формочку для пышек положила на середину буфета. На что она ей сдалась.
— Лиф получите в следующий раз, — объявила Собослаи и все покачивала на коленях костюм для гольфа. — Запропастился куда-то…
— Ничего, не утруждайтесь… Четыре с половиной часа — это шестьдесят выходит. С других по четырнадцать беру, но с вас уж по старому знакомству. А лиф, пожалуй что, и не нужен, отдам лучше сшить, чтоб по фигуре… на той неделе нам центрифугу доставят.
— У меня на кухне по обеим сторонам были сушилки для посуды. Полный комфорт, в тысяча девятьсот тридцать шестом году! И мойка… биде…
— Ох, ох, дорогая вы моя, спешу я, ваша милость. Как бы хорошо иной раз вот так поболтать о том о сем, но ведь дел невпроворот.
Теперь-то она точила бы лясы, старушенция. Задаром.
— А серебро у вас очень красивое, — сказала Рожика напоследок, в утешение.
Она заскочила в продовольственный, купила Тилдике сто граммов самой дорогой салями. Вечером девочка не ест горячего. Ехала с двумя пересадками, и после каждой трамваи были все грязнее, как-то желтее — у нее даже рука было дернулась протереть тусклое вагонное окно.
Дома щелкнула выключателем. Ничего, вот придет лето — и не надо будет все время жечь электричество. Летом квартирка у них приветливая. Уютная. И эти восемь ступенек из кухни в комнату не как у всех. А что стена на кухне отсыревает, так ведь только зимой. Ниже расположена, в этом все дело. Так и инженеры установили.
Ничего, Бузгар все сделает как надо. Он порядочный человек, этот Бузгар, хоть и неотесан. И уважительный. Понимает, что она не его поля ягода. Эх, отчего было не такому, как он, достаться?
— Тилдике-е! — пропела она с порога. — Тил-ди… Тилдике… А почему ты, золотко мое, не в школьном халатике?
— Ну ма-ам… он такой противный, — заныла Тилдике. Ее старательно подвитые волосы словно липли к крупному черепу, глубоко посаженные маленькие глазки недовольно зыркали. — …А ты накрахмалила мою нижнюю юбку? Мне ведь достанется от тети[11] Камиллы!
— Тилдике, душенька, так вот же она, висит на вешалке…
— А в школе эта дура тетя Илона опять мне замечание в дневник записала. И всегда они ко мне цепляются. Уж я по-всякому объясняю: вчера до десяти репетировали смерть Розы — да что толку… слышишь, ма-ам, она говорит, школа прежде всего. — Тилдике развернула салями и стала есть прямо так, без хлеба. — И что третий класс самый трудный…
— Самый трудный, самый трудный… Заладила каждый год одно и то же. Для тебя прежде всего балет!
Тилдике снисходительно отмахнулась.
— Да ладно, ладно. Но тогда хоть шмотки-то покупай стоящие. Вон Бабуце из Брюсселя кружева шлют.
— Вот увидишь! И тебе не придется стыдиться. Я тут на три дня подрядилась убирать после покраски, за это плата двойная!
«Везет мне со шмотками классно, — думала Тилдике и, чавкая, доедала салями. — Если б еще не надо было вечно скакать да прыгать. Вверх, вниз, вверх, вниз, и еще эта противная трещотка… Хоть бы уж выучиться поскорее, что ли!»
— Ма-ам, ну почему ты никогда не купишь копченого сала?
— Копченого сала, золотко мое? Да я бы с моим удовольствием! Но ты же сама знаешь, тебе надо гибкой быть, при твоем балете…
— Сама вон какая толстая, прямо свинья, — звенящим голосом выкрикнула Тилдике, — и я тоже для моих восьми лет совсем не худышка.
— Спорим, ты это от соседки Секереш слышала… Зачем ты с ними разговариваешь? Сколько я раз просила: с ними в разговоры не вступай… Твое дело репетировать, репетировать поусерднее. Но учение в школе тоже забрасывать нельзя, — прибавила она строго. — Кому столько дано разума, как тебе, для того учение все равно что игра…
— Давай в охотника и лису поиграем, ма-ам, — протянула Тилдике и уже тащила из угла потрепанную коробку с настольной игрой. — Я буду охотник, а ты лисица, ладно, ма-ам?
Рожика вздохнула. Хотелось есть, но салями не осталось ни кусочка. И Бузгар вот-вот явится, надо бы пол на кухне чем-то накрыть, чтобы не закапал масляной краской. Но и ребенку внимание уделить нужно. От этого развиваются умственные способности.
Она выбросила кость, сделала вид, будто не заметила, что Тилдике бросила дважды и теперь с визгом преследовала по бумажному полю пластмассовую лису. На какой-то миг Рожика даже задремала.
Тихонько постучался Бузгар.
— Войдите, — раздраженно, со сна, крикнула Рожика.
Бузгар опять постучал.
— Ох, да входите уж, Бузгар. Тилдике, ни к чему не прикасайся, не то испачкаешь руки в краске! Вносите, вносите!
Худощавый, хилого телосложения мужчина, с припорошенными кирпичной пылью усами, неловко топтался на пороге.
— Дак ведь грязное все, как же так, целую ручки… вот ежели бы вы сделали милость, простелили что-нибудь…
— Тилдике, ни до чего не касайся! — Рожика бросила на пол нейлоновую скатерть. — Ну, вот вам. Не стесняйтесь. Посмелее.
— Потому ведь как я не желал бы… при этакой вашей чистоте… мы-то ведь что ж…
— Пустяки, пустяки… На то есть горячая вода. Синьку принесли?
— И белила и синьку, целую ручки… и две кисти, разные. Ужо зашпаклюю, а потом наждаком пройдусь…
— Ох, Бузгар, Бузгар! — Рожика с сомненьем на лице подняла слипшуюся, заскорузлую малярную кисть. — Да вы и вправду дело понимаете? Не испортите мне эту красивую стенку?
— Что вы, Рожика, ежели не в обиду вам такое обращение. — Бузгар приложил руку к сердцу. — Уж вы извольте, доверьтесь. Что ж с того, что дукумента у меня нету? Работаю-то я с им рядышком? Разве не так? Зачем же тогда человеку вот это дадено? — Он громко шлепнул себя по лбу. — Да и глаза опять же на что? — И он ткнул себе в глаза двумя пальцами.
— Документ, — сказала Тилдике, — а не дукумент…
— Ах ты, золотко, — чмокнула ее Рожика, — ах ты, конфетка моя… Знаете, Бузгар, покрасьте мне стенку в небесно-голубой цвет, такой, знаете, словно бы небесно-голубой цвет, затуманенный… можете вы себе это представить?
— Ну как же! — Бузгар поднес обе ладони к самой стене и, не касаясь, как бы огладил ее всю. — Уже все представил. Сделаем к общему удовольствию. Да будь у меня такая кухня…
Бузгар проживал в общежитии каменщиков, девятый квартал по улице Иллатош, первый этаж, комната вторая, на тринадцатой нижней койке, от двери направо. Но на верхней больше воздуха. И скоро уж он переберется туда, комендант обещал ему, самолично.
— Ничего сразу не бывает, Бузгар. И я поменялась не вдруг, прежде-то в складском помещении ютилась. Но, само собой, пришлось ради этого в дворники пойти. Коли сделаете все, как следует быть, так, пожалуй, и сорок форинтов получите на руки, материал-то у вас так и так даровой…
— Помилуйте, Рожика, не в обиду будь сказано, а только вот и счет. — Из кармана холщового пиджака Бузгар выудил затрепанный чек. — Я в хозяйственной лавке покупал все. Я, знаете, этак рисковать не хочу…
— На такой-то большой стройке?! А вы, видать, и впрямь кулема… Ну, глядите, чтоб, значит, все как следует, гладенько да не спеша. Спешить вам некуда. Уж вам-то, право, спешить некуда.
Бузгар сел на пол, между ногами поставил банки с краской.
— Она малость пахучая, барышенька чихать будет.
— Душенька ты моя, золотце мое, ступай наверх, в комнату, а я тебе телевизор включу, фигурное катание, ну, ты знаешь, танцы на льду… понаблюдай!
— Ма-ам… не люблю я фигурное катание смотреть. Только когда падают…
— Ничего такого мудреного тут и нет, Рожика, главное дело — смешать в препорции, вот и вся хитрость, ну, еще важно, чтоб кисть, значит, горизонтально держать. Я ведь все-о на ус себе мотаю! Разве уж так оно поставлено, что дукумент человеку требуется, иначе ему веры нет… да он у меня и был бы, не подхвати я в двадцать девятом скарлатину, семнадцати лет, Рожика, верите ли, скарлатину, а после уж меня обратно-то учеником не взяли, а потом правое бедро сломалось, и все-то я ждал, вот наступят хорошие времена… ну а наступили они, Рожика? Откровенно скажите: наступили?
— Работа у каменщиков грязная…
— …ведь об чем человек мечтает, прошу прощения, вот как я, одинокий: тарелка горячей пищи, раз в день кружка пива, ну и сласти, уж признаюсь, чего тут стыдиться: сласти тоже. Вот хоть вчера: захожу в магазин, прошу пятьдесят граммов с малиновой начинкой, а у них по сто граммов только, в пакетики расфасованы. Могу я себе это позволить — каждый день, Рожика, каждый день! — ну скажите откровенно: могу я себе позволить тратить что ни день два семьдесят только на сладкое?
— Вы уж беритесь за дело-то, — сказала Рожика. — Коли без полос выкрасите, ровненько, так получите от меня целый пакетик ваших малиновых. Тилдике любит только марципановые.
— Целую ручки… — Бузгар склонился над краской. — Вот тут, не в обиду будь сказано, настоящее знание дела требуется… — Он помешал краску, потом вынул лопаточку из маслянистой массы, поднес чуть не к самому носу, к губам, только что не попробовал на вкус. До чего ж они там все задаются, маляры знаменитые! И ведь какую деньгу заколачивают, под завязку. А другой — знай таскай кирпич да цементный раствор, оттого только, что случая не представилось. Но верхняя койка — местечко все же завидное. Там и полочку можно будет приладить к решетке. На полочке сласти держать… «Нога аиста» открыт до одиннадцати, взять обжаренные свиные ножки, потом пиво. Пожалуй, целую кружку можно. Если эта работенка выгорит. А хозяйку он и на все пятьдесят выставит: деньжата у нее как будто водятся, стоит только на дочку ее поглядеть…
— Тилдике, доченька, я постельку тебе постелила, ну иди, иди же, баю-бай…
— Ма-ам, ска-азку…
— Деточка, золотко мое… — Рожика поколебалась, но потом все же последовала за Тилдике. Дверь она оставила открытой.
— Бузгар, миленький Бузгар, да начинайте же! Уж так я устала за день. Я ведь еще старушке одной помогаю, то да се…
— Так и следует. Помогать — дело хорошее, — покивал Бузгар и вдруг решительно провел кистью через всю стену. Потом поглядел на дело рук своих, локтем опершись на колено. — Первый класс. Первый класс, Рожика, право.
Да никто и не станет искать эту краску, сколько там ее взято, всего ничего. Вон куда выставили, чуть ли не к мусорной яме… Полтора часа — и готово дело.
— А наждаком совсем не обязательно. Гладко, как зеркало…
— …и тогда королевна надела вдруг свою корону. Нет уж, Бузгар, пусть все как уговорились: и шпаклевка, и наждаком…
— Ну дак ежели доверия нету, — проговорил Бузгар и стал внизу у лестницы, — оно ведь можно покуда и оставить как есть.
— Да вы, чего доброго, обиделись? — «С него станется, повернется — и был таков. А потом счищай бритвой наляпанное. Коли взялся, так, верно, понимает, что к чему!» — Я и пятьдесят заплачу, не постою… только вы уж поспешайте, у меня, право слово, глаза слипаются.
Хоть бы не стащил чего. Да где ему, недотепе. Рожика прилегла на розовую дамастовую перину, бочком — чтобы Тилдике не помешать, животик ей не сдавить. И задремала.
Бузгар все косился на ноги Рожики. Одна нога откинулась вбок и, толстая, как колонна, придерживала открытую дверь.
«Вот так-то, — думал он с удовлетворением, — не силой единой!.. Тут еще и ловкость рук нужна да хитрецы малость, в том и секрет. А ей бы разве ж сообразить…»
Каждый раз, проведя полосу, он делал паузу.
«За такую работу и шестьдесят форинтов — не деньги, это уж точно… Пивная пена. Драже с фундуком. Целлофановые пакетики. Шурша-ат…»
Тилдике захныкала, оттолкнула мать.
— Пи-ить хочу… чаю, ма-ам… зачем разбудила?
Рожика, покачиваясь со сна, сползла с кровати.
— Бузгар… о господи помилуй, Бузгар… и это, по-вашему, небесно-голубой цвет?
Бузгар качнул кистью, сделал последний мазок вокруг крана. Покосился на сделанное. «Похоже, вместо василькового я синих чернил подмешал. Либо на банке неправильно было написано. Экая пропасть безголовых повсюду! Безответственные элементы, одно слово…»
— Рожика, цвет изменится, вы уж мне поверьте, вот как кислородом прихватит, от воздуха, значит, это уж так… а утречком, при дневном свете, да что говорить, вы увидите, ой-ой! Завтра приду, легонько лачком покрою, задаром, для-ради вас — что я, не вижу, с кем дело имею!.. — Он поспешно завертывал кисти в клеенку. — Да за такую работу маляр взял бы с вас сотню, и еще ведь материал!.. А я со своим… Жаль, нельзя сейчас рукою потрогать.
Рожика заваривала чай.
«Ну что теперь делать? — думала она. — Не сдирать же! Зато хоть не марко. А для Тилдике раздолье: будет по вечерам писать мелом».
Очень хотелось спать, очень. Она отсчитала пятьдесят форинтов, все мелочью.
Бузгар переминался у дверей, покашливая.
— А конфет, оказалось, нету. Тилдике раздала подружкам. Такая глупышка. Все раздать готова.
— Так, может, ежели вам не в обиду… — пробормотал Бузгар и указал на пачку из-под чая, — все равно она уж пустая…
— Вот эта? — спросила Рожика. Аккуратно расправила золотую фольгу. — Чай экстра… есть тут семейство одно, высоко летают… сорят деньгами…
— Мне бы она кой для чего пригодилась… потому как все одно пустая…
«Можно будет в нее пирожное с кремом положить — все не под подушкой держать!..»
— Берите, берите. — Рожика еще раз внимательно осмотрела пачку, словно ценность ее возросла вдруг во много раз. — Красивый пакетик, ничего не скажешь. Поглядите-ка, вот здесь верблюд. А вот это, вроде капусты, — это пальма. А желтое, высокое позади — пирамида. Знаете, что такое пирамида?
— Спасибо, целую ручки… и малость любую ценить нужно…
— Одно жалко, — задумчиво проговорила Рожика, — что верхушка кем-то оторвана… лентяй, видно, пустой человек открывал… потому вроде бы не закончено…
— Мне и так сойдет. — Бузгар сложил пачку, понюхал, сунул в жилетный карман. «Да ну их, свиные ножки. Свиной студень — вот это еда так еда».
Он оглядел завернутый в клеенку инструмент, попинал сверток ногой.
— Простите, Рожика, ежели чиню неудобство, а только оставлю я все это барахло здесь, у двери. Ужо пришлю за ним утречком. У меня там под рукой малец один ходит никчемушный, за два форинта он заскочит к вам, заберет.
Перевод Е. Малыхиной.
© Издательство «Художественная литература», 1980.
ИЗ СБОРНИКА «РЕЙМСКИЙ АНГЕЛ» (1975)
ИЗАБЕЛЛА ШЕЙЕМ
Старая солидная гимназия. И это сразу видно, потому что коридоры ее темные, ступеньки лестниц пообивались, а трубы центрального отопления урчат и подтекают. Окна высокие, и верхнюю их часть уже много лет не мыли, так как нет такой длинной стремянки, с которой протирщики стекол достали бы до них. На окнах на самом верху следы метких бросков: присохшие квадратики плавленого сыра, апельсинные корки, окурки. А с недавнего времени на оконной раме висит грязный носок, принадлежавший Никодемусу Карайитису, и это в хорошем, в общем-то, дисциплинированном третьем классе, где учатся в основном девушки, смешливые, с одинаковой «плесенью» на веках, как называет краску для век преподаватель биологии Эрне Хаттанти — между прочим, классный руководитель, — и несколько длинноволосых и вследствие этого ангелоподобных ребят, которые носят ожерелья из костяных зубов и широкие кожаные пояса — за них так удобно держаться, засунув большие пальцы обеих рук. Есть в классе пять-шесть ребят, у которых помимо амбиции достаточно еще и ума, и они находят удовольствие в том, чтобы блистать знанием учебного материала. Такой средний, неплохой класс можно спокойно вести из года в год — ученики не принимали участия в олимпиадах, но и не устраивали особых дебошей. Ну так вот, в этот обычный класс явился этот самый Никодемус Карайитис, а попросту Нико, и нужно же было ему именно сюда прийти. Волосы у него не длинные. Внешность обычная. Уроков почти не пропускает. Сидит на первой парте. Ни по какому предмету не собирается проваливаться, даже наоборот. Бывает, что только он один и решит задачу, по математике. Как-то он поправил преподавателя географии, когда тот рассказывал об одной стране на востоке. После недолгих пререканий удалось выяснить, где она расположена. Точно не знал ни тот, ни другой. Вдобавок ко всему Нико нравится девчонкам. И даже очень. У него смуглая кожа, черные глаза, черные волосы, он высокий, хорошо сложен, занимается дзюдо и носит узкие брюки в обтяжку. Парни, завидуя ему, пытаются посмеиваться над ним, секретарь комсомольской организации (он отрастил себе маленькие бакенбарды) старательно избегает его, и педагогам он сообщил, что «принцип невмешательства» в данном случае его политическая линия.
До появления Изабеллы Шейем с Нико все же управлялись. Эрне Хаттанти пару раз рявкнул на него: «Лучше заткнись, не то поговорю с тобой иначе» и «С неотесанными хамами в спор не вступаю». Эрне Хаттанти бывал груб, иногда это выходило за всякие рамки, но материал объяснял толково, отметки выставлял справедливо, любимчиков не заводил, а его грубость принимали в классе почти как должное.
— Сперва разрушить, затем строить, — провозглашал он не раз коллегам один из своих принципов формирования личности. Некоторые чувствительные души при этом вздрагивали, они отдавали предпочтение безмятежности и беспорядку — пусть идет как идет, день прошел, и ладно, урок кончился — слава богу, опять перемена.
До прихода Изабеллы Шейем в самом деле все было терпимо. Хотя преподаватель Мехеш, именуемый Зюм-Зюмом, и спорил с Нико до посинения. Пикировка, пререкания, взаимные колкости — анархия, да и только. Иногда достаточно было одного жеста при чтении стихов, Зюм-Зюм замечал этот жест, и ему уже казалось, что Костолани[12] уменьшается до невидимых размеров. На каждом уроке он почти физически ощущал, как испаряется, улетучивается куда-то литература, даже самая высокая, и как Ади[13] сжимается в пламени глаз яростного спорщика Никодемуса Карайитиса.
Нарушение дисциплины?
Нет, конечно. Уж во всяком случае, здесь дело не в дисциплине.
— Ты что, вообще никого не признаешь?
— Никого, — отвечал Нико. И в то же время он читал наизусть стихи Ади, он помнил их, наверное, не меньше двух десятков, но не те, что входили в программу. И толковал он их по-своему, на свой собственный манер.
Зюм-Зюм относился к Нико серьезно. Бывало, они спорили до конца урока, ученики же тем временем были предоставлены самим себе — те, кто поумнее, с интересом прислушивались к блестящим доводам Зюм-Зюма, к постепенно слабеющим атакам Нико. Они только не понимали, почему Нико все равно повторяет: «Его ненавижу больше всех». И почему он так вращает глазами? И почему дергает ручку двери до тех пор, пока не повыскакивают все гвозди?
Но все же до появления Изабеллы Шейем с ним кое-как справлялись. Порою, впрочем, не обходилось без вмешательства директора.
— Тут не так все просто, как вы думаете. Здесь дело в его отце, — пояснял он, прищуриваясь. И тем не менее посылал родителям Нико предупреждения за нанесение чудовищных оскорблений учителям: «Позволяет себе дерзости с учителями». Нико долго потешался, высмеивая стиль директорских замечаний: «Дезорганизует коллектив и разлагает дисциплину». Было бы трудно пересказать, что же, в сущности, произошло, ибо не произошло ничего. Ребята решили покрасить стены актового зала на общественных началах, сделать работу, которую одна контора выполнила так, что не только новая, но и краска пятилетней давности сползла со стен. Словом, мальчики взялись за работу… Явился и Никодемус Карайитис, но он только размахивал кистью в воздухе и строгим взглядом следил за каждым движением своих товарищей, в особенности за комсоргом. Потом встал за его спиной, недовольно пощелкал языком, потом одобряюще, дружески положил руку на его плечо.
— Неплохо, неплохо, продолжай дальше в том же духе! Шит колпак не по-колпаковски, а по-комсомольски. А ну-ка, скажи быстро, сможешь?..
Отец смущенно стоял в приемной. Это был пожилой, невысокий, полный человек. Он плакал. Плакал настоящими слезами.
— А ведь он уже тут родился. Ну вы подумайте…
— Такая в нем течет кровь. Никуда от этого не денешься. Человек верен своей натуре, — сказал Зюм-Зюм, но коллеги одернули его:
— Еще на коня сажаете разбойника!
На это Зюм-Зюм ответил, что он хочет приободрить отца. И Зюм-Зюму простили, литераторы ведь всегда немножко с заумью.
Длинноволосых, ангелоподобных парней время от времени отсылали стричься. Те, что поглупее, отсеивались вообще. Девушек перед началом урока дежурные по коридору заставляли смывать краску с глаз. Лишь в полдень разрешалось снова накладывать ее. Длина халатов достигала колен, так было предписано школьными правилами поведения. Только по улицам могли они щеголять в коротеньких кожаных юбчонках.
Но что поделать с Никодемусом Карайитисом? Нужно было бы продержаться еще год, до выдачи аттестатов зрелости, а тут в школе появилась Изабелла Шейем. До нее эти предметы вела тоже учительница, по прозвищу Цыпленок. У той было пристрастие к желтому, и зимой и летом она всегда была одета в один из оттенков желтого. И еще в ней было что-то стоическое, она напоминала мучеников-христиан — тех, в которых кидали камнями, стреляли из лука. Она всегда точно, минута в минуту, заходила в класс и, не обращая ни на кого внимания, с улыбкой на устах говорила весь урок напролет — будь то история или русский язык, — всегда с одной и той же улыбкой, с непоколебимым спокойствием, не слыша реплик, не видя того, что происходит в классе, не чувствуя летящих мимо огрызков яблок. И так от звонка до звонка. Дети ее презирали, но злобы к ней не чувствовали. Нико, например, к этой женщине относился лучше, чем к другим учителям. Он не удостаивал ее внимания. Позднее это ее пристрастие к желтому сыграло с ней злую шутку. С инфекционным воспалением печени она надолго слегла в больницу. И вот вместо нее прислали Изабеллу Шейем.
Была весна, и Изабелла Шейем явилась в туфлях на шпильках. В Венгрии в то время туфли на шпильках не принимали уже даже в комиссионном, только Изабелла Шейем носила их с подчеркнутым достоинством. Она шла, и ноги ее то и дело подворачивались то внутрь, то наружу, и худые полушария ее зада колыхались при этом. Ей было лет двадцать шесть — двадцать восемь. Лицо у нее было бледное, прическа — сложное сооружение из белобрысых валиков-сарделек, только сардельки не были тугими и крепкими. Будто полопались на полпути в школу.
— Милое кукольное личико, вот ведь в чем ужас, — морщился Хаттанти. Ее лицо и в самом деле было милым и похожим на кукольное. Крошечный носик картошкой, но эта маленькая картофелинка так неловко прилепилась посередине лица, что придавала ему какое-то странное, обиженное выражение. На самой Изабелле Шейем всё жаловалось, даже мех на ее пальто: казалось, в нем еще таился маленький живой зверек и наскоро обработанная шкурка обвиняла в чем-то, вызывала чувство неловкости.
— Не миновать беды, — сказал Зюм-Зюм, — особенно если мы ее пустим в класс, где Нико…
— Слабее своей предшественницы она быть не может, — мудро заметил директор, — освоится постепенно.
Зюм-Зюм все же попробовал подготовить учеников, взывал к их разуму и сердцу.
— Если возникнут осложнения, — предупредил он Изабеллу Шейем, — я вам охотно помогу.
— Я привыкла сама справляться со своими трудностями, — сказала Изабелла Шейем и коснулась мизинцем бороды Зюм-Зюма. — По-моему, эта борода — плохой пример для молодежи!
Ей каждый день звонила мать, в перерыв между первым и вторым уроком. Они долго беседовали. С безграничной нежностью.
«Ты мед нашла?.. Хорошо, моя звездочка, ты не беспокойся. Нет, я потом принесу. А Йожи не объявлялся? Ты джем съела?..»
— Скажите-ка, милая барышня, — однажды ехидно поинтересовался Хаттанти, — кто такой Йожи?
— Дворник. Он дрова приносит. И колет их, — ответила Изабелла Шейем. — Ведь дрова надо принести наверх и сложить в уголок, сырые в одну сторону, сухие в другую, да щепок для растопки приготовить. Не может же моя мамуля заниматься физической работой. Потом мы некрасивый уголок закрываем занавеской… Вот кто такой Йожи. Хорошо, что мы это выяснили…
— Понятно, — сказал Хаттанти, — понятно, — и быстренько ретировался с классным журналом под мышкой.
А халат! Это было что-то бесподобное. Леопардовый халат Изабеллы Шейем. Этот пятнистый леопардовый халат она через день стирала в раковине в учительской, пользуясь мылом, которое тут лежало, и в учительской же сушила его, расправив на плечиках, подвесив к книжному шкафу. В сумочке она хранила гвоздичный одеколон — в маленьком флакончике, на переменах она смачивала одеколоном свой носовой платок, затем протирала им лоб, шею и прожилки на запястьях.
— С дисциплиной в этой школе дела обстоят не блестяще, — высказалась она после нескольких дней работы и в присутствии директора. — Дети не знают даже, что означает слово «смирно»… Они просто не умеют стоять по стойке «смирно».
Она сказала это с серьезным видом. Озабоченно-плаксивым тоном.
— Я объяснила им, что по стойке «смирно» стоять надо навытяжку, пятки вместе, руки по швам и так далее… Хотя это дело классного руководителя, но я вынуждена была вмешаться. Такие большие дети, и надо же… Конечно, это не только здесь… Но вот что странно, я сталкиваюсь с этим уже в третьей школе, — добавила она утешающе, повернувшись к директору. — Дети не знают самых элементарных правил…
— У меня, моя милочка, они стоят навытяжку, — сказал Хаттанти и, чтобы перебить гвоздичный аромат, закурил трубку. — Захочу, они мне пол вылижут, ползая на коленках. Если, конечно, захочу.
— Ну зачем же такое захотеть? — поинтересовался Зюм-Зюм тихо.
— Если дети нас не уважают, невозможно их обучать! — И Изабелла Шейем внесла два неуда в журнал — оба против одной и той же фамилии. — И это уважение им надо прививать. В особенности если взять мои предметы!
— Ну вот, — сказал директор, — в этом мы с вами согласны.
Зюм-Зюм вел кружок по литературе. В хорошую погоду занимались в дальнем углу школьного двора, кружок его хорошо посещали, и здесь большинством голосов решалось, какие темы обсуждать на занятиях. Зюм-Зюм сказал как-то школьному инспектору, что вся годовая программа не дает ребятам столько, сколько эти послеобеденные занятия. Инспектор испугался, попросил все тетради с сочинениями, внимательно изучил планы занятий, не отсутствует ли в них «ознакомление с известными писателями», и успокоился, даже подбодрил Зюм-Зюма: нельзя быть таким пессимистом. Зюм-Зюм на это ответил, что пессимистами бывают как раз те люди, которые чего-то достигли, но только можно ли это назвать пессимизмом и стоит ли говорить в этом случае об оптимизме и пессимизме. Однажды на занятиях своего кружка он услышал, как третьеклассники перешептывались: Изабелла Шейем… Изабелла Шейем…
— Ну хватит, — одернул он ребят, — вы привыкли к полной безнаказанности на уроках ее предшественницы.
Ученики обиженно замолчали. А Зюм-Зюму показалось, что он понял наконец, откуда эта всеобщая устойчивая неприязнь к ней. Изабелла Шейем — педантка до мозга костей. Требует железного порядка, казарменной дисциплины. И все ее высказывания в учительской такого же плана.
— Чтобы на моих уроках да не выполнить задания…
— Он, видите ли, дома забыл словарь… Да кто этому поверит?
— Насморк — это не болезнь! Температура — это когда тридцать восемь и выше!
И в то же время певуче-жалобный голос, обиженный нос-картофелинка сбивали с толку. И еще телефонные разговоры с мамулей.
«Ты гардины подняла? А ты подыми, а в двенадцать спусти снова… И с фасадной стороны тоже!.. Ладно? Да, мамочка, сервелат я съела… Немножко ломтики толстоватые получились… Я говорю, толстоватые получились, будем теперь резать тем ножом, что побольше, ты согласна, золотко мое, береги себя, да что ты, я вовсе не хриплю, это телефон искажает, нет, нет, не болит… я уже приняла… целую, до свидания».
После этого Зюм-Зюму стало неловко говорить по телефону, когда жена иногда звонила ему.
— В чем дело, старушка? О’кей! Пока!
Изабелла Шейем испуганно таращила голубые глаза. Чего же тогда ждать от учеников?
Случилось как-то в одну из пятниц, в конце мая, что все учителя были на месте, никого не нужно было замещать, и директор, воспользовавшись «окном», направился по коридору третьего этажа к биологическому кабинету, где Хаттанти браковал негодные чучела птиц и варил кофе с домашней мезгой.
За дверьми классов журчали успокоительные приятные шумки.
«Гул труда», — подумал директор. И тут в одном из классов поднялся невообразимый гвалт. Этот гвалт выплескивался в коридор, вырывался в открытые окна, долетал до соседнего двора, где сидели старички пенсионеры возле ящиков с цветами и с возмущением слушали, что происходило в стенах этой некогда славившейся безупречной репутацией гимназии.
Это был не обычный шум. Громогласный хохот, топот ног, гиканье, и над всем этим крики Изабеллы Шейем, переходящие в истерические вопли:
— Я попрошу учащуюся молодежь вести себя дисциплинированно… Я буду выносить выговора… с печатью… Ситуация в стране в эти дни стала критической… лучшие представители нашего народа… вы что, не понимаете, что ли? Не понимаешь, что ли, что тебе надо сидеть и молчать? Да я по одной волосине повыдергаю твою длинную гриву… хулиган несчастный… то был тысяча девятьсот сорок восьмой год… а ты, недоумок, только и знаешь, что ржать во все горло, курить на улице и застегивать на людях брюки, вот это по твоей части… Тихо… сорок восьмой год, год поворотный… два кола… а возможности исправить свои единицы я тебе, бездельник, не дам… Я прошу вас, учащаяся молодежь, проявить хоть сколько-нибудь сознательности, ведь вы, в конце-то концов, уже взрослые люди, стоите на пороге жизни, вы должны получить хоть минимум знаний…
— И это был лучший из классов-выпускников. Перед выдачей-то аттестатов зрелости! Любимый наш класс!
Хаттанти махнул рукой. Он кидал в старую корзину с большой круглой ручкой вылинявших белок, одноногих птиц, бросил туда и пустотелого зайца, которого какой-то озорник раскрасил под леопарда, завязал на шее бант и написал на нем печатными буквами: «Изабелла Шейем».
— Для меня это не новость. Что, для тебя, что ли, новость? — сказал Хаттанти. — Я давно эту музыку слышу. А теперь представь, что творится в моем классе, где Никодемус. Но эта баба дождется. Она заставляет меня подписывать по шесть замечаний на день, а парни назло ей не хотят заниматься. Не могу же я выгнать весь класс — тридцать три человека.
— Ладно, я попробую поговорить с ней, — пообещал директор.
Он вызвал к себе Изабеллу Шейем, и Изабелла Шейем вышла от него вся в слезах.
— И все из-за того, что я требую порядка… Из-за того, что не поступаюсь своими принципами.
Теперь уже и коллеги разъярились. Лишь Зюм-Зюм все еще жалел ее. Но к его словам уже никто не прислушивался. Стоило только упомянуть в классах имя Изабеллы Шейем, и ученики до конца урока насмешливо фыркали и покатывались со смеху. Никодемус Карайитис ржал, как лошадь, несущаяся под гору без поводьев.
— Она мне заливает, что я интеллектуален… что я тонкая натура…
Изабелла Шейем — это подтверждали и другие — и в самом деле удивительнейшим образом выказывала свое неравнодушие к Нико.
— Это мой принцип выявления одаренности, — говорила она Зюм-Зюму, — я просто не обращаю внимания на его нахальство. Пытаюсь воздействовать на его рассудок, докопаться до самых корней его интеллекта…
— Что же, копайте, — сказал Хаттанти, — но, ежели ваша лопата сломается, вы мне скажите. Тогда я заведу его милость в уборную и врежу ему по первое число…
Зюм-Зюм вздохнул. Его борьба с Нико не прекращалась ни на один день. Он вцепился в парня крепко, с бульдожьей хваткой, и иногда ему удавалось выбить почву у него из-под ног.
— Ты меня, видно, здорово ненавидишь, — спокойно говорил он Нико. — Но ведь я тебя никогда не обижаю.
— Конечно, господин учитель меня любит. Еще как обожает!..
— Нет, я тебя не люблю. — Зюм-Зюм спокойно смотрел, как Нико, стоя у парты, паясничает, кривляется — даже вспотел от стараний, — я, мальчик, не привык лгать. Я тебя так же не люблю, как и ты меня. Я счастлив в те редкие дни, когда ты отсутствуешь.
Карайитис сел.
— По крайней мере откровенно сказано, — проговорил он смущенно, потом четыре или пять раз повторил эту фразу, уже с явным одобрением: — По крайней мере откровенно сказано…
Первого апреля — когда носок повис на раме окна — в классах решили устроить традиционный ералаш. Первое апреля — неотъемлемая часть учебного года. Когда опрокидываются парты, мальчики заплетают свои волосы в косички, девочки малюют себе усы, а на дверях класса пишется: «Закрыто на учет» или «Опасно для жизни».
Учительский коллектив каждый год смотрел на все это сквозь пальцы, а иногда сами учителя в зависимости от темперамента и настроения принимали участие в общем веселье: Хаттанти, например, к неописуемому удовольствию учеников, пел песню, начинающуюся словами «Поди сюда, Барбос», и было что-то непостижимое и трогательное в том, что злюка Хаттанти, закончив петь, с грустным лицом, полузакрыв глаза, достает свою трубку, большим пальцем набивает в нее табак и мягко говорит:
— Вот, ребята, как оно бывает…
И Зюм-Зюм тоже мирился в этот день с тем, что ученики декламируют Ади, добавляя после каждой строчки слова «в штанах» и «без штанов».
…ибо тысячекратные избавители в штанах — венгерские избавители без штанов…Потому что Ади унизить невозможно. Даже так — сама правда.
На этот раз все сложилось иначе. Четвертое апреля пришлось на вторник, а перед ним — воскресенье и понедельник — была пасха. Празднование Дня освобождения выпало на первое апреля, а после него сразу должны были начаться каникулы. Ученики из школьного драмкружка вызвались после речи директора прочесть перед микрофоном несколько хороших, пламенных стихотворений. Потом пластинка с гимном и все такое.
Традиционный ералаш отменили. Апеллируя к возросшей сознательности учащихся.
Большинство все поняло и согласилось. Зато третьеклассники подняли шум. К ним в класс вынужден был зайти сам Хаттанти и «убеждать» их за закрытыми дверьми.
С окраской актового зала все еще не было покончено — рабочих для очистки извести с пола могли прислать только к июню. Поэтому вся праздничная программа передавалась по классам по мегафону во время последнего урока и под присмотром находящегося там учителя. У Изабеллы Шейем последний урок был в классе, где учился Карайитис. Аппарат порою барахлил, и тогда директорскую речь прерывали резкие свистки. А иногда можно было разобрать лишь отдельные слоги:
— …годняшний… наша… дина… ная армия…
Карайитис ржал, как боевой конь.
— …наша… дина!.. ная… мия! И это лучшая гимназия, ну и ну… Уровень лучшей гимназии… наша… дина, ная… мия… Здорово ведь, дражайшая учительница, не правда ли?
— Я неоднократно указывала вам на то, чтобы вы не обращались ко мне так фамильярно, — сказала Изабелла Шейем. — Я понимаю, что это выражение вашего доверия ко мне. Весьма своеобразное, надо сказать, но я вас прошу не прибегать больше к подобному обращению.
Следует отметить, что к Нико она обращалась на «вы». Со всеми другими была на «ты», даже трепала ребят за волосы, если им не удавалось увернуться.
Но Нико она боялась. Боялась этого мальчика. Даже ее каблуки-шпильки, когда она говорила с ним, подворачивались чаще обычного.
— Дражайшая учительница, — продолжал Нико совсем тихо, сощурив глаза, — это первоапрельская шутка, не стоит принимать всерьез… наша… дина… ная… мия… спокойно… спокойно.
— Это технические неполадки, — заикаясь, оправдывалась Изабелла Шейем и вдруг накинулась на девочку, которая рассматривала свои зубы, держа под партой маленькое овальное зеркальце. — И что ты там разглядываешь? Думаешь, что очень красивая?
— Она смотрит на свои зубы, — пояснил Нико, — ведь и у лошади зубы смотрят, по ним судят, годна ли еще бедняжка… — И он заглянул Изабелле Шейем в рот. Изабелла по случаю праздника сняла с себя свой леопардовый халат. Теперь его ей сильно недоставало. Как она ни поправляла кофточку, та все время топорщилась у нее на животе.
— Вот видишь, — повернулась она снова к девочке, — даже в кругу мальчиков вызывает неодобрение, если кто-то чересчур заботится о своей внешности… Дай-ка сюда дневник!
Ее слова потонули в общем гуле. Мегафон теперь работал исправно, но его уже никто не слушал.
— И каждый может принести мне сюда свой дневник… каждый, кто не понимает, что в школе распоряжается учитель, а ученик обязан слушаться…
— Не очень-то, не очень, — предостерегающе протянул Карайитис, и вот тогда-то он и закинул свой носок от спортивной формы на раму открытого окна. — Это флаг… не очень-то…
Теперь уже смеялся весь класс. Даже секретарь комсомольской организации и тот не выдержал. Лишь когда Изабелла Шейем с упреком поворачивалась к нему, он старался придать своей физиономии, сообразно обстоятельствам, весьма возмущенное выражение.
— Я закачу выговор всему классу, всем поголовно! — Изабелла Шейем, спотыкаясь о большие спортивные сумки, подошла к окну и закрыла его. — Я весь этот сброд вышвырну отсюда…
— Не очень-то, не очень… — пропел Карайитис.
— Вы думаете, что сострили… Это примитивная пещерная острота… я не допущу, чтобы такие саботажники с аттестатами зрелости в кармане… Я вам покажу, где раки зимуют!
Карайитис указал наверх, на носок.
— Одного я уже вижу, во-он он!
— Уж я ли не делала вам поблажки! — Изабелла Шейем вся раскраснелась, нос ее от бессильной ярости раздулся вдвое. — Но теперь кончено! Я воспользуюсь данной мне властью. Ведь школа — это аппарат власти.
Один из белобрысых валиков раскрутился, и из него посыпались маленькие шпильки. В починенном мегафоне раздался звонкий голос лучшего чтеца школы:
— …иные отряды…
— А валик из ряда, — добавил Карайитис.
Изабелла Шейем инстинктивно схватилась за голову. Теперь уже смеялись до колик, удержаться никто не мог.
— Вы не понимаете? Не понимаете, что учитель приказывает, а ученики по струнке ходят! С кем это вы шутки шутить вздумали? С учителем? Да вы у меня все под каблуком, даже если вы выше потолка прыгнете… все равно мой верх будет. Сила на моей стороне. Власть есть власть. И вы понесете должное наказание… все вы в этом участвовали… это чуть ли не политическое дело…
Ее выбор пал на Аги Чикор, она встала перед ней. Эта девочка всегда носила шарфик, которым закрывала большой шрам на шее. Она могла говорить только шепотом — последствие какой-то травмы, перенесенной еще в раннем детстве. Она была девочкой живой и веселой, но легко пугалась, и тогда у нее синели губы и ее рвало.
— И ты туда же? Что ты на меня вытаращилась? Вот напишу твоему отцу на работу!
Карайитис вскочил с места. Вернее, он сел и снова встал, так как до этого стоя кривлялся у своей парты, вызывая у ребят новые приступы смеха.
— Что вам нужно от Чикор? Вы все это скажите мне, а на ней нечего отыгрываться…
— Я не лично к ней обращаюсь, — проговорила Изабелла Шейем, бледнея, — я обращаюсь ко всей учащейся молодежи. Я не устану повторять. Меня наделили властью выбивать дурь из непокорных… подстрекателей разных… да, наделили властью… и раз венгерское государство доверило мне этот пост, я буду выполнять свой долг…
Теперь уже никто не смеялся. Не вызвало смеха даже то, что новый декламатор, запнувшись, дважды повторил одну и ту же строчку. Класс кричал. Выкрикивал обрывки слов. Обломки предложений. Хотя многие ученики и помнили о будущем годе, об аттестате и предстоящих выпускных экзаменах. Об отметках, с которыми они выйдут из школы.
— Да, я говорю… и буду действовать… и никакая свора меня не остановит!
— Так уж и не остановит? — спросил Никодемус Карайитис, и смуглая кожа его лица побелела. Он медленно, как будто по принуждению, подошел к кафедре. Руки из карманов он вытащил лишь тогда, когда уже вплотную приблизился к Изабелле Шейем. С полсекунды он размышлял, как лучше осуществить задуманное, затем обошел ее сзади, правой рукой крепко обхватил ее за талию, а костлявые пальцы его левой руки закрыли ей рот.
Не было слышно ни одного шороха. Изабелла Шейем попыталась освободиться от этого «намордника», казалось, что железные пальцы только слегка прикрыли ей рот… Нико вообще не причинил ей боли, все это скорее напоминало объятие. Изабелла Шейем вдруг перестала вырываться. Совсем не шевелилась. Из глаз ее полились слезы. Пальцы Никодемуса Карайитиса, почувствовав их, слегка дрогнули.
Класс замер, словно киноленту вдруг остановили — с учебной целью. Капли из батареи центрального отопления неправдоподобно громко падали на пол.
Так прошло две-три минуты.
Из мегафона послышались звуки гимна, и тогда, будто очнувшись от глубокого сна, все сразу вскочили и замерли по стойке «смирно». Никодемус Карайитис отпустил Изабеллу Шейем, тоже встал навытяжку и откинул голову.
Изабелла Шейем поправила юбку. Она стояла вместе со всеми. Дождавшись, пока прозвучали последние аккорды, она вышла из класса.
Она не бежала. Шла. Тотчас же попросила свою трудовую книжку. Ей предлагали перейти в другую школу, но она не согласилась. Говорили, что недели три-четыре была без работы, а потом устроилась редактором-стилистом в специализированном издательстве, и даже оклад там был выше на пятьсот форинтов.
— А что ни говорите, — сказал Зюм-Зюм, — эта женщина сумела уйти, когда поняла, что надо уйти. И ушла не без достоинства, сделав для себя какие-то выводы.
Случай с Никодемусом Карайитисом заслушивался 3 мая в двенадцать часов дня. В закрытом кругу зачитали письмо Изабеллы Шейем, в котором она писала, что не чувствует себя оскорбленной и в решении вопроса целиком полагается на педагогический такт преподавательского состава.
Никодемус Карайитис уже не посещал школу. Ему запретили это тогда же, первого апреля.
— Я исключение предпочитаю мучению… — заявил он, узнав о решении.
Он и теперь не выказывал ни раскаяния, ни особого цинизма, на вопросы отвечал вежливо и охотно, но вот только, когда Нико спрашивали о мотивах его поступка, на него вдруг нападала глухота.
Директор был не в духе; вдобавок к этой неприятности кто-то пожаловался на него в городской совет за то, что он будто бы присваивает забракованные наглядные пособия биологического кабинета.
— Ну, вывез я три или четыре голубиных чучела на свой участок, — говорил он Зюм-Зюму, — но с разрешения! Они уже много лет назад были списаны, эти три-четыре пегих голубя, а я посадил их в траве… Оттуда только головки выглядывают… и вот из-за такого пустяка хотят меня скомпрометировать!
— Да, ужасно, — сказал Зюм-Зюм и подумал о том, что, может, и стоит наказывать человека, который способен осквернить чучелами неповторимую красоту природы.
Наказание за грубое нарушение дисциплины было принято единогласно: исключение из школы с лишением права посещать какое бы то ни было учебное заведение; Зюм-Зюм голосовал за это первым, хотя это решение и казалось ему несколько забавным. Нико оно только обрадует: через год-два он подаст заявление, окончит вечернюю школу.
— Надо же было такому случиться! — Хаттанти никак не мог успокоиться. — В таком солидном учебном заведении. Ну, погодите же, только пикните теперь у меня…
Сообщить решение виновному вызвался Зюм-Зюм.
— Оно должно быть еще утверждено, — говорил он Нико в плохо освещенной приемной. — Но ведь ты и не ждал другого?
— Нет, не ждал, — сказал Нико спокойно.
— Хочешь, я скажу твоему отцу? — Сквозь маленькое окошко Зюм-Зюм видел отца Нико, дожидающегося в коридоре. Тот все покачивал головой и плакал.
— Нет, — сказал Нико. — Он еще, чего доброго, прощения начнет просить. Такой бесхарактерный.
— Ты и меня ненавидишь?
— Нет, — ответил Нико, — но я вас не люблю. Того, кто причастен ко всему этому, каким бы он хорошим ни был, просто нельзя любить.
— Ты не прав, — проговорил Зюм-Зюм. — Как раз это и есть самое трудное — попытаться понять другого человека…
— Нет! — повторил Никодемус Карайитис. — Мне нужно идти. Я спешу на тренировку.
— И все-таки… — Зюм-Зюм остановил его, — знаешь, я долго думал над этой историей… Почему? Почему именно с Изабеллой Шейем?.. Так поступить с женщиной!.. Да еще с той, которая тебе делала поблажки. Ты это из трусости? Если бы ты такое выкинул с Хаттанти, о котором мы все знаем… ну, каждый знает… Словом, случись это с Хаттанти, я бы скорее мог понять.
Никодемус Карайитис улыбнулся.
— Господин учитель, — сказал он с сожалением, — я на сильных людей не сержусь. Но тот, кто прячется за клочком бумаги и оттуда грозит… нет ничего противнее, чем бумажная власть.
Он попрощался и вышел. Отец засеменил за ним, театрально воздевая руки вверх, то ругая, то умоляя сына. Нико же время от времени поглаживал его в утешение по лопаткам.
— Скажите, будьте добры, это правда? — спросила Зюм-Зюма возле лестницы тетушка Варга, самая старшая, страдающая ревматизмом уборщица школы. Зюм-Зюм остановился. Тетушка Варга каждое утро приносила ему шкварки на завтрак из углового колбасного магазина. — Господин учитель, правда это? Выгнали? Того высокого кучерявого мальчика? Их класс на третьем этаже учится…
— Правда, правда, тетя Варга… теперь поутихнет все на время.
— Да как же так, господин учитель?! — Тетушка Варга всплеснула руками. — Такого славного чернявого паренька! А ведь он каждый день по собственному почину сносил вместо меня мусор со всех этажей.
Перевод Л. Васильевой.
© Издательство «Художественная литература», 1980.
О ЧЕМ ЖЕ МЫ ГОВОРИЛИ?
Они оба носили бороды. Но седая бороденка профессора, острым клином свисавшая с подбородка, совсем не походила на густую шатеновую поросль, обложившую со всех сторон даже уши его молодого собеседника.
Юноша только что получил отличную оценку. Он в самом деле был неплохо подготовлен, уверенно нанизывал фразы одна на другую и на любой самый каверзный вопрос дотошного экзаменатора с легкостью давал исчерпывающий ответ.
Но вот экзамен сдан, и недавние противники, устало откинувшись на спинки своих стульев, внимательно лицезрели друг друга. Каждый из них словно выискивал изъяны в костюме другого. Взору профессора предстали грубые полотняные брюки студента, его парусиновые туфли на высоких каблуках, свободно облегавшая тело рубашка под бархатной курткой. Юноша же с оттенком презрения разглядывал загнувшиеся лацканы воротника на темно-сером пиджаке и манжеты с желтыми подпалинами от утюга.
«Неужто его так сюда пускают?» — подумал профессор.
«Неужто он так и ходит?» — мелькнуло у студента.
Пока обе стороны занимались лишь констатацией фактов без тени раздражения или вызова. Они сознавали, что им друг с другом еще повезло. Ведь профессор Яро преподавал в университете с 1923 года, а сидевший напротив него Карчи Вендел, сын мелкого агента по снабжению, мог рассчитывать только на собственные силы и прошел в университет с наивысшим количеством баллов.
Поистине, такого парня экзаменовать не скучно. Не то что каких-нибудь прилизанных зубрил, заискивающих перед ним.
Да и ему куда интереснее отвечать профессору Яро. Не так унизительно все же, как если бы иметь дело с воображалой ассистентом, который и на экзамене не перестает поучать.
Словом, мужчины были достойны друг друга, и проститься им было впору как равному с равным.
Яро, прервав паузу, еле слышно кашлянул в кулак.
— Ну что же, пожалуй, на этом мы с вами закончим. Попросите ко мне следующего, будьте добры.
— А там больше никого не осталось. Вас все боятся, господин профессор.
— Боятся? Почему? — Яро удивленно вскинул брови, хотя, конечно, это не было для него новостью, как, впрочем, и ни для кого другого. Такое отношение студентов и огорчало профессора, и в то же время давало ему некий повод для гордости.
— А потому, что дураки, — коротко пояснил Карчи Вендел, явно не торопившийся уходить. Встреча с девушкой по прозвищу Лотос была назначена только на шесть. Деньги у нее, да и вообще за окном минус два — не выходить же на мороз раньше времени.
— Они считают, вам ничего не стоит их засыпать, — прибавил он.
— И вы так считаете? — в упор спросил профессор.
Как и студент, он никуда не спешил. Сегодня вторник, день, когда к нему приходит уборщица. В кофейную он уже не идет после занятий (а были времена — имел такую привычку). И семейных забот у него никаких не осталось: ведь ни жены у него нет, ни детей, всех пережил. Вечерами обычно старые письма разбирает, фотографии. И рвет лишнее, чтоб не рылись потом чужие. А то просто сидит и бороденку свою седую поглаживает, причесывает. Зачем все это? Да лишь затем, что как-нибудь найдут его утром, а он уже готов ко встрече с богом — все как подобает.
— Очевидно, вы с таких высот взираете на нас, что у вас уже и шея устала нагибаться. — Ответ студента звучал несколько вызывающе.
— Вот это уже совсем глупо, — пожал плечами Яро. — В наше время дистанция между нами столь мала, что суровый приговор мне видится попросту нелепым.
— Так, значит, вот какова цена моей отличной отметки? — Карчи Вендел поворошил свою пышную бороду. Ему хотелось как-нибудь уколоть старика, задеть его, как обычно он задевал Лотос. У нее и прозвище такое потому, что с виду головка прелестна, а копнешь поглубже — там омут. Словом, хотелось слегка поразвлечься, не из дурных побуждений, боже упаси, а просто так, для разговору.
— В нашем случае цена этой отметки несколько выше, — невозмутимо обронил профессор Яро, выждав, пока студент запихнет зачетку в оттопыривавшийся накладной карман. — В общем, если хотите, можете идти, а нет — оставайтесь, побеседуем.
Несколько сцен из прошлого промелькнуло в сознании Вендела. Разгоряченные людишки, звонко отщелкивающие каблуками. «Точно так-с», «честь имею…»
— А о чем мы будем с вами говорить? Боюсь, я помешаю вашей научной работе, — сказал юноша.
— Не иронизируйте. Я давно уже не веду никакой научной работы. Видите ли, я достиг того возраста, когда меня больше заботит другое — не забыть хотя бы то, что я знал до сих пор.
— Мне кажется, господин профессор, вы можете себе позволить такую скромность!
— А вы, молодой человек, достаточно умны, чтобы понимать это. И к тому же отличаетесь завидной логикой. Впрочем, за это я уже вознаградил вас отличной оценкой.
— С какой снисходительной усмешкой вы, профессор, обронили это слово — логика.
— Что же, чрезмерное пристрастие к логике делает человека пессимистом. И я от всей души надеюсь, что есть что-то выше логики в этом мире, что-то, если хотите… сверхлогическое.
— Кажется, я где-то уже читал об этом?
— Возможно, хотя таких немного, кто читал.
Вендел несколько смутился. Куда гнет старик?
— Я признаю только ясные мысли, не допускающие ложного толкования. Верю в силу разума, подчиняющего себе все инстинкты, — четко, как на экзамене, отрапортовал студент.
Профессор Яро в ответ на это неторопливо достал из кармана жилетки нарядный, с бахромой по краям, платок. Из того же кармана свисала цепочка, конец которой закреплен был в петлице. Вендел изучающе всматривался в старика, как археолог, осторожными пальцами смахивающий вековую пыль с неожиданно обнаруженной реликвии.
Затем профессор прочистил нос, до смешного податливый и мягкий, сплющивавшийся под его энергичными движениями то вправо, то влево. Когда же процедура была закончена, Яро аккуратно свернул носовой платок вчетверо и возвратил его на место, во внутренний карман.
— Я все еще люблю ту самую женщину, которую любил раньше, — неожиданно произнес он, слегка задыхаясь, — хотя ее уже нет в живых.
— Это ужасно, — искренне вырвалось у Вендела.
— А вы говорите — логика, — вздохнул профессор. — Где же тут логика, позвольте спросить?
— Любви теперь нет, профессор. То, что прежде называлось любовью, теперь всего-навсего соглашение.
— Соглашение? Но ради чего?
— Чтобы двое могли облегчить себе жизнь, при этом не претендуя один на другого как на свою собственность.
— Друг мой, прелесть любви как раз в пленении. Когда мы любим кого-то, мы метим его чело отличительным знаком.
— А мы оставляем его свободным, чтобы он мог жить, искать, познавать…
— И что тогда останется? Помимо одиночества?
— Я думаю, что останется большее, — ответил молодой человек. Он тоже высморкался. Его клетчатый носовой платок был смят в комок и, положенный на место, оттопырил карман бархатной куртки.
— Что же вы понимаете под этим бо́льшим? — продолжал допытываться профессор. — Объясните мне. Логически.
Вендел, уже начав терять терпение, сердито встряхнул своей шевелюрой.
— Вот так, милейший. — Яро немного потянулся, в глазах его чуть заметно сверкнули голубые огоньки, чтобы затем вновь погаснуть. — Ваша логика терпит здесь крах, — заключил он.
— И это говорит человек, всю жизнь положивший на изучение логических систем?
— Вот именно… Кому, как не мне, знать, что даже самая совершенная, самая законченная система служит только тому, чтобы ярким светом освещать все выпадающие из нее явления.
Чем дальше тянулась эта беседа, тем неотвязчивее становилось желание Вендела набить трубку табаком и выпить немного рому.
— Что-то я не пойму, о чем же мы тут говорим?
— Вам хочется закурить, не так ли? — неожиданно переключился профессор, угадав мысли своего студента. — Что общего у табачного дыма с логикой, спросите вы. Я же задал этот вопрос только потому, что… мой старший сын погиб от рака легких.
— Примите мои соболезнования, — пробормотал Вендел, понимая, что выражение это тут неуместно.
— Не стоит, ведь уже переболело, — ответил профессор. — Я сам хотел бы, чтоб эта смерть еще терзала меня. Но все проходит… Равно как и гибель моего младшего сына — его застрелили — давно уже не вызывает во мне боли при воспоминании. Жена… Вот здесь кое-что еще во мне теплится… О чем вы думаете вечерами, перед тем как уснуть?
— Ночами, — тихо поправил Карчи. — Ведь я ложусь очень поздно. И думаю я обычно о завтрашнем дне.
— А я о прожитом, — откликнулся профессор. — И удивляюсь, что до сих пор не наступает конец.
«Ради чего он болтает со мной обо всем этом? — не переставал думать Вендел. — Может, он хочет поймать меня на чем-нибудь, чтобы потом, застав врасплох, пристыдить?»
«Он, похоже, даже не слушает. Держит меня за выжившего из ума, хотя еще и крепкого старика, засидевшегося на своем месте».
Профессор Яро между тем замер в неподвижной позе, закрыв глаза и приоткрыв рот, точно с посмертной маской на лице. Затем, очнувшись, продолжил:
— В течение всей сознательной жизни мы помним, что ждет нас неизбежный конец. Но никак не можем смириться с этим, продолжаем упорствовать, балансируем на тоненьком волоске, прилагая отчаянные усилия. Где же тут логика?
— Инстинкт самосохранения, — сказал Вендел.
— Но для чего он? — Профессор пронзил молодого собеседника обжигающим взором голубых глаз.
— Ну как «для чего»? — Вендел беспокойно заерзал на неудобном стуле. — Чтобы жизнь развивалась дальше… порождала более сложные формы… живой материи…
— Да, да, это верно, — устало улыбнулся профессор. — И все-таки, каков смысл?
— Столь упрямое стремление дать на все ответ может уже показаться наивным. — Вендел совсем терял терпение.
— Еще бы, — усмехнулся Яро. — Нет более наивных вопросов, чем вечные вопросы бытия. Но эти-то вопросы есть и самые неразрешимые.
— Я прошу меня извинить, господин профессор. Мне пора идти. — Молодой человек поднялся. Лотос, наверно, уже четверть часа проклинает его последними словами. А она умеет это делать не хуже грузчика. Все идет к тому, что она еще, чего доброго, одна потратит двадцать форинтов.
— Ради бога, — не замедлил с ответом Яро, — это было бы самым логичным вашим решением.
— А вы чего от меня ожидали? — Вендел снова опустился в кресло. — Я случайно не рассердил вас, господин профессор?
— Да нет, я только пытаюсь понять, что происходит вокруг меня…
— Как «что»? Разве мало? Войны, массовые истребления, система общественная изменилась…
— Друг мой, — с грустью взглянул на своего студента Яро. — Вы называете сами явления, тогда как я пытаюсь понять силы, их вызвавшие.
— Ну что ж, — сказал юноша, решив отбросить приличествующий пиетет. — Туманными рассуждениями тут не поможешь! Все сущее отживает свой век. Отцветает рано или поздно. И что уже изжило себя, то невозможно спасти.
— Но что же хотите от жизни вы? В оставшиеся вам, я надеюсь, каких-нибудь пятьдесят лет. Чего другого вы ждете? Вот что мне интересно…
— Я? — Вендел прошелся по комнате, глянул, как за окном медленно опускаются снежинки. — Я в этом мире все разберу на части, а когда постигну устройство, вновь соберу.
— А уверены ли, что соберете?
— Не позволю другим решать за меня, что мне видеть и как называть. Не потерплю, чтобы чистый свет разума разбавляли мутными чувствами. Да и что же это за мораль, если она ограничивает сферу любви? Что за любовь, которой мы оделяем лишь близких и лишь по обязанности? Которая только разъединяет, а не роднит, — совсем разгорячился Вендел.
— Но ведь должен быть… некто, — забормотал Яро. Он приподнялся (и Вендел сумел ощутить свое превосходство в росте), потянулся к окну. — Некое существо, которое изначально… сопровождает нас до конца на нашем пути.
— На пути? Есть ведь много путей. И нет такого попутчика, который бы согласился пройти с нами всю дорогу. Путь следует выбирать самому, и выбирать тот путь, который сулит нам меньше терзаний. Все в этом мире, даже объятия, чем более замкнуто, тем более нас угнетает и препятствует познанию нового!
— Познанию нового?
— Логика. Логика отомрет. После этих войн она уже не действует с прежней силой.
— Это неверно, — ответил профессор. — Подумайте лучше. Вспомните о гигантском росте народонаселения. Логика сама по себе вызывает нападки, и это заставляет ее обороняться.
— Есть и еще одна истина. — Вендел смущенно отвернулся. — Биологического характера. Она касается только того, ради чего тело может прийти в движение, и действует до тех пор, пока сохраняется импульс. В этом нет никакой лжи. Свобода и в то же время союз, позже, может быть, круг общих интересов, увлечений…
— А если у одного из любящих чувство остынет раньше, чем у другого? Что станет с вашей «свободой», не перерастет ли она в террор? Попробуйте-ка заставьте другого приспособиться к вам.
— Эта теория, — промямлил юноша, — предполагает единомыслие… то есть…
— Вот-вот, — кивнул профессор, — а что стоит за этим «то есть», я и сам не могу понять.
— Вам недолго осталось жить, — неожиданно вырвалось у студента, — так есть ли хоть один тезис, всего один, который после вас никто не смог бы поставить под сомнение?
— Нет, — покачал головой старик. — Ни одного. Ну, а вы? Надеетесь на то, что у вас он будет?
— Именно так. Только не надо сердиться.
Между тем брюки Вендела, неосторожно прислоненные к батарее, запахли. Воздух стал совсем невыносим.
— Ну, дай вам бог успеха. Знаете… — Яро, снова расположившись в кресле, легким прикосновением пальцев очертил привычный контур бороды. — Знаете, мы со своих позиций видим дальше, но не так ясно. Вы, молодые, конечно, видите яснее, но только то, что перед вами. Однако благодарите бога и за это.
— Все имеет свое начало и свой конец.
Профессор с интересом, но недоверчиво посмотрел на него.
— Да, господин профессор, и в этих пределах необходимо совершенствоваться. Покуда возможно. Человечество, которое занято не саморазрушением, а…
— Хотите раз и навсегда покончить с раком легких? И другими болезнями, приносящими смерть?
— Естественно. Чтобы остались лишь нелепые случайности. И старость.
— Только… горб… и заячья губа, и волчья пасть… и, кроме того, слабоумие…
— Господин профессор. Ведь это же ничтожный процент.
— Ничтожный процент, говорите? — Профессор кашлянул, опять приподнялся, его внезапный порыв выглядел немного комичным. — Молодой человек! Что же это за избавление, которое не на всех распространяется?
— Полностью покончить со всем этим нельзя, но можно сделать меньшим… это всегда лучше, чем…
— Да. Но все равно только часть. Вы меня поняли? Часть. Не целое.
— Ничего не поделаешь! Придется смириться! — вскричал студент.
— Не надо повышать голос, — остановил его профессор, — я пока не глухой. Впрочем, я начинаю вас понимать.
«Как жаль, что он уже так стар», — непроизвольно подумал Вендел.
— Ну что ж, бог в помощь, друг мой. — Яро бросил взгляд на часы, те, что висели у него на цепочке в кармане жилетки. — Только вот не забудьте про экзотических рыб.
Тут уже юноша был близок к испугу. Но глаза старика смотрели ясно. Разве что несколько увлажнились.
— Эти рыбы находят себе пещеру в бескрайнем море, — начал пояснять профессор. — Пещеру, полную всякой вкусной пищи. Рыбы заплывают, глотают лакомый кусочек в темноте. И иногда съедают столько, что не могут выбраться из пещеры. Не пролезают.
— Я читал где-то об этом, — откликнулся студент. — Но какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? И о чем, собственно, мы говорили все это время?
Профессор вздохнул и не ответил. Он вдруг представил себя дома, в своей квартире, где все надраено до блеска. Вспомнил вчерашний вечер — как он на ужин отведал два яблока с жареным хлебом. Потом перелистывал книги и бороду свою все обихаживал.
— Так я пойду, господин профессор? — взмолился Вендел. — Боюсь, я у вас засиделся.
— Как же, конечно, — ответил Яро. — Это хорошо, что вы свободны.
Уборщица, наверно, в эти самые минуты сердито гремит ручкой его двери. Снегопад остановился — снегу выпало немного.
— Знаете, — профессор немного прищурился, — все очень просто. Все дело в том, что я сентябрьский человек, а вы январский.
— А может, как раз наоборот, — молодой человек снисходительно улыбнулся. Он видел, что у профессора дрогнула рука, а шея немного вытянулась.
— Нет-нет, — Яро с просительным видом, точно не выдержав груза неразрешимой загадки, загаданной ему, положил свою ладонь на руку молодого человека. — Знаете, сентябрь — это месяц прощания с солнечным светом. Свет удаляется от нас. Но все-таки еще греет. Так же как и тот свет, что приходит весной. Может, только болезненнее. А в январе солнце не светит. Все становится более мрачным, но и более реальным, без прикрас. Все сковано. И нужно самим добывать огонь. Рубить дрова и разводить костер. И предавать огню весь старый хлам, оставшийся с лета.
— Ну а теперь мы о чем говорим? — спросил молодой человек. Он был уже в шапке, маленькой и какой-то помятой, она спрятала его растрепанные волосы, и лицо вдруг сразу сделалось до забавного детским и каким-то невинным.
Он совсем перестал понимать профессора. Ну чему, скажите на милость, тот радуется, сидя за столом?
— При чем тут январь, не могу понять?
— Ладно, бог с ним, оставим все это, — профессор протянул руку. Удивительно сильное рукопожатие, теплая ладонь.
Уже у двери молодой человек обернулся. Он забыл сказать одну важную вещь. Важную, с точки зрения логики.
— Знаете, — сказал он, задержавшись на пороге, — январь все же ближе к весне.
— Да, — ответил профессор. Он уже стоял спиной к двери, наблюдая за тем, как темнота заволакивает небо. — Только не забудьте про экзотических рыб.
Перевод А. Стыкалина.
ИЗ СБОРНИКА «ЖАЛОБА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ» (1980)
ЗАСТРОЙЩИКИ
Дело вот как было. Один кое-чего добился в жизни, другой — нет. А затеялось это все у них, или продолжилось, с одного разговора.
— Отощала земля, — сказал Ситтян, — вон как извелась, одно слово — крышка.
Ошторош кивнул: ясно, мол. Отощала, чего и толковать. Такое и в кошмарном сне не привидится, а вот на тебе — угробили по собственной же прихоти. Хорошего мало. Жалко.
Это вроде как в оправдание самих себя.
Старики они и есть старики, коли жизнь на вторую половину перевалила, старость, короче.
Поди различи их: работу всю жизнь одну делали, а если работа одна, так и судьба вроде одна. Были времена: спину гнули да бедствовали. И нынче так же спину гнут, да только деньги уже как бы сами в излишек пошли.
Грех и не в том вовсе, что им обоим с рождения в башку накрепко вбили: в жизни все своими руками добывать надо. Потому-то и не залежались в ребячьей люльке, живо оттуда вылетели. Первое дело — ног своих не жалей, тогда чего-нибудь и добьешься, это уж закон. Говорят, правда, что и языком чего-то добиться можно, да только у языка слава другая.
Было что поесть да где обогреться — так считай, что почти все у тебя и было. Ну а кроме всего этого или нет, выше всего — она, земля-матушка. Приращение земли. Из одного хольда — два. Из двух — три. А вот когда на убыль идет — хуже нет ничего: из трех — два. Из двух — один. Шажок за шажочком — и ничегошеньки нет, пусто. Затем из этого ничегошеньки — опять все сызнова.
«Пылинка к пылинке льнет» — гласит истина. Но пока истина сквозь чужие уши до твоих доберется, от нее мало что и останется. Вот и разумели на свой лад: «Земля к земле льнет». Еле обжениться успели, как любовь скоренько оборотилась то ли цветной лентой, втоптанной в грязь, то ли кусочком эмали, которая скалывается от первого удара.
Словом, старались как могли, однако же поначалу не многого добились. Двигала ими цель, а вернее сказать — надежда на скорое ее достижение. В мечтах своих они возносились над тучными, теплыми, как парное молоко, беспредельными черноземами: то была их земля, они обладали ею, заставляли ее рожать.
А все-таки свершилась мечта — после долгой-предолгой черно-серой зимы, в один прекрасный весенний день. В тот день время раскололось надвое. Оба познали блаженство обладания, но вышло это так, как если бы человеку, изнывающему от жажды, дали пригубить из стакана, а потом стакан отняли, сказали: ступай лучше к источнику, из него и пей.
Если и сжалось тогда сердце от горечи, к чему сейчас поминать. Да и вода в источнике чище. И поболе ее в нем, это уж точно.
— Отощала земля, — сказал Ситтян. И Ошторош кивнул: согласен, дескать.
Каким-никаким, а делом заниматься надо. Чтобы жить изо дня в день. Ведь как живем: воздухом дышим, кормимся, съеденное перемалываем, спим да дело свое делаем.
— К примеру, камень чем плох? Кирпич. Вширь куда уж нам. Давай-ка, приятель, вверх двинем!
Вот тут-то, кажется, впервой и проглянуло несходство между двумя мужиками. Ошторош, оторвавшись чуток от доброго винца, в потолок загляделся.
— Чего это ты там узрел? — полюбопытствовал приятель. — Вроде бы еще и не начинали. Я же про материал пока. Строиться вот дальше думаю. Уж если тратиться, так на что-нибудь стоящее.
— Что значит «стоящее»? — Ошторош даже вздрогнул от недоумения, да так, что вино пролилось.
— А то, что и после тебя останется. Всегда так — то, что и после тебя останется.
— Ты про это, что ль? — и Ошторош ткнул пальцем в керамзитовые плиты, из которых была выстроена терраса.
— Не про машину же — от нее вонь одна, бензину жрет пропасть, семь шкур с тебя сдерет. Через пяток годов — на свалку.
— …останется… — Ошторош погрузился в раздумье. Опустил веки на свои почти выцветшие глаза, не очень-то он любил разглагольствовать. На нем были черные штаны, рубаха в крикливую полоску, пальцы бегали по полоскам, словно прутья клетки ощупывали. Он думал про старый дом, что стоял на взгорке, три года строился, камышом крытый, а потом молния в него саданула, весь дотла сгорел. Про Седеров вспомнил — те прямо на главной площади отгрохали себе домище, целых пять комнат; сходили как-то в лес по грибы — на дармовщину потянуло, воротились из лесу, наварили этих грибов и давай лопать. Как четверо их было, так вчетвером и окочурились. А дом-то крепкий был, агроному достался, он его переделал так, что окна в лес смотрели. Помнится, кончил агроном эту перестройку, сел на приступочку, потный весь, но до-во-о-о-лен, горсть песка из ладони в ладонь пересыпает, а песок рассыпчатый…
— Сам-то ты что? Взял бы вот так, да и развеял по ветру все, что нажито, недельки за три-четыре, где-нибудь на морском бережочке заграничном, а? Всяко море рыбой воняет. Кабы я по этой дорожке пошел, давно бы без штанов остался.
— Ну нет, — возразил Ошторош, — зачем же, брат, сразу и по ветру? — Братом он его величал скорее из уважения. — Канитель все это. Цемент доставать, трубы тянуть, стекло бьется…
— Чего зря языком мелешь? Куда ж еще-то? Вверх — это же не вперед. У тебя руки вон какие: спишь, а они к работе тянутся. Ну, деньги оставишь после себя — как дым же растают; не тебе это объяснять.
— Хозяйка-то померла. Пускай все как есть, так и будет. Мне и этого довольно.
— Строй для щенят своих. Внучат то бишь.
— Да уж выстроено. Сам, должно быть, видел, в Урнадаше.
— Ну так тоже не бывает, чтоб нечего было дальше строить. Надстраивать. Иль пристраивать. Сам знаешь.
— Как это ты сказал, вверх двинем?
— Только так, не иначе. Вширь некуда, и так тесно. Единственно куда — вверх.
— Не по силам уж мне, — промямлил Ошторош и сам себя устыдился. — Невмоготу.
— Невмоготу? — У Ситтяна расправились набрякшие под глазами складки. — А в четыре подыматься вмоготу? На холодрыге выстаивать, грязь месить — вмоготу?
— То ж дело другое, — протянул Ошторош, и разговор оборвался. Ситтян смотрел на своего приятеля, с которым вместе на фронте были, злясь и одновременно жалеючи его. Не кому-нибудь, а ему он доверил весь обобществленный скот. Потому что уверен был в нем: стараться мужик будет, как и раньше.
Н-да, закавыка какая-то выходит.
— Строиться надо — весь мой сказ. — И Ситтян тяжело опустил кулак рядом с бутылкой вина. — Вверх. Вот так-то.
— То, что останется… — Ошторош сложил ладони под прямым углом и пальцами нажал на край стола. Выждал немного, потом резко отдернул руки. Уныло как-то оглядел обструганную деревянную тесину, встал и пошел коней проведать. Пить ему уже расхотелось.
— Ну как знаешь, — бросил вдогонку толстяк Ситтян да еще и рукой махнул. Видать, когда та молния шарахнула, она и кума нашего, Оштороша, зацепила. Считать куманек выучился, этого у него не отымешь, да только вот что считать? Касательно подсчитать, рассчитать — тут не родился еще такой человек, чтобы мог надуть Оштороша. По части щебенки, цемента или еще чего.
Знатный у Ситтяна дом получился. Белый, а посередке, между верхом и низом, как опояска на брюхе, — рыжая полоса.
Ошторош, придя на новоселье, постоял перед воротами, поглазел на эту полосочку да как брякнет:
— На бинт кровяной смахивает. После автоматной очереди в брюхо. Эт-то точно.
Люди аж попятились от него, расступились, так он и вошел во двор один.
За ужином кто-то потрепал его по плечу:
— Ну, старина! Сколько еще протянешь? Годков десять? А если двадцать? На что там еще копишь?
Гадать тут долго не надо: возьмет да и пропьет все, с него станется. Места здешние — винодельные; бочка-другая винца небось у каждого в погребе сыщется, и все даром; только труд на вино и потрачен. Ну так труд — это ж само собой.
Ошторош все больше помалкивал. Попробовал гусятины, тушеной капусты, а рисовой кашей чуть не поперхнулся. Сидел да ус подергивал в такт писклявой музыке. И без того рот нечасто открывал, а если открывал, опять нес все ту же ахинею: «Бинт кровяной. Очередь в брюхо. Бинт кровяной».
— Ух ты-ы! И жалюзи навесил, — захлебывался кто-то от восторга, — надо же, реечные!
Карнизы для реечных жалюзи торчали над самыми окнами. Ошторош проковылял в сад, остановился там среди грядок с осенним салатом.
Оглядел эти барские штуковины над окнами. Кажется, он уже изрядно выпил.
— Во-во, точ-чно — ввеки и в-веки, и еще т-тебе оттекли. С глаз подымет на г-глаза с-спустит. Ок-кно называется… А г-где с-свет в ок-кне? — Он залез в грядки с осенним салатом и тут же попросил прощения у оборчатых нежных лепестков.
Говорят, в детстве он хотел стать священником, отец прознал о том — исколошматил за милую душу. Аж головой шибанул его о дверной косяк. Стишата кропать начал, потом в город сбежал — учиться. А мать-то возьми да и бухнись в колодец, насилу вытащили, чуть веревка не лопнула.
После — это уже сам хорошо помнил — потянуло его к зверью, животине разной. Все с войны и пошло. Раз одна бродячая лошадь на себе его вынесла, корова молоком напоила, да и на морозе доводилось греться в обнимку с бездомной собакой. Люди? Боже ж ты мой, и в ту пору люди такие же неуемные были, выжить старались кто как и где — в окопах, в палатках, на окровавленных нарах, одни хапали всякие вещички, другие меняли портянки на табак, а кто наоборот — табак на портянки или же и то и другое — на что-нибудь третье, балдея от нежданной-негаданной поживы.
Тогда это все было как-то естественнее, понятнее. Выжить, продолжить род свой, почти на пределе человеческих возможностей.
Но теперь — мягкой погожей осенью — вся эта возня выглядела смехотворной. Возня, значит, вокруг дома с опоясанным животом и набрякшими веками — больного дома.
Ошторош залился хохотом. Он стоял один против всех остальных, как на сцене. И, точно в комедии, те, что сидели в зрительном зале, потешались над ним.
— Да бросьте вы, он же неплохой парень, — пытался защитить его председатель местного кооператива. — Ну, развезло. Перебрал слегка.
Добрый тогда родился урожай, винограда видимо-невидимо. У Оштороша тоже вышло не хуже прочих. А ведь он и за скотиной еще успевал ухаживать, иной раз и в разгар уборки мыкался ночами по хлевам да конюшням: скотина — та чуяла его по запаху, не пугалась.
Когда в кооперативе подбивали итоги, Оштороша навестили сын и сноха, внучку с собой прихватили, двухлетнюю, ее уже не надо было на руках нести — сама ножками притопала, держа в ручонке крохотную плетеную корзинку. Чистый агнец!
— А я тебе что-то расскажу, — обрадовался старик, подхватил ее, прижал к себе, но девочка, выпятив свой маленький упругий животик, выбрыкнулась из объятий, соскользнула на пол и заметалась по комнате. Личико серьезное, сосредоточенное. Во все уголки заглянула, вставала на цыпочки, сгребала все подряд в свою корзиночку. Садовые ножницы, кружку в крапинках, три латунные пуговички.
Отец девочки — совсем уже заправский горожанин, гриву длинную отрастил — улыбнулся. Выгреб из корзинки латунные пуговички и швырнул их в окно. Гулявшие по двору куры не удостоили их вниманием. Глянув на ножницы и кружку, сын снисходительно вздохнул.
— Стыд и срам, — выпалила его женушка, тоненькая ее шейка дрогнула под исполинской башней, сооруженной из волос, — что свекор наш живет в таком аляповатом, пошлом доме, да еще эта ужасная веранда…
— Зато крепкий и чистый.
— Чистый, чистый! И на что только у вас деньги уходят?!
— Хоть бы отдыхал по крайности, — вставил сын, желая придать разговору благопристойный тон, — не изводил бы себя напрасно. Сидел бы наш свекор, — это уже обращаясь к жене, — да покуривал себе трубочку или еще чем другим занимался.
— Никак надумали что? — встрепенулся Ошторош. — Что-нибудь путное.
— Хата есть, машина новая, — заверещала женщина. — Шуба? Вот шубу, может быть.
— Дубленку, — уточнил муж, — только не из отдельных кусочков — из цельной шкуры. Отдадим дяде Шанё, он такими узорчиками ее разукрасит — закачаешься. Крик моды!
— Народное творчество, — поправила мужа женушка. У Оштороша в глазах потемнело. Не понял, что с ним произошло. Какой-то зверь промчался через комнату, и вдруг этот зверь уже на крюке висит, его свежевать начинают. Ножи лязгают. Из-под покрытой мехом шкуры выпластывается, лоснясь, живое мясо.
— А ну, мотайте отсюда! — закричал он. — Живое, с кровью! Живое все, с кровью.
Сын со снохой кинулись прочь, кипя от злобы и ужаса. Малышка, ловко работая ручками и ножками, влезла на сиденье машины.
— Интересно знать — для кого копите?!
— Для того, у кого нету. Кто нужду терпит! — крикнул им вслед Ошторош. И обрадовался. После стольких лет мучительных раздумий сам собой явился простой и единственно возможный ответ.
Обычно после щедрого на урожай года начинается великий перестук молотков. Так и на этот раз вышло. Раздобыло себе село мастера: универсал по заборам. Заказчики разделились на два лагеря. Одни полагали, что ограда для того нужна, чтоб никому неповадно было нос совать в чужой двор. Соответственно и понаставили крашенные черным лаком щиты из листового железа, в три метра высотой; в центре каждого щита нашлепаны латунные лилии, а поверху остроконечные набалдашники пущены. По мнению других, ограда есть украшение, которое выгодно подчеркивает, обрамляет — точно золоченая рама — понапиханные в нее сытость и довольство. Ну и здесь соответственно: разноцветные, крученные так, изогнутые эдак прутья, концами намертво в бетонный фундамент вогнанные, в качестве декоративного элемента солнышко изображено, от него лучи в стороны расползаются, и все это любовно сделано, дотошно. Вскорости округа запестрела щитами черного цвета и мертвыми солнцами. И все очень даже радовались приятному зрелищу.
На таком фоне живая изгородь из кустов сирени, которой был обсажен двор Оштороша, колола глаз всякому. Кто мимо ни пройдет, непременно головой покачает. Однако и Ошторош не дремал, занялся-таки делом. Для начала избрал объектом учительницу. Она приехала к нему, отмахав на велосипеде целых шестнадцать километров, да по рано выпавшему снегу. Предложил он ей деньги: мол, валяйте, стройтесь там, где сейчас живете и работаете, ну, подле школы к примеру. Учительница хотела написать расписку, оговорить проценты, условия погашения, сроки. Но старик сказал: «К чему все это? Погашайте на здоровье — кому-нибудь еще, если будет чем, или другому, значит, нуждающемуся, всякий раз новому…»
Учительница спиной поворотилась и вон, без оглядки — до того перепугалась. Рассказала про то, как было дело, своему директору.
— Другой раз не юбку, брюки надевайте, когда на велосипед садитесь! Ишь что надумал! Старый кобёл! — Сразу видно: мудрая у директора голова.
Школьницы стороной обходили его дом. Нет, его ни в чем не обвиняли. Но он всегда что-то протягивал им на ладони. Неспроста же!
Прослышали о нем цыгане. Топтались на снегу перед нагими сиреневыми кустами, пели песни — денежки зарабатывали. Цыганки пошустрее — те даже в дом заходили, пританцовывая да бедрами поигрывая; бывало, и уносили что, кое-какую утварь. Цыганята, пострелята эдакие, схватят молочную бадейку да и гонят-пинают ее по улице.
— Ладно уж! Работайте только! — ворчал Ошторош и раздумчиво глядел им вслед.
Смеху было — все село тряслось.
— Куда же мне податься? — с грустью спрашивал он сам себя. — Хоть к корчме ступай, на пороге разбрасывай.
— Пойми же: нуждающихся не-ту, — втолковывал ему председатель, давнишний друг, тряся Оштороша за плечи, точно мешок какой, а тот лишь свои упрямые глазки щурил. — С какой ты луны свалился? Очухайся наконец! На пару же с тобой вкалывали. А ты на старости лет на посмешище себя выставляешь.
— Ну что же мне делать? — кротко вопрошал старик.
Был воскресный день, погода хуже некуда: ни зима, ни весна. Но он все-таки побрел за председателем на кладбище. Там памятник открывать будут — так ему объяснили, — словом, опять что-то открывают.
Он пробирался между ворохами истлевших бумажных лент и лент гладких, из фольги. Шел, прячась за прямоугольниками плит из черного мрамора и белого гранита. Потом смешался с толпой любопытствующих.
В самом центре этого могильного сада горделиво высилась фигура Ситтяна. Он руководил возведением небольшого, но крепкого сооружения из красного, со вкусом подобранного камня: оно было рассчитано на четыре места — для матери, отца, жены и для себя самого. Строил мастер, тот самый — по оградам и заборам; то исчезал под плитой, то выныривал снизу и втолковывал что-то Ситтяну насчет размеров «внутри». Кончив дело, старательно выдул пыль, набившуюся в углубления золоченых букв. Лоскутком из замши до блеска надраил цифры, которые обозначали незавершенные даты будущих кончин.
Ситтян взял под локоть прослезившуюся от гордости супругу. Чуть поодаль стояли, держась за руки, старики родители, смотрели на высеченные неумолимой рукой первые две цифры дат своей смерти: одна тысяча девятьсот…
— Оставим семерку, — присоветовал мастер. — В случае чего — на восьмерку исправить ничего не стоит…
— Чудес не бывает, — вздохнул рослый, грузный, стареющий человек. Двое других, постарше его, кивнули. Снег у них под ногами таял.
— Теперь и я спокоен, — подытожил председатель. Все согласились с ним. Конечно, теперь можно жить спокойно.
Ошторош придвинулся ближе. Заглянул вглубь, наклонился, поддел плечом плиту, попробовал приподнять ее. Потом три раза постучал по железному кольцу. Вслушался.
Но ничего особенного не произошло. Сказал же Ситтян: чудес не бывает, и все закивали. Кроме одного.
Вот уж и тронулись все назад.
— Друг мой, — подал голос Ошторош, отделившись от толпы. Он коснулся рукой Ситтяна. Ошторош говорил так тихо, что тому пришлось отвернуть от уха меховой воротник своего пальто. — Друг мой! Вот ведь беда какая. Ты же вниз строишься! Дружище ты мой…
Ну, от таковских подале держаться надо. И семейство Ситтянов, выйдя за ворота, тут же свернуло налево. Народ понемногу расходился.
Старик остался в одиночестве. С той поры заговариваться стал, городил околесицу всякую. Даже причитающийся ему заработок перестал брать, только совсем немного, ровно столько, чтоб одному человеку хватило, никак не больше. Ну а в смысле работы — работал, как и прежде, исправно, до последних дней своих, что верно, то верно. Люди жалели: дозволяли работать.
Если выдавалась теплынь, он усаживался возле кустов сирени, зазывал людей к себе, но никто никогда не подходил. Он сидел и бормотал что-то. Да еще говорил, благодарен, мол, премного, он все понял, он тоже будет строиться вверх, всегда только вверх, в одном направлении. И руками рисовал в воздухе какие-то фигуры, очертаниями напоминающие строительные детали, какие-то замысловатые знаки — все они складывались так, что выходило всегда вверх, только вверх.
…Потом им даже похвалялись. И то правда: что за село, если нет в нем хотя бы одного юродивого.
Перевод В. Ельцова-Васильева
© «Иностранная литература», 1984.
SOROR DOLOROSA
Новый главврач больницы был намного моложе, намного увереннее в себе, чем все его предшественники. Он и не стал для приличия упоминать об их заслугах, ни секунды не скрывая своих революционных планов.
— Многочисленные просчеты в лечении больных бывают главным образом из-за того, что мы склонны облекать таинственностью существование больницы как учреждения, то есть склонны мистифицировать механизм ее действия, — сказал он на первом производственном собрании. — Не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю?
Хотя коллеги (и те, что сменялись, и те, что только заступали к дежурству) решительно не поняли, куда клонит этот больше похожий на прыгуна в высоту доктор Фаркаш Фюлёп Девай, однако они были слишком замотанны, чтобы проявить любопытство. И предпочли согласно покивать.
Сестры и младший персонал слушали с недоверием. В конце концов расхлебывать все равно придется им, вот тогда они и будут вникать. Старшая сестра уже сочиняла в уме ответ, который поможет ей преодолеть пропасть между врачебным и младшим медперсоналом. Три смены, нищенская зарплата и при этом какая самоотверженность!.. Кому знать это лучше, как не лечащей гвардии врачей, которой, при повышенных нагрузках, что ни день приходится преодолевать на своем пути новые трудности…
Такая «многосторонняя» постановка вопроса всегда эффективна. Людей в любом случае не добавят. Но если дать человеку выговориться, ему до поры до времени становится легче. Подобные разговоры все равно что еженедельное переливание крови у почечных больных, вместо того чтобы пересадить новую почку.
Старшую сестру звали Шушикой, была она при этом суровой вдовой врача, Шушика к ней пристала вместо Жужики, так еще во время войны называл ее один раненный в гортань солдат, который не мог выговорить «ж». (Ходят слухи, что она любила этого раненого до безумия. Как бы то ни было, именно после его смерти и осанкой своей, и поступью, и душой она стала походить на солдата. «Сержант Шушика» родился на свет именно тогда.)
Доктор Девай в свободное от работы время занимался дзюдо. И считал, что в совершенстве владеет своим телом. Сейчас он, однако, без всякой надобности взбивал ладонью густые, стриженные ежиком волосы — словно выбивал пыль из чужой шапки. «Что-то они здесь слишком тихие!»
— Говоря попросту, больница — это почти такое же предприятие, как любое ремонт-но-монтажное ателье. Рабочие фазы те же: обнаружить изъян, конечно основательно разбираясь в механизме, назначить ответственного за выполнение, потом добросовестная починка, проверка и наконец — выпуск готового изделия. Работать возможно только без истерики, в том числе и в безнадежных случаях. Сколько бывает старых, не поддающихся ремонту машин, в которые хозяева лишь бесконечно вкладывают деньги, и все понапрасну…
Аудитория выказала заинтересованность. Там, где профессия требует беспредельного сострадания, цинизм всегда действует живительно.
— …То есть прежде всего следует создать спокойную рабочую обстановку. Довести до сознания каждого, что все происходящее естественно. Чтобы больной не видел в своем положении ничего чрезвычайного. Обследования, результаты, операция, если нужно, — все должно происходить как само собой разумеющееся. Это касается и последнего акта. Я противник любой паники! — подытожил доктор Девай. Он выпятил грудь и сделал два коротких вдоха.
«А ведь это не ирония. Он всерьез так думает, — испугалась Шушика, — эта здоровая, дюжая скотина».
Эдён Пистерер, самый старый санитар из работающих по договору (четвертый год подряд держится, считай, что постоянный сотрудник), был, кроме всего прочего, надежнейшим поставщиком информации. Он рассказал, что доктор Девай занимал прежде какой-то важный административный пост на санэпидемстанции. Но даже там его сочли слишком въедливым: каждое утро он будто бы заставлял свою секретаршу поднимать кисти рук и проверял, нет ли у нее под выкрашенными в цвет баклажана ногтями грязи. Любой неизбежный при работе беспорядок — будь то пятно, лужица, капля грязи — приводил его в негодование: почему мясо пускает сок, как могла на кастрюле образоваться копоть, каким образом во время родов халат или пол запачкались кровью?.. Словом, он был одержим идеей абсолютной чистоты. Не будь у него двух дипломов и родителей с такими ощутимыми «заслугами», он наверняка пополнил бы многочисленные ряды помешавшихся в уме, а так его своеобразные воззрения воспринимались как своего рода издержки воинствующей добродетели. Опять же его спасала блаженная ограниченность: он искал совершенства исключительно в мире предметов, повергающая иных в пучину безумия жажда абсолютной истины не распаляла ни его настойчивости, ни исследовательского жара.
Пистерер не сплетничал, он превратил историю в анекдот и пустил его по этажам без всякого злорадства, всего лишь как инструкцию к «употреблению» характера доктора Девая. Ему нечего было бояться. Перекладывать с каталки на каталку тяжелые, беспомощные тела или в креслах развозить больных на всевозможные обследования — кто польстится на такую должность? Доставлять трупы и жестяные лотки в прозекторскую. А потом опять все в корыта, да непременно согласно фамилиям на бумажках, чтобы похоронное бюро не перепутало. Он заключил что-то вроде сделки: выполнял «грязную» работу буквально за гроши, а взамен наслаждался полной свободой мысли и слова. Блуждая сейчас взглядом по залу, между втянутыми в плечи и понуренными головами, он в который раз явственно ощутил, сколь выгодна эта сделка.
— Итак?.. Какие будут соображения? Ибо теория без практики, иначе говоря, без коллективных усилий, не жизнеспособна. У меня в запасе, разумеется, есть планы относительно некоторых административных мер. — Доктор Девай зазывно, ободряюще улыбнулся, ровно мать, глядя на дитя, которое вот-вот пустит струю в горшочек.
Врачи теребили пуговицы на халатах. Женщины косились на мужчин, мужчины — на молодых ординаторов, и наоборот. Авось какая-нибудь половина человечества или одно из поколений рискнет примерить шутовской колпак.
Однако прошедшая неделя была на редкость тяжелой, с дежурством по экстренной помощи. В ход пошли все койки и даже в одноместные палаты впихнули по второй кровати. Город свалил на них весь свой «брак», как только что выразился этот милый доктор Девай, имея в виду безнадежных больных. Кому захочется драть горло за какую-то сомнительную теорию, которая свидетельствует о бессердечии или в лучшем случае о детском неведении ее автора.
— Я вынужден констатировать, что мои предшественники отучили вас работать в атмосфере демократизма… — несколько жестче произнес доктор Девай. Энергичные круговые движения его ноги под столом напоминали короткие удары.
«Вот уж вовсе нет, — подумала Шушика. — Старик не любил лишней суеты, от административной работы всегда увиливал. Он только оперировать любил, когда-то, когда еще руки не дрожали. А в последнее время больше сидел и выискивал в эпикризах возраст умерших. Так что он за наше молчание не в ответе…»
Она решила пустить в ход дипломатию. Сбивчивые планы — сбивчивое одобрение. Глядишь, Фюлёпке Девай удовлетворится, и они смогут заняться делом…
— Мы с должным вниманием выслушали вашу концепцию, доктор Девай, которую так сразу, конечно, не в состоянии постигнуть в полной мере, что, впрочем, неудивительно, это судьба всего нового. По моему глубокому убеждению, четко организованная работа принесет свои результаты, слаженность, точное распределение обязанностей вне всякого сомнения. Коллектив у нас, скажу без хвастовства, хороший, дружный, мы плечом к плечу поднимемся на решение новых задач. Дисциплина, чистота, спокойствие — в нашем деле основа основ. Однако проблема, которую нам предстоит решить, чрезвычайно сложная, эффектное сравнение с ремонтной мастерской отчасти верно и в определенном смысле заслуживает внимания, но некоторые существенные особенности, как бы это сказать, местные особенности, осложняют ситуацию… — Шушика иссякла.
Доктор Девай грустным, разочарованным взглядом посмотрел на голову старшей сестры, на выбившуюся от волнения седую прядку волос. Шушика быстрым движением прихватила ее заколкой.
— Никаких экивоков, — выдохнул доктор Девай и слегка пристукнул рукой по столу. — Я признаю только откровенный разговор. Преодолейте свою нерешительность, с прошлым покончено…
Пистерер выставил вперед ногу, но не поднялся.
— Вы когда-нибудь серьезно болели, доктор Девай? — спросил он.
Девай опешил. Фамильярность подлежит искоренению как первая опасность для руководителя.
— Это к делу не относится.
— А все-таки, ответьте, пожалуйста, — кротко сказал Пистерер и выдвинул ногу еще дальше.
— Что ж, ответить нетрудно. — Девай решил переменить тактику. — Я каждое утро бегаю трусцой. Серьезная болезнь в моем возрасте — явление ненормальное. Железные легкие, железное сердце…
— Железное сердце, — хмыкнул Пистерер. — Я только хотел бы заметить, что они — он небрежно мотнул головой на дверь — не машины. У них есть душа. Как это ни неудобно. Так что ваша аналогия не подходит. Если я правильно употребляю это слово…
— Вы кто, санитар? — Девай поискал глазами кого-нибудь с дипломом, чтобы по-свойски, сообщнически перемигнуться. — Вас как зовут?
— Эдён Пистерер. — Теперь санитар встал, склонился в легком поклоне, словно перед дамами, и снова сел. Физиономия у него была заросшей, на губе противная гнойная болячка.
— Любезный дядюшка Пистерер, — Девай всплеснул руками, в голосе его плавился мед, — вы здесь свой человек… вам многое позволено… О, я наслышан обо всем, что происходит, даже о самых незначительных событиях… Вы и душа! — Он усмехнулся. — Впрочем, об этом после, с глазу на глаз. Однако шутки в сторону: не душа, а, научно выражаясь, гигиена мыслей… вот что мы обязаны обеспечить, при любых обстоятельствах. Это одно из наиважнейших условий эффективности нашей работы…
— Позвольте мне, — сказал секретарь партбюро больницы Каради, палатный врач в отделении ухо-горло-нос. — Позвольте мне довести до вашего сведения, что наши сотрудники очень активны. Я с ходу могу назвать человек десять, которые без отрыва от производства посещают университет марксизма-ленинизма. Для больницы это хороший процент…
Пистерер издал смешок.
— Не вижу повода для веселья, — повернулся в его сторону доктор Девай. — Некоторые не удовлетворяются примитивным уровнем мышления, уважаемый Пистерер…
Санитар опять хохотнул. Каради и сам рассмеялся, а за ним еще несколько человек. Девай немного смутился, он не знал, смеются ли они над ним или вместе с ним. Но не стал вникать.
— …То, что доктор Каради привел факты духовного самоусовершенствования наших сотрудников, весьма отрадно. Однако сейчас мы должны сосредоточить свое внимание несколько на другом. А именно на мыслительной деятельности, которая протекает в палатах. Все мы знаем, какое смятение вносят хлопоты, предшествующие смерти. Эти дощатые ширмы, попытки отгородить простыней кровать представляют собой серьезное испытание для травмированной психики. Кроме того, они вносят сумятицу в жизненный распорядок остальных обитателей палаты. А вспомним о звуковых проявлениях! Протестующие возгласы перед беспамятством, этот безудержный страх смерти, который, как ни странно, охватывает порой даже легких больных, а тяжелых и подавно… Перед операцией, после операции. Сколько звонков из одной только распущенности, паники…
— Они-то звонят, да только звонки не работают, — подала голос недавняя выпускница, но под взглядом Шушики оробела, — да и где несчастной горстке сестер набраться сил для постоянной беготни…
— Совершенно верно, — подхватил Девай конец фразы, — мы подошли сейчас к самой сути проблемы. Вам показалось, будто я упускаю из виду тот факт, что мы работаем с людьми, на самом деле это не так. Я только хотел подвести коллектив к следующей мысли, которую все мы должны осознать: мы не располагаем необходимым, специально подготовленным штатом сотрудников, которые контролировали бы подсознательные процессы у больных и их естественно-биологические проявления…
Шушика хрипло выкрикнула с места:
— Мы с нашей стороны, доктор Девай, все, абсолютно все, что касается высокопрофессионального лечения…
Девай сложил кончики пальцев, как бы изображая мольбу.
— Пусть между нами не останется неясностей… я говорю начистоту. Необходимо учредить новый штат сотрудников. Специалистов той области, которая стоит в медицине несколько особняком и носит экспериментальный характер. Ибо что не входит в круг ваших обязанностей, то не ваше. Борьба с физическими недугами, с применением совершеннейшего на настоящий момент оборудования, — вот тот максимум, на который способен врач и равным образом медсестра. На сюсюканье их не хватит.
— На сюсюканье, конечно, не хватит, — неожиданно воодушевилась Шушика, — мы тоже люди, наши силы не беспредельны. Но лечение должно быть безупречным!
У Шушики на самом деле во всем был армейский порядок. Ни минуты лишней не стояла у кровати капельница, ни секунды лишней не задерживалась в вене больного игла. Умывание у нее было умыванием, а не мимолетным прикосновением к лицу и рукам влажного полотенца. Слабительное всегда отмерялось точными дозами: внутренности от него не вываливались. Лекарство никогда не летело в мусорное ведро: сестра не уходила до тех пор, пока больной его не проглатывал. Тихий час был действительно тихим, а диета диетой. Сказать и то: высокий профессионализм и душевность плохо сочетаются друг с другом. Не случайно, самого искусного, самого твердого на руку хирурга больницы прозвали Мясником.
Врачи тоже оживились, в них снова проснулся интерес. Ведь у каждого в запасе был свой отработанный текст, для вопросов и успокоительных ответов, у каждого на свой вкус. Слова эти приносили порой облегчение даже в том случае, когда их давным-давно уже не питало чувство, только усталость и долг, но ведь дотошно-въедливые типы плодятся словно грибы. Общественные интересы — их страсть, но стоит им заболеть, как они тут же начинают требовать строго индивидуального подхода и о том, во что никогда не вникали в здоровом состоянии — какая, однако, загадка, этот человеческий организм, и какая судьба ему уготована, — теперь, заболев, желают иметь самые подробные сведения. Разве можно это выдержать?
— Новый штат сотрудников? — спросил Каради. — То есть не как общественная нагрузка, поскольку тогда на их совести будет лишь контроль и ведение записей…
— На большее мы не имеем средств, — заметила зав. хозяйственной частью. — Хотя об этом, к сожалению, никто и никогда не думает, ни на каких совещаниях… А товарищ Девай прав: больница — тоже предприятие, здесь тоже имеются материальные ценности, фонды. Я не жалуюсь, только кое-кто из врачей совершенно не принимает этого в расчет, постоянные недовольства, требования. Счастье еще, что бывают исключения. — И она посмотрела на Каради.
— Коллеги, — Девай пружинисто вскочил, — пока мы не перешли к другой теме, давайте решим вопрос о зачислении на постоянную работу квалифицированного, опытного психолога, некоей Доры Доппер. Сейчас она — ведущий сотрудник службы душевного спокойствия. Она должна будет, так сказать, расчищать сферу подсознательного, для дальнейшего эффективного лечения. Добиться ее перевода было нелегко, однако благодаря весу, который имеет мое имя в соответствующих кругах, нам было решено оказать доверие. Мы будем стараться направлять эту нашу коллегу, коллегу Дору Доппер, на самые опасные участки. Если вы одобряете мое нововведение, не сочтите за труд подтвердить это голосованием…
Руки поползли вверх. Выражается он несколько витиевато, но мысль неплохая. Любая мысль хороша, если обещает привлечь к работе дополнительные силы. Только Пистерер воздержался.
Когда уже расходились, доктор Девай послал ему вслед:
— Милейшему дядюшке Пистереру в будущем тоже придется изменить свою манеру поведения на более общепринятую, более соответствующую, так сказать, нравственным нормам… Не плохо бы подумать о каких-нибудь курсах…
Пистерер теперь уже продолжительно расхохотался — и не переставал смеяться даже в коридоре.
— Послушай, — повернулся Девай к оставшемуся по его знаку Каради. — Что, скажи на милость, за безграмотный, нелепый тип? Мы без него никак не можем обойтись? Несет бог весть что, ведет себя… его обращение не только с начальством, но и с больными ниже всякой критики. Прирожденный люмпен… из ему подобных ни один строй не сделает человека, ты уж меня извини…
— Все не так просто, как кажется, — улыбнулся Каради. При старике они привыкли к мирной жизни; этот новенький что-то уж больно ретивый. Он с наслаждением предвкушал реакцию на то, что сейчас сообщит. — Скажи прежде, как к тебе обращаться? Ты к какому имени привык?
— К какому имени?.. Фаркаш[14] — было отцовское желание… подсознательное… проявление соперничества, как ты понимаешь… — смутившись, забормотал доктор Девай, — лучше Фюлёп… когда нас не сковывают путы официальности.
— Фюлёп так Фюлёп… Ты уже видел учетную карточку этого Пистерера? Смотри не упади: он доктор права. До пятьдесят второго года имел адвокатскую практику.
— Кто? Это… Это огородное пугало?
— Именно. Был защитником. И, судя по всему, неплохим.
— Дисквалифицировали и забыли восстановить в правах?
— Я пытался у него выяснить, но он только смеется и руками машет. Лучше, говорит, выпьем.
— Он еще и пьяница!
— Капли в рот не берет. Во всяком случае, с тех пор, как не работает по специальности, в общем, сам господь бог во всем этом не разберется. Но что выспрашивать, он, конечно, сквернослов и грубиян, да и на вид не очень приятен, однако с обязанностями своими справляется отлично. Вот увидишь, он будет каждые три месяца увольняться или требовать совместительства, говорить за твоей спиной гадости и изображать из себя мученика…
— Хорошенькая реклама для медицины!
Каради пожал плечами. Скользнул взглядом по часам.
— Извини… у меня обход. Я ведь не отказался от врачебной нагрузки. И тащи своего психолога. Подсунем ей Пистерера.
Пистерер тем временем уже орудовал, насвистывая, на третьем этаже.
— Я буду твоим слугой… вымою чисто полы… в небеса подниму рукой, падай — не жаль головы… — промурлыкал он в дверь. — Барышни, собирайтесь на бал, карета подана…
Он соединил доской три кресла на колесах и приделал сзади рукоятку — его собственное изобретение. Больные усаживались рядком и выглядели так, словно отправлялись покататься на санках.
— Карета на славу, дядюшка Дёми, а где же лошадь? — спросила иссохшая, кожа да кости, женщина; сама она не могла даже приподняться и ухватилась за шею Пистерера.
— Я за лошадь, матушка, чтобы вас носить, — сказал Пистерер и осторожно опустил женщину в кресло, — но в другой раз не смейте дергать меня за волосы, вот погладить — это пожалуйста!
— Вы такой грубый, — несмело произнесла неправдоподобно толстая и румяная больная из третьей палаты, примериваясь, чтобы не промахнуться, к сиденью. — Еще и кричите… не жаль вам этих несчастных?
— Ну, ныряйте… вот так. За что жалеть, кого жалеть, птичка моя? Ее через месяц не узнаешь, будет поперек себя шире, я больнее ее с моим радикулитом, клянусь. Где вы видите несчастных? Может, это вы несчастны, тетушка Виола? Из-за того, что аппетита нет? Меньше надо капризничать.
— Как знать… — сказала похожая не скелет женщина, — может, и правда, скоро все пройдет, вот только аппетит появится…
— Ну а вы, — набросился Пистерер на третью больную, — если вы опять вздумаете поить мышей перед обследованием, пойдете пешком! Что мне за удовольствие, если я не вижу ваших прекрасных глаз? Реветь с такими глазами!..
Молодая еще женщина машинально расправляла на коленях полы халата.
— Буду теперь вас дожидаться, — презрительно ответила она, однако плакать перестала.
Пистерер взялся за рукоятку.
— Ну… все на местах, поехали.
С женщинами ему было легче. Мужчины порой восставали. Особенно перед операцией, когда Пистерер появлялся с каталкой и, не обращая внимания на протестующие возгласы, заявлял:
— Только не обосраться, дружище, только не обосраться. Небось, в армии все кому не лень тебя мяли. Ну а сейчас симпатичная сестричка пощупает и побреет.
— Я буду жаловаться, — возмутился однажды наодеколоненный господин средних лет в парчовом халате. — Это оскорбление человеческого достоинства, что вы здесь каждый день вытворяете!
— Жалуйтесь, если угодно, — ответил Пистерер. — Запишите в журнал. Вас, кстати, назначили на обследование, через пять дней конец…
Мужчина побледнел, стал хвататься за халат.
— Господи Иисусе, — хрипло прошептал он.
— Через пять дней вас, как я понимаю, выпишут. А до тех пор уж извольте потерпеть… Ведь я не к вам обращаюсь. Вы в моей грубости не нуждаетесь.
Человеческое достоинство, это словосочетание Пистерер ненавидел сильнее всего. В чем он даже Каради не признался, как адвокат он когда-то давал присягу, и присягал именно защищать человеческое достоинство. Он брался за дело, только если верил: подзащитный невиновен. Он начал практиковать в сорок втором и до сорок пятого не выиграл почти ни одного процесса. Потом через три года, уже с новым зарядом, он предпринял еще одну попытку. Специализировался на клевете и опять никого не смог защитить. Его не выгнали, более того, потешались над ним, использовали. Он произносил свои речи с такой страстностью, что стал непременным атрибутом спектакля, имитирующего торжество законности. Начал в конце концов пить; много пил, очень много, перед заседаниями напивался до бесчувствия. Потерял дар слова, его признали непригодным, он лечился от алкоголизма, едва не отдал концы, жена в пятьдесят шестом эмигрировала и детей с собой увезла. Потом нервная система перестроилась, вдруг как отрезало, ни капли больше в рот не взял. Но было уже поздно. Отвращение к вину и юрисдикции навсегда слились для него воедино, напрасно его уговаривали, он уже никого и ничего не хотел представлять. Метался туда-сюда, пока наконец не осел в больнице. Эта работа пришлась ему по душе. От него требовалось как бы обратное тому, что было с такими муками разрушено. Не приходилось красноречиво доказывать правду и вредить ей, как на самом деле оказывалось. Тут чем больше он врал, тем нужнее себя чувствовал.
Когда совали деньги, не сопротивлялся. Чтоб не возбуждать подозрений. Но брал только от выздоровевших, от тех, кто еще работал.
— Хороший вы человек, Пистерер, — говорил дядюшка Хайо из пятой палаты. Хайо медленно умирал, в страшных мучениях, потому что сердце его было, как назло, слишком крепким. Он и сам все понимал, клял свое сердце, но в остальном терпеливо дожидался конца. — Хороший вы человек, Пистерер, — растроганно говорил он между двумя стонами.
Пистерер был немного сердит на него за это — никто не любит разоблачений. И даже старался пореже смотреть в его сторону.
— Доппер, Дора Доппер… — брюзжал он, не замолкая ни на секунду. — Только ее нам не хватало! По науке успокаивающая, в смерти поучающая самодовольная гусыня!
Насчет Доры Доппер у всех возникли кое-какие соображения. Каради планировал немедленно вовлечь ее в работу идеологического семинара: пусть коллега прочитает цикл лекций на тему «Личностные характеристики человека нового типа». Шушика и сестры, поборов инстинктивную ревность, обсуждали между собой, каковы границы физического явления и одновременно ответственности за устранение вызванных им нарушений и где тот предел, за которым работу можно свалить на Дору Доппер?
— Возьмем такой пример, — сказала Шушика, — если на третий день после операции пациента мучают газы и он кричит от кошмаров, то психолог тут ни при чем. Осторожно сделаем ему гимнастику…
Врачи поставили одно условие: пусть во время обходов и осмотра Дора Доппер не маячит у них за спиной. Это будет только всех раздражать. Нужно четко определить поле ее деятельности: там, где врач считает свою задачу выполненной, — начинается работа Доры Доппер.
Зав. хозяйственной частью беспокоилась о том, чтобы зарплата Доры Доппер не превысила ее собственную, а также зарплату старшей сестры.
Самое большое разочарование постигло доктора Девая. Лошадиное здоровье и бьющую через край энергию — вот что он требовал от этого сотрудника, которому придумал звучное название «консультант по проблемам психологии», уже одно ее появление должно было наводить порядок.
Дора Доппер появилась в больнице с распухшим от насморка носом, она утверждала, впрочем, что насморк хронический, какая-то регулярно нападающая аллергия, которая дня через три-четыре проходит. На что аллергия, она понятия не имеет, похоже, на самое́ жизнь. Каради, помрачнев, смерил ее с ног до головы взглядом.
Доре Доппер было сорок два года, но ее внешний облик, вопреки истинному возрасту, менялся иногда по нескольку раз за день. То она выглядела маленькой девочкой, то древней старухой. То загоралась некогда притягательной женственностью — и через секунду уже смотрела на вас пресыщенным взглядом старого холостяка. В ней словно разом погибли, в жестокой схватке, потаскушка и монахиня. Глаза у нее были широко расставлены, шире, чем обычно, — казалось, она плохо видит то, что находится прямо перед ней, и с особым тщанием вглядывается в бесконечность. Деваю неудержимо хотелось подойти к ней и двумя пальцами с обеих сторон подвинуть эти глаза ближе друг к другу.
«Наверное, все-таки надо бы мужчину, — думал он, — однако скрытая в женщине материнская нежность… не есть ли это залог успеха… Потом, мне ее так хвалили. Так хвалили».
Для начала Дора Доппер получила отделение интенсивной терапии, мужское и женское.
— Это не означает, что в случае необходимости вы не можете пойти в другое отделение, — строго сказал Девай, — это означает лишь, что сюда мы вас определяем для постоянных контактов… а экстренная помощь возможна где угодно.
Дора Доппер ответила на это, что для нее главное — не много, а результативно работать и что бурная, но бестолковая деятельность лишь отнимает у нее силы. Теперь же у нее есть основания для надежды.
На Пистерера ее тоже просили обратить внимание. Пистерер готовился к встрече: он нарочно по-разному завязал шнурки и воинственно надвинул на лоб белый колпак. Но Дора Доппер лишь поинтересовалась, отчего у него на губе болячка, потому что она, к несчастью, тоже подвержена герпесу, достаточно бывает плохо вымытого стакана, а иногда человеку из-за одного грубого слова начинает казаться, будто где-то внутри у него вскочил такой герпес, заживает он плохо, и ранка потом долго остается. Немного помолчав — они тем временем ехали в лифте, — Пистерер гаркнул:
— Какого черта вы ушли из службы душевного спокойствия?
— Я измучилась, — виновато сказала Дора. — Целый день звонки. Женские, мужские, детские голоса. Знаете, у меня всегда было такое чувство, что я должна бросить трубку и мчаться туда. А вместо этого мне приходилось произносить то один стереотипный текст, то другой. Я старалась изо всех сил, пробовала варьировать. И никогда никакой ответной реакции. Было во всем этом что-то безнравственное. — Она улыбнулась. — Я дошла до того, что готова была у них спросить: ну а вы мне, в моем положении, можете помочь?..
Лифт доехал до первого этажа, но Пистерер не вышел и Дору не выпустил.
— Ну а здесь на что вы надеетесь, сударыня?
Дора Доппер раздумчиво тряхнула головой.
— Может, здесь я буду ближе. Может, сумею больше сделать. Может, в экстремальной ситуации…
В подвале лифт тряхнуло, они переместились вбок и опять поползли вверх.
— Не пейте столько снотворного, — сказал Пистерер и на первом этаже выпустил ее. — Вы… вы настоящая Soror Dolorosa.
Он сказал это в шутку, но шутка каким-то образом разнеслась, обернулась прозвищем. Soror Dolorosa (сестра во скорбях) — только так к ней теперь все и обращались. Она не отдыхала ни секунды. Даже кофе таскала за собой, забывая чашку то в одной, то в другой палате. Не доискивалась, входит ли это в ее обязанности, когда посреди завязавшегося разговора подсовывала под одеяло судно. Никогда не противилась разным мелким поручениям, так что сестры быстро примирились с ней; это была огромная подмога, особенно ночами, когда иные беспокойные души никак не могли утихомириться и выкрикивали — только чтобы скрасить время — всякую галиматью. Врачи радовались тому, что Soror Dolorosa не языкаста, не лезет не в свои дела. Вот бы сержанту Шушике ее скромность! Проконтролировать же ее деятельность с точки зрения содержания не мог даже Каради: Дора Доппер чаще всего шептала, пристроившись на краешке кровати, Пистереру и то не удавалось разобрать, что она там бормочет.
Девай поинтересовался в конце первой недели:
— Скажите, дорогая коллега, как вы квалифицируете поведение Пистерера с точки зрения его психического состояния?
— Самозащита, — бросила Дора. — Грубый, нахальный текст. Но в принципе любые живые отношения лучше формальных. Как бы ужасно они ни выглядели.
— Несомненно, — буркнул Девай и позвонил бывшему начальнику Доры: не произошло ли ошибки? Компетентный товарищ заверил, что и сейчас не может выдать никакой иной информации, кроме той, какая была указана в характеристике: они отдали им своего самого самоотверженного работника, до них так же добросовестно трудившегося в консультативном совете по выбору профессии.
В самоотверженности и добросовестности и теперь недостатка не было. Очень скоро, однако, стало ясно: необходим отбор, поскольку Soror Dolorosa не может работать в две смены, да еще без выходных. (Зав. по хозяйству тоже изнервничалась: у них нет фондов, чтобы платить за такие переработки, а если не платить, то, как бы дражайшая коллега ни уверяла, что не это главное, однажды под горячую руку она может передумать и нажаловаться в профсоюз.)
Так к кому же в первую очередь идти, как выбирать, если, говоря словами Каради, «потребность возникает» сразу в пяти местах?
Беда пришла вместе с этой дилеммой — и лишь усугубилась после ее разрешения.
В результате мучительных раздумий (являя попеременно то лик маленькой девочки, то умудренной опытом матроны) Дора Доппер пришла к выводу, что умирающий всегда главнее. Она и теперь не простаивала без работы. Иногда, если было известно, что смерть ожидается той ночью, когда у нее не будет дежурства, она проводила беседу заранее.
Чаще всего, пока не начинал действовать морфий, разговор шел о семье, о весне и былых успехах. Дора старалась всячески угодить больному.
В пятой палате, где ожидал своего часа дядюшка Хайо, больной на койке у окна причитал, сцепив руки:
— Звездочка моя, пришел мой конец, как бы я хотел съесть напоследок тарелочку острого лечо, хоть на язык попробовать… нет у меня никого близких… это последнее мое желание…
На другой день Дора Доппер принесла ему лечо собственного приготовления, в банке из-под джема.
Больной не взял у нее банку. В ужасе он уставился на женщину.
— Гады… значит, правда… гады вы…
Пришлось позвать Пистерера. Влетев, тот посулил уважаемому больному хорошую оплеуху. Пусть только попробует беспричинно ломать комедию! Он сам съест это лечо, бедный его желудок…
Мужчина неожиданно успокоился. С вожделением посмотрел вслед уплывающему лечо, но Пистерер показал ему фигу и не отдал назад.
— Ну и дуреха вы, — сказал он за дверью Доре, скорее жалеючи, чем с осуждением. А назавтра, когда «любитель лечо» уже отмучился, решительно выдворил всех из палаты, загнал за коридорный поворот. Только дядюшку Хайо не стал трогать с места, знал, что тот покрепче его будет.
Тайком прикатил металлический ящик, запихал туда мертвое тело и так же тайком увез.
— Ну, — сказал он коллеге Доппер, которая несла одеяла слонявшимся по коридору больным, — можете загонять их обратно… а лучше отвлеките еще ненадолго болтовней, пока сестра сменит постель. Теперь сюда надо бы легкого больного. С психологической точки зрения… — насмешливо добавил он.
Дора задумалась. Атмосфера вокруг нее становилась все более гнетущей. Тогда как в ней самой любовь и сострадание росли с каждым днем. Но сегодня дошло уже до того, что похожая на скелет больная из женского отделения, где новости расходились быстрее, не пожелала с ней разговаривать.
— Уходите отсюда, — визгливо закричала она и замахала руками. — Вы приносите несчастье… Дядюшка Пистерер, прогоните ее!
Через месяц Soror Dolorosa, которой дали новое имя — Ангел Смерти, — перестала вообще что бы то ни было понимать. Коллеги относились к ней с уважением, хотя порой и поддразнивали. А больные в ужасе шарахались от нее. Лишь двое-трое из «залетных птиц», из тех, кто не задерживается в больнице надолго, звали ее перекинуться от скуки в картишки (если бы она только умела в них играть).
— Немного хитрости, сударыня, — сердился Пистерер, — можно было догадаться, чем это кончится… Чередовать надо, чередовать. Ведь вы где присядете, фея моя, своим плоским задиком, там уже трава не растет… Они это заметили и, естественно, боятся. Не понимаете? Боятся, бедняги…
— Но ведь я со всей душой… их боль — моя боль… я любое их желание… Чтобы ясно сознавали происходящее… обрели покой, по крайней мере в последние дни… — рыдала Дора Доппер.
Доктор Девай, когда до него дошли слухи о возникших трудностях, дал практический совет. Он пока не хотел сдаваться.
— Коллега… всему виной излишнее рвение. Умерьте свой пыл. Отныне каждый день обходите всех, по три минуты на больного: всем задавайте одинаковые вопросы и отвечайте так же, никаких личных проблем. Автоматически… Попробуем довести до полного автоматизма! — Он покрутил шеей. — Автоматизм всегда действует успокаивающе.
Автоматизм действительно восстановил порядок. Soror Dolorosa бродила по коридору из конца в конец, уже совсем никому не нужная. Ее взгляд уходил все дальше, она все тщательнее утюжила свой халат. Ей прибавили зарплату — теперь она помогала разносить обед.
Пистереру до того было ее жаль, что он пустился на ложь:
— Вы на отдыхе просто расцвели… настоящий розовый бутон…
Тут уж Soror Dolorosa совсем сникла.
— Ах, Пистерер… Милый мой Пистерер. Найти бы хоть одного человека, одного-единственного, которому нужны мои слова, который отправляется в мир иной не под звон шутовских тарелок…
Пистерер готов был прикусить себе язык. Хорош, растяпа! Ведь не только он видит коллегу Доппер насквозь — она его тоже!
— Дядюшка Хайо из пятой палаты, — тихо сказал он. — Он такой человек. Но такой человек в словах не нуждается.
Тем временем в пятую палату положили троих новеньких. На опустевшую кровать у окна — молодого парня с начинающейся на нервной почве язвой; на место выписавшегося после плановой операции — старого-престарого деревенского деда; кроме того, втащили лишнюю койку — для какого-то корчащегося от боли, возмущенно вскрикивающего председателя кооператива. Пока не освободится отдельная палата.
В перерыве между приступами председатель кооператива объяснил всем причины своего негодования.
— Это, смею вас заверить, явная несправедливость, — жаловался он Доре, размахивая руками; пот лил с него градом. — Я не курю, не пью, вся моя жизнь — воплощенная умеренность. Всю свою жизнь, с самых ранних лет, я посвятил служению идее, государству… и всегда, заметьте, в горячих точках экономики, всегда на ответственном посту! И вот вам пожалуйста — уже в третий раз меня привозят сюда на «скорой помощи», не могут толком вылечить. Другие живут себе припеваючи, без забот без хлопот, и ничего им не делается, еще и в девяносто лет висят на шее у общества… а я уже третий раз за год попадаю сюда, у меня весь живот изрезан… Так ответьте мне, товарищ доктор, только со всей откровенностью, что за анархия такая?
Дора посмотрела на лицо старого деда, дергающееся от каждого слова, как от удара хлыстом. И тоже разозлилась.
— Видите ли, — сказала она, — тут действуют другие законы. Болезнь не разбирает степеней и рангов. А здоровье не награда за заслуги, которую вдевают в петлицу. Тут, видите ли, иное правосудие. Примите это к сведению и не тревожьте остальных.
— Это что за тон? — Больной сел на кровати и угрожающе высунул из-под одеяла ногу, словно собирался принять меры. — Не забывайте, что я все-таки Арпад Мештер и здесь тоже могу рассчитывать на особое уважение, до последнего вздоха…
— Ну, если только до последнего вздоха, то многого ли оно стоит? — спросила Дора. Гнев ее улетучился, она даже посочувствовала ему.
— Нахалка! — послал ей в спину Арпад Мештер, когда она отошла от кровати.
— Никакого уважения к женщине, — сказал молодой человек у окна, нервно потирая чахлые волосики на груди. — Вот откуда все наши беды, сударыня! Я к каждой женщине приближаюсь с таким чувством, будто она моя мать… одна мысль оскорбить святыню приводит меня в содрогание…
Дора разгладила ему морщины на лбу.
«Удушить бы твою милую мамочку, несчастный, — подумала она, — прежде чем она тебя замордовала. И так завтра переведут в нервное отделение».
Она любила валить все на матерей — при ее собственном бесплодии это иногда приносило облегчение.
— Тяжко мне, — прошептал дед; скулы его заросли щетиной, это уже были не усы и не борода, так, какая-то растительность, на знающая хозяйской руки поросль. — Ох, тяжко… — Голова его, словно метроном, ритмично раскачивалась из стороны в сторону.
— Скоро полегчает, дедушка, — защебетала Дора. — Скоро выздоровеете, мы еще с вами станцуем…
Сработал предписанный автоматизм, тогда как в душе Дора сгорала от стыда.
— Душенька, — окликнул ее дядюшка Хайо, от которого остались одни глаза, — душенька, — повторил он опять едва слышно, — вы уж не обижайтесь, но в такой момент надо бы думать, что говоришь…
Дверь с шумом распахнулась. Йолика втолкнула ведро, тряпку, палку. Палата наполнилась резким запахом хлорки. Все закашлялись.
— Убираться пора, — сердито выкрикнула Йолика. Движения ее были преувеличенно размашистыми: вода хлюпала, тряпка с шумом шлепалась об пол, палка стучала, звякало днище ведра.
— Нельзя ли потише?..
— Потише?.. Чего захотели! — Йолика подбоченилась и, расставив ноги, застыла перед Дорой. — Может, мне на крыльях летать, вроде Ангела Смерти? Я бы вам ответила, будь у меня настроение, да у меня слово вымолвить мочи нет, подкосило меня это событие, а тут еще иди с утра, убирайся…
Вместо глаз у нее были щелки, лицо распухло от долгих рыданий. Она махала тряпкой, грязные брызги оседали на простынях.
«Йолика, — размышляла Дора, — почему все-таки после определенного возраста уменьшительное имя означает пренебрежение?»
— А что случилось?
— Какой толк жаловаться? Сочувствия все равно ни в ком не найдешь.
Несомненно, произошла какая-то трагедия. Йолика имела «уравновешенный» характер. Она не плакала, даже когда умирали дети. Любой сложный случай означал для нее только лишнюю грязь, которую придется убирать.
— Будет вам… расскажите и полегчает.
Йолика ни на секунду не прекращала работы. На сетке для волос поверх высоченного пучка подрагивали крошечные жемчужинки.
— Приезжаю я, значит, домой, на трамвае как обычно, потому что, хоть и была она в последние дни не особенно приветливой, об этом кто ж мог подумать… зову ее, значит, никакого ответа, в другой раз, бывало, уже у дверей трется, а тут нет как нет, смотрю — лежит моя бедняжечка у дивана, насилу, верно, доплелась, меня искала, холодные лапки вытянула… и не опишешь… Уберите ноги, не видите, я здесь мою?
— Это… Это кто? — в недоумении пролепетала Дора.
— Кошка, — ответил дядюшка Хайо. — Кошка у нее подохла. Они четырнадцать лет вместе прожили, четырнадцать, если я не ошибаюсь?
— …Кошка, с этой кошкой человек не сравнится. Вертишься тут целый день, приходишь домой — а там такое. — Йолика махнула рукой, плюхнула тряпку в ведро и с палкой наперевес пошла приступом на дверь, так, словно держала под мышкой копье.
— Ай-ай-ай, душенька, — сказал дядюшка Хайо. — Быстро садитесь ко мне на кровать. Сейчас все пройдет. У вас просто легкое головокружение. Дайте мне вашу руку.
Дора Доппер опустилась на край кровати. Рука дядюшки Хайо была теплой, пульс отмеривал сильные удары строптивого сердца. Греющая душу весточка с затерянного в бесконечности островка жизни.
— Они еще дети… понимаете? Настоящие дети. Эта кошка была для нее близким существом… Да и вообще, лучше горевать о кошке, чем о разбитой машине…
— Вы на кого намекаете? — подскочил на кровати Арпад Мештер. Однако тут же повалился назад: эта победная поза, под прямым углом, была как раз самой опасной.
— Ох, тяжко мне… мучают меня сомнения, — стонал дедуля. — Умирающему нельзя врать.
— Вам лучше, деточка? — спросил Хайо. Дора кивнула. — Тогда подите к нему. Успокойте. Его зовут дядюшка Ференц.
— …Это все новомодные штучки, чтоб человеку до последней минуты талдычили: выздоровеешь, выздоровеешь… У нас, в нашей семье, такого сроду не было, у нас за грех почиталось мешать собираться в путь-дорогу… — Дядюшка Ференц говорил медленно, словно рассказывал балладу, а слушатель сам должен был заполнить пустоты. — И дед мой, и отец так отходили, да и женщины, не гляди, что слабый пол, никто не смел отвлекать их внимание на разные побрякушки… Дед мой даже такие слова произнес: «Вижу Господа. Он в белой рубахе и обликом со мною схож, только рубаха длиннее, видать, — сказал он, — все покроет…»
Арпад Мештер отнял от уха маленькую подушечку.
— Так говорил мой дед. Я тоже ни о чем не беспокоился. Жил, как все живут. Работал и в армии побывал, трое ребят у меня, и внуков столько же народилось, и с любимой женой мы договорились о встрече. А теперь вот уж который год мучают меня сомнения… Дети и внуки меня исправно навещают, и как приедут — смеются: Господь, мол, тот свет… и как тебе только, отец, не стыдно, ведь ты у нас умный и передовой человек?.. Как же это понимать, сестра? Куда я попаду? В грязь, по которой ходят все кому не лень? В ничто? Господь не ждет меня, как еще моего отца ждал? — он вцепился в одеяло. — Как каждого до сих пор ждал?.. Только меня теперь не ждет, потому что они отвратили от меня его взгляд своими насмешками? Или… — теперь он вцепился Доре в руку, — может… может, его вовсе нет? — Ставшим от волнения тоненьким голоском он добавил: — Умирающему нельзя лгать.
Дора молчала. То место, за которое схватился дед, побаливало.
— Скажите, сестричка… Будет ждать меня Господь у врат в Царствие небесное? Или нет?
— Будет, — неожиданно против воли ответила Дора, слегка повысив голос. В первую минуту она еще чувствовала облегчение и благодарность дядюшки Ференца, а потом уже ничего не ощущала, только собственные слезы и какой-то нелепый страх, что от слез она изойдет кровью.
Три дня она не выходила из дому, болела, так как к вечеру организм отомстил: горло распухло, осталась только узенькая щелочка.
Когда же она снова облачилась в белый халат, то едва успела подпоясаться, как ее уже попросили снять его.
Эксперимент не удался — это признавали все.
— Одна ласточка не делает весны, — уже которую неделю твердил Каради, — такая Soror Dolorosa требуется на каждого больного…
— Похоже, мы кончим ангелом-хранителем, — сказала молоденькая врач-терапевт.
— Молодым по недомыслию часто свойствен цинизм, — закрыл тему доктор Девай, — …надо учесть, что с кадрами мы просчитались. Это, конечно, не только наша вина, подвели советчики. Хотели, видно, таким образом избавиться от этой Доры Доппер. А мы не проявили бдительности.
— Как же теперь?.. — спросил Каради.
— Не будем обгонять события. Со временем все уладится. Если клубок смотан правильно, кончик рано или поздно высунется. Тут-то мы его и схватим…
Но даже доктор Фаркаш Фюлёп Девай не рассчитывал на то, что предлог сам скользнет им в руки.
Заявителя, Арпада Мештера, он сумел уговорить по-хорошему. Единичный случай, обобщать — значило бы совершить политическую ошибку, не стоит об этом больше и вспоминать.
— На пару слов, коллега, — пригласил он в кабинет Дору. — Новое всегда наталкивается на препятствия. Такого не бывает, чтобы дорога для него была накатана заранее. Вы лишь отчасти виноваты в том, в чем виноваты… весь коллектив несет ответственность, если мы не справляемся с соблюдением формы. Рано или поздно вы сами попросили бы нас об отставке, однако обстоятельства сложились таким образом, что не в нашей власти дожидаться этого поздно… Скажи ей, Каройка…
Каради вздрогнул. Так к нему мало кто обращался.
— Дора… до нас дошли сведения, что вы используете свое служебное положение для религиозной агитации. Вы кое-что сказали в пятой палате. А если в пятой, значит, наверняка и в других. К тому же личность свидетеля… имеет большой вес. У нас официальное учреждение. Представьте, если пойдут слухи… Я знаю… прекрасно знаю, как вы стали бы оправдываться, реши я задать вам вопрос. Скажете, что сделали это из сострадания, потому что как можно бросить в лицо несчастному старику, что того, с чем он вырос, во что верил, в чем находил поддержку, того, видите ли, нет, нет и еще тысячу раз нет… — Каради с горечью саданул в стенку письменного стола, на лбу у него вздулись бугорки жил. В голосе слышались истерические нотки. Под холодным взглядом Девая он немного сбавил тон. — Словом, как человек я вас понимаю. Но ситуация вышла из-под нашего контроля. Не беспокойтесь, мы не намерены поднимать шума. У вас месяц в запасе, с вашей квалификацией вы найдете другое место. Мы тоже постараемся помочь, правда, Фаркаш?
Теперь вздрогнул Девай. Он же просил называть его Фюлёпом.
— Конечно, — сказал он недовольно. — Где-нибудь в системе школьного образования. У детей не бывает таких извращенных представлений.
Пистерер пригласил Дору на прощальную чашечку кофе. Они пили не садясь, облокотившись о заляпанную буфетную стойку.
— Жаль, — сказал Пистерер.
— Где же то место, где я смогу приносить пользу? — спросила Дора. — Когда к этому нужно приступать? — Голос ее зазвучал насмешливо. — Может, в детском саду?..
— Или еще раньше, — ответил Пистерер, — хоть в люльке. Но не тогда, когда у человека горе, и не в смертный час. Тогда уже поздно.
Они помолчали. Пистерер сковырнул с губы болячку.
— Жаль, что вы уходите.
— А я рада, что вы остаетесь.
Доктору Деваю стало известно об этой прощальной встрече. В возмущении он стукнул себя по колену:
— …Ты не поверишь, Каройка. Они расставались, будто лучшие друзья. Как два любящих родственника. Уму непостижимо. Этот чумазый Пистерер, гроза всей больницы, и эта до скрипа накрахмаленная Soror Dolorosa… Ты можешь это понять?
— Нет, — ответил Каради, не особенно вслушиваясь в вопрос.
— На следующем совещании надо будет поставить коллектив в известность. Самокритика, так это и рассматривай. С чего я в тот раз начинал? С чего, а? Ах да, больница — это рабочее место. Мы тоже работаем с материалом. Только… с более нежным материалом. Я забыл о побочном продукте. От которого полностью не удается избавиться даже настоящему предприятию. Что поделаешь, приходится тратить на него время, нервы… Самокритика это или коррекция логического ряда — понимай как знаешь… Побочный продукт, не стоящий наших усилий, — это вечные жалобы, бестолковые расспросы, беспорядочное человеческое нутро, которое в такие моменты лезет наружу! Что ты на это скажешь, Каройка? Как инженер человеческих душ…
— Не знаю, Фаркаш, — ответил он, напирая на имя, почти без всякого выражения в голосе. — У меня плохие анализы, Фаркаш. РОЭ сорок четыре. Я, Фаркаш, в последние дни совершенно без сил.
Перевод С. Солодовник.
ЖАЛОБА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
Господину нашему
профессору
с глубоким уважением
и доверием
от
д-ра Эдешхалми Яноша
Господин профессор, во время вчерашнего обхода Вы, отечески подмигнув, предложили: садись, дескать, к столу, бери в руки перо и постарайся изложить как есть все свои жалобы. Пристрастие к литературе господина профессора общеизвестно, к тому же Вы, как специалист в своей области, верите, как сами же выразились во время беседы, в эффективность терапевтического метода «изложения в письменной форме». В устной речи многое теряется; сбивчивость в построении фразы, логические скачки и прочее в письменной форме сильнее бросаются в глаза, чем в устной. Прошу меня извинить, но в Вашем предложении было некоторое противоречие: с одной стороны, Вы сказали, что я должен беспристрастно изложить все факты, с другой же стороны неоднократно подчеркивали, чтоб я не сдерживал поток воспоминаний, не душил в зародыше возникающие у меня ассоциации, даже если они выглядят странными. Но ведь это и есть противоречие, которое характерно для всего нашего уклада жизни — вечное шараханье между суровым самоанализом и желанием бросить все к черту. Вот Вам, господин профессор, уже часть моей жалобы. В какие-то моменты объективное и субъективное перепутываются так, что никакими силами не распутаешь. Как Вы изволите знать, нынешнее мое занятие подает тому достаточно примеров: ведь моя обязанность — делать правильные выводы, но добиться их реализации — хоть смейся, хоть плачь — немыслимо. Когда милейшая Лилике заносила в карточку мои исходные данные, Вы, господин профессор, видимо желая как можно скорее перейти к существу дела, поторапливали ее и нервно барабанили пальцами по столу. Вас не интересовало имя моей матери, кстати, и мой возраст тоже; Вы только тогда улыбнулись ехидной и нормальной для здорового человека улыбкой, когда услыхали, чем я занимаюсь: я — референт по жалобам и предложениям от населения. Мы с Вами еще понимающе переглянулись. Ординарный случай, ординарная недееспособность — только на более высоком уровне. После этого Вы, господин профессор, повинуясь служебному долгу, взяли себя в руки и начали задавать мне вопросы, я же отвечал сперва, как повелевает долг, а потом уже как попало. Стадия надежды неминуема. Даже самый пессимистически настроенный жалобщик чего-то ждет от тех, кому он адресовал свою жалобу. Даже самый циничный делопроизводитель и тот пытается сделать то да се. И готово, механизм задействован.
…В коробе у Деда Мороза был фонарик на батарейках, обернутый в красный целлофан, и от этого казалось, что в коробе горит всамделишный огонь. Как это было здорово, когда Дед Мороз вытащил оттуда гостинец, но тут я увидел волосы у него на руке, а на пальце золотое обручальное кольцо, но ведь у дедов морозов жен не бывает — я так и сказал, разобиделся и поставил подаренный мне шоколадный сапог на буфет. Дед Мороз психанул, стащил кольцо с пальца, махал теперь только другой рукой, а я попятился от него, поближе к маме и папе, а они смеялись и подмигивали друг дружке, я сам видел! Кто этот чужой дядя? Кто он? Дед Мороз, говорят мне. Кому же еще быть — Дед Мороз, с бородой, в колпаке… ты не на руку смотри, сыночек, чего тебе эта рука далась? Уходите отсюдова, это я опять кричу. Дед Мороз раскипятился, поддернул штаны под балахоном и давай брызгать слюной из своего ватного рта: ребенок, извините, у вас ненормальный, впрочем, за все вперед уплачено. Сунул руку в короб, загасил фонарик и хлопнул дверью. А я опять свое заладил: мамочка, папочка, кто это был? А они свое твердят: ну что ты, малыш-глупыш, бяка мальчик, доброго Деда Мороза обидел, но ведь я-то знал, что они врут, извините, пожалуйста. Доказательств у меня не было, я все время потом искал ту руку, а когда познакомился с нашим дворником — меня послали отнести ему коричневый пакетик с квартплатой за январь месяц, — сразу узнал и волосы на руке, и толстое золотое кольцо, но и после этого родители все только качали головой да перемигивались, не знаю, для чего это они делали, разве это хорошо, когда очевидные вещи отрицают…
Когда я говорю, господин профессор, что механизм задействован, я имею в виду то, что я должен Вам верить. Верить в Ваши определенные способности, благодаря которым Вы меня вылечите. Хотелось бы верить — сие зависит не только от того, что вне меня, но и от того, что надо мной, ибо оттуда, сверху, может быть, лучше все видно. Да, Вы еще упомянули про наши замечательные лекарства. Сказали, что не следует воротить от них нос и, как мне это ни неприятно, надо стараться приспосабливать свою психику к синтетике. Против этого я всегда протестовал, я всегда чувствовал: моя беда в том — и только в том, — что я более обостренно, нежели другие люди, чувствую, где правда, и единственное медикаментозное средство от этого недуга — трусливое бегство в искусственно создаваемую душевную тупость. Но развитие событий — оттого я и обратился к Вам — перешло рубеж терпимости. Самолюбие на сей раз не выручило. Может, выручит смирение. Но смирение в себе еще надо выработать; я же, наоборот, пока пишу эти строки, только и делаю, что крамольничаю. Для меня это «дело» наиважнейшее, наиглавнейшее, это дело моей жизни и смерти. Для господина же профессора это только любопытный случай. Не поймите превратно, я сомневаюсь не в доброте Ваших побуждений, я просто не могу не сомневаться в силу своей натуры. В Вашем досье таких писем, поди, штук пятнадцать — двадцать. Вот Вы их читаете, размышляете над ними, а между тем Ваши мысли сами по себе уже завертелись вокруг Вашего собственного наиглавнейшего дела, которое в зависимости от ситуации может вылиться просто в желание пропустить кружечку пива, а заодно поглазеть в зеркало, хорошо ли завязан Ваш галстук. Сам факт, что я долблю об одном и том же, для Вас, господин профессор, опять всего лишь симптом, определяющий «направленность мании». Мания — это когда что-то преувеличиваешь. А то, чего нет, невозможно и преувеличить.
…Телефон зазвонил в самую последнюю минуту, звонила жена Эрдеи, сказала мужу, что на ужин пожарит рыбу. Эрдеи и говорит: Рыба?! Великолепно! Как давно я ее не ел… Схватил пиджак и к двери, но я раньше его успел выскочить, на его стол даже и не взглянул, после уж на дисциплинарной комиссии описал в точности, как все происходило: Эрдеи совсем сдурел из-за этой рыбы, выскочил из комнаты, а ключ — растяпа этакий! — оставил в замке выдвижного ящика, он это нарочно сделал, чтобы каждый видел, — это же ясно как божий день, а у нашей уборщицы тогда папашу в «список кулаков» занесли, вот она и струхнула — а вдруг ей провокацию устроили — или просто за папашу своего решила отплатить, а кому и как, ей безразлично, вот и вызвала дежурного из областной милиции. Протокол, расследование, общее собрание, единогласный приговор: умышленная потеря бдительности, передача сведений врагу… В ящике его стола находились материалы процессов по гражданским делам, но ведь «враг любую мелочь использует». Эрдеи несколько лет двор подметал да еще как радовался при этом! Кое-кто, извините, не только отрекся от правды, но и подменил ее ложью и вообще обращался с клеветой так, как положено обращаться с правдой, эти-то вошли в роль, я же, как ни пыжился, не мог взглянуть на происшедшее «и так и эдак», не мог уж обмануться настолько, чтобы потом бить себя кулаками в грудь, изображая из себя «введенного в заблуждение». Что касается Эрдеи, то он после реабилитации первым делом развелся с женой — ведь, если уж на то пошло, кто же был виноват в том, что случилось, как не она и ее жареная рыба, — покончив тем самым с вопросом о своей личной невиновности. Вот только беспорядок все рос да рос…
Уже восемь лет, как я тяну эту лямку. У Вас, господин профессор, практики, конечно, побольше, Вы лет сорок — специалист с именем. Вы — великий старейшина в невропатологии и психиатрии. И не только согласно рангу. Мне и в голову не придет тягаться с Вами. И все-таки осмелюсь задать вопрос: не догадываетесь ли Вы, что причина всякой жалобы — подразумеваемая или высказываемая — фальшива? Чтоб яснее было: люди вовсе не на то жалуются, на что им надо бы пожаловаться. Все чаще выходит так, что, пока выслушиваю жалобщиков, сам начинаю раздваиваться. Понимать-то я понимаю, что вся рассказанная мне история реальна, но суть вижу не в этом. Существенным полагаю другое. Внутренний зов о помощи. То есть изначальную причину, которая не имеет ко мне отношения, потому что я не в силах ее устранить. Боюсь, что и Вы, господин профессор, на Вашем уровне тоже с этим сталкивались.
Есть у меня постоянная клиентка Келеменнэ Шер Эникё. Придет, сядет и давай поливать соседа, который, поскольку надо же ему чем-то себя занять, подкрадется к дверям ее квартиры и давай мяуканьем да завываньем ее пса дразнить — прямо до белого каления его доводит, собачка либо портьеры пообрывает, либо краску соскребет с картинных рам. Сосед же, горбатенький такой старикашка, твердит, что все это вранье, он лишь останавливается на лестничной площадке на секундочку передохнуть да отдышаться, а псина эта, кстати говоря, гнусная тварь, три года назад на улице прыгнула ему сзади на спину, ясно, что подлежит отлавливанию в административном порядке. Вот и сидят оба, ощерившись, передо мной на венских стульях. Я же обалдело гляжу на них, и вдруг словно кто в другую кодовую систему переводит то, что они говорят, и я отчетливо слышу эту, другую информацию, которая пульсирует равномерно, монотонно:
я одинока
а я калека
я одинока
а я калека
Даю им совет. Мирю.
А тут уже следующая жалоба: нарушение правил общежития, доктор Аурел Аба вытряхивает тараканов на балкон, этажом ниже. Во всем признается. «Нагребу, говорит, полный совок и выбрасываю вниз. Девать-то их куда-то надо, а сам я в этом деле ни бельмеса не смыслю. Прежде жена тараканов выводила, но вот уже полгода как ее паралич разбил. А мы, интеллигенты, должны держаться друг за дружку».
Я же — пока он это говорит — вот что слышу:
обессилел я
трус я и слабак
трус я и слабак
Рекомендую ему эффективный препарат от тараканов.
Или вот: сын крадет у отца. Отец у сына. Замки. Попреки. Один все пропивает. Другой на баб тратит. Один мотоцикл купил. Другой себе на гроб копит.
где же она любовь
и почему так:
ни он мне ни я ему
где ж она любовь
Или еще клиентка. Хабар Йолан не садится на стул, стоит, покачивается на своих тоненьких, как спички, ножках. Крашенные хной волосы — точно падающая башня. Девчушка у нее, видать, только-только пошла, за материну юбку держится, туда-сюда тычется. Согласно заявлению соседей, профессиональный разврат. «Не профессиональный, — говорит она, — денег я не беру, ребенку приносят натурой, вот и все».
не знаю что происходит
почему так все получается
я и сама не хочу
но так все получается
А то скандал на весь дом. Коломпар Ференц систематически избивает семью. Вот он, Коломпар Ференц, собственной персоной, с завивкой перманент. Загодя вытатуировал у себя на шее петлю. Говорит скрипучим голосом и хоть и по-венгерски, но я не понимаю ни слова. Те, кого он систематически избивает, претензий не предъявляют. Даже когда вызываю повесткой, не приходят. Голос у Коломпара дребезжит, сам он ладони о батарею греет, а я слышу:
я ведь наполовину животное
животное я
вы уж простите меня
ничего не могу с собой поделать
Клятвенно заверяет: коли тишина требуется, будет вам тишина (просто-напросто, прежде чем бить, рты всем позатыкает).
Вот примерно все в таком духе, господин профессор. Симптомы лечим, а они множатся с ужасающей быстротой. Глубинные причины нам не по зубам. Итак, счастливы те, кто глухи. Счастливы те, кто слепы. Счастливы те, кто только страдает и этим ограничивается. Лишь мы, чересчур много думающие, закономерно попадаем к Вам. И пока мы на что-то надеемся, нас одолевают ужасные сомнения, от аналогий никуда не денешься.
…Остался я как-то у Эвушки, но, видно, не стоило мне этого делать. Акт любви тоже ведь надувательство, самое большое надувательство на свете. Вместо слияния выявляется как раз невозможность слияния: как были врозь, так врозь и остались, и все это как-то вымученно, сам для себя обряд вершу, кульминация — надругательство над самим собой, после чего наступает колючее и липкое, как туманная морось, одиночество. Вот до какого вывода, простите, я докатился: совокупление — это карикатура на что-то такое… такое, слова-то подходящего не подберешь, на что-то такое, о чем твой партнер в эти минуты и думать не думает… Счастливы те, чьих душ все это не коснулось, те, кто касанием тел все свои проблемы решают. Разумеется, не стоило все это выкладывать Эвушке, но я ее любил, и мне хотелось поделиться с ней правдой, моей правдой, которая на поверку, может, всего лишь правда средней категории, она потому такая жестокая и бесплодная, что совсем не похожа на обложенную ватой правду низшей категории, безопасную для тех, кем управляют другие. Но в тысячу раз опаснее правда та, что без защитного скафандра, среди острых ножей и зияющих провалов продирается вперед на ощупь, освещая дорогу дрожащим в лапе факелом.
ведь
есть же все-таки
высочайшая правда
высвеченная достоверность
на свету творимая правда
последнее наше прибежище
Извините, господин профессор, но теперь я возвращаюсь к не раз уже подмеченному мною реальному факту, который, собственно, и вынудил обратиться в Вашу приемную, к Вашему персоналу и услышав о котором Вы вчера сначала недоверчиво покачали головой, а потом разволновались, у Вас даже глаза заблестели. Вам, как я видел, было трудно скрыть охватившую Вас радость и чувство признательности, что в Вашей рутинной работе Вам вдруг подвалил такой сюрприз; в паузе между двумя взглядами, полными соболезнования, Вы пробубнили: «Сенсационно! Сенсационно! Вы это серьезно говорите, мой юный друг?» (Вот, пожалуйста, образчик милой легковесности суждений: я ведь и не юн и не друг Вам. А насчет сенсации, пожалуй, верно. Но это меня мало утешает, скорее наоборот. Даже в известной мере повергает в отчаяние.)
Вот так-то, господин профессор. Несколько недель тому назад, а точнее, пятого октября, до полудня, примерно в одиннадцать двадцать утра, на углу возле «Астории» я внезапно ощутил, что земля вертится. Попытаюсь доподлинно описать это свое ощущение — чувствую легкий, ничем не уравновешиваемый крен, будто стою на огромном мяче, и вместе со мной все вокруг кренится: уличная жаровня с каштанами, «седьмой» автобус, сумки в витрине галантерейной лавки, дома, ну и, понятно, тротуар тоже. Нет-нет, это было не обычное головокружение. Потому как обычное головокружение — это дикая крутня в аттракционной бочке в луна-парке. Головокружение — штука индивидуальная, а то, что произошло в тот день, явилось коллективным переживанием, даже зародыш во чреве матери и тот накренился, и все, надо отметить, свершилось достойным образом, с той непреложностью, которая обжалованию не подлежит, с размеренной, спокойной медлительностью часовой стрелки, движущейся по кругу с двенадцати до двенадцати. Я знал, что мое ощущение верно: ведь земля действительно вертится, это же установленный факт. И вместе с ней на самом деле дает крен все, что ни есть на ней живого и неживого: мусорная урна, «шкода», букетик гвоздик за шесть форинтов, перехваченный проволочкой, и крест на капелле Рохуса. И только я подошел к Рохусу, наклон сделался еще круче. Я заскользил. Все и вся вокруг меня тоже отклонилось от прямой линии, я вдруг с ужасом понял, что, хотя люди вскоре и повиснут вниз головой, но так как они из клейкообразной плоти, то они не попадают с земли, более того, это состояние головой вниз для них, в сущности, вещь естественная; и переход из одного состояния в другое протекает плавно, безмятежно, неосознанно. И только я один падаю неостановимо, хотя и отчаянно сопротивляюсь, туда, в космос… Держась за перила, я кое-как сполз вниз по лестнице подземного перехода, потом обнял колонну из искусственного мрамора, сцепил пальцы у нее на талии, крепко зажмурился, но тут наступила критическая точка: я знал, что если я изо всех сил ухвачусь за хорошо закрепленный предмет, то мне удастся удержаться, ведь земля вертится; и по логике вещей я снова должен обрести первоначальное — вверх головой — положение.
В космосе было ужасно. Ужасно, господин профессор! Но не упустил ли я мимоходом чего-нибудь? Ах, да, колонна из искусственного мрамора, я снова обрел почву под ногами — стало быть, критический этап пройден. Отделался я тем, что шляпа с головы слетела. Дамочка, в возрасте, вручила ее мне, скорчив при этом кислую рожу.
Эта штуковина случалась со мной уже трижды, и всегда неожиданно, непредсказуемо, внезапно. Вдруг почувствую — начинается. И всегда боюсь, что рядом не окажется прочной опоры. Тогда не жди пощады — космос проглотит тебя с потрохами. А то валюсь наземь, катаюсь, визжу; вокруг народ собирается, и ведь ни одному черту не втолкуешь, что, мол, берегись, несдобровать тому, кто доживет до правды, до голой правды или правды средней категории… Ой, несладко будет тому, кого стороной обойдет закон всемассового тяготения и кому усредненное одеяло окажется не по росту, сотворить нетленное руно для каждого — кишка тонка.
Господин профессор, я строго следую Вашим предписаниям. Глотаю таблетки. Тружусь с утра до вечера. Вскапываю садовый участок. Поливаю водичкой свою ощетинившуюся плоть. Терпеливо сношу тактичные взгляды друзей. Два раза в неделю регулярно ложусь на холодную простыню из линолеума.
Господин профессор, прошу Вас, если по-другому нельзя, сделайте то, что Вы считаете возможным. Я соглашусь на любой смирительный балахон и на клейколенту из какого угодно материала… Лишь бы земля остановилась под ногами, в конце-то концов!
Господин профессор, если есть хоть малейшая надежда — попытайте невозможное. Уж больно хочется поглядеть на солнечную корону без дымчатых стекол, чтоб при свете и невооруженным глазом разобрать цветовой спектр, а еще опознать и выдержать ультрафиолетовые и инфракрасные лучи…
Господин профессор, попробуйте сделать невозможное. Не распаковывайте меня. Встаньте на цыпочки, положите мою жизнь на самую верхнюю полку правды, ибо только оттуда видны все вещи в их изначальности и целесообразности, ибо только там прекратится наконец весь этот кошмар.
У-у-у, опять завертелась. Я прощаюсь.
С неизменным почтением и доверием
д-р Эдешхалми Янош
Перевод В. Ельцова-Васильева.
© «Иностранная литература», 1984.
НОВЕЛЛА О ВЕЩАХ
Они окружают со всех сторон, спешат на выручку, подчас как щитом укрывают собой. Мои вещи переживут меня. Попытка мысленно проследить их жизнь — с момента возникновения и до самой гибели — это скорее проба мысли, фатовская игра суетного ума. Я их не знаю; они затаились в себе. И теперь с полным правом досадуют на меня уже за одно то, что я берусь оценивать их сущность, сообразуясь со своими субъективными мерками. Сам выбор вещей — итог чистейшего произвола. С головой выдающий их хозяина.
Sunt lacrimae rerum, милый мой Бабич!
Вещи тоже умеют плакать.
…сова я, полуночница, гляжу на них
и радуюсь, что есть кому всплакнуть со мною заодно.
Картина в правом углу моей рабочей комнаты
Если приклонить голову к краешку стола, свет на картину падает снизу. Вот теперь отчетливо проступает мотив страдания; при ином ракурсе, холст отсвечивает, грубая фактура ткани гасит настроение, излучаемое картиной. Автор ее — Дежё Цигань, несчастный безумец, в припадке сумасшествия прикончивший свою семью. Двор залит перламутровым свечением вечернего полумрака. Солнце уже скрылось, и от земли все выше и выше серой лавиной ползет грозная тень. Она подползает к женщине, что стоит к нам спиной, лица не видно, может, это вовсе и не женщина, а черный манекен среди ужаса. Фигура ее схвачена двумя энергичными штрихами, как литера «V», схвачена намертво, ей уже не сдвинуться с места. Рядом непокрытый стол, пустая скамья, во всем холодный, геометрически четкий порядок. На дереве ни листочка. Два куста, два тревожных желтых пятна — меты поздней осени, — согнулись, вот-вот их совсем прибьет к земле ветром. Небо изрезано глубокими шрамами. Сбоку высоченная стена без окон. Вдали дом, признаки жизни, еще что-то расплывчатое, округлое. Женщина обращена лицом именно в ту сторону, всматривается, но на пути выше уровня глаз — ограда! И оттого взгляд натыкается на доски, всегда только на них, и рикошетом обратно.
Вовек не видела ничего горше. Горше этой оцепенелой покорности перед безраздельным одиночеством. Сердце захолонуло от сострадания, мне жаль Дежё Циганя, которого уже нет в живых. Стараюсь уяснить себе этапы пути, приведшего художника к такому итогу. Ни к чему вроде бы — даже мельчайшие детали известны. И все же сама картина, которую я вижу многократно изо дня в день, предостерегает от навязчивого вывода о подобном итоге его жизни. Ведь если хорошенько всмотреться, за безутешной печалью сокрыты и долг, исполненный человеком, и самопожертвование, на которое он пошел вместо нас, обнажив гибельный тупик, бессмысленность уравнений, оканчивающихся нулем. И вот я, кажется, начинаю постигать суть катастрофического взрыва в душе Циганя, природу самозащищающегося безумия, все эти страшные шаги по черно-алому полю, заряженному отрицательно. Обреченный дух, материализовавшись в вещь, напоминает о себе, взывает: он может рассчитывать на пощаду лишь в случае, если падет на него милосердие наше и если мы осознаем урок, навеянный его горьким опытом.
А теперь обопрусь-ка на локоть и слегка поверну затекшую шею. В другом углу, на массивном приземистом шкафу, — изваянная руками Маргит Ковач «Нищенка», она отправляется в путь по сверкающей лаком коричневой глади: ее ждет не дождется горшок с пышным папоротником.
Сначала я все пробовала понадежнее пристроить ее, вечно была в волнении, в какой-то странной тревоге за нее: не упала бы, тут ли, там ли — везде опасность подстерегает. Но отчего же, отчего так? Дерево прочное, уж ее-то выдержит, залетевший в окно ветер не сдует, задеть никто не заденет. С какой бы стати ей упасть?
Потом уж сообразили. Нищенка странствует, денно и нощно на ногах, колени у нее не разгибаются, вот и бредет себе, да не одна — белый посошок в спутники избрала. Грузноватое тело, кисть руки отмечена благородством линий, рукой она касается ослабевшей ноги. Смиренный изгиб шеи. Эта женщина тоже одинока. Но она дозволяет заглянуть в свое лицо. Посох ее возвещает: я слепа. Глаза говорят: и все-таки я вижу. Ей видны иные просторы, они в ней самой. Она исполнена веры и других ободряет. Она зовет: пошли дальше! И, кто знает, наступит час, и мы вместе с нею достигнем манящей вдали зелени.
О святая надежда! И вот грусть отпустила. И уже радует глаз наивная гармония персидского изразца. Гармония тоже возможна. Несомненно, возможна.
На вычерченном эллипсе танцуют, встав на задние копытца, две козочки: розовая и голубая. Они беззаботны, самоуверенны и веселы. Они танцуют, а их окружили маленькие взъерошенные чудища, лукавые ползучие гады и огнедышащие драконы. Глазки у козочек широко раскрыты, они украдкой пугливо оглядываются. И все же они уверены в своей неуязвимости.
Хотя у розовой козочки бочок уже поранен. Касаюсь пальцем щербинки. Нет, не то. Просто материал с изъяном.
Однако же во рту сухо. Испить бы.
И вот уже приходят, парят в воздухе
утраченные вещи,
а с ними все, что утрачено в жизни.
Пью из своей детской чашки. И у нее по бокам — вмятины, впрочем, сделанные умышленно — декоративный элемент. Эта чашка — последнее, что сохранилось от когда-то огромного сервиза, который и сорок лет назад был уже неполным. Маме моей чудом удалось кое-что из него сберечь, супницу она еще помнила, а вот суповых тарелок ей уже не довелось видеть. По числу, выведенному на донышке сахарницы, — 51 мы догадывались, как много всего было в сервизе. Оставшиеся предметы мы снесли в кладовку для сохранности, но они там побились один за другим. Заварной чайничек я сама кокнула, только крышечка и осталась, с длинной позолоченной цепочкой. Мне здорово тогда влетело, и я возненавидела весь фарфор на белом свете, включая и эту чашку — прозрачную, цвета слоновой кости, с увядшим маком и цифрой 18 на наружной стороне донышка. Позже, много позже, я тихонько прокралась к ней. Тогда она уже жила сама по себе, за стеклом, запертая на ключ. Жизнь в ней еле теплилась, и я долго отогревала ее в ладонях.
Прошу-молю свою дочь: береги ее, это ценность. Та смеется надо мной, не верит. Для нее эта чашка, оторванная от своей семьи, — нечто отвлеченное. Но вот я поворачиваю ее на блюдце, и в душе поднимается ураганный вихрь. Вспоминаю даже то, чего не знала и знать не могла, — даже это! Как остро ощущаем отдалившееся от нас совершенство — мы уже не видим его, оно переселилось в легенды, оно не поранено, оно — цельное, неделимое.
Вещи хранят верность нам. Медная дверная ручка в виде собачьей головы. Шарик из станиоля. Стеклянная люстра — с девятью стеклянными свечами. Кровать с резными цветами на деревянных спинках. Нитяные перчатки. Потрескавшиеся туфли на пробке. Обручальное кольцо — память о первой любви. Куда они подевались? Где объектив, способный их запечатлеть? Тлеют, пылятся или в прах обратились. Или скрываются под новой личиной.
Но стоит вызвать их в памяти, и они тотчас являются; повинуясь мысли, обретают прежнюю форму. Они не приносят с собой разочарования. Их нет больше — и в том их неуязвимость. Преданность вещей зиждется на нашей вере в их безвозвратность.
Поворачиваюсь лицом к солнцу, смотрю на него через донышко чашки, прикрываю глаза ладонью, но яркий свет просачивается сквозь все заслоны.
Хрупкость мне по душе, но она тревожит. Надо спешить. Вникать, оценивать, запечатлевать, пока не поздно. И все, что сделано из простого прочного материала, помогает мне. Я с благоговением несу в комнату свои
практичные вещи,
и прежде других — Гонительницу снов, вводящую меня в мир сущий, моего утреннего друга — бронзовую кофеварку. Из-под потускневшего от копоти одеяния весело поблескивает ее ладное тело.
В нее входит четыре порции, подогреть можно когда угодно. В ней запрограммирован эффект исцеления: его порождает процесс отхлебывания кофе глоточками. Иллюзия, настоянная на кофеине, костыль для захромавшей мысли. И кроме того, постоянный блеск, мерцание, кои обычно источают здоровые, уверенные в себе вещи. Она ведет себя сдержанно, чуть-чуть иным в назидание. Каждая частица в ней рациональна, без лишних выпуклостей и вмятин. Легкое украшение она сносит терпеливо, окажись на ее месте животное, давно скинуло бы его. Знает ведь, что я нуждаюсь в ней; иногда вдруг делается злюкой, опрокидывается, жжется. А бывает и наоборот, я мщу: опрокидываю в раздражении, перекаливаю на огне. Хотя, по совести говоря, она не заслуживает такого обращения.
В кофейном пару легче работается. Только моя авторучка этого не понимает, спотыкается на бумаге. Старенькая ручка-трудяга. Она как стреляная гильза, вся посеревшая, кончик пера еле виден. Но я привыкла к ней, хотя она и неказиста на вид и к тому же пачкается.
Она многое знает, эта ручка, знает да только никак не может написать об этом. Верно, оттого и осточертели ей чернила, и зря я стараюсь, заправляю ее, а она пускает пузыри, захлебывается, изрыгает чернила обратно. Но я прибегаю к насилию, заставляю ее служить себе, макая в чернильный пузырек…
В ящике стола дожидается своей очереди новая шариковая ручка вместе с запасными стержнями. Скоро вынуждена буду бросить на произвол судьбы старое, отслужившее свое орудие труда.
Что там говорить, сама ее изуродовала. В минуты триумфа слишком страстно завинчивала ее колпачок, а потерпев поражение, делала то же самое — только уже от ярости. Сколько раз вот так перекрутишь ее, а потом откручиваешь с помощью ножниц, ножей. Тело ее все изранено, металлический ободок царапает палец в кровь, да, кончился ее век…
А я все тяну-оттягиваю. Будто сама у себя испрашиваю для нее помилования.
Быть может, это проявление трусости, когда мы — в часы праздности — холим, приводим в порядок наши вещи. Начищаем до блеска, чтим, продлеваем им жизнь — а заодно и свою собственную…
Ключи исправно замыкают и отмыкают, вазы сияют, лампы освещают, от книг исходит целебный дух утешения, из флакончика струится нежный аромат. Взгляд падает на щетку для волос, и по коже пробегают мурашки, ложка напоминает о чем-то вкусном, из шерстяной ткани высекается живая искра.
Вещи добры к нам.
Мы черпаем в них мудрость покоя, когда обрыднет дневная суматоха. Кофеварка растворяется в вечернем сумраке, моя старенькая ручка прячется, ей совестно перед самой собой. Картина, висящая на стене, передав нам изображение, отступает в ночь. Статуэтка до утра утихомиривается в глине, из которой она слеплена.
Руки, ноги еще движутся в темноте, истерзанные нервы еще не обрели покоя, кружится голова, детская вещица валяется в непривычном месте — словно брошена на чужбине. И вот тогда-то судорожным, будто из последних сил, движением пихаю под голову подушку. Ту, что меньше других. Она незаменимая и потому наиважнейшая.
Отправляющая меня в Сон. Ночной Посол, перемещающий меня в Сон.
Какая наволочка — не имеет значения, пух и перья уже много лет сбиваются в одних и тех же местах. Легкое усилие шейных мышц, и голова тотчас отыскивает знакомую вмятину, привычную ложбинку в безучастной пуховой рыхлости.
И вот о чем размышляю: пока человек отдает себе отчет в собственных, присущих ему изъянах, пока он еще может сладить с ними и худо-бедно их чем-то восполнить — жить можно. Пока это так, мы уж как-нибудь да заснем, и ото сна воспрянем, и, коли надо будет, сделаем все, что в наших силах.
Мы ведь не вправе ценить себя ниже собственных вещей.
Перевод В. Ельцова-Васильева
© «Иностранная литература», 1984.
ИЗ СБОРНИКА «ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЛИЛИПУТИЮ!» (1985)
ЮНЫЙ РЫБАК И ОЗЕРО
Первое условие рыбалки: чтобы была тишина. Никаких шалостей, никакого швыряния камней в воду. Чтобы никто не хихикал и не визжал. Рыбы, они немые, но не глухие! Второе условие: для определенной породы соответствующая приманка. Скажем, червяк или кукуруза. Ну, разумеется, необходимы кормушка и чувствительный сигнализатор клева. Для приманки можно насадить и мелкую рыбешку в надежде, что разбойница покрупнее застрянет на мелюзге. Третье условие: терпение и хорошее самочувствие. В изменчивую погоду клев лучше. Вообще же условия — благоприятные или неблагоприятные — не должны влиять на рыболова. Тот, кто половчее, надежно закрепит удочку. Взгляд рыболова должен быть неподвижным, без всякого выражения — ведь только тело его сидит на берегу, а душа ищет под водой, призывая, воображая и надеясь: добыча приблизится… и вот рыболов нагнулся, глаза прищурил — да, пластмассовый поплавок дает сигнал; теперь — решительный рывок, и на крючке уже бьется рыбешка — если только плутовка не сорвется! Да где уж ей одолеть стальной крючок? Бывает, конечно, на крючке и иная добыча: пучок водорослей или подгнивший камыш. Это доставляет немало хлопот. Приходится очищать крючок, вновь насаживать приманку и закидывать уже подальше. Рыболовы, что удят по соседству, не преминут потешиться, если, конечно, у них в ведрах не извивается самая что ни на есть мелкота, ну, тогда они лишь выражают сочувствие. Рыболов никаким уловом не брезгует. Но уж если невзначай попадется килограммовая особь, весть об этом мгновенно облетает весь поселок, ловкач фотограф тут как тут: все дело в оптике, главное, удачно выбрать угол наводки — и вот уже снимок, запечатлевший размер улова, готов! Весы при этом как-то всегда оказываются не под рукой. Рыболовы — тщеславная порода: радуются фотографии. Встречаются, правда, и сомневающиеся: что это, мол, за фотограф такой? Да что за аппарат? Это же бинокль театральный: с одной стороны увеличивает, с другой — уменьшает тот же самый объект, как кому вздумается. Все-таки весы решают дело! Но ведь местные весы такие неточные! Или прибавят весу, или уменьшат его, а бывает, ловкость рук — и как бы случайно с быстротой молнии заиграет тарелка: или выше пойдет, или ниже. Во время запрета на лов колебание весов увеличивается: кому ловля — заслуга, кому — грех. И потом еще, что скрывать: рыбачат и подслеповатые. Они тень ведра принимают за рыбу. О них ходят легенды, правда, они подчас сами о себе и создают их, обманывают себя.
Некоторые знатоки считают, что оснастка — это все. Более того, блеснуть оснасткой, элегантно закинуть удочку — вот что важно. Плавно водить вверх-вниз телескопическими удилищами, щелкать своими пружинящими стульями; на коробке — патентный замок, на бидоне и крышке — винтовая резьба.
Берег, кажется, протянулся бесконечно. Но нет такого рыболова, который считал бы свой участок достаточно большим, укромным и спокойным. Поэтому между рыболовами почтительное расстояние. Они сходятся, лишь когда всем окончательно ясно — клева нет! Или если им грозит какое-либо новое распоряжение охраны; тогда они собираются и тешат друг друга сказками, все на тот же рыболовный сюжет.
На берегу суета, рыболовы готовятся к действу. А озеро?
Озеро неподвижное. Но нелюбезное. Озеро любит тех, кто быстро плавает. И презирает тех, кто только мутит воду. Озеро боится грязи, оно тогда покрывается зыбью. Озеро, если захочет, бывает щедрое, но не понимает мелких расхитителей. Озеро пресноводное, ласковое, однако не внушает иллюзий, как море; не сулит ни безграничности, ни бесконечности. Но и оно завораживает. Редко на заре и перед закатом идет по нему от солнца и к солнцу жемчужный мостик лучей, и ждет оно первого босоногого пешехода, что отправится от берега к свету. И только сёрфинг разрезает поперек эту переброшенную дорожку. А что же за это? Буря — вот великое действо озера: вихрь, молния, дождь, который выступает в качестве режиссера. Озеро жаждет грозы и плещется желтой и дымчато-серой пеной. Как живой организм, потягивается оно своими волнами, далеко захватывая берег. На шум отвечает шепотом. Во время грозы бушует, хрипит. Мышцы волн все более напрягаются, набирают силу, и оно не признает никаких границ. И подчиняет себе, а иногда и убивает — оно охотится на простофиль и особенно на хвастунов, молодцевато заявляющих: озеро-де неопасное. Но ведь стихия остается стихией.
Теперь озеро смирное. После пронесшейся грозы стоит ласковая погода. Ветер, правда, капризный: то справа, то слева дает мелкие пощечины, то сталкивает, то разгоняет жидкие тучи. Похоже, что солнце мчится, поминутно сменяя свет и тень. Рыболовы после вынужденного перерыва собрались на бетонированной кромке, слышны негромкие возгласы, вялые приветствия. От комаров и прочих «кровопийц» спасает спортивная одежда, закрывающая тело по шею, и шляпа. Лодочники в резиновых сапогах бродят по воде. Но большинство рыбаков держится вызывающе спортивно: в коротких штанах, без шапок; развеваются их волосы или блестят лысины. Спорят о приемах ловли. Молодые, конечно, вводят свои новшества: один ловит, а целая орава следит за ним, поддакивает ему, воображая, что удит она сама. Если рыба попалась мелкая — орава выбрасывает из ведра рыболова добычу и потешается над ним:
— Ну, дядя, а где же тут рыба?
А иной, ни на что не обращая внимания: ни на фотографа, ни на весы, посмотрит и по-деловому, с кислой миной скажет:
— Бросайте, сосед, обратно.
Ведь издевка тоже имеет свои традиции. В конце-то концов, не задевает глубоко…
Человеку в плаще это даже доставляет удовольствие. Он понимает шутку. Какая бы ни была погода, жарко или прохладно, он никогда не оставляет дома свой выгоревший плащ. Если не хочет ни с кем разговаривать, надвинет капюшон на лицо. Если вспотеет в плаще, то сложит и сядет на него. Этот плащ уже видал виды. Рыбака давно все знают на берегу, он пользуется некоторым авторитетом: достиг общепризнанного рекорда. И его теперь не очень-то и интересует, что попадется на крючок. Сидит он на своем привычном месте, на камне, и можно подумать, что он заодно с рыбами.
Бряцание за спиной заставило его вздрогнуть и обернуться.
По протоптанной дорожке, и даже не по ней, а напрямик, по крапиве и ржавым железякам, шел парень.
«Какой юный, — подумал рыбак в плаще, — хотя и немного старомодный». Молодым может быть всякий, кто молод. Но юный — это качество. Он строен, силен, высок. Его лицо правильно очерчено, взгляд ясный. В движениях — достоинство, гармония.
Оравы с ним нет — он идет один. В нем все одно к одному. Только это бряцание, этот прикушенный рот — да ведь он тащит что-то за спиной, что-то огромное и мохнатое…
Юноша достиг узаконенного рыбачьего места. Он даже испарину не смахнул. Кроссовки на нем зашнурованы, и только над модными узкими джинсами блестит загорелое коричневое тело. И все-таки он кажется оголеннее других. Возможно, потому, что его лицо не закрывает борода. Или потому, что он не напялил на глаза темные очки. А может, из-за широкой грудной клетки, красиво переходящей в линию натянутых плеч. Он стоял, как слишком открытая буква «Т». Щиколотки были прижаты друг к другу. Свой груз он не отпускал. Ближе всех к нему был рыбак в плаще, обернувшийся на шум; а если на нас посмотрят, то и мы отвечаем тем же.
— Добрый день, — просто поздоровался юноша, не понизив голоса для солидности и не повысив для придания ему просительной интонации. — Мне бы лодку… я хотел бы порыбачить.
— Поудить, — поправил его рыбак в плаще. — Рыбачить — это совсем другое.
— Знаю, — сказал юноша и улыбнулся, сверкнув ровными, как молодая кукуруза, только не желтыми, но и не вызывающе белыми зубами. — Вот этого я и хочу. — Он ближе подтянул свой узел. В нем что-то звякнуло. — Я достал сеть. А эту махину сконструировал сам. Наподобие улитки. Крутить надо за ручку. Знаете ли, закинуть сеть легко, но очень важно, чтобы она хорошенько расправилась и потом затянулась: что в нее попадет, уже не убежит. Чтоб вытянуть сети, нужна ловкость. Только вот лодка должна быть с хорошим погружением, устойчивая. Я бы тогда заплыл на середину. Те, что дают на прокат, все неустойчивы. Я ведь не по водичке шлепать пришел с семьей. И не развлекаться в лодочке. Неужели им это так трудно понять.
Он разобрал сложенные в тюк сети, проверил веревки, железяки и устроился рядом с рыбаком в плаще, сел, скрестив ноги; пот на нем обсох на прохладном ветру, он глубоко вздохнул, задержал ядреный воздух в легких, затем выдохнул. Потом снова глубоко вдохнул, живот его округлился точь-в-точь как у младенца на рекламе питания, и очень медленно выдохнул, пока живот не опустился.
— Ух, — произнес он наконец. — Очистил все нутро. Не хотите и вы попробовать? Здорово отдыхаешь.
— Я как раз от отдыха устал.
Юноша кивнул.
— Ну конечно. Противная поза. Вы представьте себе «Мыслителя» Родена с удочкой в руках. Забавно. Целая серия маленьких гипсовых мыслителей.
— Вы себе потешайтесь на здоровье, — сказал рыбак, вытащил из-под себя и набросил на плечи затасканный плащ. — Для вас рыбная ловля — не страсть, а мелкое хобби. Не так ли?
— Не сочтите за обиду. — Юноша примирительно потрогал разделявший их пустой рукав плаща. — Не настоящее… А чтобы лишь убить время. Это ведь не какая-нибудь борьба не на жизнь, а на смерть, не кровь, не острога и не то волнение, когда рыба вдруг увлечет в пучину… или хотя бы большим хвостом ударит по голове… Потеря сознания, головокружение! И, с трудом собирая силы, приходишь в себя, всем назло!
— Я не хочу вас разочаровывать, — рыбак в плаще с улыбкой рассматривал юношу, — но таких рыбин давно уже нет и в помине, тем более, мой юный друг, в озере! Тут ничего подобного не выудишь. Это уже не святой идеализм. Это юношеская инфантильность.
— Но даже более-менее крупную, и ту вы на крючок не поймаете… Поверьте, сорвется.
— Однажды получилось, — сказал рыбак в плаще.
— Однажды… разве этого достаточно?!
— Да, и на всю жизнь, — ответил другой вполне трезво, но с еле заметной печалью в голосе.
— Тогда зачем вы тут сидите? Так терпеливо?
— Привык. Я другого дела не знаю. Не успеваю бросать в воду мелюзгу. Но сидеть и сравнивать — и то радость. Ну и, конечно, печаль.
— И потом бредете обратно? И так день за днем? Как и пришли, с пустым ведром?
— Иногда я щажу себя. — Рыбак в плаще усмехнулся. — Убавлю спеси. Ведь улов все же есть.
— А вы хотя бы любите ее? — спросил юноша и заглянул в открытое ведро.
— Кого?
— Ну, жареную рыбу, например.
— Ненавижу. По мне, как бы ни приготовили, все одно, я рыбу во всех видах терпеть не могу. Запомните: настоящий рыбак рыбу не ест.
— Продает, — сказал юноша насмешливо, — кто постарается, тот не в убытке. Немного специй — и готовы соус и теория «Kleine Fische — gute Fische»[15].
— Не запрещено. И даже не безнравственно. А я лучше раздам. Вы бы удивились, если бы узнали, скольким людям нравится, более того, для скольких главной пищей является такая средненькая рыбешка. Лишь бы не пахла болотом. Размер значения не имеет. Естественный вкус — это максимум в данном случае.
— Словом, само занятие — вещь второстепенная?
— Занятие… об этом рыболовы только трепаться любят. Нравится мне этот ваш идеал рыбака! Но ведь как раз рыбаки, мой юный друг, и работают на рынок… Крупное предприятие государственного значения. Вы газеты читаете? «В хорошем темпе идет выполнение программы реконструкции рыбных озер, в рамках которой в этом году приблизительно на тысяча пятистах гектарах территории создаются условия для ведения современного рыбного хозяйства. Программой реконструкции за пять лет предусмотрена модернизация пяти тысяч гектаров озер. Из года в год увеличивается производство… Повсюду уделяется особое внимание замене тяжелого физического труда, в технологии ловли рыбы — модернизация этого процесса… в более теплых водах с хорошими результатами разводятся самые ценные породы рыбы…» И тогда эти ваши сети! Чего вы, собственно говоря, хотите? Вы заручились разрешением?
— Я не думаю, что это нужно. Ведь эта моя, может, единственная ловля, — сказал юноша, — мой «заскок» никому вреда не принесет, ни для кого не опасен.
— Нет. — Рыбак в плаще осмотрелся на берегу. — Нету такого риска. А если получите лодку? От меня. Как раз подходящую. Как вы думаете? Вы так сразу и вытащите много? Ну сколько? Десяток? Двадцать? Полпуда?
— Вы это спрашиваете не всерьез? Скажите, ведь не всерьез? — Юноша подвинулся и дернул плащ с плеча своего собеседника. — Вы же хорошо знаете.
— Ведь это озеро. Не море! — Удочка задрожала в руках рыболова в плаще. — Вы же не станете искать то, что в нем заведомо не водится? Иначе вы ненормальный.
— Я разбираюсь в биологии. И тоже читаю! «Возможно, что по нынешним нашим знаниям давно вымершие неандертальцы доныне имеют популяции, называемые Homo neanderthalensis, одна из побочных ветвей развития — тупик, не имеющий продолжения, — и прошедшие десятки лет поразили обомлевших ученых живыми образцами древних существ, миллионы лет считавшихся вымершими. Еще несколько недель тому назад до нас дошло известие из не считающейся краем света Японии о похожем на дикую кошку звере…» Это ошеломляюще! Признайте, что это ошеломляюще!
Плащ окончательно сполз с плеч рыбака. Оба они сидели уже голые по пояс. Справа и слева на них удивленно шикали.
— Давайте потише, — предупредил юношу пожилой рыбак. — Прекрасная глупость. Чтобы в сетях застряло древнейшее чудище!
— Я знаю, что это озеро. Но ведь когда-то все было сплошным океаном. Может же притаиться в иле какая-нибудь мутация? Какое-либо редко плодившееся, тысячелетиями там пребывающее существо?
«Это бред сумасшедшего, но кто знает…» — подумал пожилой собеседник и вдруг перешел с юношей на «ты»:
— Добро, получишь лодку. Скажи только вот что: если ты и вытащил бы странное чудище из глубины, то зачем? Стал бы показывать его всему миру? Сенсация?
— О нет, — произнес юноша, — на сенсацию мне наплевать! Но, может быть, это что-то доказало бы. Может быть, пояснило бы. Где это дело свихнулось. Если же было направление — то где оно преломилось? Гипотезы могут свести с ума. А не испытания с целью прямого доказательства.
— Ты и меня еще доведешь до безумия. Ладно. Ступай триста метров налево, покуда берег не повернет, там, за камышами, привязана лодка. Ты увидишь на боку ее масляной краской намазан черный крест.
— Это вместо названия? Шутка или означает рок?
— И то и другое. Вот тебе ключ. Береги цепь и замок.
— Документа не надо? — спросил юноша взволнованно и схватил свой несуразный узел.
— Ты уже удостоверил, кто ты есть. Не ничтожной бумажонкой. Для опытного рыбака этого достаточно. Когда ты думаешь на воду?
— Чем скорее, тем лучше. Еще дотемна закину сеть. А вытащу на заре. Рискну. В этой сумке мой ужин. Вы что-нибудь ели с утра?
— Я, — ухмыльнулся рыбак, — вареную кукурузу вот из той коробки. То же, что и мои рыбы с крючка. То же самое. Ты бери мой плащ. Будет чем накрыться. Ночь на воде холодная. Окоченеешь.
— Вам уже доводилось?
Пожилой рыбак не ответил. Он снял плащ. Теперь ничто их не разделяло.
Юноша еще переминался с ноги на ногу.
— А… если завтра вы не найдете лодки?
— Тогда, значит, ты пропал вместе с нею. Ты ее прицепишь на место и найдешь меня. Уж не думаешь ли, что я даром одолжу? Нет, одним «спасибо» ты не отделаешься.
— Платить? — Юноша разочарованно запнулся. — А какая плата?
— Расскажешь о приключении, — сказал рыбак. — Или о не состоявшемся приключении.
Ночь на воде леденящая. И сырая. Прошли волшебные минуты, когда восходящий серп луны и заходящее круглое солнце вместе стояли на небосклоне. На этом озере солнце не садится в воду. На горизонте внезапно появляется облако, в него погружается солнце. Золотой мост-дорожка плесневеет, облако от освещения изнутри делается траурно-лиловым. Затем и лиловый цвет становится серым, потом блекло-черным; серп луны побеждает, и ночь начинается тонкой, прерывистой скобкой. Вообще скобки двузначны, именно в них и заключена суть мысли, но одна скобка внушает ее незавершенность, смущает разум, и лишь алмазные слезы звезд утешают: их ужасающее одиночество сродни одиночеству взглянувшего вверх, в небо.
Юноша не был уверен в том, островок ли это в середине озера. Похоже было, что лодку в темноте уносит камыш. А ведь юный рыбак ее предусмотрительно привязал. Это было обманом чувств. Покачивание он ощущал как движение вперед.
Можно бы и заснуть. Сеть закинута. Благословен этот плащ с капюшоном. Он лег на спину. Закутался. Тело не мерзло, только вот вера в удачу остывала.
Будет мелюзга. В лучшем случае крупный сом. А тот, допотопный экземпляр, никогда не выплывет из глубины. И никогда никто не узнает, что было в начале начал. Природа ли бросила на произвол судьбы некоторые, созданные ею же существа, или некоторые, созданные ею существа испортили сами себя? Чей это брак: идеи или формы творения? Крах планирования или ошибка материи, застрявшей в развитии, но почему?
Попалось бы все-таки какое-нибудь древнее чудище! Ощутимое, видимое! Еще до того, как любая медитация станет комичной за отсутствием доказательств.
«Какое тщеславие, — подумал юноша. — Именно мне! Именно я! Именно в это время! Именно в этом озере. Прав был здоровяк рыболов. Сумасбродная идея. Может быть, просто ребячий каприз. Хотя бы скорее уж кончилось это приключение. Какой позор!»
Хоть бы приснилось что до зари!.. И ему снилось нечто вязкое, ужасающее или парящее, прекрасное.
В центре приятных видений был он сам, всемогущий и счастливый. Но потом ему захотелось страшных сновидений, чтобы утром легче было сопоставить безразличную реальность с ужасом приснившегося.
Однако и сон не шел, даже бессознательный, глубокий сон. Дремота? Забытье? Его состояние на грани этого; мелькают видения: мать, отец, девушка, друг. Каждый и знакомый, и чужой. Ситуации, в сущности, приятные, и все-таки это боль. Подмена личности. Девушка убаюкивает, мать целует, друг дает советы, отец шутит. Все путаное, все зыбкое — только лодка надежная, едва движется, покачиваясь. Но плеск воды неприятен, потому что повторяется независимо от его воли, слишком размеренно.
Юноша очнулся.
«Идиот я, идиот, — подумал он, — что это со мной? Обыкновенный мир, обыкновенная жизнь. Что тут может быть необычного? Оно бы погибло. Рано или поздно меня убедят факты. И тогда прекратятся мои мучения. Может, у меня логика хромает? Надо подойти с другой стороны: чтоб не сила увлечения определяла далекую цель, а близкая цель определяла и увлечение ею.
Он отсылал от себя звезды. Умолял их померкнуть. Показать пример вынужденной покорности.
А звезды держались. Более слабые меркли скорее, пропадая в светлеющей синеве. А более сильные упирались, но и то недолго.
Занималась заря.
Юноша сел. Плащ, словно панцирь, держал его крепко.
— Вы обманщицы. Вы дорогие мои сообщницы. Ведь вас сломить нельзя. Я знаю. Хотя глаза мои и не выдерживают такого созерцания. А все же вы есть! Для самих себя — везде и для других — где-то.
Небо посветлело на востоке. Но абрис солнца еще только угадывался. На озеро медленно опускалась розовая и серебристо-синяя вуаль, плотная вуаль, широкая — от берега до берега. Юноша сбросил плащ. Хотел, чтобы его обволокло этим волшебством.
— Да что мне мои сети? — Он обезоруживающе улыбался. — Пусть их остаются без улова, раз нет ни чуда, ни счастья.
Но все же надо их вытащить, сложить, порядок есть порядок. Механизм сработал хорошо.
Нелегко это было, но не так уж и трудно. Однако что это? Нет сомнения: что-то поймалось.
На дне сетей, почти у поверхности воды, появилась она, сама Рыба. Она не была большой, но не была и маленькой. И совсем не билась, лишь плавники подрагивали да жабры трепетали. Неповрежденное, радужное тело покорно лежало среди грубых веревок. Глаза навеки открытые: света не боятся, свободно выдерживают его. Еще ничего не боится. Ничего не подозревает, невинная.
Непородистый Образец. Миллион раз приведенная в пример. Лодка, юноша, сети и Рыба в такт покачивались на волне.
Затем юноша заговорил с ней.
— Прыгай обратно, прошу. Ступай обратно время коротать. Я только взглянуть на тебя хотел. Но защитить тебя не смогу. Рассмотрят тебя и разрежут на куски. Теперь так.
Он сделал в сети прореху. Подождал, не решаясь прикоснуться к рыбе. Рыба тоже как будто ждала. Затем мгновенно выскользнула в дыру.
Обломок солнца прыгнул в озеро. Из перламутрового оно стало красным.
Юноша быстро стал грести к берегу.
— Так уставились бы на тебя, бедняжка, — пробурчал он, — как на дневные звезды.
У берега он замедлил ход лодки. А что, если все это лишь мое воображение?! Если все это мне мерещится? Пустяковая рыбешка, серенькая на самом деле?.. А кем же я был, Богом? Смельчаком или трусом?
Человек в плаще — вернее, без него — не рыбачил. Его пригнала к воде особо ясная заря, и особенно ярким казался первый луч. Рыбак беспокоился. Надо было бы юношу отговорить. Озеро порою бывает опасным! А он сам еще лодку ему дал. Но что поделаешь… Нельзя же до самой смерти хохотать, что в понедельник самый опытный рыбак поймал разодранную акулу. К четвергу все это уже надоело. Он смотрит в воду, пытаясь заглянуть на самое дно. Но плывет противная «лягучашья слюна» — водоросли — и только мутит воду. Кажется, сама природа сговорилась против глупых.
Вот и юнец. Сложенная сеть стучит железками вслед за ним.
Рыболов бежит ему навстречу.
— Ну, ничего не поймал?
— Ничего, — говорит юноша.
— Но что-нибудь да произошло? — спрашивает рыбак сердито и разочарованно.
— Ничего, — отвечает юноша.
Рыбак испытующе смотрит в его замкнутое, грустное лицо, оно испуганно покраснело.
— Ты что-то скрываешь. — Он трясет поникшее плечо юноши.
Тот опускает голову и молча протягивает ключ от замка и плащ.
Перевод И. Сабади.
ВЕСЕННИЙ СНЕГ
В апреле — после серой, промозглой зимы — неожиданно выпал снег. До самого вечера всё в природе казалось обычным для этого времени года: и резкий ветер, и заволакивающие весеннее небо тучи, и изредка проглядывающее сквозь них солнце. В общем, вполне естественные капризы погоды, только немного раздражающие. Как, впрочем, и внеклассные мероприятия гимназистов: в тот день, как обычно, после обеда на свое очередное заседание в клубном подвальчике гимназии собрались две молодежные группы: «Динозавр» и «Галактика». И те и другие, хоть и явились не в полном составе, но, как всегда, держались подчеркнуто вежливо, за натянутыми улыбками скрывая взаимную неприязнь. Это называлось у них «благородным соперничеством».
«Динозавры», погруженные в историю, и «галактики», устремленные в фантастическое будущее, считали своим общим делом и своей особой задачей изучение прошлого и прогнозирование грядущего. Но мелкие заботы и незначительные проблемы настоящего пожирали все их время, так что «своей особой задачей» они заняться просто не успевали. Споры их были пусты, а отсутствие содержания в них заменяла время от времени вспыхивающая, правда, абсолютно беспочвенная (и потому смехотворная), вражда. Зато им превосходно удавалось другое: обнаружив ошибку соперника, враждующая сторона с удовольствием сводила на нет результаты его исследовательской деятельности. Все это, однако, — к их чести — они проделывали между прочим, как бы соблюдая когда-то заведенный ритуал. На самом же деле они были дружны и крепко связаны спортом, общими вечеринками и — самым невообразимым, что только можно себе представить, — учебой. Да, заниматься приходилось много, ведь их гимназия была учебным заведением совершенно особого толка. Преподавательский состав считал делом чести выпускать из стен гимназии исключительно элитарную продукцию — для университета или научной лаборатории, для мастерской художника или кабинета дипломата — и ничуть не ниже.
Благодаря случайной удаче и случайной протекции в эту гимназию зачислили четыре года назад Йожку Керека-младшего. Единственного объективного обстоятельства при зачислении — отличной учебы мальчика в течение всех восьми лет средней школы — оказалось недостаточно, подкачало происхождение: мать — маникюрша, отец — педикюрный мастер, правда, оба были членами кооператива. Но невыгодная ситуация, как это иногда случается, обернулась выгодой. Директор гимназии, со своими вросшими, деформированными ногтями, был постоянным клиентом Йожки Керека-старшего. Один такой вросший ноготь способен доставить большую неприятность, если за ним, конечно, не ухаживает профессионал; а из рук халтурщика клиент может попасть прямо в руки к хирургу — со снятием ногтя и прочими ужасами… Обо всем этом Йожка Керек-старший довольно часто, хотя и со скромным достоинством, напоминал директору. Правильно истолковав намеки, директор принял у себя Керека-младшего и, поговорив с ним, пришел к выводу, что излишне частое повторение местоимения первого лица единственного числа, употребляемого, правда, завуалированно, в падежной форме (по моему мнению, что касается меня, мне думается, для меня важно, что…), свидетельствует об особом индивидуализме мальчика; но, решил директор, для чего же тогда коллектив, как не для обрубки таких вот сучков.
— Только осторожнее, мастер Йожка, — говорил он, кладя распаренную ногу на колени Кереку, — с мясом не режьте… Мы возьмем вашего мальчика. Одаренный ребенок.
Два класса гимназии Йожка Керек ходил в отличниках, на третьем же году — будто спятил — набросился на математику, физику и литературу, даже превзошел по этим предметам своих учителей; по остальным же учился без интереса, не напрягаясь, и успехи соответственно имел самые средние.
— Для меня это загадка, — говорил директор, боязливо пряча палец от щипчиков Керека-старшего. — В этом явно нет никакой логики, мастер Йожка… У человека обычно бывает повышенный интерес или к гуманитарным наукам, или к точным. Но устроить такой хаос — нахватать что-то отсюда, что-то оттуда! — это же настоящая анархия, беспорядок. А ведь все из-за упрямства! Ой, сегодня мой ноготь, мастер Йожка, что-то особенно чувствителен…
— Чувствует перемену погоды, господин директор. Там, в атмосфере, то ли теплый фронт, то ли холодный… Ну а ребенка я возьму в руки.
Легкомысленное обещание.
— Думаете, и я ваш клиент?! — возмущался Йожка-младший. — Мамиными ножничками хотите обрезать меня вокруг, папиным лезвием соскрести все неровности, а потом еще и пилочкой пройтись, чтоб уж совсем гладким стал!
— Что ты, что ты! — успокаивала сына мамаша Мицуш. — Я тебя только об одном прошу, сделай так… как будто ты интересуешься всеми предметами одинаково. Ну хоть вид сделай!
— Нет, — противился папаша Керек, — никакого притворства не надо. Ты должен изменить себя, свой характер, пока молодой. Молодые-то еще податливые…
— Я так и знал! Вы же ничего не поняли! Значит, мы с вами на разных полюсах…
— Что ты несешь? — огорчались родители.
Керек-младший любил отца с матерью, и в его душе уже начинало пробуждаться чувство ответственности за них. Но найти убедительные слова, чтобы объяснить им свое пристрастие к столь различным предметам, мальчик не мог. Он только смутно осознавал, что именно эти науки, на первый взгляд такие далекие друг от друга — чистая и древняя математика, всеобъемлющая и беспредельная физика, с одной стороны, и засоренная всякой словесной шелухой, лишенная ясности и простоты литература — с другой, — соединяясь, дают человеку надежду на познание и совершенствование мира.
В детстве Йожка часто вертелся в маникюрном зале, иногда забегал и в педикюрный кабинет отца. Руки клиентов вызывали у него отвращение, к ногам же он испытывал жалость. Ему было досадно, что старые, сморщенные, все в родимых пятнах пальцы рук унизывали дорогие бриллиантовые кольца, а молодые руки украшала дешевая, чудовищно безвкусная, со звенящими висюльками бижутерия. Ступни же ног были жалки своей откровенной беззащитностью: изуродованные подагрой, с болезненными мозолями, они боязливо ерзали по белому фартуку отца. Да, для педикюра у Йожки-младшего не хватило бы покорности, для маникюра — терпенья. Врачом он, видимо, тоже не станет, хотя именно ради этого отец и устроил его в такую престижную гимназию.
— Пойми же ты, я не твое продолжение, — объяснялся с отцом в то апрельское утро Йожка-младший. — Что ж с того, что я люблю тебя, а ты любишь меня? Ведь никто никого не продолжает. Это просто удобный самообман. Последнее утешение в старости. У каждого свои возможности и свой путь. А то́, что ты загубил в себе, мной уже не исправишь.
— Ах, так?! — Йожка-старший даже взвыл от возмущения. Схватив телефонную трубку, он заорал: — Кто говорит?! Йожеф Керек! Что? Какой?! Старый… одной ногой в могиле…
Такие эмоциональные сцены устраивались не часто, даже не каждый месяц. А вообще-то жизнь в семье текла довольно мирно. Сын, оберегая свою привязанность к любимым предметам, занимал позицию молчаливого несогласия. Мамаша Мицуш, пытаясь сохранить внешнюю благопристойность, на каждом углу расписывала достоинства сына — большая, мол, редкость в наше время такой положительный ребенок. Ну а папаша Йожка твердо верил, что склонность к самостоятельному мышлению — это болезнь, которая с годами пройдет.
То апрельское клубное заседание — четыре часа говорильни и не единой мысли при этом — только подтвердило и даже опередило оптимистический прогноз родителя. Они спорили не потому, что существовал предмет спора, а просто по привычке. «Динозавры» ждали, когда надоест «галактикам», а те в свою очередь хотели уморить «динозавров». Затихала вся компания только во время чтения вслух скучных брошюр. Так пустой вагон резво бежит по гладким рельсам, не встречая никаких препятствий на своем пути: и стрелка переводится автоматически, и семафор всегда дает ему «зеленую улицу».
В клубный подвальчик вела лестница в тридцать ступенек, по обе стороны от нее находились две ниши с сырыми кирпичными стенами — так называемые «клубные комнаты». Окно заменяла вентиляционная решетка; помещение освещалось разноцветными лампочками: красной, лиловой, синей, зеленой и желтой — естественный свет не мог просочиться сюда даже случайно. Летом в подвальчике всегда пахло затхлостью, а зимой воздух пропитывала промозглость старого подземелья.
В девять часов вахтеры выкурили ребят из подвала. С комментариями, конечно. Для начала им пожелали проваливать к чертовой матери. Конечно, они могут орать хоть до ночи, ведь завтра ни одному из них не вставать в четыре утра. И что это за мода устраивать клубы в тюремных подземельях?! И вообще, что они, сопляки, знают о тюрьмах?!
Расходились без суеты, неторопливо. Скрывая смущение, бросали на ходу друг другу бодренькое: «Салют, братцы!», «Пока, старики!» — и исчезали в проеме двери. Правда, и теснясь на узкой лестнице, они по инерции продолжали упрекать друг друга в антинаучности методов, в инфантильности мышления и интересов — в общем, как всегда, занимались словоблудием.
Все в этот вечер было до скуки одинаково. Как одинаково выглядят на портретах лица и живых, и мертвых. Только что завершившаяся псевдоинтеллектуальная прогулка в никуда вконец истощила их мозги. Но не физические силы. Легко, благодаря натренированным мышцам, они открывали тяжелые, на пружинах, школьные двери и с шумом вываливались на улицу, лениво изображая энтузиазм.
Вдруг шедшие впереди остановились. Да так неожиданно, что задние налетели на них, чуть не сбив с ног. Вся компания покачнулась, удерживая равновесие, и застыла на миг в немом благоговении.
Невероятно, но, пока они гнили там, в подвале, на улице выпал снег. Он и сейчас все падал и падал — густой и пушистый. Снежинки садились на ресницы, и сквозь них все вокруг выглядело причудливо и таинственно, искрясь и сверкая белизной. Незнакомой стала знакомая улица. И безлюдной — будто испугавшись недисциплинированности природы, люди попрятались по домам и из окон наблюдали за непрошеным чудом.
— Здорово-то как! — воскликнул Йожка Керек.
И все вдруг оживились, запрыгали, раскричались. Захрустел под ногами снег… И вдруг их обуяла неистовость упоения — неизбежная, неотвратимая: каждому захотелось оставить свой след на девственном снегу, сотворить что-то небывалое… в общем, действовать.
Не дожидаясь ничьего сигнала, они побежали, рассыпались по улице, на ходу сметая снег с дверц автомашин и выводя пальцем на заснеженных багажниках и капотах первое, что приходило в голову: «Вперед, мадьяры!», «Давай, давай!», «Жми!», «Да здравствует кто здравствует!», «Кто писал, тот дурак!»…
Кричали, толкались, совали друг другу за шиворот снег, а потом, разделившись на две команды — мальчики и девочки вперемешку, — бежали по обеим сторонам улицы и бросались снежками. Комочки снега летали через мостовую и шлепались на тротуар. Ребята тоже падали в снег, устраивали кучу малу, умывали друг друга снегом и визжали от восторга. И куда только подевалась неприязнь?! Никто сейчас и не помышлял о победе, никто не спрятал в снежки ни одного камня. А с неба все падала и падала на них волшебная слюдяная пыль. Им было безразлично, кто из какого класса, какого пола, кто в кого влюблен, они все потерялись во времени, а вокруг летел и кружился, искрился и сверкал весь мир. Кончиками языков они ловили снежинки — будто святые дары причастия, ниспосланные небом, и души детей оттаивали и преображались… И в этом пароксизме очищения они не заметили, как пооткрывались окна в домах, а владельцы машин уже встали в засаду с полными ведрами воды.
— Эй! — раздался чей-то агрессивный бас — Убирайтесь отсюда! Вы что, хотите побить стекла, мерзкие хулиганы?!
— Телевизор нельзя посмотреть спокойно, гвалт устроили… Звериный вой какой-то! — подтянуло истерическое сопрано.
— И движению мешают, пьянчуги!
— Нет, чтобы взять лопату…
— Лопату?! Эти?.. Да разве им работа по вкусу, мадам? Им бы только поорать…
Но ребята не обращали никакого внимания на злобные выкрики из окон — так велика была их радость, так неожиданна.
— А водички в морду не желаете, раз уж вы так любите этот хилый снег?..
Йожка Керек не успел отскочить в сторону, и его голову окатило водой, отвратительно скользкой, будто в ней выполоскали грязную тряпку.
И снег погрустнел и растаял.
Ребята, правда, не сдавались, но снежки летали все скучнее, все медленнее, а ослепительный блеск совсем померк.
— Вы что, не поняли? — произнес из окна второго этажа бесстрастный, почти доброжелательный баритон. — Расходитесь, ребята, расходитесь. Народ уже спит. Трудовой народ. Должен же быть порядок. Непонятно разве? Или вызвать милицию? Убирайтесь-ка лучше подобру-поздорову.
Это было хуже и воды, и ругани. Несколько минут ребята переваривали сказанное, потом, не глядя друг на друга, принялись неторопливо высыпать снег из воротов, кое-как отряхиваясь, крепче затягивая шарфы и глубже надвигая шапки. Смущенные, расходились они по домам, не понимая еще, что подавляют в себе: праведный гнев или покаянный стыд.
В передней Йожка долго стряхивал снег с промокших ботинок и куртки. Потом переобулся в тапочки и, проскользнув в ванную, сунул под горячую воду свои покрасневшие руки.
— Где ты пропадал? — выглянула из кухни мамаша Мицуш. — Омлет совсем осел…
— Омлет сказал «привет», — сострил Йожка и наконец рассмеялся.
— Тебе все шуточки, а я старалась, старалась…
— Где ты шатался? — подал голос отец. Керек-старший смотрел третий выпуск теленовостей и даже не повернул голову в сторону сына.
В комнате Йожка подсунул под себя псевдоиндийский кожаный пуфик — тихо хлюпнул выдавленный воздух — и принялся за холодный омлет, равнодушно поглядывая на экран.
Молодые ребята с автоматами подталкивают в спину прилично одетых людей. Трагедия заложников. Опять молодые люди в защитной форме стреляют в кого-то, в кого — не видно. Партизанская война в пустыне. Стоп-кадр: двое арестованных — двадцатидвухлетний юноша и девятнадцатилетняя девушка. Опасные члены террористической группы. Транспаранты над толпой молодежи, юноши и девушки энергично трясут кулаками, окружив здание университета, разрываются гранаты со слезоточивым газом. Студенческая демонстрация.
— Папа, — внезапно произнес Йожка, сунув пустую тарелку в руки матери. И опять рассмеялся. — Папа, а у нас даже в снежки играть — уже беспорядки.
— Да-а, сынок, — удовлетворенно протянул Керек-старший. — У нас порядок. На том стоим. А тебе что, нужна такая «свобода»? — он театральным жестом показал на экран. — Вон, полюбуйся!
Поддав ногой пуфик, Йожка убежал в свою комнату и с грохотом захлопнул дверь.
— Что это с ним? — переглянулись родители. — Слишком хорошо живется, наверное…
Они прислушались.
За дверью, будто тигр в клетке — только в мягких тапочках, как зверь со втянутыми когтями, — метался их сын. Движения его все убыстрялись, и слышно было, как он без конца натыкался на стены.
— «Приди, свобода! Здесь твоя держава!..»[16] — бормотание усиливалось, нарастало и наконец перешло в истошный крик. — «Приди, свобода! Здесь твоя держава!»
— Что он так кричит? — удивился Керек-старший. — Думает, так его скорее услышат?
— Оставь его, — сказала жена. — Ребенок занимается. Готовит уроки.
Перевод Г. Лапидус.
ГАРНИТУР
Прохожие улыбались, бросая взгляд на это зрелище. Каждый воспринимал его по-своему. Одни — с иронией и чувством собственного превосходства: мол, примитивный люд, и чего только себе не позволяет! Другие, в спешке пробегая мимо грузовика, мельком оглядывали происходящее и говорили себе не без горечи: «Вот работенка! И деньги гребут, и еще сре́заться успевают…» Более степенные, наблюдательные прохожие, склонные анализировать и обобщать всё, что увидят, делали далеко идущие выводы: «Всегда все у нас так происходит, вот разительный пример, вот вам и сапогами на стол!»
Стол же этот был австрийским импортным, табачного цвета и выглядел весьма солидно, хотя стоял на низких ножках. Не было на нем лишних украшений, и он вполне гармонировал с угловым диваном, элегантным, современным и все же производящим впечатление предмета старинного, что не могло не вызывать восхищения. Бархатная обивка зеленовато-серого цвета, набор подушек притворно изображал удобство, уют, но при этом они теснили друг друга. В угловой, деревянной части дивана были отделения для стаканов, карт, пластинок, газет. В общем, мебель для компании. Единственный импортный экземпляр, поступивший в мебельный магазин в качестве образца опытной партии. Но наверху, на платформе открытого грузовика, на грязных досках днища, над грубыми резиновыми колесами, столь изысканная расстановка этой мебели действовала как пощечина. Пощечина обычно следует за пощечиной, видно, поэтому три грузчика расселись вокруг стола на мягких подушках, коли уж все равно надо ждать какие-то проклятые причиндалы, какой-то там подлокотник, потому что ко всему прочему полагается еще и подлокотник, клянется кладовщик, пошедший его искать.
Накладную сунули в руку Петеру Фекете, обычно он дает ее подписывать клиенту, берет с него деньги и делит сумму, полученную «на бутылку», на три части, вернее, на четыре, потому что шофер тоже помогает грузить. Странный этот шофер, видать, не за шиши сменил работу. Хотя на бывшую зарплату народного просветителя не мог даже приличную рамку купить, чтобы повесить свой диплом, зато в его работу совал нос всякий кому не лень.
Петер Фекете, собственно говоря, жаловал водителя: парень, слава богу, не разбирается в старых шлягерах, чтобы свистеть ему, Фекете, в лицо на самом трудном повороте лестницы: «Ну, брат, Петер Фекете, недотепа ты, никогда тебе не поймать удачи…» Это, по сути, просто издевка, потому что десять червонцев в месяц шло как минимум. И ему, и другой паре, и Миши, шоферу, конечно. Что и говорить, вкалывать надо как следует, зверски вкалывать. Но Петер Фекете и не так еще, бывало, работал, а даже на жратву не хватало. Да что об этом могут знать эти два прибившихся сюда шалопая? Один пьет не просыхает, с металлургического его выгнали, слава богу, еще до того, как он травму какую мог получить. А здесь пей сколько влезет, лишь бы буфет на себя не опрокинул. Пей-папа! — так его и прозвали. А другой помощничек едва ногами перебирает, одна о другую спотыкается, и всегда сопит от натуги, а в минуты передышки разглядывает свой пуп, уверяя всех, что эта шишка — грыжа. И еще злится, что его Шишкой зовут. Злобная такая порода и хочет лишь деньгу зашибать. Но больше всего ненавидит того, от кого больше получает.
— Холера ему в живот, раз может так вот прямо из ящика взять да и выложить столько…
Шишка с наслаждением ерзал по нежным ворсинкам бархатного сиденья своей задницей.
— Не дури, Шишка! — Петер Фекете раздал разобранную на страницы газету «Народный спорт». — Нате, подложите под свои зады! И не забывать: качество доставки! А то подаст клиент жалобу — и кати обратно, все труды насмарку!
Они подложили под себя газетные листки. Петер Фекете многозначительно извлек из внутреннего кармана куртки карты. Пей-папа уже принес светлое Кёбаньское пиво и бутылку палинки; все это спрятали под стол и по мере надобности привычным движением выхватывали оттуда бутылку за горлышко.
Шофер в выпивке не участвовал. Он и в карты не умел играть. Склонился на баранку и задремал. Правда, в этой игре — «ульти» — четвертый и так только болельщик. Да и что поделаешь, такой уж это парень. У него длинные золотистые волосы, еще бы борода — и готовый тебе «Иисус Христос-Суперстар». Такую надпись Петер Фекете увидел у сына на обложке пластинки, он тогда спросил, что, мол, это значит, и тот развязно ответил: «Что и само название — „Иисус Христос-Суперстар“». Мальцы над всем измываются. Но ежели он терпит шуточки в свои пятьдесят, то пусть и шофер Миши их потерпит. А он ничего и не возразил. Суперстар — это, по его понятию, лишь звание, это, говорит, вроде как самая блестящая среди звезд. Потеха, когда на него найдет. В прошлый раз он не обогнал машину «хикомат», чтобы не обидеть водителя, который калека, только поэтому… Когда из выделенной ему сотни Тиби купил в табачной лавке шоколадку и игрушечного тигренка и побежал с этими вещами туда, где получил сотню, о нем уже забеспокоились. Но Миши и этот поступок смог объяснить: больно уж много мебели в той квартире и слишком строгий порядок. А ребенок хилый, и нигде ни одной игрушки. Зато в другом месте, у господина с седой, словно маком обсыпанной шевелюрой, от которого пахло одеколоном, он поднял шум: вы что думаете, за такие-то гроши вам еще и гарнитур собирать? За него можно не беспокоиться, по всему видно, с кем имеем дело. Да что поделаешь, каждый по-своему с ума сходит.
Такой партии не помешала бы и музыка, поэтому Шишка настроил свое карманное радио на цыганские напевы. Раздался цыганский чардаш. «Полсотни форинтов — это, черт возьми, пятьдесят…» — принялся было подпевать Шишка.
— Не скрипи своим голосом, ведь тебя с грыжей на пупу в оперу все равно не возьмут… — перебил его Петер Фекете и открыл карту. Пей-папа схватил у Шишки карту из-под носа. Шишка заворчал, что это несправедливо, что он даже в картах у них на поводу.
Пили, резались в карты, из приемника лилась венгерская песня. Совсем по-домашнему устроились и прямо на улице, в самой середке открытого грузовика, на роскошном гарнитуре. Вдобавок еще и солнце пригревало, и ветра не было, нигде ни одного, даже чахлого облачка; никакого стеснения, никаких угрызений совести они не чувствовали. Им все было позволительно.
Миши же ощущал жгучую неприязнь, осуждение всей улицы, стоило только взглянуть в боковое стекло. Собственно говоря, ему жалко было троих дружков: да и в чем их грех? Без утайки занимаются тем, что большинство скрывают или, и это еще хуже, не осознают, что делают то же самое. (Миши сначала подавал на философский факультет, но, когда позднее его перевели на педагогический, он не жалел. Слишком много ожидал от философии: наслаждения от полнейшей свободы духа вместо ограниченного программой знания.)
Конец веселью положил кладовщик, который принес недостающий подлокотник. Хватит им бездельничать, пока он, как подвальная мокрица, только и скользит целыми днями по темным проходам склада…
— Вот вам ваше барахло, — сказал он Петеру Фекете. — Забирайте. — И он сорвал с гарнитура бумажку с надписью «Продано». На месте вырванной булавки взъерошились ворсинки бархата. — Вези своему дважды тезке. — Он рад был кольнуть его: — Есть еще и такой Петер Фекете, которому везет в жизни.
Тогда только все увидели имя и фамилию покупателя: это был тоже Петер и тоже Фекете.
— Даже не доктор? — спросил Пей-папа.
— Даже не доктор, — пробурчал Фекете. Ну хотя бы стоял перед фамилией этот дурацкий «д-р», чтобы не был на вид точно таким, когда на самом деле совсем другой.
— Поспорим, что не в микрорайон… — прошипел Шишка.
— Надеюсь. Добротный, старинный доходный дом — то, что надо.
— Самое хорошее — это квартира-особнячок, — сказал шофер Миши через окно. — Ступенек — раз-два и обчелся, и «на бутылку» дают немало…
— Чтоб тебе жизнь шею сломала, — сказал Шишка, и все поняли, что это относится к покупателю.
Они подняли борты, заложили железные крюки. Сунули пустые бутылки в приспособленный для этой цели мешок и закрепили его между ногами стола, чтобы не звенели и не побились. Когда мешок наполнится, Пей-папа осторожно взвалит его на спину и по одной сдаст в окошко, где принимают пустые бутылки; пускай ругается приемщик и всякие дармоеды из очереди.
Шофер Миши завел мотор, взглянув предварительно на карту. Улицы назначения там не было. Может, это все-таки микрорайон? Хотя в районе Орлиной горы… Наконец он въехал в нужный район и остановил грузовик на людном перекрестке.
— Полицейский! Полицейский! — крикнул он весело.
— Цыц! — шикнул на него Петер Фекете. — Даже в шутку не люблю…
Конечно, полицейского нигде не было. Только фонари светофоров регулярно сменялись с красного на быстро вспыхивающий зеленый.
«Плохо стареть, — подумал Миши, глядя на деда, который отчаянно семенил в мигающем свете фонарей. — Фонари рассчитаны на здоровых молодых людей. Одна минута? Полторы минуты. За это время легче умереть, чем перебраться через дорогу».
Они не раз справлялись, как им проехать, пока не обратились к женщине с собакой, оправляющей свою нужду.
— О-о, это новый специальный микрорайон… — важно принялась она объяснять, отчего вокруг ее совиных глаз еще более расширились лиловые круги. — Все виллы там двухэтажные и с приусадебными участками. Я точно знаю. — Она украдкой огляделась. — Но надо быть осторожными, потому что и стены имеют уши… А что вас там интересует? — От любопытства она уже совсем прижалась к колесу.
Машина тронулась дальше.
— Гм… С собачками прогуливаются! — заметил Шишка. — Такая падаль небось два кило мяса сжирает.
Остальные согласно пробурчали.
Лишь шофер Миши молчал. Ведь собака — это и лекарство, и друг, более того — член семьи. У кого есть глаза, тот это видит. Но он уже и сам не знал, правильно ли, если из человека так и лезет чувствительность, такая вот, все взвешивающая, как крылья-чаши у весов.
Теперь они довольно легко нашли нужный дом. С одинаковых песочного цвета зданий по-военному строго смотрели заключенные в квадраты номера.
— Ну, теперь держать язык за зубами, — выдал приказ Петер Фекете, — и двигаться поживее…
Хозяйка, огромных размеров женщина, уже ожидала их на террасе.
— Одну минутку, товарищи! — отступила она. — Папуль, товарищи прибыли… Неси ключ… Одну минутку, товарищи…
Мужчина низкого роста, с поразительно тонкой шеей и впалой грудью, усердно захлопотал. На его спортивных брюках по бокам сбегали две белые полоски.
К Шишке сразу вернулась самоуверенность: «Эти-то что так прыгают?!» Петер Фекете тоже составил мнение: «У них что же, никаких телесных норм нету?!» Пей-папа завозился у мешков с бутылками, чтобы он, паче чаяния, не скатился. Шофера Миши эта супружеская парочка забавляла. Они ему явно нравились: жена-колонна и тростиночка-муженек.
— Открываю уже, Мамуль… Извольте, товарищи, сюда, сюда, на первый этаж, в приемную…
Расстояние от ворот небольшое, и ступенек всего три. Вот повезло. Да и клиенты так просто держатся.
— Я в этот угол думала. Правда, Папуль? — Женщина невольным движением начала помогать. Один элемент гарнитура она подняла профессиональным движением.
— Да, Мамуль! Мы до последнего сантиметра все измерили, товарищи. Чтобы потом не было неожиданных проблем, которые пришлось бы решать…
Да, все было рассчитано точно. Оставалось только сдвинуть подушки. Мебель заполонила помещение, заглотав воздух.
«Только стены ведь не раздвинуть, в этом лишь разница», — подумал Миши.
— Целую ручки, товарищ хозяйка, — сказал Петер Фекете, размякнув.
— Ты сразу же все разложи, Папуль. Сюда — французские карты да и твою жирную колоду, видишь, вот в эту ячейку…
Муж принялся раскладывать вещи.
— Моя жена за две недели научилась играть в канасту, — похвастался он, — чтобы не оплошать перед гостями.
В каждое отделение нашлось что положить: «Иллюстрированный спорт», модный «Магазин». Среди пластинок Миши узнал «Цыганского барона». На полку для напитков попал джин «Гордон».
— Там и вправду джин или это только для украшения? — вызвал хозяев на откровенность Пей-папа.
— Пока есть. Иногда покупаем заграничное, а потом доливаем венгерского. Правда, Папуль?
— Эх, Мамуль, Мамуль… — муж усмехнулся и покачал головой, — что на уме, то и на языке… Так давайте же за наше здоровье!
Женщина выпила залпом. На пузатых стенках высоких бокалов — по мышке-матрице, каждая — разного цвета.
— Мы получили их на память с прежней работы. Прощальный подарок. Папулю все любили. Как наверху, так и внизу. Правда, Папуль?
— У товарищей еще много дел. Не задерживай их, Мамуль!
— Папуль, ты подпиши! — женщина подложила ему накладную. А ведь Петер Фекете дал накладную именно ей, потому как у нее из кармана выглядывал бумажник.
Мужчина размашисто расписался. Вывел громадную букву Ф и громадную П. Сама фамилия неразборчиво расплылась между двумя заглавными литерами.
Женщина дала каждому по двести форинтов сверх платы за перевозку.
Вот это да! Щедро.
— Целую ручки… Доброго здоровья… вернее, сил и здоровья, — сделал Петер Фекете под козырек. — Всей семье. А что до вашего вкуса — все отлично.
— Я рада, что товарищам тоже нравится. Ведь, в конце концов, вы люди компетентные. Только, если Папулю опять переведут, вопрос еще, поместится ли все это там… Такая уж должность, не успеем пригреться на одном месте — приходит новый приказ. Верно, Папуль?
— Мамуль, Мамуль… это дела служебные!
— Мы имеем дело с трудящимися, Папуль. Да, товарищи, в нашем случае человек не распоряжается собой.
— Верно-верно, — закивал Петер Фекете. Пей-папа выпил еще. Шишка осторожно приблизился к хозяину и померился с ним ростом. Шофер Миши вроде бы глупо ухмылялся. А сам проверял инвентарь ячеек. — Верно-верно… Вот некоторые мнят о себе невесть что, будто и не мать выплюнула их из брюха своего. Другое дело, когда встречают так просто, по-человечески. Извольте обратить внимание, как интересно, меня тоже зовут Петер Фекете.
— О! — человек в спортивных брюках дружески похлопал грузчика по плечу… — Мы, товарищ мой, равные. Каждый на своем посту…
— Не равные вы, может, только в чем-то одинаковые, — возразил шофер Миши, принявший позу Иисуса Христа-Суперстара, — хотя наш Петер Фекете все же сильнее…
Приумолкли. Наскоро стали собирать ремни.
— Вот видишь, ну почему ты не надел китель? Вот видишь, Папуль… — доносились им вслед из двери балкона тихие, но решительные упреки женщины.
— Ты идиот, — сказал Петер Фекете, обратившись к Миши. — Чего задираешься? Хорошо еще, что после чаевых открыл свой кислый рот… И этим небось не сладко живется… свистнут им — и собирай монатки!
На этот раз даже Шишка был доволен. Нашел наконец кого-то ниже себя по росту. Что до Пей-папы, ему все было сейчас без разницы. Хмель тоже великий избавитель, пока минута отрезвления не вгонит его обратно в рабство.
Петер Фекете сел рядом с Миши в кабину. Надо поучить его уму-разуму: ведь ни отца, ни матери у Миши, даже порядочной бабенки нет…
— Подзаработать каждый не прочь. И ты тоже. И мой тезка Петр Фекете, да и все другие… но ведь для этого ум нужен. Чтоб не дать деньгам утечь, как у Пей-папы, не тратить на потаскух, как Шишка… Вот посмотришь, какой у меня дом будет с садом, когда на пенсию идти; такой, что мне на этот гарнитур и плюнуть не захочется… поверь, сынок. Но для всего этого нужно иметь и обхождение! Чтобы ни у кого не быть на побегушках… И человек добьется в конце концов. И тебе пора бы за ум взяться… Куда, к черту, деваешь ты уйму денег?! Есть у тебя какая-нибудь цель, а, Суперстар? Хоть какая-нибудь?!
Суперстар осторожно правил. Они попали в час пик. Машины теснили друг друга.
Суперстар не ответил, будто и не понял, о чем шла речь. Но он твердо знал: еще лет десять все будет по-прежнему. Минимум лет десять, но затем не будет ни того Петера Фекете, ни этого Петера Фекете. Он достигнет своего: у него появится одна-единственная комната с побеленными набело стенами, в ней — один узенький шкаф, но много стульев, большой стол и матрац из пенопласта на полу.
И тогда займется он настоящей работой, и сможет заниматься ею свободно, так как не нужно будет бояться, оплатят ли ему его труд, ибо если и не оплатят и не будет другого выхода — он оплатит его себе сам.
Перевод И. Сабади.
ГАРМОНИЯ
…Звуки и трепеты — все сливается. Умиротворенность и какая-то кроткая тишина. Ничто не разобщает, нечего делить, нет стремления отличаться друг от друга. Желания, взметнувшись, сплавились в любовь и застыли. Душа — бабочка с четырьмя крыльями. Тело слабеет при расставании. Шаги звучат в такт. Спешить больше некуда, дорога одна, привалы не нужны. Близость — растянутое наслаждение, ритм ровен, его пульсация пересиливает даже равнодушие времени. Вздох замирает на краешке губ, не овладевая душой. Единение не утомляет, оно желанно и целительно.
Они были почти всегда вместе, эта пара. В полном смысле слова пара — один без другого никчемен. Как перчатки или туфли: теряется левая, не нужна и правая. Раствориться в другом — заманчивый вид самоубийства, сладкая, но все-таки смерть, как всякий отказ.
Встретившись, они сразу стали неразлучны. Уже пять лет. Не первой молодости, но и не вступившие еще в старость, они только предчувствовали библейские «времена оны». Важнее самого существования казались его внешние признаки: успех, настроение, обладание благами, безукоризненность тела. Им не была еще известна судорога цепляния за жизнь — пока они судорожно старались не потерять друг друга, лелея и оберегая один другого. Они отказывались признать не то что бренность жизни, но и возможность перемен в ней. Спайка двух людей невозможна без ран и наростов, соединение нагляднее показывает, как далеко им до совершенства, а их брак опровергает все сомнения в возможности полного согласия. Близость, не поддавшаяся внешнему влиянию, сначала шокировала окружение, потом к ней привыкли и постепенно их стали забывать. Общество не испытывало потребности в них, а они — в обществе. После работы — скорее домой. Казалось, и ребенок у них не рождается только потому, чтобы не нарушать исключительной принадлежности их друг другу.
Гармония… Не шелохнется зеркало вод, не поднимется пылинка с дороги, беззвучно падает с дерева лист…
Понедельник. Половина восьмого вечера. Солнце никак не хочет уходить за горизонт. Медленно тает в воздухе летний зной. Они дома после двух недель отпуска на Адриатике, пролетевшего, словно один искрящийся миг. Между ними не случилось не то что ссоры — спора. Было немыслимым, чтобы кто-то в одиночку отправился к морю. Они вместе засыпали и вместе пробуждались. Ни одно объятие не оказалось пустым. Что нравилось одному, вызывало восторг у другого. Разница во вкусах исчезла, они радовали себя обильной и богатой едой. Остались в стороне компании, со своими попутчиками они общались лишь за столом. Не нужно было слов, каждый наперед угадывал желания другого.
Они сидят рядом в креслах, молчат. Руки, легко нашедшие друг друга, раскачиваются, как бы отсчитывая ход секунд. Проходит с четверть часа… Женщина ставит носок шлепанца на ногу мужчины и пытается прижать ее к полу. Мужчина делает вид, что ему больно. Им весело. Женщина ерошит волосы.
— Надо бы помыть голову, — нарушает она тишину, — но тогда придется оставить тебя одного. Как быть?
— Вымой, и дело с концом. А я пока приведу в порядок свою ногу: опять начал врастать ноготь.
— Что же, расстанемся, — нерешительно произносит она. — На полчаса!
— Не теряй времени! Я быстро… И поосторожнее там!
— С богом…
Следует шутливый обмен прощальными поцелуями. Она уходит в ванную, он остается в комнате. Между ними две двери.
С длинными волосами много хлопот. Пока распустишь, расчешешь. Они путаются, быстро грязнятся, оттягивают голову. И сохнут медленно, и прическа держится плохо. Зато естественны и не зависят от каприза парикмахера.
Женщина расчесывает волосы. Всякий раз, когда гребень застревает в них, на ее лице появляется выражение страшной боли. Игра перед зеркалом. В эти моменты женщине нравится собственное лицо, оно напоминает ее детский облик.
…Это мать захотела, чтобы у нее росли косы. Они были жиденькие, бесцветные, едва достигали плеч. Начинались сразу за ушами, плелись туго, больно тянули кожу. На концах болтались пластмассовые заколки на манер бантика. Заплетала косы по утрам мать, но лишь раз в неделю хватало у нее терпения сделать это как следует — в воскресенье утром. Эти ужасные воскресенья! Мать запускала свои проворные пальцы в детские волосы и орудовала, пока они не ложились свободно, а из вырванных и выпавших волосинок скручивала шарики. Она не думала, что девочке может быть больно, называла ее плаксой, обезьяной, толкала в спину, если слышала вскрикивания и всхлипы. Ну почему она не верила, что ей больно? Почему ни разу не пожалела ее в этот момент? В школе никто больше косичек не носил. Они комично болтались за спиной, два тоненьких шнурочка. Мать мучила ее до четырнадцати лет. Потом девочка поняла, что самой причесываться легче: и волосы послушнее, и обращаться с ними можно без лишних страданий. Мать это вывело из себя. Она потеряла любимое занятие, — разве не приятно доставлять другому страдания? Мать научила ее этому…
Мужчина поставил ногу в маленький желтый тазик. Свет в воде преломлялся так, что волоски на пальцах казались толстыми, удлиненными. Нога выглядела розовато-младенческой, беззащитной, кожа на ней слегка шелушилась. И сморщилась… как тот пасхальный кролик, давным-давно. Он держал его под водой до тех пор, пока красные глаза животного не вылезли из орбит. Маленькое тельце билось в судорогах, мышцы, казалось, вот-вот лопнут от напряжения. Словно электрический разряд бил в руку, он и сейчас помнит это ощущение. Помнит тошноту, которая подкатывалась тем сильнее, чем дальше уходил у кролика шанс остаться живым. Он заставлял себя быть жестоким. Он делал это, чтобы не отставать от других мальчишек, чтобы наконец-то без выдумки рассказывать о своих геройствах… Отступать некуда. Глядя на мокрое, скользкое тельце, он думал: подвиг — чаще всего злодеяние, у большинства героев просто не хватает смелости перестать делать зло. Лежавший на промокшей папиросной бумаге мертвый кролик выглядел умиротворенным и более спокойным, чем мальчик, лишивший его жизни. Господи, как ужасно заставлять страдать невинных, даже если это происходит невольно! Уж лучше самому принять мучения, извиваться в судорогах, как этот бедный зверек! Рано или поздно судьба свершит свой приговор над палачом, совесть мстит неторопливо, убивает медленно…
Женщина запрокинула волосы за спину и стала похожей на Лорелею. Ей еще шла эта поза. Еще можно было представить, как она, подобно злому духу, заманивает в ловушку ничего не подозревающих мореплавателей. Сколько раз она делала это в молодости! Правда, тогда у нее была совсем другая шапка волос — коротких, вьющихся, как у молодого барашка; постоянно спутанные, они придавали ей неповторимый облик. Ласкающая рука ощущает упругие волоски — проводочки, которые грозят электрическим разрядом. Ничего не стоит отпугнуть приближающиеся пальцы, ласка не спасет. Щелчок кнута: ступай, надоел. Его лицо удлиняется, вены набухают, горло переполняют всхлипывания и стоны — величественна картина плачущего мужчины, она пьянит и волнует. Мнется одежда, борода покрывается слезами. Женщина объявляет о пощаде, невинный прощен… О мореплаватель, над тобой смыкаются волны!
Женщина берет шампунь, глубоко вздыхает, закрывает глаза и подставляет голову под струю душа…
«О ты, потерпевший кораблекрушение! Как же ты не понял, что я не остров, а спина огромного кита! Хорошо еще, что у тебя нашлось сил удержаться на волнах и поплыть дальше. Может, кто другой, более милосердный, бросил тебе спасательный круг? Пережил ли ты меня, беспокойное чудище, находившее радость в душевном смятений? Помнишь ли, как до сумасшествия злился, как пытался удержать, помнишь ли вообще меня, жалкую грешницу?.. Смех, с которым я протягивала тебе пряник сразу после удара кнутом? А может, втайне и ты наслаждался этим?..»
Мужчина осторожно вынимает ногу из тазика, кладет ее на колено другой, выбирает самые острые ножницы. Тихонько щупает больной палец… Сколько ему пришлось проглотить и из-за этого! Она постоянно над ним измывалась, холодная, брезгливая матрона. И замуж за него вышла, наверное, чтобы только постоянно демонстрировать свое превосходство. Все вызывало у нее возражения. Удары наносились очень чувствительные — по самолюбию. Он барахтался, будто черепаха, перевернутая на спину, — а из панциря методично черпали теплое, живое еще тело. Девять лет он прозябал как второразрядное существо, белокожий негр. Каждый его шаг рассматривался под увеличительным стеклом, через которое все выглядело перекошенным. Ни двери, чтобы укрыться, ни уголка, куда бы не доходил презрительно-вопрошающий взгляд. Все его порывы осаждались окриком, издевкой, насмешкой. Она никогда не оставляла его в покое, неусыпно следила за ним. Старайся не старайся — все равно будет недовольство, недоверие. Напрасно он искал у нее сочувствия: в ее глазах всегда виноват был только он, выродок, недотепа, вечный неудачник. А как унизительно умела она жалеть его, бедняжку!..
Мужчина прикусывает губу, упирается пяткой в пол. Кончиками ножниц охватывает большой ноготь и сильно сжимает их.
«О… как только я не пытался проявить себя! Работал днем и ночью. И мне многое удавалось, я открыл в себе столько способностей — и все ради того, чтобы ты оценила и похвалила, ты, статуя с площади, не человек, а стерильный робот… Спуталась с проходимцем, который унес жемчуг твоей матери, ограбил тебя. Конечно, и за это досталось мне, за все били меня. Так почему же я не сержусь? Куда делась страсть, с которой я был готов стереть тебя в порошок, как мельничный жернов, только чтобы доказать тебе… Чтобы ты хоть раз сказала: умный, ловкий… Да, благодаря тебе я чего-то достиг. Благодаря тебе, ничтожество…»
Женщина старается уберечь глаза от пены, ей это не удается. Щипать не щиплет, но немножко жжет.
Пустяки по сравнению с перекисью водорода, когда она, сдурев, решила перекрасить волосы в рыжий цвет. Красные локоны нервно метались в пылу скандалов. Стычек было предостаточно — одна за другой. Цирк, где из укротителя она за один день превратилась в ручную собачонку, прыгающую через обруч. То был опасный партнер! На каждый удар отвечал двумя. Юркого и проворного, его нельзя было положить на лопатки, в решающий момент он высвобождался и больно бил, выведав сначала лаской самые чувствительные места… Достойный противник. Приход, уход — никогда нельзя было угадать. Лишь изнурительное ожидание, монотонное тиканье часов; секунды, как капли воды, бьют по одному и тому же месту; вот уже зияет целая расщелина, вода заливает раскрывшийся позвоночник, хлещет по беззащитно-обнаженным нервным клеткам. Любовь раздирала мозг, поцелуй перехватывал горло, восторг и отвращение боролись друг с другом, но ни одно из них не могло одержать верх… Они во всем расходились, кроме того что мир их сорвался с орбиты и, словно взбесившаяся лошадь, галопом носится по кругу. Спасти этот мир каждый пытался в одиночку. Летели взаимные безжалостные обвинения, воздух искрился от напряжения; были крики, проклятья, но скука — никогда…
Женщина ополаскивает волосы. Струя горячая, но она терпит. Склонившись над ванной, она снова смачивает их шампунем. Пальцы массируют голову сильнее, чем нужно.
«…Ты — монстр. Ты ничего не признавал во мне и все хорошее вывернул наизнанку. Добро во мне росло из гнилого корня, повторял ты, пока я сама не вырвала из себя все чересчур человеческое и жалкое, добродетель, которой слишком много и которая душит других своей тенью. Это тебе я должна быть благодарна, тебе, слепо-своевольному Голему, твоей безжалостной домне, которая опалила меня, и я окаменела в собственной материи — все лишнее сгорело, осталась лишь форма, выражающая суть. Благодарю, но вспоминаю тебя — с неповторимым ужасом…»
Мужчина цепляет пинцетом отстриженный ноготь и вытаскивает его из окровавленного пальца. Кладет в пепельницу, рассматривает…
Разрыв всегда труден. Даже со злом страшно расставаться. Только наивный может думать, что за злом обязательно следует добро. Новая среда агрессивна, испытывает всякого пришельца, к чему он готов. Девушку он приблизил к себе из лени и удобства. Без влечения со своей стороны, просто она умела любить сильно и терпеливо. Печальная история. Ее пылкость угнетала, отвечать на нее не было сил. В любом выражении лица виделся упрек. Что ни фраза — удар наповал, а произносилась она без цели. Горько видеть раболепие перед безразличием неверующего, который — просто так — спешит на молитву.
Мужчина берет в руки пилку. От неудобной позы нога затекла. Вода остыла, на поверхности плавают мыльная пена и чешуйки кожи…
«Господи, сколько боли доставила ты мне, как изматывал страх, что ты заметишь мое равнодушие! Как часто ты заставляла лгать, прикидываться влюбленным. Сколько раз, проклиная и мучаясь, приходилось мне подавлять желания, чтобы угодить тебе: так трудно было видеть твой взгляд — взгляд пасхального кролика. Какую дисциплину я вобрал в себя; она сковывала, но одновременно обогащала. Ты научила меня владеть собой. Совершать, пусть вынужденно, правильные поступки. Своей ослепляющей и стыдящей любовью ты заставила меня одержать победу, которой я не желал. Ты, кого уже нет в живых, над кем бог, к счастью, уже смилостивился…»
Женщина отжимает волосы. Поднимает мокрую голову и вновь подходит к зеркалу. Тщательно зачесывает волосы назад. Лицо ее подурнело: слишком большие, мятые уши, распрямившиеся и очистившиеся от всего искусственного черты лица, сбившиеся брови — впору снимать посмертную маску.
Как в тот раз, когда «скорая» забрала ее прямо из парикмахерской. Волосы еще не были выкрашены до конца, с ярко-рыжих локонов краска текла по спине, по груди, пропитав всю одежду и белье… Колодец полон змей, а она — на дне колодца. Его стенки скользки, зацепиться не за что, зловонная, грязная жижа поднимается все выше, от нее нет спасения, как ни тяни голову вверх. Холод сковывает губы, она задыхается, и никому нет до этого дела. Помощи ждать нечего, она одна, все рушится. Животный рев, неоновый луч лампы с потолка, как на допросе…
Женщина тщательно растирает бальзам до кончиков волос. Берет махровое полотенце, мягкое, белое, и тщательно закутывает голову. Ушей больше не видно. Брови с обеих сторон устремлены ввысь, лицо вновь напрягается, его черты наполняются жизнью…
«Ты, страшное одиночество! Отчего ты не молчаливо, почему кричишь все время одно и то же, истерически вибрируя, разбрасываешь вопросы? Терновый венец и власяница — вот чем одариваешь ты преданных тебе. Во всем я призналась тебе, одиночество, даже в том, чего не совершала. Ползала на коленях, просила у чужих прощения, молила о сострадании. Страх разрывал меня, страх. Спрятаться бы хоть в мышиную нору, съежившись, не жалея себя… Но не было норы. Меня бросили в колодец смятения. Сверху свисали веревки, да только гнилые и рваные. Те, что целее, наверху сразу бросали, стоило за них уцепиться, — и я летела вниз. Ты, страшное одиночество! Преклоняюсь перед твоим бесчувственным сердцем… И тогда я обняла тебя, надела венец и власяницу, став твоим союзником, воином, сатрапом. Ты, самый умелый и самый безжалостный из учителей! Благодаря тебе я наперед поняла ожидавшую меня жизнь. Изломав ногти, превозмогая себя, я выбралась из колодца и сумела полюбить тебя, ставшего прекрасным, призрачным и величественным. Спасибо тебе за это. Спасибо тебе, ужасное одиночество, моему самому приметному, самому верному возлюбленному. Мы дали жизнь замечательным малышам — витязям-знаменосцам, презирающим смерть. Они меня никогда не бросят. И ничто меня больше не испугает, ничто и никогда. Радуйся, дорогой. Ты сумел дождаться, пока я стала такой…»
Мужчина аккуратно вытер ногу. Вытянул ее, шевелит пальцами. Старый трюк: каждый палец двигается сам по себе…
Бездумная механика. Скучно. Заигранная пластинка, пресыщенность монотонностью. Неразборчивая похоть отвратительна. Личность исчезает, остаются только бедра, шрамы, пазухи, пуповины, грудные клетки. Имена взаимозаменяемы. Более того — их надо менять и путать. В этом свой аромат: один запах еще не улетучился, а к нему уже дурманяще примешивается новый. Детский восторг: кто сколько гнезд совьет за лето? Победа не по душе, но кураж! Самовлюбленность, восторгание собственными слабостями. Ни желание уже не важно, ни наслаждение. Только бы не упустить ничего, только бы обладать и верховенствовать. Гнать страх, страх от развязанного мешка, к которому человека уже давно ловко и исподволь заманивают, чтобы в какой-то неожиданный момент накрыть им… Рано или поздно быть тебе пленником и добычей, юркий зайчишка…
Мужчина припудривает тальком между пальцами. На срезе ногтя кровоточит. Он поднимается, ставит ступни вместе, как по команде «смирно», несколько раз встает на пятки…
«Смотреть не мог больше на женщин, до чего дошел. Вид рыхлого тела вызывал тошноту, сам акт был утомителен, позы смешными. Никогда не чувствовал большей опустошенности и отчужденности — хотя тела еще вместе, — чем после, хватаясь за мятую, липкую простыню. Хорошо еще, что можно было наедаться, голод никогда больше не будет мучить. И хорошо, что я наконец понял: все гораздо проще, иллюзии рождаются раньше, вместе с надеждой на бессмертие, иллюзии рождаются потом, когда ты остаешься без кислорода в пространстве между небом и землей… Как хорошо, что ты не пришла раньше! Ты последняя, родная. Ты, родная последняя…»
Полчаса истекло. Легкий звон часов подтвердил это. Женщина с шутливой торжественностью открывает дверь.
— А вот и я! Чем ты без меня занимался столько времени?
— Ноготь стриг. Только что закончил, минута в минуту. А ты? Вымыла голову?
Она в белом тюрбане, он босиком вновь располагаются рядом. Между ними ни сантиметра свободного пространства. Дыхание едва улавливается, глаза закрыты.
А может, есть еще время? Может, будет еще, что вспомнить? Ушло лишь страдание, формирующее человека. Причинять страдания или принимать — сил для этого больше нет.
Кузнец затушил горнило. Щит и меч мирно соприкасаются на стене. Покоятся во мраке, ожидают своей судьбы. Какая будет — они ко всему готовы.
Перевод В. Дорохина.
Примечания
1
Какой трамвай идет (искаж. нем.).
(обратно)2
До (англ.).
(обратно)3
До (нем.).
(обратно)4
Сомбати (венг. Szombati) — субботний.
(обратно)5
Прошу стакан воды (итал.).
(обратно)6
Южный вокзал (нем.).
(обратно)7
Тридцать восемь (нем.).
(обратно)8
Пешком (искаж. итал.).
(обратно)9
Игра слов: называя Хермину Хермелиной (hermelin (венг.) — горностай), девочка имеет в виду ее злобность, хищность, чем известен этот зверек.
(обратно)10
Бывшая окраина Будапешта.
(обратно)11
Обычное обращение младших школьников в Венгрии к учительнице.
(обратно)12
Дежё Костолани (1885—1936) — поэт, прозаик, классик венгерской литературы.
(обратно)13
Эндре Ади (1877—1919) — выдающийся венгерский поэт и публицист.
(обратно)14
«Фаркаш» в переводе с венгерского «волк».
(обратно)15
Маленькая рыбка — хорошая рыбка (нем.).
(обратно)16
Строчка из стихотворения Аттилы Йожефа «Воздуха!». В рассказе обыгрывается содержание этого стихотворения, особенно последняя строфа:
Мой вождь во мне, других вождей не знаю! Я не дикарь, не зверь! Мечты-улики бьются, сотрясая Глухого гнета дверь… Приди, свобода! Здесь твоя держава! Приди и на простую радость право Как сыну мне доверь! (Перевод В. Корчагина) (обратно)


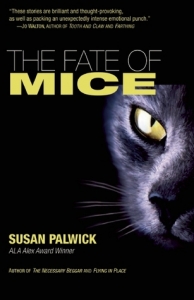








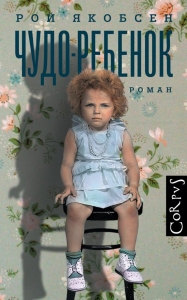
Комментарии к книге «Что с вами, дорогая Киш?», Анна Йокаи
Всего 0 комментариев