Марианна Гончарова Папа, я проснулась!
© Марианна Гончарова, текст, 2016
© Александр Заварин, иллюстрация на обложке, 2016
© Марина Акинина, иллюстрации, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Тетя Дины Школьник
Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, живущая в городе Саратове, — Дюймовочка. Сама Дина Школьник — просто эльф, такая маленькая и щуплая. А Мириам Моисеевна — Дине по плечо. Ростом примерно до подоконника. Мириам Моисеевна Школьник, если ее положить в длину, короче даже своего имени. Ну чтобы вы могли представить, какая она на самом деле маленькая, то вот вам: когда она приходит в банк, например, или на почту, то клерки вылезают из своих окошек и перегибаются через барьер, чтобы посмотреть, кто это там пищит резким и требовательным голосом. И чья это крохотная лапка машет им в окошко бумажками.
Кстати, лифт тоже не чувствует ее веса, и Мириам Моисеевне в ее преклонном возрасте приходится подпрыгивать, чтобы лифт закрылся и поехал. Но и это не всегда срабатывает. Когда тетя Дины Школьник не позавтракает, и чтоб плотно и калорийно, подпрыгивай не подпрыгивай — лифт с места не двигается. Не распознает пассажира. Наверное, думает, что кошка какая-то зашла…
Вот какая она маленькая, наша Мириам Моисеевна.
* * *
Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, — герой. Маленькая тетя — большой герой. Причем герой она на самом деле. У нее столько медалей и орденов за победу в Отечественной войне, что если их все нацепить ей на пиджачок еще из советского «Детского мира», то тетя Дины Школьник сможет с такой тяжестью только лежать. Сидеть, стоять, а тем более идти она не в силах. Маленькая очень. Хрупкая.
* * *
Да, тетя Дины Школьник во время войны была бесстрашной десантницей. Вот какие бывают чудеса! И часто совершала подвиги. Правда, случайные. Ее сбрасывали в группе десантников с самолета, но никто не учитывал ее невесомости, и героическую тетю Дины Школьник сносило ветром от своей группы куда-то в сторону от условленного места встречи. И пока она добиралась до этого самого места, как и всякий десантник, экипированная взрывчаткой и несколькими гранатами, то успевала немного пошуметь, то есть пустить под откос какой-нибудь немецкий эшелон или поджечь что-нибудь стратегически важное для немцев. А потом тихо и незаметно двигалась туда, где группа уже не знала что и думать. Ох и боялись ее немцы, ох и боялись! Ведь для того, чтобы поймать, ее надо было сначала найти. А как ее найдешь, такую маленькую?.. Героическая она была девушка, Мириам Моисеевна, тетя Дины Школьник. И ведь как жизнью своей рисковала юной, удалой! Маленькая, но великая. Богатырь она, крошка Мириам Моисеевна.
* * *
Когда Дина выходила замуж, Мириам Моисеевна приехала познакомиться с Диночкиным мужем и немного погостить. Гриша, Диночкин муж, с гордостью притащил к молодой жене свое бесценное приданое: старинный облупленный кабинетный рояль фирмы «Шредер». Настроенный, действующий. Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, инструмент легонько поколупала под испуганным настороженным взглядом Диночкиного мужа и задумалась. Приданое не понравилось. Она спросила шепотом: «Диночка, что это за семья такая, за кого они нас имеют, у них что, не нашлось мебели поновей?» Вечером с сомнением смотрела и щупала старый рояль.
А в день своего отъезда, когда молодые Диночка и Гриша еще спали, тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, сделала им сюрприз. Прежде чем незаметно смыться на вокзал и в поезде сидеть и представлять радость молодоженов, она сначала испекла яблочный штрудель, а потом покрасила Гришин рояль пековым черным лаком, оставшимся от покраски забора, который Гриша красил днем раньше. Покрасила и уехала…
Гриша потом так плакал, так бился над загубленным инструментом, мечтал догнать поезд и все сказать Мириам Моисеевне… в общем, сказать, что недаром ее, такую маленькую, шкодливую и неуловимую, боялись немцы. «Спасибо вам, — кланялся он испорченному роялю, — Мириам Моисеевна! За доставленную радость, Мириам Моисеевна, старая вы диверсантка! Сюрприз ваш удался!»
* * *
Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна из Саратова, живет жадно, наслаждается всем: весной, телевизором, прогулкой в супермаркет, хорошей сигареткой. Но есть у нее одна пламенная страсть — торговаться. В Саратове продавцы уже хорошо ее знают. Когда она, такая маленькая, но решительная, подваливает к рынку, продавцы сворачивают торговлю и предупреждают друг друга: «Атас! Десантница пришла. Смывайтесь кто может». Но не все успевают. Мириам Моисеевна, тетя Дины Школьник, приходит, как беда, — неожиданно. Стоит себе молочница, расслабилась, размечталась, а тут из-под прилавка кто-то царапается. Молочница перегибается — о, ужас, стоит уже! На цыпочках! Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна. Водит любопытным носом, лапку тянет, творог пробовать, сдерживает волнение, с показным равнодушием: «И скок-к-ко?» Но внутри у нее, как у боксера или карточного игрока, уже разгорается огонь азарта. И все — молочнице теперь не отбиться. Кипятиться, волноваться, возмущаться… Зачем? Тетя Дины Школьник всегда выигрывает пару десятков рублей, а то и сотен.
Как-то она поехала в Израиль к Дининому брату, еще одному своему племяннику. Дина, хорошо зная свои кадры, позвонила брату и, предупредив о пагубной тетиной страсти, посоветовала, чтоб ее, во-первых, не подпускали к антиквариату, а во-вторых, одну вообще никуда не отпускали. А главное, чтобы денег не давали.
Ага! Счас!
В первое же утро, пока все спали, Мириам Моисеевна вышмыгнула из дому и почесала на рынок за углом. Походила, посмотрела, потрогала — разминалась. Выбрала жертву. А потом вступила в схватку. Вернулась, когда дома, не обнаружив тети, забили тревогу. Вернулась взмыленная, счастливая, торжествующая, с большим пакетом давленых потекших персиков.
— Где ты их взяла? У тебя же денег не было… — озадаченно почесал голову Миша.
— Трофэйные! — удовлетворенно бросила уставшая тетя, с удовольствием закуривая сигаретку.
И тут все увидели, что вернулась она домой не одна, а в сопровождении араба, который помог ей найти дорогу назад и донести фрукты. Именно его, страшноватого и долговязого, она подкупила своим удивительным талантом торговаться и в нем наконец нашла достойного соперника. Они быстренько вошли в раж, не имея общего языка, выбрасывали друг другу пальцы, орали, мотали головами, раскраснелись, вспотели оба. Пожимали плечами, хохотали возмущенно, призывая в свидетели каждый своего небесного покровителя, окружающих торговцев и покупателей. Полетели искры. Тетя Дины Школьник, Мириам Моисеевна, иногда, уставая стоять на цыпочках, исчезала из виду за прилавком, и кто-то из болельщиков подсунул ей под ноги фанерный ящик. Блестя гневно глазами, эти двое хватали персики, мотали ими перед носом оппонента, потрясали ими, швыряли друг в друга. Мириам Моисеевна делала вид, что уходит, и слезала с ящика. Араб хватал ее за шкирку и ставил обратно, в свою очередь выбрасывая меньше пальцев, чем выбрасывал раньше, но больше, чем показывала тетя Дины Школьник. Смотреть на дебаты сбежался весь рынок. Кто-то болел за старенькую крошку, кто-то криками подбадривал торговца. Словом, в результате тетя Дины Школьник получила персики даром, одобрительные аплодисменты зрителей и цветистое многословное благословение продавца фруктов и его товарищей по бизнесу. Араб привел Мириам Моисеевну прямо к двери и, сдавая ее с рук на руки, сказал Мише, что вот это торговля сегодня! Вот это жизнь! И что такого удовлетворения от своей работы, такой радости… от женщины… он еще никогда не испытывал. Он еще, счастливый, с сияющим лицом, долго откланивался, жалея расставаться с таким достойным противником.
* * *
Недавно тетя Дины Школьник пожаловалась по телефону своей обожаемой племяннице: «Знаешь, Диночка, с этой чокнутой политикой… Мы, Школьники, все теперь оказались детями разных народов, слушай. Ты — в Украине, Мишка — в Израиле. Я — в России. И мы все как эти… Отрезанные ломоти! Меня как будто опять выбросили из самолета. И уносит, уносит ветром далеко от своих… И опять не знаю, куда приземлюсь и что буду делать…»
На охоте
Мои друзья и родные знают, что, если бы я не стала тем, кем сейчас стала (или не стала?), я была бы дирижером большого (именно большого, а не камерного!), большого симфонического оркестра. Большого-пребольшого! Я тыщу раз признавалась всем, что мечтала в детстве стать хотя бы ассистентом дирижера, носить за ним ноты. А когда у него, например, похмелье или, простите, понос, дирижировать вместо него. Хотя бы чуть-чуть.
Если бы вы знали, как я, десятилетняя, неустанно и настойчиво дирижировала оркестром под управлением фон Караяна! У нас дома было много толстых черных пластинок с классическими произведениями в исполнении оркестра под его руководством. А еще и под управлением Рождественского Геннадия или, чаще всего, Мравинского. Хотя изображала я всегда Стоковского. Моя мама, насмотревшись в детстве трофейных фильмов, подробно описывала его и, закатывая глаза, добавляла мечтательно, что Стоковский — «эт-то что-т-то!».
Я ставила пластинку, сажала перед собой, чуть слева от себя, плюшевого медведя Юрочку — сейчас поймете почему. Из «Ригонды» — нашего старого проверенного проигрывателя, моего товарища, особенно обожаемого в те дни, когда мои глаза были закапаны атропином, и зрачки расширены, и читать нельзя было, — словом, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, в дни жесточайших ангин и гриппов, — раздавалось сначала шипение, а потом уже шуршали программками, покашливали (мои! — будто бы) слушатели (ведь запись велась чаще всего из зала)… И тогда стремительно, через всю комнату, с торжественной и насупленной рожей я подлетала к зеркалу и рассеянно пожимала медведю лапу. Поняли? Поняли? Нет?.. В общем, медведь Юрочка был у меня первой скрипкой. Маминой складной учительской указкой (была у нее такая ручка-указка) я гневно стучала по специальной подставке для цветов (типа пульт). Ох же я была дирижер-диктатор! Ох же я была дирижер-деспот! Потом плавно руками давала невидимому оркестру ауфтакт и… Боже мой, как выразительны были мои жесты, какая четкость и определенность была в моих движениях! Как я держала все партии на кончиках моих пальцев и как собирала звуки горстями!..
Коварная бабушка, подглядев однажды за моими занятиями, сообщила деду скептически: «то ли плавать учится, то ли комаров гоняет. Корецкой надо показать однозначно». Корецкая была детский доктор, бабушкина подруга.
А когда дирижировала Вероника Дударова, все домашние мне кричали, мол, иди быстрей, твоя в телевизоре.
Я мечтала побыстрей постареть и просто видела, как в свой семидесятипятилетний юбилей я выхожу к пульту — сухая, подтянутая, с седой копной непослушных волос, как у Бетховена, во фрачной мужской паре, вдохновенная, вне времени. Ну и дальше — тук-тук-тук палочкой, потом всех музыкантов охватить взглядом, ауф-ф-ф-ф-фтакт… И-и-и-и-и…
Ну я еще не решила, что именно мы будем играть первым номером. Еще есть время. Да.
Теперь читатель понимает, как серьезно я отношусь к симфонической музыке. Хотя дирижеры (чуть не написала беспардонно: «Мы, дирижеры») нельзя сказать что люди всегда строгие и серьезные. Иногда они разыгрывают и зрителя, порой и музыкантов, часто шутят. И в концертах, где сидит неискушенная публика, бывают даже конфузы.
Ну вот, например, конкретная история.
Большой концерт. Официальный, приуроченный к какому-то государственному празднику. С присутствием высоких персон. Не в смысле роста, а в смысле должности. На самом-то деле высокая персона, что на концерт пришла, оказалась маленькая, широконькая. Она притащилась в зал, персона эта, уселась, а ножки у нее, верней у него, болтаются и до пола не достают. Но зато часы клевые и охрана приличная — парни как трехстворчатые шкафы…
Я вам вот что скажу. В нынешней ситуации, когда во власть идет… как бы это сформулировать поприличней, ну, скажем так, деклассированный элемент… Да еще и с лихим прошлым… Понятно, что их всех охранять надо. А охрану обучать. И не только приемам рукопашного боя, восточным единоборствам, но и… азам классической музыки. А вдруг персона классику послушать сподобится? Вместе с охраной (как же без нее, филармония все-таки!..). Ее-то саму, персону, обучать этим самым азам поздно уже. Да и бессмысленно: у них, как говорится, на другое ум головы заточен. А охрану надо. Потому что может выйти такой конфуз, ну такой конфуз может выйти… Рассказываю.
Словом, пришла, села персона. Вокруг персоны суетятся, юлят, программку, то-се. Рядом персонина супруга в атласном длинном и в убиенных нежных маленьких зверьках, дальше в этом же ряду персонины приближенные с супругами, тоже в убиенных животных, занесенных в Красную книгу практически. И с ними рядом, через одного, эти промышленные холодильники сидят — охрана. Молодцы такие, бдительные. Нервно галстуки гладят ладошками к уху — связь же там, так, да?
Начался концерт. Играет оркестр легонькое — так, для неискушенных. Ну там хиты всякие классические, узнаваемые. А во втором отделении Штраус. Вальсы, марши, польки. Нормально — персоне и персониным сотоварищам нравится — ничего не могу сказать. Это ж не Вагнера слушать или Шнитке там. Полечки, трям-та-та-там, трям-та-та-там. Персона повеселела даже, ножкой игриво подергивает. Персонина супруга милостиво головой в ритм качает.
Ну а я, за их спиной — там журналистов посадили, — я, как всегда, мысленно дирижирую и ни на что не обращаю внимания. И тут вдруг после шквала аплодисментов конферансье объявляет:
— Иоганн Штраус. Полька «На охоте».
Следом вылетает дирижер, элегантный, счастливый. Концерт идет к концу, все хорошо. Выходит, значит. С этим в руке… С пистолетом выходит. И говорит, повернувшись к залу, роскошным баритоном, подняв пистолет:
— И напоследок…
Пошутил. Да?
Вот вы бы что подумали? Вы бы спокойно сидели бы, предвкушали бы. Потому что вы же знаете про пистолет в польке Штрауса «На охоте». Но там же сидели… Я говорила же вам — хотя бы готовить их. Перед каждым концертом готовить. Типа — это такое произведение, а в этом будет очень громко — не бойтесь, а тут вот — постреляют чуть-чуть…
Но нет, не подготовили…
И тут уже началось другое шоу. Дирижер, бедный, даже не успел сделать вот этот вот ауфтакт, мной любимый до глубины души жест, жест-импульс, жест-сигнал, жест — знак магический, который настраивает на произведение весь оркестр. И ведь ни персона, ни персонины соседи не знали, что пистолет стартовый и в этой полечке используется как музыкальный инструмент. Там же как: вначале «бах-бах!». И потом еще в конце: «ти-ри-та-ра», потом «та-а-а-а-а» — и опять выстрел пистолета: «бах-бах!» Потом опять: «тирира-а-а-а-а-а-а» и «бах-бах!». Некоторые и в середке стреляют — потому что нравится же. Бабахать.
Обычно эту партию исполняет ударник, но иногда и дирижер. Есть такие в моем серьезнейшем дирижерском цехе, кто похулиганить любит. Не отходя при этом ни на йоту от партитуры. Кто, используя свое служебное положение, отбирает пистолет у ударника, типа, дай-ка мне пистолетик стрельнуть пару раз. Я бы тоже отобрала бы. И Вероника Дударова моя точно бы отобрала бы.
Йеэх, какое выступление сорвали!!!
Я же говорю вам, господа, говорю же вам: берете охрану — устраивайте экзамен! Да и сами… как-то… Пригласили бы кого из старых интеллигентов. Учительниц каких-нибудь из провинции в очочках — путь бы вас чуть подтянули. По всемирной культуре. А то че-то вскочи-и-или! Побежа-а-али! А эти дураки здоровые — вспрыгнули, обезьяны чисто, пистолет из руки выбили, дирижера схватили, на пол кинули, руки за голову! Персонины дамы завизжа-а-али, в своих атласах запу-у-у-утались.
Нет, мы ничего. Тут главное — успеть фотоаппарат вытащить или хотя бы телефон. Только дирижера жалко было — пострадал…
Полеты во сне и наяву
К сорока годам Толик заскучал. И начал он подумывать, а не заняться ли чем-нибудь. Например, стихи писать или космосом.
— Стихи не надо, — сразу отрезала жена Сима. — Еще чего! Лучше космос давай. А это доход приносит?
— Не знаю, космос — бизнес засекреченный, — отвечал ей Толик в задумчивости, потирая подбородок, закинув голову и вглядываясь в звезды.
И только подумал он про космос, как тут же вроде как начал слышать голоса. Оттуда. Иногда и сам разговор начинал. Эй, говорил, эй, там! А ему вроде как в ответ, мол, че надо, брат? Так и беседовали. О загадках Вселенной, о предназначении человека, о погоде, о ценах и, что важно, об отношениях в семье. Толик не дурак, и чтоб это свое «вроде как» развить и усовершенствовать, принялся семинары посещать, общаться с такими же, обмениваться опытом. Например, с контактерами. Одна — приемщица из химчистки, Зина, потом еще одна в автосервисе чехлы для автомобилей шьет, Тамара. И даже академик одна, Жанна. Нежная, плаксивая и возвышенная. И она ведь как — работала себе библиотекарем в научной библиотеке, куда чуть ли не одни академики шастали, в ус не дула, в кино ходила и куда позовут, хоть и редко ее звали. Потому что она была уж слишком загадочная. А таких, как вы понимаете, мужчины боятся. Особенно академики. Особенно после того, как подралась она как-то на праздновании дня рождения одного ученого. Академика. Получила, значит, случайно сахарницей по голове. Кстати, вот тут у нее все и началось. Ей после этого случилось откровение, что мы тут не одни отроки во Вселенной. И тогда она организовала академию по контактам у себя на дому и, конечно, назначила себя главным академиком. Потому что она ж там прописана, в своей квартире, а остальные, конечно, тоже академики, но простые, поскольку приходящие. Тут же и по телевизору Жанна выступила — телевизионщикам только дай, такие падки на разных нетрадиционных академиков. Поделилась, короче, что да, видела, вот как вас сейчас, встречалась, говорила и путешествовала. Они надо мной всякие опыты делали. И даже норовила пуговки расстегнуть, спиной к камере повернуться и показать под лопаткой место, куда именно они вставили свой чип. И в голову тоже вставили. Но передача шла днем, ее могли смотреть дети, и поэтому ведущий сказал, мол, верим-верим, не надо показывать. А Толик все это как раз смотрел (Жанна всех братьев по своему разуму обзвонила), и ему даже немного обидно стало. Что ж это? Все их видели, все встречались. И Жанна тоже. А он что — одни голоса слышит, и все? И то «вроде как». И он тогда задрал голову на звезды и мысленно попросил тоже ему вызов прислать. Гостевой. В космос. Только подумал — а тут и ему голос: мол, за твое терпение, пытливость, искренность, Толик, мы тебя вообще забираем. На ПМЖ. Вроде как. И жизнь твоя станет лучше, жизнь станет веселей. Можно даже с семьей. Завтра ночью. В районе городского парка, где фонтан «Толстая девочка с огромной рыбой». В радиусе километр-два… Или три. Где-то так. Ну ты понял, Толик.
Поделился Толик с академиком Жанной. Та кокетливо, мол, а меня не захватите, Анатолий Васильевич? Жанна Толику нравилась, и он был даже и не прочь захватить с собой такого академика.
Толик домой пришел, жену, детей построил, объявил неохотно. Мол, семья, отбываю я. А как вы? Со мной или как? Жена, расчетливая Сима, сказала, мол, ну вот что, ты сам туда слетай, если понравится, если получится бизнес открыть, посмотришь, или налоги низкие там, коммунальные, школа там для детей какая, короче, смотайся давай, если выгодно — нас заберешь. А то как мы с места насиженного будем срываться, чего вдруг, мы ж не гуси.
По-быстрому чемодан Толик набил. Памятными фотографиями, дипломами и грамотами за спорт и труд в честь государственных праздников. И два кубка. Потом семь пар носков на первое время, сгущенка, супчики в пакетах, кипятильник электрический компактный. Таблетки от живота и головы. И горсть земли с огорода в носовом платке. Это жена придумала взять, Сима, очень душевно придумала, молодец. Будешь, говорит, над ней причитать в свободное время от инопланетных опытов над тобой, Толечка.
Ну вот и ночь. Попрощался с женой сурово, на детей спящих посмотрел печально. «Прям как в кино», — еще подумал. И пошел на дрожащих ногах. С чемоданом. В парк приперся. А там уже академик Жанна, тонкая натура, платочек теребит в руках, волнуется. Тоже с саквояжем — платьев набрала, не могла себе отказать, и литературу — сама написала. Восемь томов в голубеньких обложках. По нескольку экземпляров, чтобы дарить, а если и получится, то продать.
Вид у этой пары был такой таинственный и решительный, что все ночные хулиганы от них разбежались. Ходили-ходили эти двое с чемоданами вокруг «Толстой девочки с рыбой», ждали… Головы закидывали наверх.
— Сейчас все будет! — каждые полчаса обещал Толик академику Жанне.
Короче, бродили вокруг фонтана, заодно беседовали — рассказали каждый о своей жизни, как и что. Пожаловались друг другу, как их не понимают, родство душ обнаружили. Потом сонные притомились, на скамейку сели. Посидели-посидели, даже задремали, замерзли и — что делать? — потащились домой на рассвете. Домой к Жанне.
И там Толику неожиданно так понравилось — ну прямо как на другой планете. Он там несколько дней проживал, у Жанны. Пока носки не закончились. Потом домой явился.
— Был? — поинтересовалась жена Сима.
— Был.
— Понравилось?
— Да как тебе сказать? — задумчиво протянул Толик. — Не разобрал. Они должны опять знак прислать, чтоб опять туда лететь, к ним, на другую планету.
— Ну а как у них там, — продолжала настойчиво приставать Сима, — вот ты прилетел туда, и что?
— Ну… Уютно там у их. Питание опять же хорошее, — задумчиво отвечал Толик.
Потом он несколько раз еще летал на другую планету. Правда, Сима все удивлялась:
— Толь, а зачем ты туда шампанское берешь? И шоколад? Там что, своего нету, что ли?
А насчет «вроде бы голосов» у Толика как отрезало. Ходит веселый такой, нескучный. Особенно перед очередным полетом…
А Жанна, академик, оказалась женщиной очень разумной и практичной, кто бы подумал? По секрету рассказывает:
— А что, — говорит, — и видела я ее, тарелку-то эту. Видела, не отрицаю. Уже почти рассвело, Анатолий-то рядом задремал как раз. Действительно, тарелка, полетала, мигнула разок, мол, эй, брат по разуму Толик и сопровождающий тебя академик, ну че, поехали? А я это ихнее блюдо летучее как шугану шепотом: «А ну кыш отсюда! Поналетели тут!»
И они с испугу скорость набрали и свинтили.
Нет, ну а что нам там делать, в том космосе? Ценить же надо! И по телевизору еще «Не родись красивой» не закончилось, а я знать хочу, кто на ком женится…
Басмачи
С ними рядом точно можно было чокнуться. Эти наши соседи, они заводчики американских бульдогов. Все, кто к нам приезжает, удивляются, как мы терпим, — ведь собаки в вольерах реагируют на все, что движется, — то ли человек, то ли кошка, то ли листик невесомый, ветром подхваченный. А мы уже ничего, привыкли. По результатам каких-то кинологических исследований, американский бульдог, если быть корректным, самая неинтеллектуальная порода среди всех собачьих пород. Собаки наших соседей — тоже не доценты оказались.
В паспортах у них у всех (я знаю, потому что по просьбе моих соседей набирала эти документы перед выставкой на своем компьютере) указано: «Джулия Птира». Или, например, «Ричард Птира», «Джим Птира»… Имя — собаки, фамилия — хозяйская.
Птира. Чета Птира, ну такая фамилия у них, он — Птира, она, поскольку жена, тоже Птира. Да и в остальном — как они друг друга только нашли, просто удивительно, это двое Птир, — два сапога на одну ногу, такие одинаковые. Ох, они странные, знаете ли! Они оба, например, вообще не смеются. Никогда. У них даже этих самых мимических морщин нету, которые там в уголках глаз или вокруг рта — от смеха которые, не-ту. Не смеются и не удивляются. То есть вот этих вот, когда глаза — о-о-о-о?! неуже-е-ели?! — от удивления и лоб весь в гармошку, этих морщин у них тоже нет. Зато у них есть так называемые складки ответственности и озабоченности — над переносицей между бровями. Они даже внешне ужасно похожи, эти Птиры, — ну прямо близнецы. И это, кстати, потому, что главное в их жизни, у Птир, симметрия. Симметрия и порядок. Да что там порядок! Порядок — это мягко сказано. Орднунг! Вот что у них. Ну главная в доме, несмотря на симметрию, конечно, Птира-она. Строгая, подозрительная, очень ревнивая и страшно аккуратная. Вошла Птира-она в комнату, свет включила, на ковер ступила, тапки долой, включила телевизор. Вышла из комнаты, даже на секунду, суп помешать например, — телевизор выключила, сошла с ковра, тапки надела, свет выключила. Вошла — включила, сняла. Вышла — выключила, надела. Экономия и орднунг! Птира-он, как идиот, в кресле в комнате сидит (босой, конечно), сидит с газетой, жена туда-сюда: то темно, то светло. То есть изображение, то нет. То вошла, то вышла. И тапки только — шлеп, шлеп! Нервы титановые у обоих.
Убирают в пятницу — всю мебель сдвигают, моют все, что моется, стирают все, что стирается. На диванах и креслах пластиковые чехлы прозрачные магазинные. На них сидят, на них лежат, хрустят: свет — цанк! тапки — шлеп! телевизор — пип! Кресло — шур-шур! Жизнь! Чехлы снимают только для особо важных гостей, для начальника Птиры-мужа. И то Птира-она так нервничает, так нервничает! Ну что поделаешь — начальник.
И тут вот начальник мужа говорит Птире-ему, мол, возьми у меня одного щенка, детей у вас нету, а тут американский бульдог. «Американские бульдоги, — поучает начальник, — укрепляют семью. И жена твоя отвлечется, а то вон заревновала тебя уже до зеленой бледности, что ты дергаешься и на женщин глаза боишься поднять. И меня выручишь, двести долларов как своему, и живая душа рядом». Нет, ну можно начальнику своему сказать «нет»?! Можно?! Думали Птиры, совещались, мол, живое ведь, чтоб любить и чтоб нас охранять, согласились, но поставили условие: берем, но двоих по цене одного. Это уже Птира-она такое придумала. Экономная ведь. А двоих — чтобы хоть как-то выиграть, ну и для симметрии.
Ковры сняли. Началась новая жизнь. Довольно хлопотная.
Сначала они были похожи на шоколадные пирожки. Маленькие, ладные, коротенькие, сбитые, даже робкие. Я уже не помню, как их назвали, — как-то нежно. Но имена помнили только Птиры. Мы, соседи, звали их Басмачами. Они только вначале очумели немного, ходили, когтиками по паркету клацали, переглядывались, мол, прикинь — о попали! — в музей. А подросли, огляделись — оказалось, что есть чем заняться, есть что нарушать, — орднунг! Куча всякого орднунга! Море орднунга! Нарушай — не хочу!
Надо сказать, что эта пара американских бульдогов, эти братья-Басмачи, с которых и начался у семьи Птира их собачий бизнес, они вообще оказались чемпионы по отсутствию интеллекта, то есть идеальные образцовые кретины. Нет, ну приглядитесь к ним внимательно: вот голова, где должны располагаться мозги, глаза, зубы там, нос и прочие головные принадлежности. А у американских бульдогов — как-то все не удалось, природа лепила и так и эдак, ну пьяная, что ли, была, получилось, что всю голову занимают челюсти — две слюнявые экскаваторные лопаты, кое-как еще воткнут нос и маленькие заплывшие глазки. И все. В черепе больше места просто нет, чуть-чуть — для мозгов, чтобы Басмачи запомнили только, что на кровати и кресла — фу! Команды — «охранять!» и «гулять!». А из качеств характера там поместились хитрость, коварство и яростная преданность, даже не столько своим кормильцам, сколько дому, их пригревшему. Потому что если Птиру-жену они еще слушали, то Птиру-мужа игнорировали. Правда, относились к нему по-доброму, потому что он с ними гулял. Мы все выключали телевизоры и прекращали всякую деятельность, когда они гуляли, мы садились к окнам, запасались попкорном и наблюдали, как Басмачи тягают Птиру на своих поводках, как мощный катер — спортсмена на водных лыжах. Они втроем носились по кварталу вокруг домов, как бешеные, их местонахождение можно было легко определить по звукам тяжелого топота Басмачей и хриплого дыхания хозяина. Кстати, Басмачи вообще никогда не лаяли. Молчали и делали свое дело. В основном жрали. Вы наблюдали, как ест бульдог? Вы видели, как работает экскаватор? Вы слыхали, как поют дрозды? Вы слышали, как работает машина по осушению болот? А завывание вьюги в феврале? Все звуки и видеоряд сложите вместе — такое вот четыре раза в день можно было услышать и увидеть в Птировой кухне. Свинарник — институт благородных девиц! Пансион для мальчиков из королевских семей! По сравнению с Птириными бульдогами. И вроде бы кормили их по науке, элитной собачьей едой, по книгам, по часам — орднунг! Но попутно бульдоги включили в свой рацион квартиру. То есть грызли углы, облизывали стены — им было вкусно. Своим элитным кормом питались днем, квартирой питались по ночам. В несущих стенах выели ходы и норы — чавкали, грызли, сопели, подвывали, хрюкали, чмокали и дрались из-за лакомого куска штукатурки. Ветеринара вызвали, когда стенку в коридоре истончили до такой прозрачности, что, если присесть или прилечь, были видны ноги тех, кто выходит из лифта. Ветеринар сказал, что, очевидно, им не хватает кальция. Нет, ну бывает такое, понятно, но чтобы настолько, что все углы внизу объедены до овалов! Это при одной, но пламенной страсти Птир к порядку. Вызвали строителей — укреплять стены.
Нехватка витаминов на Басмачах никак не сказывалась — эта отпетая парочка выглядела жизнерадостной и хамоватой. При полном отсутствии интеллекта Басмачи очень быстро соображали. Всех, кто приходил, впускали беспрепятственно, не выпускали же никого. Охранять! Орднунг! Садились у входа и просто осматривали, глядя, в основном, в руки — что уносят, — с видом: «Вор-р-р должен сидеть в тюрр-р-рьме!» И где-то в середине их внушительных животов, негромко урча, заводился мотор. Гости по просьбе хозяев аккуратно складывали, как для обыска, свои сумки перед собаками, те расслаблялись, Птира-она заманивала бульдогов в кухню куском мела и ласковым голосом, а там быстро пристегивала обоих за крепкие поводки-цепи к батарее центрального отопления. И кричала гостям оттуда: «Бегите!» Гости, похватав свои вещи, стремительно удирали. Ясно, что с таким домостроем гостей становилось все меньше и меньше. А Басмачи становились все крепче и крепче. Визитеры все равно были — сантехников, электриков, почтальонов, контролеров и агитаторов не отменишь и не выгонишь. И как-то, по команде «бегите!», те самые строители, приглашенные для реставрации съеденной квартиры, легко подхватывая свои тяжеленные ящики с инструментами, побежали, а Басмачи, окрепшие и повзрослевшие, сорвали батарею со стены и со страшным грохотом и скрежетом потащились втроем с батареей за гостями, но, к счастью, застряли с ней в проеме кухонной двери. Пригласили сантехника.
И тут вот как раз Птира-он приболел гриппом. Птира-она вызвала участкового врача, а сама побежала на работу отпрашиваться. В квартире трудился мастер, в комнате лежал Птира-он. Собаки отлеживались в своем углу до новых подвигов.
Доктор участковый приехал немного раньше, чем предполагалось, — большой, уверенный, уважительный Аркадий. Фельдшерица при нем, тоненькая нежная Людочка. Они принесли с собой большой докторский саквояж. Ну послушали Птиру, ну порекомендовали, Людочка укол сделала Птире жаропонижающий. Птира немного побаивался уколов и, когда Людочка вонзала иголку, сказал: «Ой!» Тихо так сказал. Но именно это «ой» ситуацию усугубило. Басмачи вдруг вспомнили, для чего они тут, удивились, зачем чужие люди сделали их товарищу по прогулкам это «ой», прибежали сначала прояснить обстановку, и при своей тупости все равно по запаху вычислили, откуда это «ой» случилось. К Людочке они оба шли медленным, расслабленным блатным походняком, тихонько поварчивая утробно: «Скок-к-ко я зар-р-рэзал, скок-к-ко пер-р-рерэзал». Птира быстро сообразил и подсказал ей: «Сумку! Положите сумку на пол — и на кровать! Они на кровать не полезут, им нельзя!» Людочка резво заскочила к Птире в постель, Аркадий-доктор, который бросился защищать девичью честь и докторский саквояж, запрыгнул в кресло и сел на спинку орлом. Сантехнику, заглянувшему на шум, прыгать уже было некуда — кровать занята, и он с разбегу сиганул в кресло к Аркадию. «Куда?! — заорал Аркадий. — Тут же я!» «Теперь и я тоже!» — рявкнул сантехник, добавляя много бранных слов. Птира, пряча от собак медсестру за своей горячей спиной, позвонил жене и захрипел: «Куда ты положила мел?! Срочно нужен мел!» (Хотя и предполагал, что с собаками сам не справится, и пристегивать их сейчас не к чему.)
Все друзья по несчастью подумали, что у Птиры начался бред. Но еще один укол Людочка сделать не могла. Собаки отобрали сумку и, сгруппировавшись, вели себя как омоновцы в засаде, сосредоточенно и ответственно. Птира-она приехала минут через сорок пять. Ее суровому ответственному взгляду предстала страшная картина, которая чуть не сломила ее дух и не подорвала титановую нервную систему, учитывая ее клиническую ревность и страсть к разрушающемуся порядку: ее муж Птира в обнимку с прелестной медсестрой в кровати, а в кресле, поджав коленки, — доктор Аркадий в обнимку с совершенно ополоумевшим от страха сантехником. В обнимку, потому что иначе не помещались.
Компания разбегалась оперативно и с облегчением.
Вот именно с тех пор Басмачей и поселили во дворе, в утепленных вольерах. Все бы ничего, но шум стоит ужасный, особенно для тех, кто не привык, — невозможный совсем. А уж когда кто из них двоих, или из купленных для разведения бульдогов-дам, или щенков из их потомства вырывается вдруг на свободу — то тут уж горе чужакам. Если своих они уже научились признавать, отличать и охранять, считая всех соседей частью своей собственности, то чужим людям в нашем квартале делать нечего. Поэтому мы уже четвертый год оставляем во дворе и свои велосипеды, и детские коляски, и прочее имущество и инвентарь.
Кстати, американские бульдоги оказались хорошим бизнесом. Они невероятно серьезные, практически не играют, не улыбаются, как другие собаки. У Птир их покупают нувориши для охраны своих поместий и охранные агентства. У всех Птириных Басмачей над их нелепыми носами та самая фирменная морщина Птир — складка ответственности и озабоченности.
Ах, эта свадьба, свадьба!.
Была у нас тут роскошная свадьба, в бывшей армянской церкви. Сейчас это органный зал, но армяне наши местные все знают, что это же их церковь. И всегда в ней — нет, не венчаются, нет, — но гражданскую церемонию бракосочетания обязательно справляют. Чтобы отдать дань, ну понятно. И вот уважаемый профессор Ладик Саркисян выводит дочь свою Саркисян Карину под руку, жгучую брюнетку с медовыми глазами. Очень красиво ведет, торжественно. Играет, слушайте, дудук! Такая музыка широкая, души объединяющая, ветрами свежими наполненная. Весь вечер накануне Саркисян репетировал во дворе, мол, а ну давай Кариночка, цветок моего сада, душа моя, жизнь моя, доченька, детонька, а ну еще походим чуть-чуть. «Давай, — кричит сыну Гарику, — а ну объявляй». И ходят по двору торжественно, репетируют. Потому что оплошать нельзя никак — на свадьбу дочери профессора Саркисяна приглашены врачи, его коллеги по диагностике, потом профессура нашего мединститута, дантисты, уважаемые люди.
И как договорились со стороной жениха, Гриши Пастернака… (Нет, Каринка, если положить руку на сердце и сказать правду — дура. Клюнула на эту поэтическую фамилию Пастернак. Забыв, что это всего лишь растение, ну? Покрытосеменное, двудольное, зонтичное. И не поэт. А наоборот — боксер.) «Но мы же все как у людей, — думает папа Карины, — мы же собрались, договорились. С нашей стороны — сорок человек, с вашей стороны тоже сорок человек. Ну плюс-минус, чего мелочиться? Чтобы было человек сто шестьдесят — двести».
Ладно. Со стороны невесты как пошли гости — профессура, врачи, женщины в бриллиантах, жемчугах и вечерних нарядах в пол, палантины, прически, клатчи в стразах… А со стороны жениха тоже пришло сто человек. Тоже, да. Сто человек боксеров. С кривыми носами. Зубы не все. И довольно пьяных. Потому что с утра жениха сопровождали — напраздновались уже.
Это же представьте, в каком напряжении вся свадьба?! Мало что жених — боксер, так свита его — тоже драчуны еще те. Чуть что — могут же взвиться, и как… Что-то они кричали хором, что-то пели, радостные, шумные…
Но самое интересное началось, когда боксеры стали дам на танец приглашать, очень старались быть галантными и приветливыми. Страшно стеснялись, потели, смущались. Даже попытка была вести светскую беседу. Про бокс. А о чем еще? На свадьбах там, на больших юбилеях ведь как обычно бывает: мужья сбегают из-за стола курить и обсуждать политику, футбол, курсы валют и Кипр. А женщины сначала осмотрят внимательно друг друга, каждая поймет, что она лучше всех, и принимаются скучать, качать головой под музыку грустно, мол, такая красота тут сидит, пропадает и… Как там поется? А! «Зачем-заче-е-е-ем-зачем же…»
А тут, на нашей армяно-боксерской свадьбе, — туча партнеров. И для танго, и для мамбы, и для медлячков всяких печальных, таких, как, например, «Ночной ларек» — вообще шикарная песня, шикарная! Любимая песня всех боксеров. Боксеры — они хоть и пьют иногда, но не курят, что вы, нет! Политика — это вообще для них дело пустое и неинтересное. Футбол… Ну и что футбол, считают боксеры, слишком это деликатная интеллигентская игра. Боксеры такое не любят: чего по полю бегать? Они бы уже врезали кому надо, причем не головой, как Зидан, а как положено. Ну и остальное там: курс валют, Кипр — чего это обсуждать? Главное для боксеров — Кличко и… еще Кличко, потом нарушение режима, как сейчас на свадьбе, в виде исключения (тут они вообще хвастают друг перед другом, частенько врут) и, конечно, девушки.
И вот один боксер по имени Тарасик (так его все звали, потому что в его гигантском теле жила наивная детская душа) присмотрел милую такую в золотом длинном узком платье блондинку, худенькую, всю в кудрях и фестончиках. А боксеры, они же хрупкое очень любят, потому что душа у боксеров… Ну да, я уже говорила. И вот он пригласил эту милую женщину на танец. Медленный. Типа «Ночной ларек» или что. И так танцует — переносит тяжесть своего тела с одной ноги на другую. Короче говоря — топчется элементарно. А эта в рюшках и локонках в его руках прямо как рыбка золотая трепещет.
И там уже диалог:
— Как вы хорошо ведете… Как вас зовут?
— Тарас… ик… — хриплым басом робко отвечает пьяненький Тарасик. И молчит. Он даже не понимает, что в ответ надо спросить: «А вас?»
Или боится. Но Рыбка Золотая уже кокетливо из-под нежной прядки, сверкая голубым глазом:
— А меня Ольга Николавна…
Потанцевали. Тарасик потоптался в нерешительности и еще на один танец приглашает. Потом набрался смелости — и еще! Потом берет свою тарелку, салфетку, рюмку и молча переезжает за стол Ольги Николавны. И садится. На стул рядом с ней. На стул ее мужа, Рыбкиного. Как потом выяснилось, дантиста.
И сидит рядом, молчит, глаз с нее не сводит. Любуется. И уже весь зал видит: о, как-к-кая Ольга Николавна! Щебечет, кокетничает, заглядывает в глаза красному от смущения, пьяному в дым Тарасику. Смотрит на него игриво. На него. Такого стеснительного. Сквозь бокал с шампанским смотрит. И тогда кто-то из приглашенных бдительных и завистливых дам выскальзывает незаметно, и через минуту буквально в зал врывается взбешенный маленький щуплый человек с мокрым чубиком над очками.
Боже мой, вся свадьба в смятении: о! уже интересно — какой-то происходит скандал. Маленький человек с мелким топотом подбегает к столу и, как бойцовый петушок (такие есть петушки карликовые — яркие, крохотные и очень агрессивные), наскакивает на Тарасика-боксера: да как вы осмеливаетесь, да вы что тут! Какие притязания! Поползновения! Я известный в городе дантист! Это моя супруга!
А Тарасик голову маленькую, сильно и давно, с десяти лет, битую на тренировках и соревнованиях, в плечи широченные вжал — он таких слов и не понимает вообще, сидит такой, влюбленный в Рыбку, и тут какой-то… маленький… подпрыгивает! И слова эти… По… Попо… Пол-пол-зовения…
— Марик… — Золотая Рыбка ласково уговаривает мужа и гладит его по руке. — Марик, он же всего лишь потанцевал со мной, Марик…
Дантист хватает Тарасика за лацканы, орет, мол, встань, нахал такой! Встань, тебе говорю! Возьми и встань с моего места!
А Тарасик, послушный мальчик, взял и… встал. Ничего не сделал — встал только.
— Ой-ой! И-и-и… — пискнул доктор Марик, увидев встающего над ним приодетого в смокинг Шрека, и быстро, стремительно сел. Куда получилось. На пол.
Но тут отец невесты, профессор Саркисян, красавец, оглядывая зал, орел просто, подлетел:
— Вай! Вай! Вай! Друз-з-зя! Что-о-о?! Заче-е-ем?! Гости дорогие, свадьба у нас! Давай выпивать, давай танцевать! Давай радоваться, давай мириться, друзья! Давай мириться немедленно, друзья!
Это было трогательно и смешно, когда благородный боксер Тарасик протянул маленькому Марику кривой свой мизинец — ну ребенок же еще, девятнадцать лет, ну? — и послушно забормотал: «Мирись-мирись-мирись и больше не дерись…» Подцепив мизинцем мизинец Марика, легко поднял его с пола и… улыбнулся.
— О-о-о-о, — выдохнул от восхищения и страшно обрадовался дантист Марик, увидев непаханое поле деятельности в Тарасиковой улыбке. — Ага! Центральный резец слева отсутствует, боковой нижний справа отсутствует, подвывих клыка верхнего левого… Та-ак… Та-а-а-ак… Так! — деловито отряхиваясь, вставая и потирая руки, продолжил он, вытягивая из элегантной золоченой визитницы свою карточку. — Завтра, в двенадцать, у меня в кабинете.
Вот что значит настоящий профессионал! Да, жена — это конечно, это предмет гордости, потерять ее — не дай Бог! Но и потенциального клиента потерять, который к тому же боксер, а значит, имеет проблемы с зубами гораздо чаще других, — это, знаете ли… Так что в двенадцать, и ни минутой позже!..
Боксер Тарасик кивнул. И на следующий день пришел. Терпеливо и молча снес унижение, которому подверг его Марик. Потом еще приходил. И еще. Следом за Тарасиком потянулись друзья его и коллеги со своими, сулящими большие гонорары, улыбками. И было смешно наблюдать посетителей стоматологического кабинета, когда, увидев в приемной здоровых парней, рядком сидящих, немного бледных и напряженных, они еще раз выходили и читали надпись на двери — а туда ли они попали.
И что сказать? Теперь у нас в городе новая фишка: на свадьбы, на юбилеи приглашают боксеров. Во-первых, экономия на охране, во-вторых, пока мужчины бегают курить и разговаривать про политику, футбол и Кипр, боксеры дам развлекают: танцуют с ними. Ну и потом — они своим прекрасным видом и жемчужными американскими улыбками украшают любое мероприятие.
Так что, если приглашают у нас на свадьбу, юбилей, презентацию или корпоратив и делают приписку: «Приглашены боксеры», — смело идите, будет весело и безопасно…
Дядя Вельвель Из цикла «Черновицкие истории»
Ладзик Абегян и некий Юлик ходили по домам, где жили красивые девушки, стучались и на вопрос «кто?» хором говорили пароль: «Что-то приличное для вашей девочки». Короче, эти два бездельника приторговывали б/у нарядами «из посылок». Ну такое время было, что?! Такое время было! Одежды не было в магазинах, а красавицы, как назло, — были. Юлику присылали ношеные вещи, но в приличном состоянии, он их складывал в мешок и тягал по квартирам, коробейник чертов. Такой миниатюрный, почти карлик, очень сутулый и с чубчиком, как у попугая, потел, сопел, не выговаривал много букв, тихий, брюки застегивал под грудью. Застенчивый. Размер обуви тридцать семь. Зимой. Сандалики летние — тридцать пятый. Как у шестиклассницы. Ему надо было переждать семь положенных лет после службы в армии (какую такую тайну он знал, этот Юлик? Где он там служил? В Генеральном штабе? Что ему вообще можно было доверить?!), чтобы уехать вслед за родителями в Израиль. Вот он пока и промышлял, как сейчас говорят, сетевой торговлей.
С ним повсюду таскался Ладзик. За процент. Огромный, плечистый Ладзик, под два метра. Он был типа охрана. Кроме того, он, в отличие от косноязычного примороженного Юлика, умел хвалить, цокать языком, щелкать пальцами, ахать, качать головой, прижимать руку к сердцу, закатывать глаза и падать от восхищения на колени, да так артистично, что красавицы, примерившие «приличное», таяли и умоляющими коровьими глазами глядели на родителей, а те, в свою очередь, побаиваясь, что вот-вот последует предложение руки и сердца, немедленно, от греха подальше, рассчитывались с Юликом, не торгуясь, чтобы эта подозрительная пара уже наконец ушла и не смущала потенциальную невесту. Ох и комичная пара была — впереди с мешком на плече семенил Юлик, который никому и ничего не доверял, за ним медленно брел Ладзик. Юлик несся, часто перебирая ножками, Ладзик одолевал дистанцию за пять шагов.
К слову, я у них тоже как-то купила шубку из «мексиканского тушкана». Новую, правда, которая не пришлась жене Юлика Аде: тесна оказалась в груди. И в бедрах. И в талии. И на шее не застегивалась. Так объяснял Ладзик, пока Юлик разворачивал у нас в прихожей «что-то приличное». А осенью Юлик получил большую партию этих шубок. Они с Абегяном долго дежурили у моего подъезда, отлавливали меня и втаскивали в квартиры по соседству, чтобы там видели, как прекрасно сидит шуба на дочке Гончаровых. И если ей купили, так вы что сидите?! Дочка Гончаровых уже в ней ходит! Не снимает! Зимой и летом! Смотрите, какая красота.
Абегян целовал пальцы и швырял мне воздушный поцелуй, приговаривая:
— Какой шубкэ! Какой шубкэ!
Так что я практически была в их банде. На меня, как на живца, ловили покупателей.
Но однажды по городу прошел слух, что Юлик с Ладзиком поссорились: что-то не поделили. Понятно что. Их видели в парке, рядом с качелями, рано утром. Ладзик держал Юлика за шкирку, как щенка, и ревел: «Адай працэнт! Адай працэнт за го-од!» — а маленький Юлик висел, не доставая ножками до земли, трепыхался в руках Абегяна и верещал, как щенок:
— Ни да-а-ам! Ты уже бра-ал! Ни да-а… Ай! Ай!
Короче, Ладзик вытряхивал из Юлика свои деньги за «шубкэ», а тот не давал.
И если бы это было все! Нет. Юлик, злой и мстительный, как некоторые мелкие существа — собачка там, или оса, или еще люди такие есть, маленькие и мстительные, редко, но есть, — во-первых, взял на работу вместо Ладзика другого бездельника, Васю Казака, а во-вторых, стал распускать на «бирже» слухи про своего бывшего партнера — мол, вор, вор.
Тогда Ладзик обиделся и побежал к парикмахеру Вельвелю. О, Вельвель! Вы смотрели запрещенное в то время кино «Крестный отец»? Да? Помните, кто был им? О! Забудьте. Именно Вельвель был настоящий этот самый. Да! Мои родные рассказывали, какой при этом добрейший, даже нежнейший и великодушный человек это был. Причем его доброта, проницательность и ум сочетались достаточно органично с острым чувством справедливости. Поэтому за советами, помощью, разрешить какой-то спор или одолжить немного денег бегали к Вельвелю. И необязательно только евреи. Зачем? Бегал весь город: молдаване и украинцы, грузины и армяне. Таджик один бегал, единственный, наша гордость, многодетный отец, надаривший нам постепенно восемь маленьких таджиков, и татары, и русские бегали, и бурят один по кличке Зурбаган, и когда-то знаменитый тренер по дзюдо Миша Филиппович Кацнельсон, сын мордовки Оли и Филиппа Михайловича Кацнельсона. Миша, человек ироничный, свою национальность называл неприлично. Он говорил, что они — мордо-еврейская семья. Только по-другому. Очень хороший веселый человек. Уехали они уже. Нет, не в Мордовию… Короче, бегали к Вельвелю кто за чем. Ах, замечательный был Вельвель, старый, мудрый. А какой он был мастер! Художник! А его элегантная манера с упругим хлопком расправлять свежую простыню, закрепляя ее на шее клиента! А как он стриг, пританцовывая в ритм своих ножниц вокруг кресла, как он брил, отставляя и вытягивая по-балетному ногу! Его выглаженный халат, его стиль! И его доброжелательное при встрече: «Садись, раз пришел». И умение снайперски возить мыльной кисточкой по щекам и подбородкам, как художник-монументалист, и мастерство владения старой австрийской безопасной бритвой, благодаря которому становились абсолютно ненужными предусмотрительно нарезанные и сложенные у зеркала газетные бумажки. И обязательный вопрос при расчете:
— Ну? И кто тебя подстрижет (поброит) лучше, как не я?
Клиент отвечал, как правило:
— Так?! Никто, дядя Вельвель, клянусь. Так — никто. Только вы. Только вы.
Беда пришла к Вельвелю, откуда не ждали. Притащилась. Паркинсон. Тремор рук на фоне замедленных движений. Стоп, я предупредила читателя, что Вельвель был парикмахер? И никак не мог расстаться с мыслью, что кто же подстрижет «лучше, как не он»?
Все. С тех пор дядя Вельвель перестал стричь. Но. Он не перестал ходить на работу. И кресло, из глубочайшего уважения, дирекция парикмахерской оставила за Вельвелем.
Да, дядя Вельвель бросил стричь. И брить.
Но не совсем.
Тем более что за советами и за помощью к нему продолжали ходить. Перед мудростью и жизненным опытом Паркинсон бессилен.
Тем временем Вельвель постепенно, не суетясь, отправил из нашего городка в Израиль практически всех желающих, включая семью вороватых Проскурняков, нахальных Чепурных и аферистов Даромедовых, — всех страшных, к слову, антисемитов. Ну, видимо, для того, чтобы нашим бывшим соотечественникам жизнь там не казалась уж слишком раем.
Когда к нему приходили и спрашивали:
— Ну так что, ехать?
Он — «садись, раз пришел», — по-прежнему усаживал клиента в кресло, но не хлопал простынкой, не стриг, не брил, а просто задавал вопросы, получал ответы и говорил:
— Тебе — да, пора.
А кому-то:
— Тебе — нет, еще рано. Сиди тихо.
Словом, за спиной подружившегося, вопреки своему желанию, с Паркинсоном Вельвеля обитателям нашего маленького старинного городка и дальше жилось не так уж плохо. Еще бы! Вот бы кто-нибудь сейчас за меня принимал решения!..
Ну и милиция по-прежнему ему руки целовала, Вельвелю. Он продолжал вершить свой справедливый суд, и в городе было тихо, спокойно, чисто и весело.
Но однажды в каком-нибудь доме раздавался звонок. И супруга драматичным шепотом звала мужа:
— Это Вельвель! Он вызывает тебя в крэсло! Что ты натворил, негодяй?! Иди уже! — провожала, всхлипывая, как будто супруг получил повестку в прокуратуру.
А это означало одно: верные надежные люди сообщали Вельвелю, что такой-то повел себя подло: обманул честного человека. И Вельвель для такого клиента доставал и старую австрийскую бритву, и остро заточенные ножницы. Несмотря на Паркинсон. Пытались, конечно, отпроситься, отложить экзекуцию:
— Я же недавно стригся, дядя Вельвель, у меня еще не отросло.
— А ничего, — отвечал дядя Вельвель, — я тебя поброю. Кто тебя еще так поброет, как не я?
— Так? Никто. Только вы, дядя Вельвель, только вы.
Словом, жертва послушно и обреченно плелась в парикмахерскую.
И, глядя на дрожащую руку Вельвеля с бритвой, промахивающуюся по точильному ремню, давала слово все вернуть и больше так никогда не делать.
Хотя, как правило, люди по-прежнему приходили к Вельвелю по собственному желанию, когда припекало. Так по проторенной дорожке, громко топая и пыхтя, примчался за справедливостью обиженный Ладзик Абегян, готовый ко всему.
— Садись, раз пришел, — велел Вельвель.
И Ладзик послушно сел, поеживаясь.
— Ну? — задал мастер традиционный вопрос.
— Только вы, дядя Вельвель-джан, только вы.
— Теперь говори! Все рассказывай, — велел Вельвель, садясь и подпирая голову трясущейся рукой.
Ладзик яростно, подробно, в лицах наябедничал: зачем Юлик такой невоспитанный и процент не дает, обманывает совсем, все же в городе знать будут, как можно так работать, и пусть Юлик сам хвалит товар и девушек, посмотрим, как он продаст «шубкэ».
Вечером у Юлика раздался роковой звонок телефона. Вельвель приглашал стричься.
Юлик юлил, придумал сложный, не совместимый с движением радикулит, но Вельвель сказал, что ничего-ничего, Юлика аккуратно принесут, и стричься, и бриться он будет лежа, если не может прийти своими ногами.
Юлик понял, что выхода нет, и пошел к дяде Вельвелю на расправу.
— Садись! — ответил Вельвель на Юликино дрожащее «Здрасте, дядя Вельвель. Я пришел». — Садись-садись, я сказал! Пришел он. Будем тебя сейчас стричь и брить, — ножницы хищно клацнули в трясущейся руке Вельвеля.
— И-и-и-и… — тоненько заскулил Юлик.
— Сиди тихо, а то щас еще брытву возьму! — повысил голос Вельвель, дрожа ножницами.
О чем они говорили, что сказал Вельвель Юлику, никто не знает. Слышен был только звон ножниц, ойканье и писк Юлика.
Через неделю Юлик исчез из города, предварительно отдав Ладзику процент.
Тем более что срок хранения им государственной тайны наконец истек.
Как вы уже догадались, Юлик уехал. В Израиль.
Теперь он присылает Ладзику «приличное», и тот открыл магазин секонд-хенда. Действует теми же методами: ахает, всплескивает ладонями, качает головой, закатывает глаза и падает на колени от восхищения. Но процент платит честно. Поскольку Вельвель по-прежнему жив и здоров.
Ну вот разве что Паркинсон…
Да убоится муж…
Эгей! Мужчины-ы-ы!
Парни! Хлопцы! Пацаны! Спокойно! Бояться жены — совсем не стыдно. Даже если жена с лопатой. Лопата, она ведь, знаете, универсальное орудие. Ею можно копать, а можно огреть кого надо. Если надо. Бояться жены не стыдно в том случае, если она — Катерина — как у Тачика. Такая шумная, такая здоровенная, что ее даже из космоса видно. И если бы она не была при этом такой юркой и подвижной, можно было бы ее на топографической карте нарисовать для ориентира, чтобы точно знать, где наш город находится. На такой карте есть городская мэрия — ратуша древняя, старый гигантский дуб около нашего дома, еще там пара больших объектов, и Катерина была бы. Но она несогласная — очень уж маневренная она.
Однажды зимой нападал снег и завалил все и Тачикин гараж. А ему чистить снег неохота совсем, хотя Катерина со строгим лицом велела:
— Тачик, а ну-ка иди гараж очисти от снега, со всех боков очисти. И с крыши тоже, потому что отсыреет. А я пока искупаюсь в ванне.
И Тачик тревожно бросил взгляд в окно. Тачик, когда ему не по себе и хочется выпить, всегда тревожно всматривается: в окно ли, в даль — во что попало.
Всматривайся не всматривайся, а жена вон близко, плещется в ванне, ластами бьет. А всплески крупные, увесистые, громкие, тревожные, будто «Титаник» купается. Вышел во двор Тачик — холодно, зябко. А главное, ску-у-учно до ужаса. Друг его к нему присоединился, Алик-Фаза. Тоже любит… всматриваться. Взяли они лопаты, подергались, похлопотали для вида лопатами туда-сюда, а потом пошушукались и подъехали к соседу Михалычу взаимовыгодно, мол, сядем по-дружески, нальем от души, сколько хочешь, и закусим, а ты сотвори добро — снег убери. Михалыч не сильно робел перед выбором — смотреть повтор свободолюбивого Шустера по телевизору или творить добро. Конечно, он выбрал творить добро — ну отчего же не поработать с пьющими людьми, а кто бы не согласился? Михалыч и Алик-Фаза принялись вяло возить лопатами, а Тачик юркнул в дом за водкой. Тут как назло Катерина из ванной в красном халате — внушительная, как машина пожарная:
— Ку-уда уже?! Та-а-ак!!! — схватила лопату и прямо в чем была — в халате, в тапочках, большая и жаркая, вышла во двор, решительно переваливаясь, играя плечами, как штангист. — Ну?! Где, — говорит, — тут сугробы снега? Где тут заносы?! Отэта маленькая купка? — Презрительно: — Отэта, и всего-то?!
И как взялась — пораскидала сугробы за семь минут, аж пар от нее шел, приговаривая:
— Я те щас дам водки! Я те щас налью! Ща налью тебе водочки!!! Ща дам тебе закусить!
А Тачик опять же про лопату хорошо помнил, что лопата — орудие универсальное, тут снег, а там и по хребту получить недолго… Смылся тихонько, у Фазы отсиделся до первого сериала. Там Катерине уже не до него было.
А так — ничего, понимали они друг друга хорошо, дружили. Вон летом Тачик к годовщине свадьбы подарил жене своей Катерине и дочке тур в Египет — отдохнуть, посмотреть. Правда, Катерина все сомневалась, как Тачик с хозяйством справится, но уж велико слишком было искушение — Египет посмотреть, пирамиды там, верблюды, всякое-разное иноземное, восточное, загадочное… Но строго-настрого наказала, чтоб Тачик не пил, друзей в дом не водил, за хозяйством смотрел.
Ага! Щас!
Без Катерины Тачик обычно сразу веселел, оживлялся, взбадривался, такой весь становился фасонистый: наряжался, деньгами сорил, «БМВ» свой везде гонял, а при девушках, не глядя, дверь ее пяткой небрежно захлопывал — словом, пускался во все тяжкие. Дома почти не ночевал: то рыбалки, то сауны с друзьями, то охота, то раки, то футбол, то еще что придумывают приятное… А когда деньги вдруг заканчивались, они уже не в первый раз продавали Алика-Фазу в рабство. Это так происходило. Ехали в дальнее-дальнее село. Тачик одевался в форму — он таможенник бывший. Что вы удивляетесь? А откуда дом? «Бээмвэшка»? Да, так вот, Фазу обычно продавали в рабство долларов за двести — триста. Они ехали в дальнее-дальнее какое-нибудь село, заезжали к какой-нибудь молодушке одинокой, желательно чтоб стройка у нее во дворе. Сгружали Алика-Фазу пьяного, мол, вот, задержали то ли иранца беглого, то ли курда на границе, по-нашему не говорит, что с ним делать, не знаем, не хочешь за двести долларов его в рабочие пока себе взять? Поработает у тебя, как проспится, а там поглядим. А то что, они ведь наших в рабство забирают, а мы что же, терпеть будем? Давай мы тоже ихних в рабство заберем! И женщины легко соглашались, потому что и руки были не лишние, да и сам пьяный «иностранец» был ничего: молод, привлекателен, смугл, кудряв. Потом Фаза просыпался, приходил в себя, мог даже поужинать у хозяйки, обещая взглядами всякое, а потом давал деру до ближайшего леска, где его уже товарищи дожидались.
Словом, компания праздновала Катеринин отъезд и в этот раз, пока вдруг Тачик, хмельной и очень уморившийся от бессонных разгульных ночей, не обнаружил как-то на рассвете на рыбалке, что мотыль хихикает, тыкая в него, в Тачика, указательными пальцами. Это другие, обычные пьяницы в таких случаях видят чертей или белок. У Тачика же обычно мотыль начинает вести себя неадекватно своему статусу наживки. А в Тачике что хорошо — он умеет вовремя остановиться. Услышав, что в банке мотыль хамит, Тачик сразу остановился, правда, чуть не навернулся с берега от удивления, но взял себя в руки — мотыль в банке хихикает, значит, пора. Тем более две недели прошли как один день, Катерина вот-вот должна была приехать. Надо привести дом в порядок, двор… Траву перед домом покосить. Собаку вернуть, кота отыскать. Кот просто исчезал на время, а собака, как только Катерина уезжала, всегда сама собирала свои манатки и уходила к теще — так не в первый раз уже. Умная и предусмотрительная.
Тачик стал приходить в себя потихоньку, даже косилку настроил — газон перед домом приводить в порядок, и вдруг похолодел. Он вспомнил, что в сарае должна быть коза. Живая… И что две недели он дома почти не бывал и в сарай не заглядывал.
От дома к сараю по выложенной камнем тропинке Тачик брел долго — останавливался курить, два раза или три… Присаживался, хватаясь за сердце… Вздыхал. Прислушивался… Наконец подошел. Выдохнул. И рывком открыл дверь…
— И-и-и-и-и-и… А-а-а-а-а….
Козы не было и следа. Украли, гады! Увели козу! Укра-а-а-али-и-и!!!
Образ универсального оружия — лопаты замаячил у Тачика перед глазами…
Но вот вопрос: для чего мужчине нужны верные товарищи? Правильно! Сбежались по первому зову — выручать. Коротко посовещались, решили, что не беда, надо добыть новую козу. Такую же! Проблема была только в том, что Тачик не помнил, какая она была.
— Ну беленькая? Пестрая?
— Вроде беленькая…
Друзья стали перебирать все семейные альбомы с фотографиями: а вдруг где-нибудь коза попала в кадр, когда тесть дочку Тачика фотографировал. И правда — нашли: на одной фотографии дочка, еще маленькая, сидит в надувном бассейне, а далеко на заднем плане, на лужайке, стоит маленький козленок. Белый-белый…
— Она?
— Да вроде она… Только сейчас она уже большая должна быть.
Друзья разъехались по селам — искать белую козу примерно трех лет.
Добыть козу оказалось не так просто — кто согласится отдать трехлетнюю козу… Тем более, вид у покупателей был какой-то странный, пришибленный — подозрительно все это было. Наконец купили где-то за очень большие деньги, правда, она оказалась совсем не белая, а с рыжими пятнами на спине. Но друзья подучили Тачика: скажешь, мол, солнце, радиация, то да се, экология — и все. Понял? Стой на своем. Экология — и все. А что ты можешь сделать? Радиация, солнце… Вот и пятна.
Приехала Катерина с дочкой. Тачик решил встречать ее сдержанно, без особого почета — цветы там или что, а так, мол, все обычно — занят был по хозяйству, пока вы там в Египте неизвестно еще чем занимались. А у нас тут — дом, двор, коза опять же… Приобнял обеих скупо, устало, мол, намаялся тут один…
И что странно — Катерина по двору походила, собаку потрепала, кота погладила, клумбы с цветами все обошла, дом изнутри и снаружи осмотрела, в гараж заглянула, а в сарай — нет. Уже когда в дом заходила, коза из сарая мемекнула — ей ведь погулять охота, и поесть неплохо бы… Катерина вдруг так чудно вздрогнула, оглянулась на козий голос и потом на Тачика диковато. Затем бегом по тропинке побежала, распахнула сарай:
— Коза?!
— Ну коза, — Тачик как бы с неохотой. — А что? Коза!
— Наша?
— А чья же еще? Там… это… если на спине там… Так это солнце, радиация… И все.
— Радиация?
— Ну там… Да, экология… Радиация… То да се!
— Радиация?
— Ну. Наверно… Или… Там…
— Ра-ди-а-ация?!
— Катерина…
— Щас покажу радиацию тебе! Ща-а-ас…
— Ка-а-а-а…!!!!!
Нет, зачем лопату… Катерина и так, невооруженная, могла начистить Тачику рожу…
Тачик так удирал от Катерины, так бежал, так петлял, аж пыль кренделями заворачивалась следом.
А что оказалось? Оказалось, что Катерина, зная своего мужа Тачика, свою слабую и прекрасную половину, козу перед отъездом отдала на время. Далеко отдала, в горное село, подруге Гале — к той племянники приехали из города, хилые, бледные, слабого здоровья, вот Галя и взяла козу на лето, чтоб детей молоком отпаивать… Все ведь на глазах Тачика происходило, но он так отъезд жены отметил, что и забыл наутро про козу насмерть. Так что радиация лишней оказалась. Совсем.
Словом, бояться жены, пацаны, — не стыдно. Особенно если она такая, как жена Тачика, Катерина. Даже без лопаты.
Как Казаки в Австралию летали
Однажды Ваня Казак из Бричан женился на Мане Шапиро из Черновцов. И стали они Казаки. И жили они мирно и счастливо, пока Ваня не придумал ехать в Израиль путем Маниной семейной национальности. А Маня, наоборот, захотела идти другим путем. В Австралию и самолетом.
И Ваня закапризничал:
— Маня, ты какая-то не трепетная к своей нации, Маня. Ты, Маня, дура или что? Ты только подумай, кто мы, Казаки, будем в твоей Австралии? Мы же с тобой будем второстепенные люди. Мы будем — кто? Ру-у-у-сские. А в Израиле мы, Казаки, благодаря тебе, Маня, будем избранные, мы будем титульная нация.
— К-к-к-к-кто?! Пе! — ре! — крес! — тись! Ваня! Ты, Ваня Казак, коренной бричанский молдаванин! Избранный он…
— Маня, ну ты что?! Ты же меня знаешь. Я же целеустремленный как я не знаю, я же сильно упорный! Я в Союзе был лучший скорняк, лучший по профессии. По версии нашей районной газеты «Ленинским шляхом». А в Израиле стану лучший по национальности! Я добьюсь! — И добавил: — Я же очень смышленый и изобретательный!
— Ты, Ваня, будешь лучший по кретинизму, Ваня. В Израиле у нас никого нет! А в Австралии у меня родная сестра Соня, родной Сонин муж и родная Сонина свекровь Белла Семеновна! И они мне уже купили автомат! По скидке — автомат!
У Мани это был главный аргумент — то, что из писем сестры она поняла, что в Австралии, когда делаешь стирку — нет, вот так — Стирку, — не надо брать отгулы, замачивать, выжимать, кипятить, выжимать, полоскать, выжимать, крахмалить, выжимать и потом три дня лежать, два дня стонать и еще день — гладить, а нужно запихнуть белье в дверку, нажать кнопку и обязательно! обязательно! уйти гулять и купить себе что-нибудь легкомысленное или сладкое. (Тогда стиральные автоматы у нас были в диковинку, это было давно.) Поэтому Маня готова была слыть кем угодно в Австралии — даже негром преклонных годов, — но только не стирать — нет, не так, а вот так — не Стирать, как дома.
Но сначала они поехали в разведку.
И вы еще спрашиваете куда? Конечно, в Австралию… Спрашивают они…
* * *
Ах да… Вот еще… Поздним вечером перед выездом Ваня забежал к своей соседке, учительнице английского языка, и та написала на билетном конверте по-английски: «Эти люди не говорят по-английски». И еще приписала: «И не понимают тоже».
И впоследствии этот конверт Ваню и Маню очень выручал.
* * *
До Малайзии, где Казаки пересаживались в другой самолет, долетели почти без приключений. Ну препирались немного. Ваня все доказывал, что они все неправильно делают, не в ту сторону летят и что у него в организме есть потомственный ген, который отвечает за правильные решения. Этот ген сейчас ноет. А Маня в ответ твердила, что Ванины гены, пропитанные спиртными напитками, уже давно ни за что не отвечают. И что теперь она, Маня, — его единственный ответственный ген. А Ваня сказал, что он пьет не для удовольствия, а снимает напряжение и фобии. А Маня сказала: «Чего-чего?!» И еще сказала: «Хых…» И потом вздохнула: «Уф-ф-ф-ф-ф…» И этим выразила все свое отношение к Ваниным правильным решениям и фобиям. Но о фобиях чуть позже.
Из самолета сначала шел длинный рукав, а из конца рукава в аэропорт шла красивая бегущая дорожка, зовущая в прекрасное далеко. Из далека сияли огни, шел еле уловимый аромат дорогих духов и щедрый запах хорошего кофе. Пассажиры получали багаж, и кто-то ждал, кто-то куда-то шел, а кто-то становился на эту дорожку, чтобы ехать в прекрасную манящую даль. У выхода из самолета стоял круглолицый и ярко-желтый, как тыква, человек в униформе и что-то вежливо объяснял пассажирам. Ваня испугался. Нет, не Тыквы и не бегущей дорожки — он испугался, что надо будет заплатить.
Так вот о фобиях. Кто-то боится пауков, кто-то высоты, кто-то замкнутого пространства. А у Вани была редкая фобия — он боялся платить деньги. Если вдруг надо было платить, Ване становилось плохо, как он сам объяснял свое загадочное состояние — не по себе. И он любыми путями выкручивался, чтобы не заплатить. Например, на парковках автомобилей, при входе на рынок, в парк или еще куда-нибудь. Он предпочитал везде, где надо платить, — не платить. А если настойчиво заставляют платить, все равно не платить. Кто-то назовет это жадностью. А Ваня обычно объяснял, что это у него такая фобия, и бороться с этим он не может. Фобия редкая, да. Но он и сам редкий человек. По красоте там, по профессии, ну и другие плюсы, вы уже знаете…
— О! — Как удостоверение высшей касты Ваня ткнул Тыкве под нос билетный конверт «Эти люди не говорят…» и спросил:
— Э?
— А? — нахмурил брови Тыква, рассматривая билеты и читая конверт: — А-а-а-а… — Он успокоился и указал рукой сначала на багаж: — О! — потом махнул в другую сторону и отрицательно покачал головой: — Ы-ы! — указал на дорожку: — Ы! — потом на Ваню и Маню: — А! — потом опять на дорожку: — О!
— А-а-а-а! Ага! — поблагодарил Ваня.
— Э! — дружелюбно помахал вслед Казакам Тыква.
— Э-э-э, — испугался Ваня, — Манька, по-видимому, придется платить. Че-то мне не по себе… Пошли пешком.
И Казаки потащились с неподъемными вещами параллельно веселым немцам и еще каким-то людям, которые ехали себе на дорожке налегке и в ус не дули.
Путь оказался долог. У Казаков разболелись руки, спины и все остальное, что может болеть, когда тащишь тяжелые чемоданы.
— А давай, — от усталости проявил смекалку Казак, — давай чемоданы на дорожку кинем и рядом пойдем. Давай? А если что, мы багаж в руки и «за что платить? мы сами несем, вот смотрите!» Давай?
Ваня боком как бы случайно ногой передвинул чемоданы поближе к дорожке, потом по одному закинул их на плывущую вдаль ленту, и вещи поехали. Какое-то время Ваня и Маня трусили параллельно своим вещам, мгновенно подхватывая чемоданы и делая вид, что они легко прогуливаются тут с чемоданами наперевес, когда по встречной бегущей дорожке ехал человек в униформе. Дорожка, как оказалось, бежала довольно стремительно. Казаки стали от своих чемоданов отставать.
— Я устала, — заупрямилась Маня и запрыгнула на бегущую дорожку к вещам. Ваня еще какое-то время бежал рядом, но навстречу стали попадаться столбики и барьеры, через которые неспортивному Казаку пришлось сигать, как коню на соревнованиях. Дорожка с Маней и вещами стала его перегонять и оторвалась далеко вперед.
— Ма-а-аня!!! — как в поле, заорал Ваня уезжающей в далеко Мане, помахивая билетным конвертом «эти люди не…». — Если заставят платить на выходе, не плати-и-и-и… Я догоню, разбере-о-о-мся-а-а-а, — последнее, что услышала Маня, уезжая от Вани с вещами.
Когда Ваня наконец добежал — а там дорожка два километра, это на всякий случай, кто собирается пробежаться, — он спросил взволнованно: — Ну чево, Манька, денег просили?
— Нет, — ответила Маня, — это тут бесплатно.
И Ваня, конечно, немного огорчился и пообещал себе, что уж на обратном пути он с комфортом поедет назад с вещами, и не просто, а даже усядется на дорожку — нет, он даже приляжет рядом с чемоданами.
После бега с препятствиями, уже в самолете на Мельбурн, после нескольких порций вина, которое было включено в стоимость билета, у Вани, как водится, ослабилась фобия, и он заказал себе виски, за которое уже легко заплатил.
А потом Маня никак не могла выйти из туалета. Там на двери с одной стороны было написано «Push», а с другой стороны — «Pull». Убейте, сейчас Маня и не вспомнит, с какой стороны какое слово было написано. Да и зачем — она все равно не понимала, что значит это самое «пуш» и «пулл». И она просидела там, тихонько скребясь, сорок минут, пока ее не освободили стюардессы и хмурый секьюрити в униформе. А Мане надо ведь было выйти, чтоб идти на свое место контролировать бесстрашного спринтера Ваню, освободившегося от своих фобий.
А потом Ваня, все еще свободный от фобий, проснулся, и пошел курить, и познакомился с каким-то в белом длинном платье, и в порыве чувств к Мане пытался купить у него для нее бусы. Но тот в платье сопротивлялся и бусы не продавал, потому что, как оказалось, это были не бусы, а четки, которые, как известно, используют, чтобы вести продолжительные беседы с Небесами.
И Маня утащила Ваню назад в кресло, и в салоне стали показывать фильм про двух девушек-близнецов, которые из Америки полетели в Великобританию учиться. Ваня посмотрел на Букингемский дворец и виды Лондона, на Парламент и Трафальгарскую площадь, восхищенно воскликнул: «Так вот ты какая, Австралия!» — и уснул. И так спал до конца путешествия.
А о приключениях Казаков в самой Австралии я расскажу в следующий раз. Потому что Австралия до сих пор еще не опомнилась. Скажу только, что родственники и друзья Казаков надарили им столько, что Ванина фобия так ни разу ему и не пригодилась.
Когда же они вернулись домой, переполненные впечатлениями, Ваня отослал родителям в Бричаны экономную телеграмму: «Были Австралии. Понравилось. Много купили. Скоро летим Израиль. Сравнивать».
Поликарповна
Она была помощницей по хозяйству у бабушки. Ну как помощница?.. На самом деле она была домоправительницей и командиршей. Ну и заодно ангелом семьи. Поликарповна. В молодости, по ее словам, она служила костюмершей то ли в каком-то Доме культуры, то ли даже в театре. Как ее полное имя? Никто не помнит. И я не помню. Поликарповна да Поликарповна!
Рассказывала…
* * *
— Вот у в стране нашей как: не то чтобы было уж совсем все плохо, а кое-что было даже очень хорошо. Во-первы́х, мы были молодые. А потом — у нас же ж было чем гордиться. Лучшая космонавтика у нас была? Была-а-а. От я лично очень гордилася космонавтикой нашей. Это ж была какая у нас космона-а-автика! Гагарин. Титов. Терешкова Валентина. Опять же тяжелая же ж промышленность была. Тоже гордилася я нашей тяжелой промышленностью. А какая у нас была гонка воружений?! А? Спрашую я тебя, а? Огромная была гонка! Опять я гордилася. Потом этот… а! «Артек» еще был у нас. Там пионэры собиралися з разных стран, и эта туда приехала, как ее, така рэвольюционэрка амерыканьска приезжала, непричесана вся — Дэвис. Анжелика. Шо, Анжела?.. Ну Анжела! Дэвис. З Америки. А у той Америки гонка воружений поменьше была, потихше, то они не вспевали за нашими семимильными шагами. Та й сильно боялися нас. Да-а-а…
А какие у нас были мужчины красивые. В костюмах — пинжак, брюки — при галстуках. Запонки. Как махнет рукой, как сверкнет запонкой, звездочки как прыснут уво все стороны, аж сердце захолонет. Весе-о-о-олые! Пели в мужском ансамбле: «Ка-за-ки! Ка-за-ки! Едуть, едуть па Берлину наши ка-за-ки!» Не, ну некоторые есть еще. Е-есть. Видела от недавно. Иван Матвеич с собеса есть, потом… а! Филипп Семенович тоже есть, ходит с палочкой, и собачка у ево крикливая. Есть еще. И почти такие же. Поувяли трошки, но весе-о-олые. А костюмы те же — пинжак, брюки.
А певцы?! Какие у нас были певцы! Кобзон! Иосиф. Помнишь, как он пел? Бам-м-м! Бам-м-м! Очень представительный. В костюме — пинжак, брюки. Потом этот, как ево… ну Кобзон первый, потом… еще этот… забыла, кто второй… Тоже в костюме. Так, шо ж я забыла. Не мешай! Значить, первый — Кобзо-о-он, а потом… Ну ладно. А сейчас хто? Киркоров да Киркоров. Ну Кобзон еще. Только редко че-то…
* * *
— А эти сериалы… Я уже и не знаю, где хто от кого беременный, позапутывали, а той, от кого все беременные, он же во всех сериалах, шмыгает туда-сюда! А-ха-ха! Не уследишь за им, я уже и сама скоро буду от ево беременная. А-ха-ха-ха!
И что, от смари — я ж так и знала, этого мерзавца, таво, в костюме — пинжак в елочку, брюки, — ну таво, точно прикончат в десятой серии. «Почему-почему?» Так он вже в первой серии ходил из дохлым лицом. И так торопился слова свои говорить, ниче не понятно — тыр-тыр-тыр! — так спешил, так спешил. И я сразу сказала: не жилец. И точно!
* * *
— Я думала, шо то собака. Как выставлю капцы свои пид хатою на пороге старые, шо я на клумбах в их порпаюся, так хтось й утаскивает за баню. И всегда левый. Дед мой сдурел на старости, каже — кумунисты, наверно, шо левый капец крадут. У их все левое. Они любят левое. А я думаю, чем ту политику, лучче я ночью подежурю в окно. Сморю, а капец мой нибы сам идэ. А я така: а ну? а ну? а ну? Пригляделася, а то знаешь шо було? Ласка. Ага. Надела на себя мой капец, та й побежала за баню. А я за нэю, смарю — она з цим капцем граеться — то нападае на ево, то пэрэвэртае! От какая!
И думаю, може, подарыть ий той левый капец… Нехай скотинка грается. Кумунистка хвостатая.
* * *
— Прыизжае он, депутат, кто ево выбрал, бис его знае, ну такой пан, по нашей грязюке прыизжае, в такой высокой машине, как танк, — блестяща, новенька, лакова, чыста, аж скрыпыт. Так депутат отой никогда «здрасте» не скажет. Никому. Идет такой здор-р-ровый. И не сам рулит, что ты! У ево этот… у ево… Как ево… Ну как ево? Кучер. О!
* * *
— Эта Люба, противная такая, новая директорша была. Говорыть мене: «Поликарповна, помой сцену».
А то ж, во-первы́х, не моя работа. А во-вторых, ей — скоко? А мене — скоко? О! И я ей говорю «Любовь Михаи́ловна», на «вы», а она мине — «Поликарповна», на «ты». У нас шо, крепостное рабство, я спрашую тебя?
Так я ей знаешь как ответила? Знаешь? Я ей сказала: «Не!»
А она: «Как это „нет“? Что значит „нет“?»
И я ей кажу: «А это значит, Любовь Михаи́ловна, от шо: есть с одной стороны слово „да“, а навпроты — слово „не“. Так я — навпроты. „Не“. Отак».
Шо?
Ну помыла я, конечно, сцену ту, больше не было кому. Вси поразбигалыся… Одна Поликарповна должна тут…
* * *
— А какие там актеры были!.. У их распределялося все. Кто что умел. Знач, кто пел, тот отдельно. Кто танцевал. А герой-полюбовник еще, ему всегда главну роль давали. В костюме всегда — пинжак, брюки.
Потом те, шо детей играют. Малэньки такие две женщины. Уже сорок лет или скоко, воно ж на малэнький не видно, як малэньки собачки — вроде всегда кутята. Воно в возрасти, а выходыть з косками, пищыть. Или зайку представляет. З вухамы. Тьху. Фальшивая.
Ще Евгения Яковлевна была. Называлася «бытовая старуха». Вся в платках, шалях и чепцах. Шаркала ходила ногами.
А самое смешное — называлося знаешь як? О, не знаешь. А называлося «мерзавка з гардеробом». Шо? А, да. Амплуа. Да. Так вот эта мерзавка с гардеробом так эту свою амплюю представляла смишно. Я всегда смиялася. Никаких тебе сериалов не надо.
* * *
— А когда у нас в домкультуре был однажды большой концерт, когда я еще только прийшла молодая на работу, то всем сказали, нарядные чтоб пришли, чтобы кофты белые были. А откуда мне взять? Так у нас было одно трофейное. Я думала, шо то платье, а потом мине уже актриса одна сказала, что красивое, конечно, но не платье, а… той… пенюар специальный для (шепчет на ухо, краснеет)… Во-о-от. А я надела. Не знала. А мне так ниче, до лица было. Я молодая была. Так секретарь Жуковский, в костюме пришел — пинжак, брюки, сказал: «Вы своим видом, в этом синем своем, оскорбляете наш государственный праздник».
И я обиделася и ушла. Токо сначала всем им венки повыдавала. Какие? Та ж украинские с лентами на голову венки. А ты шо подумала? От дурна! А-ха-ха-ха! Да, выдала венки и ушла. Стала дома плакать, что оскорбила государственный праздник. А мамка моя говорит, мол, не слушай, доня, никого, наряд красивый, синий. А синий — цвет Божьей нашей Матери. Ее плаща. И на кого тада твой секретарь рот открыл, а?
Ну они ж тогда в атеизм верили. Теперь только синее себе покупаю. Редко. Халатика купыла от. Смари. Щаз… Ну как? А? А? О-о-от. И никого не оскорбляю.
* * *
— Как они кричат на той площади, музыка гремит, все орут. Сейчас еще биться начнут, не дай Боже. А если тут Божья наша Матерь появится? Не, ну а если? Ну вот, а если? И будет меж их ходыть? Так они ее и не заметят… В синем плаще… Божья наша Матерь Мария.
* * *
Ой, вспомнила! Ее звали Мария! Мария Поликарповна!
Так ее звали…
Его жизнь в искусстве Рассказ о Биневиче
Зигмунд наш страшно всего боялся. Он был чемпионом мира по трусости. Но даровитый — невероятно. Ну есть такой закон природы — кто талантливый, тот обязательно немного чокнутый. Зигмунд после окончания училища культуры руководил школьным театром. Репетиции обожал, спектаклей боялся. Боялся генеральных прогонов, просмотров боялся. Боялся начинать пьесу, боялся показывать. Боялся гостей. Ужасно боялся директора школы и папу ее, Георгина Виореловича. И была причина… Честно говоря, в данном конкретном случае мы все боялись. И директора школы, и папу ее, Георгина Виореловича. Сейчас объясню.
Это только один Константин Сергеевич уважаемый во время репетиции ходил за кулисами бесшумно на цыпочках, разговаривал шепотом. Но очень и очень сложно, как оказалось, ходить на цыпочках за кулисами во время репетиций школьного театра и говорить шепотом для нашего директора школы. Особенно для нашего директора школы. Директриса Маргарита Георгиновна (мы ее звали Маргарина Маргариновна), когда шла к нам в актовый зал смотреть — нет, посещать репетицию нашего школьного театра, ее было слышно ого как далеко. Она ступала грозно и уверенно, как Мороз-воевода. Гребла, пихала ногами пол. Чапала вразвалку и очень громко бряцала медалями и ключами. И сопела. Всегда в сопровождении папы своего, Георгина Виореловича, — завхоза школы и по совместительству военрука, последнего среди нас всех, людей доброй воли, носителя тайных знаний по гражданской обороне. Маргарина и Георгин по праву считали школу своей вотчиной. И школьники им очень мешали. Кстати, заметили, что частенько учителям мешают работать школьники, врачам — больные: путаются под ногами, стонут и жалуются? Проводникам в поездах — пассажиры: все им не так. Продавцам в магазине — покупатели: и чего ходят? Официантам в ресторанах — посетители: все время есть хотят. А Маргарите и Георгину мешали и ученики, и внешкольная работа после уроков — например, школьный театр. Георгин вообще считал, что внеклассную работу надо отменить как обороноопасную. Всех разогнать по домам, уложить под койки и с нетерпением ждать сигнала тревоги, активно поддаваясь панике, прижимая к груди документы, заготовленный предварительно противогаз и сухой паек на три дня. Георгин, кстати, если отвлечься, это такой цветок лохматый, растрепанный. Георгин, папа Маргарины, был, наоборот, совсем не душистый цветок, а лысый и всегда немножко пьяненький дядька.
Они входили в актовый зал, врывались шумно, как деревянные солдаты Урфина Джуса, в тишину репетиции, и Маргарина тут же громогласно перебивала проникновенный трепетный монолог нашей блистательной Наденьки Титаренко…
Она возмущенно взвизгивала:
— Шо-шо?! А ну-ка чечче! Чечче слова, Титаренка! Чечче и громче! Чечче и громче!
Военрук Георгин вторил:
— Аччетлива и звонка! Поня́л, Биневич? — строго спрашивал он руководителя нашего школьного театра Зигмунда. — Поня́л? И что это они у тебя вразброску так стоят по сцене? А ну-ка построилися, подровнялися! Грудь четвертого человека! А то что это совсем… Я что, театр не понимаю, что ли… Вот так — и видно всех, и слышно! А если про любовь там, встали двое навпротив: ты — тут, а он — так, оба боком, и рассказываете… Ты — той, а та — тебе. От тако!
— Тэ-э-к! Слова повторить! И по домам! — заключала Маргарина проверку.
И удалялась строевым шагом обходить владения дозором, звеня ключами, медалями и папой своим, Георгином… Направлялись они потом в танцкласс, наверное, учить детей танцевать.
Наденька Титаренко долго приходила в себя, настраивалась и потом начинала дрожащим от волнения голосом:
— «…Я вчера за Волгу смотрела…»
Второго, контрольного, пришествия Маргаринов обычно не было. Мы о них забывали и репетировали до вечера уже спокойно.
Он такой был талантливый, наш Зигмунд, такой… Глаза загорались, душа играла, стояла такая вибрация счастья в воздухе, когда он вел репетицию… А уж спектакли! За исключением Маргариновой семьи, все были в восторге, в школу на спектакли ходил весь город. И какие-то важные гости из нашего областного театра, покровительственно похлопывая Зигмунда по плечу, сказали:
— Надо, Зигмунд, надо поступать! Но только на режиссерский. Потому что как актер, Зигмунд, ты катастрофа, ты, Зигмунд, стихийное бедствие на сцене.
И правда: он выходил на сцену, дрожа коленками от страха, и тут же забывал свои реплики. Потому что, во-первых, боялся, а во-вторых, сосредоточенно наблюдал игру своих актеров. Когда ему нравилось, он бормотал тихо: «Хорро-шо-о-о…» или выкрикивал: «Да! Да!» Когда не нравилось, фыркал: «Чепухня!» или «Нет!». И для того, чтобы побыстрей смыться, он произносил первую и последнюю реплику своих монологов и удалялся с чувством выполненного долга, попутно переворачивая декорации, цепляясь за бутафорские кусты одеждой, теряя на ходу приклеенные бороду и усы…
Никогда не забуду, как наш Зигмунд, уже будучи маститым режиссером черновицкого театра «Синтез», в роли Гемона, сына Креонта, в пьесе Жана Ануя «Антигона», вместо двенадцатиминутного наполненного болью, страстью, силой и философией монолога, выскочил на сцену, из позиции «сам дурак!» петушиным дискантом склочно вякнул: «Народ тебе этого не простит, папа!» — и быстро смотался, оставив и Креонта, и зрителей в недоумении, кто это был, что это было…
А тогда Зигмунд решил поступать на режиссерский. Решил-то он решил, но очень боялся. Страшно боялся. Границ его страху не было. Первый раз поехал в Москву и сразу сбежал назад, в том же поезде. Второй раз он собрал все свое мужество и дошел до приемной комиссии, но потом опять дал деру. Третий раз два друга привезли его под конвоем, сидели на скамейке под окнами Щукинского училища, пока он подавал документы и проходил все предварительные прослушивания. Он вызвал интерес у приемной комиссии, любопытство у преподавателей, сам был обнадежен и взбодрился… Его охранники обрадовались, потеряли бдительность, ушли пить пиво — Зигмунд почувствовал свободу и пустился наутек. Бежал, обгоняя поезда метро, мчался впереди автобуса, успел на поезд и оказался дома на два дня раньше, чем его охрана. В следующий раз с ним поехал самый большой его друг Ленька Чупак — и душой большой, и форматом — великан двух метров и двух с половиной сантиметров. Огромный, как Кинг-Конг. И такой же красавец. Его задача была поддерживать, подталкивать, подпихивать и отлавливать Зигмунда в процессе поступления в театральное училище. Вместе они дошли до второго тура.
Наступил решающий день.
В экзаменационной комиссии сидели мэтры, знакомые по кино, прессе и телевидению… Один из них, очень пожилой, полный, косматый, с крупными чертами лица, дремал…
Зигмунд боялся. Очень боялся… Особенно этого, лохматого, спящего…
— Ну? — приветливо обратилась к нему красивая пожилая дама в белой блузе с камеей.…
— Ы? — Тупо, по-бычьи, наклонил голову в ее сторону Зигмунд.
— Что читаем?
— Гоголь…
— Ну-ну… Пожалуйста… Ну? Не волнуйтесь, э-э… — Дама заглянула в бумаги: — Не волнуйтесь, Зигмунд Павлович. Замечательно! Гоголь! Так… Ну-ну?
— Отрывок! — с надрывом вскричал Зигмунд.
— Так-так… — успокаивала его дама с камеей. — Отрывок… Ну?
— «Вий»… Отрывок… «Вий», — еще немного, и Зигмунд должен был разрыдаться.
— Читайте же, Зигмунд Павлович! Ну читайте! — теряла терпение дама.
Она, собственно, привыкла к таким вот странным, талантливым полусумасшедшим людям, но уговаривать этих альтернативно одаренных артистов становилось уже утомительно.
— Читайте же, Биневич, читайте! — повысила тон дама.
Зигмунд помялся, кашлянул и завыл, не отрывая взгляда от спящего:
— П-поднимите… Поднимите мне ве-е-е-ки!!! Поднимите!!!
Спящий вздрогнул, испуганно всхрапнул, поднял тяжелые веки и, не мигая, уставился на Зигмунда бессмысленными сонными глазами.
— Ой, мама… — выдохнул Зигмунд и остановился… — Щас… — прошептал он. — Я щас… Там… Мне… надо… Туда…. — Зигмунд, пятясь и кланяясь, кланяясь и пятясь, спиной дошел до двери, тыкая пальцем на выход, не глядя нащупал ручку двери и быстро исчез.
Не успели экзаменаторы переглянуться и пожать плечами, как дверь распахнулась, и большая твердая рука Леньки Чупака вбросила Биневича обратно в зал. Перебирая и шаркая ногами, как на льду, балансируя руками, чтобы не упасть, Зигмунд вбежал и, отчаянно тормозя, резко остановился перед столом комиссии. Следом просунулась Ленькина рожа, хмуро повела носом, удовлетворенно кивнула, мигнула глазом и исчезла. Дверь плотно и тихо закрылась.
Опять ничему не удивляясь, красивая дама, сложив руки под грудью, призывая к вниманию своих коллег, кивнув вправо и влево, предложила:
— Продолжим!
Ну и потом все пошло как по маслу. Оказывается, иногда, для того чтобы у человека все сложилось хорошо, надо просто крепко дать ему по шее.
Словом, в этот раз Зигмунд поступил в театральное училище. И учился там с огромным удовольствием. На время сессий бывший школьный, а впоследствии городской молодежный театр скидывался и отряжал в Москву Чупака, чтоб тот подстраховал Зигмунда на экзаменах. В училище Зигмунда любили. Ко всем своим талантам и чудачествам, он был — копия молодой Вахтангов на большом портрете в репетиционном зале училища. Старые преподаватели даже вздрагивали…
А потом дипломированного режиссера Зигмунда Биневича пригласили работать в наш областной музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской, но что-то у него там с самого начала не сложилось. Во-первых, не сложилось с теми режиссерами, которые там уже давно мастерили свои эпохалки… Зигмунд не умел договариваться, им льстить, да он и не мог — боялся. Как всегда, боялся. Потом что-то с ведущими актерами не сложилось… Потому что Зигмунд, по обыкновению, пошел по любительским театрам, по ЖЭКам, по дворам и подъездам искать молодых людей со светлыми выразительными лицами, живой пластикой и нестандартными реакциями и имел наглость тут же назначать их на главные роли… Говорят, что и репетиции вел не на том языке, на котором надо было, и репертуар подбирал, скажем так, сомнительный с точки зрения дирекции театра. А после того как ему сделали странное замечание, которое нет смысла тут цитировать, потому что оно бессмысленное (это когда он из приемной дирекции театра говорил по телефону со своей старенькой мамой на идиш — мама по-другому плохо понимала, особенно по телефону, а директор театра… Да ну его, директора нашего театра!), после этого случая Зигмунд уволился. Этим все и закончилось. Он уехал с семьей в Израиль — открыл кондитерскую, печет пирожки, печенье, пирожные… Процветает. Театр на дух не переносит.
И ничего не боится. Не боится ничего!
Спящая красавица
Ирка поубивала все будильники. Для убийства последнего встала по его же звонку, доковыляла до окна, открыла форточку и швыранула будильник в куст. В кусте кто-то взвизгнул, зашуршал, потом радостно ойкнул и воскликнул: «Ой! Господи!!! Ой! Часики! Вот спасибо тебе, Господи!»
— Та пжалста, — в ответ пробормотала Ирка, закрыла окно и ушла спать. Но вставать все равно надо было в семь утра. Надо было все равно. Потому что надо было. А как? Оставшись без будильников, Ирка заказала своему папе ежедневную телефонную побудку. Папа вынужден был звонить каждое утро из другого города.
— Да-да, я уже проснулась, — бодрым свежим утренним голосом рапортовала Ирка, — спасибо, папа.
Папа верил.
Через три часа Ирка звонила отцу и орала:
— Па-а-апа!!! Почему ты меня не разбудил?! Я же просила! Я же опять опоздала! Опять!
— И-и-ира! Но ты же мне ответила, ты же сказала: «Да-да! Я проснулась!»
— Это была не я!
— А к-к-кто?! — от удивления и страха заикался папа…
В доме, кроме Ирки, жил только хомяк. Хомяк не мог говорить Иркиным голосом: «Да-да, я проснулась». Хомяк не мог говорить: «Я проснулась», поскольку спал еще крепче, чем Ирка. Хомяк не мог говорить «проснула́сь». Хомяк был мальчик! Хомяк не мог говорить даже теоретически!! Хомяк был… животное!!!
— Это говорила я. Но я спала. А во сне я себя не контролирую и поэтому вру. Я не просыпалась. Я говорила: «Да-да, я проснулась», — но не проснулась. Проверяй меня, когда звонишь.
— Как проверять?
— Задавай разные вопросы.
Отец стал задавать разные вопросы:
— Ира! Это кто, угадай? Это кто тебе звонит рано утром, вместо того чтобы спокойно спать, потому что я имею уже право на пенсии поспать подольше, Ира? Кто? Это… Ну? Э-э-это…
— Это па-апа… Я проснулась, папа.
— А почему я тебе звоню, Ирочка, из другой страны по доллару за минуту?
— Чтобы меня разбудить. Я уже проснулась, папа.
— Ира, какой сегодня день, Ира?
— Понедельник. Я проснулась, папа.
— Какое число, Ира?
— Пятое. Проснулась я, папа! Спасибо, папа!
— Месяц, Ира!
— Сентябрь!!! Я проснулась уже, проснулась, папа, уже!
— Ты проснулась? Да? — констатировал папа.
— Да-да, я проснулась.
Через два часа:
— Ты меня не разбудил!!! Ты меня не разбудил, меня уволят с работы. Я опять проспала.
— Но ты же отвечала, Ира! Ты же правильно ответила на все вопросы!
— Да! Потому что я в тебя! Я умная даже во сне. И сообразительная. А главное, очень изобретательная!!!
Папа перешел на точные науки.
— Ира, это папа, Ира.
— Да-да, я проснулась!
— Не морочь мне голову. Ты спишь. Назови число пи.
— Пи?
— Пи! Пи!
— Пи-пи… Щас… (Ирка куда-то убегала, возвращалась.) Але? Это кто?
— Это папа, Ира! Я звоню, чтобы тебя разбудить.
— О! Папа! Молодец ты какой! Я уже проснулась, папа.
— Не-ет, Ира, ты спи-и-ишь, Ира. Назови число пи.
— Число пи? Число пи… Число… Але? А это кто?
— Это папа, Ира! Это папа! Я звоню, чтобы тебя разбудить. Назови число пи, Ира!!!
— А! Легко! 3,14!
— Пра-а-авильно. А кто тебе звонит?
— Это… папа? Па-а-апа! Здравствуй, папа! Вот спасибо тебе! Вот спасибо! Это ты, папа!
— Правильно. Ты проснулась?
— Да-да, конечно, я проснулась.
— О чем я только что спрашивал?
— Ты? Ты… спра-а-ашивал… число пи?
— Правильно. Ты точно проснулась?
— Да.
— Ты не будешь мне звонить через два часа и орать, что я тебя не разбудил?
— Нет, ну что ты, папа. Ну что ты!
Через два часа Ира звонила и орала. Опять! Почему не разбудил, меня уволят! Давай вопросы поизощреннее.
— Ира, доброе утро! Как зовут Маркеса?
— Габриэль Гарсиа. Я проснулась.
— Не-ет, ты врешь. Экзюпери?
— Мари Роже Антуан. Я проснулась.
— Титул?
— Граф.
— Чем меньше женщину мы любим, Ира, тем…
— …легче, папа! Легче нравимся мы ей, папа! Я проснулась, папа. Точно. Все! Точно, папа!
— Ира! Ира! Слушай, Ира! Если ты опять позвонишь мне через два часа! Если ты мне позвонишь, Ира, я тогда не знаю, Ира…
Ира позвонила через два часа. Скандалила и рыдала. Папа отказывался звонить, сказал, что больше не выдержит, пусть Ира кого-нибудь нанимает и хорошо платит за эти муки, за эти нервы, папа больше не может…
Ира ныла, давила на папину совесть и плохую наследственность, у Иры были неприятности на работе, она проспала хорошие заказы и выгодных клиентов.
— Ну па-а-апа… Я здесь уже никого не найду, никто уже не хочет, меня уже все будили… Ну па-а-ап… Ты сам виноват — не надо было меня в детстве баловать.
— В последний раз! — согласился папа. — В последний раз, ты поняла, Ира?
— Давай спрашивай что-то, где надо не просто отвечать, а соображать…
Отец стал задавать задачи на умножение трехзначных чисел.
Ирка решала легко. Не просыпаясь.
Потом пошли уравнения…
Приспособилась. Продолжала спать.
Потом начались компьютерные вопросы.
— Ира! У меня не включается компьютер, что мне делать?
Ира грамотно обследовала папин компьютер по телефону, давала дельные советы, предлагала разные варианты, но продолжала сладко спать.
При этом после десяти утра, когда она действительно просыпалась, Ира пользовалась уважением на работе, поскольку была специалистом высокого класса, и вниманием юношей, поскольку была очень симпатичной и веселой барышней.
После свадьбы папа облегченно вздохнул: теперь он сам мог спокойно выспаться утром и подлечить свои растрепанные нервы, теперь есть кому будить Иру. Но не тут-то было. Муж Гарик спал как сурок и не просыпался, когда Ира подробно рассказывала отцу по телефону, из чего состоит материнская плата. При этом все трое — Ира, Гарик и хомяк — дрыхли как медведи зимой. Папа продолжал звонить по утрам, чтобы изводить Иру, а теперь и Гарика трудными вопросами. Трубку иногда брала Ира, иногда Гарик, а иногда, особенно осенью и зимой, когда утром еще серо и прохладно, и так не хочется просыпаться, трубку брал кто-то из них и бормотал хроническое «мы проснулись, папа» таким глухим, сиплым, вялым и невнятным голосом, что папа иногда подозревал, что трубку взял хомяк.
Когда у Иры с Гариком родилась маленькая Ирка, папа взял билет на самолет и в панике помчался к детям. В первую же ночь он улегся спать рядом с комнатой, где поместили ребенка. Он почти не спал, боясь пропустить момент, когда маленькая Ирка заплачет. На ее родителей он, конечно, совсем не рассчитывал. К папиному несказанному изумлению, Ира легко просыпалась от каждого шороха или кряхтенья дочки. Ира вставала и тихонько, чтобы не разбудить папу, подходила к кроватке маленькой Ирки. Но Ирочка спала, иногда во сне морщилась, возилась, но не просыпалась. Так она спала с двенадцати часов ночи до утра. В восемь Ира тормошила Ирочку, чтобы покормить. Ира маленькая ела с аппетитом, громко глотала, чмокала, приговаривала и причитала, но глаза не открывала. Ира маленькая спала…
Жизнь продолжалась.
Мужские игры
Ах, друзья мои, какое же в мире разнообразие людей-человеков! Удивляет это, восхищает, дает пищу для размышлений. Например…
Человек-чайник. Нет, не тот, что, безнадежно задумавшись, застывает перед монитором. Настоящий… Сидит, нормальный такой, а потом как закипит, как загудит, как плюнет кипятком во все стороны… Потом остывает медленно и опять тихий. Потрогаешь его бочок, а он спокойный стоит, холодный, обиженный…
Человек-шлагбаум тоже. Ужасно коварный тип. Все делает, казалось бы, по закону. Когда надо — закрывает, когда надо — открывает. Туда — нельзя, оттуда — тоже. Стоит в своих нарукавниках сатиновых… Нет-нет, я фигурально… Нарукавники, они ведь и на очень дорогих костюмах видны, и на военной форме, и вообще на ком попало. Это такой символ, понимаете?.. Ну вот, иногда бывает, этот шлагбаум вдруг заскучает и думает, что такое — никто его не ценит, никто не дает ему похвальную грамоту за верную службу, на него, такого красивого и полосатого, девушки не смотрят, никто с ним не считается вообще. И жизнь, блестя лаковыми крыльями, мчится по совсем другой дороге. Где его, шлагбаума, нет…
Среди моих знакомых есть человек-торт. И если у шлагбаума чувствуется полосатая прямота и нарукавники, то у этого — бант! Огромный розовый бант на шее. Недавно один вышел на трибуну и ну выступать! Велеречивый такой. Торт с кремом. В жутких розочках — а как же. «Дорогие избиратели…» — обращался он маслено, цыкая на звуке «т». Получалось «Дорогие избирацели». Каждое слово было тщательно выпечено, глазурью покрыто. Речь его была — сироп. Сладкий сахарный густой сиропный сироп, вылитый на торт с марципанами. Ну а в конце он ее, эту речь свою, еще и обещаниями припудрил…
Есть человек-овца. Временами покорная, временами упрямая овца. Которая, окончив вуз, возмущенно закатывая глаза, исправляет собеседника, когда тот говорит, например, слово «невропатолог». У нее, у овцы, пунктик.
— Нервопатолог! — кричит овца писклявым обиженным голоском. — От слова «нервы»! — поучает овца.
И собеседник уходит в недоумении, как это… Как это может такое быть? Чтоб овца эта (или этот), окончив вуз, факультет биологии, и вдруг нервопатолог… С ума ведь сойти можно, как и чему ее (его) научили в том биологическом институте, эту (этого) овцу.
Есть человек-работа. То есть он на работе — вол. Надежа, опора. Просто, если надо, сам узкоколейку проложит. Если скажут за шесть дней, он уложится в четыре. И не сметь звонить ему на работу! Даже если ты уже умер, даже если ты уже на том свете, даже с того света нельзя звонить. Он в ответ рычит — не сметь беспокоить его. И отключается. Но зато домой приходит и ложится. Плоско-плоско. И так лежит. Может неделю лежать. Две. Год. Если нет работы на работе. Работа дома не считается. Это не работа. Кто ж ее видит? Вот. Это вот главное. Работа, по мнению человека-работы, должна быть видна. Человек-работа.
Есть человек-ненастье. Где-то я читала или слышала про певицу, которой необходимо было перед выходом на сцену испортить кому-нибудь настроение. А люди, что с ней давно работали, эту привычку ее знали и прятались. И новеньким говорили, мол, прячься, вон идет… Народная артистка… И тогда она, подобрав длинную, пышную, шитую золотом юбку, ногой пинала и лупила что придется — мебель, стены. «Понаставили тут!» — верещала и шипела. Выла, как ветер. Искры, как молнии, швыряла во все стороны. И потом с улыбкой сияющей, развернув руки, как крылья, выходила к зрителями, мол, а вот и я!
Есть еще знакомые, прекрасные люди: человек-сад, человек-одеяло, человек-праздник. С ними рядом так себя и чувствуешь. Как в саду. В тепле и уюте. Или как будто у тебя праздник. И наоборот, есть человек-хамство. Брат двоюродный человека-ненастья. Выходит из дому, как на охоту. Ждет, кто заденет. А если не заденет, он сам найдет к чему придраться. И уж нахамит всласть, взбодрится, типа «а еще очки, а еще шляпу, интеллигент, понимаешь!..».
Ну и обычные, часто встречающиеся люди: человек-зависть, человек — я-всегда-прав опять же часто попадается, смешной такой, обычно толстенький, уютный, обычно с усами, бывает, и бороденочку какую отрастит…
Типчик с короткими ножками, шмыгает носом: человек — Мировое Зло. Милый такой обычно. На первый взгляд. Жалко его сперва… Штаники все время поддергивает прям до подмышек… Не дай Бог, короче!
Ну а уж если из близких знакомых взять, у нас приятель есть Фима — выйди-из-воды называется. Почему так? Детская травма, да. Он жалуется, что слышит скрипучий голос своего дедушки даже во сне. Больше всего на свете Фима хотел научиться плавать. Но семья прикрепила к Фиме дедушку на предмет охраны и безопасности, и тот повсюду ездил и ходил с Фимой — на море, на речку, в бассейн…
— Фима!
— А…
— Выйди из воды.
— Иду.
Дедушка постарел, дедушка устал, но задача, которую перед ним однажды поставила семья… Он уже не мог следить, где там Фима плещется, но на всякий случай, завидев на горизонте внука Фиму, сидя ли в кресле, лежа ли на диване с газетой, проходя мимо Фиминой комнаты, где тот играл в морской бой на компьютере, он приказывал:
— Фима!
— А…
— Выйди из воды.
— Иду, — машинально соглашался привыкший Фима.
Друзья даже шутили над ним, и где-то на ночной рыбалке, когда Фима задремал, кто-то из них позвал скрипучим голосом:
— Фима!
— А… — ответил сонный Фима.
— Выйди из воды!
— Иду, деда! — и, сладко чмокнув губами, опять захрапел.
К слову, о рыбалке. Тут, наконец, в нашем сюжете всплывает еще одно, чуть ли не главное действующее лицо, человек — когда-выпью-полководец. Уникальный. Редкостный. Зовут Гриша. Совсем не типичный представитель их — мужчин — вида.
Вообще-то как раз рыбалка и свела таких разных людей: Фиму — выйди-из-воды и Гришу — когда-выпью-полководец. Бывает, что такие разные люди как раз и становятся близкими друзьями. А потому что рыбалка, бильярд, баня и напиток водка — вообще очень сплачивающие вещи. Я бы даже сказала, цементирующие.
Так вот о них, родимых: о Фиме — выйди-из-воды и о его соседе Грише — когда-выпью-полководец — и пойдет речь в нашем и так уже изрядно затянувшемся повествовании.
Гриша умело сочетал ответственную милицейскую должность с нелегкой, но главной частью своей жизни — культурным отдыхом в компании. Эта часть, кроме рыбы, бильярдных шаров и разных там банных принадлежностей типа этих… ну… мочалок, была полна братаний, поисковой деятельности смысла жизни, разочарований и в результате сильных, а временами очень-очень сильных недомоганий. И во всем этом, не сказать безобразии, активно участвовал и Гришин названый брат Фима. Самым тяжелым в программе был третий этап. Если на первом все собирались и выпивали «за», на втором Гриша собирал людей и, как комментировала его теща Василиса Трофимовна, «водил полки», то на третьем этапе, когда этот предатель, этот штрейкбрехер Фима — выйди-из-воды первым из полка робко просился домой, как раз подходило время недомоганий, и надо было его, это время, чуть-чуть оттянуть… Нет, ну а чего он!.. Брат он или не брат? Ах, брат? Тогда куда? В четыре часа утра, в такую рань! А когда за Фимой вслед и все остальные навострялись улизнуть, тут уже Гриша: «Чего-чего?! Ах, предатели! А ну все сидеть!..» И доставал свой служебный пистолет. В четыре утра. Гриша с этим пистолетом вообще чувствовал себя маршалом Жуковым. «Сидеть, я сказал!.. Вот так-то лучше. А то — „домой, домой“. Гриша клал пистолет на стол рядом с собой и, укоризненно глядя на брата Фиму, ставил в центр стола следующую бутылку благородного напитка водки.
Если же кто-то просился выйти ненадолго, Гриша предупреждал: «Три минуты. На четвертой минуте тебе засчитывается побег. И все идут искать. А кто не заховался, я не виноват», — игриво приговаривал когда-выпью-полководец, щедро наливая гостям.
Вот и недавно, ранним летом, у Гриши опрометчиво собрались его приятели. И ведь не хотели к нему идти, но как-то заспорили в перерыве между таймами, потащились почему-то за Фимой — выйди-из-воды, а очнулись уже с ним у Гриши на кухне, когда нашим прямо под финальный свисток забили гол (ну «Евро» же две тысячи же двенадцать!).
Ну как тут не выпить, тем более хозяин уже вывел на огневой рубеж свою батарею бутылок с горючей жидкостью!
Вообще, я вам, друзья, заявляю из собственных наблюдений: когда мужчины вместе выпивают, на втором часу у них появляется коллективный разум. Как у муравьев. Они передвигаются плотными группами и без слов понимают друг друга. Чаще всего, уточняю, неправильно понимают. Потому что разум-то хоть и коллективный, но один на всех. И очень при этом скромный. Маленький…
Ну вот. Среди ночи Фима — выйди-из-воды стал, как всегда, ныть, что ему надо домой, что его жена и теща заругают, хотел договориться по-хорошему. «Какое „домой“, — возразил полководец Гриша и погладил рукой главный свой аргумент — пистолет. — Какое домой, Фима, наши же продули! Будем горевать, ребята», — Гриша всхлипнул и отвинтил крышечку у следующей двухлитровой с ручкой.
Фиме не надо было много, ему вообще никогда не надо много, он ведь потом, когда Гриша падал головой на стол и засыпал, полностью терял ориентацию, без коллективного-то разума, бродил непонятно где и дом свой найти не мог. И ведь ему категорически запрещали ходить к Грише, потому что гастрит у Фимы, а он как специально! Приходит пьяный под утро в компании трех-четырех уличных собак. А у тех всегда уверенный и нахальный вид ночных таксистов. Мол, мы вашего Фиму сопровождали, мы Фиму охраняли и защищали, мы его даже грели, когда он упал и чуть-чуть лежал, мы его доставили домой, так что покормите нас, пожалуйста, колбасой. И собак кормят, потому что они знают дорогу к Фиминому дому, а Фима — нет.
Ну и вот: в тот день, когда наша сборная в очередной раз продула, Фима продолжал и продолжал нудно отпрашиваться, жаловался, что у него гастрит, что ему нельзя пить. Ну ладно, можно чуть-чуть, но нельзя пить натощак, надо кушать, ныл и ныл Фима — выйди-из-воды. У него, как всегда в подобных случаях, появилась трагичная пластика — он закатывал глаза, красиво подпирал голову растопыренными пальцами, обнимал себя за плечи, мотал головой и нервно хихикал. Все котлеты из холодильника, овощи, сало, копченую скумбрию уже давно съели. Гриша угрожал пистолетом, а Фима уже кричал, уже рвал на себе светло-серую бобочку с пуговками розовыми маленькими, мол, стреляй, я все равно пить не буду, мне надо закусывать.
И Гриша наморщил лоб и спросил мрачно:
— А салат? Бушь?
— Б-ду, — согласился Фима — выйди-из-воды.
— Иди нарежь там, на клумбе, всего. Там есть. Алка посадила. Там… Петрушку, лук, молодой чеснок, потом там… еще там ук… укроп… Ща… Щас… Щавель там. И салат! В самом центре, — Гриша отложил пистолет и показал пальцами, какой пышный салат посадила его жена Алла. — Таким пучком салат. Иди!
Фима пошел во двор и в свете луны нарезал с грядочки под окном, любовно посаженной, кухонными ножницами всякой зелени. Гриша по-хозяйски покрошил все это мелко в салатницу, еще спросил Фиму — выйди-из-воды, чем заправлять, майонезом или подсолнечным, а Фима капризно потребовал, чтобы оливковым. И нашлось оливковое. Посыпали крупной солью, поперчили. И застолье покатилось дальше, все накинулись на салат с черным хлебом и сидели еще, и ругали футболистов, пока Фима вдруг не улизнул, а вместе с ним неожиданно исчез и пистолет.
Да, я не сказала же еще, что наши дома, включая дом Гриши, стоят на берегу реки Ракитнянки. А Фимин дом стоит на другом берегу. Мост через реку от нашего квартала далеко. Так что мы все, которые трезвые, ходим на другую сторону долго, через мост. Но это мы. Но не Фима же, который «выйди-из-воды». Вот именно этого всегда и боялась Фимина семья, потому что если на суше у Фимы были провожатые — собаки-таксисты, то дельфинов в реке Ракитнянке до сих пор почему-то не встречалось.
Обнаружив отсутствие Фимы, а затем — о, ужас! — и пистолета, маршал, бодро шатаясь, вскочил и, выбросив по-наполеоновски руку, вскричал:
— Догнать! Обезоружить и доставить в штаб!.. — и добавил: — Брать живым!
В ту роковую ночь Фима — выйди-из-воды, удирая от маршала Жукова, попытался даже отдать Боженьке душу путем купания в нашей реке, поскольку плавать он, благодаря дедушке, так и не научился. Но раз был не очень трезв, а значит, был бесстрашен, то как-то в результате выкарабкался на родной берег. Он даже от страха утонуть хотел, из Гришиного пистолета застрелиться, но к тому моменту, когда ему пришла в голову эта спасительная мысль, пистолет Гришин Фима — выйди-из-воды вполне удачно утопил…
Если говорить честно, то сам Фима так бы на свой берег и не вылез. Вытащили, конечно, братья по разуму. Единственному. Хотя и коллективному. Зацепили чем-то и выволокли. Пистолет не нашли, хоть и, гонимые своим полководцем, шарили по дну Ракитнянки два дня, пока не протрезвели.
Вроде бы и вся история, если не учитывать, что, когда утром я вышла пить кофе на террасу, я вдруг увидела, что все мои прекрасные астры радужных расцветок, махровые и ромашковые, так ласкавшие глаз, срезаны под корень. Даже передать не могу, что я испытала. А нет — как раз могу. Я бы, конечно, очень расстроилась, если бы не услышала, как растерянная Алла, Гришина жена, кричала:
— Дожились! Что они ели?! Чем закусывали?! Они астры ели! Четыре известных в городе человека, уважаемые даже, можно сказать, люди сожрали клумбу. Чужую! Соседскую! Под маслом. Для загара! Они сожрали астры Гончаровых! Нет хоть бы женщинам цветы подарили или продали на худой конец, так нет — они их съели!
Да, друзья мои, какое все-таки разнообразие людей-человеков на этой планете! Как прекрасен и уникален Гриша — когда-выпью-полководец! А Фима — выйди-из-воды?! А другие?!
Они потом долго не собирались. То ли стыдно было, то ли лечились коллективом, не знаю.
Гриша-маршал, к слову, уехал в Крым. Алла по скайпу мне рассказывала, что вокруг дома столько насажала всяких цветов разных: и астры, и ноготки, и левкои, и петушки, и роз двадцать кустов. Закусывай — не хочу!
Уши
Провизор в одной аптеке у нас появился. Что-то есть в нем от кота. И невозможно понять что.
Гыза его фамилия. Всем желающим он рассказывает, что фамилия это французская и что он из боковой ветви какой-то французской династии. Видимо, Гизов. И главное, что: аптек в городе — на каждого человека по две, а все бегут туда, где этот престолонаследник. Любопытный у нас народ. Да я и сама такая.
Слушайте, откуда столько чудаков у нас в городе? Ну откуда? Один хвастается, что он лекарь-врачеватель. А сам без диплома вообще и анатомический атлас в глаза не видел, позвоночник от зубов отличить не может. Но ходит с таким себе саквояжиком повсюду. Важный. Бороду отрастил. Лапочки трет одну о другую. Ничего тяжелей рюмки не поднимает. Ему руки надо беречь. Типа он вправляет позвонки всем. Уже столько народу покалечил, а все равно идут к нему, доверчивые наши. Я сама у него была. Потом уже, конечно, к нормальному врачу. Как и все, собственно. Врач-мануал наш дипломированный только бровью водит и вздыхает обреченно, мол, что ж за идиоты в этом городе живут. (Хотела написать другое слово вместо слова «идиоты», а компьютер сказал, что синонима слову «идиоты» нету. Идиоты — они же идиоты и есть.)
Потом эта… Девять классов образования… Восемь мужей с чемоданчиками картонными туда-сюда шастают, уходят, возвращаются. Соседи, мол, о, пятый вернулся! А нет — это третий вроде.
О, седьмой побежал со двора. Гляди-гляди, несется как, не оглядывается даже. Такая роковая женщина: парик у нее черный под Валерия Леонтьева, зуб золотой и всякие перстни с черепами на руках. И ногах. Но устроилась хорошо: психоаналитик она. Толкует народу сны. В основном, к ней женщины ходят. Обретать надежду и просветление.
Еще один. Дизайнер Юрик. Ужас! Ни один ремонт до конца не довел. Входил в дом, стены валил, все крушил, мотал перед заказчиком ворохом чертежей, ходил генералом по руинам, потом кушал плотно, запивая вкусным и крепким, — наши хозяйки умеют принимать — и уходил. Навсегда. Зато люди говорят, мол, специальный дизайнер у нас тут работал. Хотя сами потом по ночам все восстанавливали, доклеивали, докрашивали. Переделывали.
И главное, все же заказчики его часто встречают в городе, этого Юрика, но, видно, потревожить боятся. Народ у нас до поры до времени терпеливый и деликатный. Толерантный у нас народ. Дизайнер Юрик ходит медленно и устало по улицам, нерадостный, но с непроницаемым и суровым лицом, на робкие приветствия и вопросы не отвечает, одетый во все иностранно-милитаристское, как Че Гевара перед последним боем в Боливии, в беретике, в огромных темных очках и жиденькой бородке.
Такие доверчивые наши люди, ну такие ж доверчивые… Теперь этот появился. Ну Гыза, аптекарь, я вам говорила. Вот же тянет их к нам в город!
Он, значит, чем прославился? Сейчас скажу, только отсмеюсь сначала, простите: Гыза этот приклеивает к голове свои уши двусторонним скотчем. А? Теперь давайте вы отсмейтесь, а потом продолжу.
Народ валом валит. Купить что-нибудь. Топчутся там и ждут старушек. Потому что Гыза ну очень старушек не терпит. Горячий. Что говорить — потомок инквизиторов.
Приходит какая-нибудь бабушка и давай торговаться, как на рынке. Мол, вы мне дайте не упаковку лекарства, а только три таблетки. Мне не надо упаковку. Мне надо всего три. И тут Гыза этот начинает кипеть. Сначала внутри. Потом выпускать пар наружу и кричать — куда, мол, я остальные таблетки дену. А бабушки у нас тренированные — они в советских очередях такой опыт борьбы с хамством обрели, что спокойно могут ответить, куда ему деть остальные таблетки, устало отмахиваясь при этом натруженной рукой. Гыза взвивается, потеет — и вот наконец тот самый момент: одно ухо у него отклеивается. И победно торчит перпендикулярно голове. Старушка приглядывается, крестится — и деру. А Гыза ей вслед еще долго орет, размахивает кулаком, возмущается, пока вдруг не наткнется на заинтересованные и сочувствующие взгляды зрителей. Тогда он убегает куда-то в недра своей аптеки, чтобы поменять скотч на новый или натянуть медицинскую шапочку на свои выдающиеся уши.
Люди качают головой и уходят, обсуждая, ведь какой дурак, ну? Всю свою уже не молодую жизнь мучается. А ведь с этими вот большими и оттопыренными ушами он был бы такой симпатичный и смешной, такой обаятельный! Ну если бы Небеса дали ему хоть толику чувства юмора. И добра еще. И влюбилась бы в него хорошая девушка. Потому что девушку, главное, что? Рассмешить! Если она рассмеялась, считай, все — твоя. И были бы у него сыночки-погодки. И стояла бы у Гызы в аптеке фотография в рамочке: он посередке, а по бокам его дети. И все трое улыбаются, солнышко сквозь уши просвечивает, свободолюбивые, обаятельные, лопоухие.
И если вы думаете, что я вру, то не думайте. Нет, вру, конечно, но не совсем. Такой человек у нас есть. Правда, работает он не провизором, а в другом месте. Во Дворце бракосочетания. Церемониймейстером. И он ведь уже несколько торжественных церемоний сорвал. Только начинает завывать торжественно, а одно ухо у него — ты-дынц! — и уже. Торчит. И невесту уже трусит от смеха. И жениха всего колотит. И гостей. Нам всем его очень жаль.
Да и других наших странных людей нам очень жаль. И обращаемся мы к ним не потому, что мы идиоты, а потому, что мы их всех: и псевдолекарей, и психоаналитиков, и дизайнеров, и потомков кровавых французских герцогов — хотя и немножечко жалеем, но очень любим. Потому что жизнь без них скучна и однообразна.
Да и этого моего рассказа, который, надеюсь, вы дочитали до конца, без них бы точно не было…
Грыгоровыч и Филюнин
Обожаем мы друга нашего, Грыгоровыча. Как ни приедем, так он нам историю интересную подкинет. И хоть киносценарий с нее пиши, и все тут.
Вот, например.
Грыгоровыч наш свою хату оставил старшему сыну и его семье, а сам купил себе домик поменьше в нашем городке, почти рядом со своей заставой, где всю жизнь проработал старшиной. И только переехал, только устроился, начались неприятности, откуда не ждали.
Короче, смотрите.
* * *
Бабки на лавке рядом с амбулаторией друг друга локтями толкают, мол, глядите, глядите, опять Филюнин, сосед Грыгоровыча, в контору к участковому побежал.
В конторе:
— И главное — что?
— Что? — спросил участковый.
— Водка у ево резиной пахнет. Потому что — что?
— Что? — опять спросил участковый.
— Потому что ворует. Выносит в грелках.
— Где ворует?
— А хто ево знает хде. Может, и на заставе… — покачал головой Филюнин. — Но точно ворует. Он же ж мне наливал, когда первый раз в свою новую хату входил. Налил мне, себе, а потом кошку в хату впустил. А она резиной воняет.
— Кошка?
— Водка!
— Слушай, Филюнин, а Филюнин? Прекратил бы ты стучать. Какой же характер у тебя вредный и неугомонный. Вон и сына научил. Уже весь детский сад жалуется, что он всех щиплет. Уже не только детей, а недавно нянечку, мою тещу, ущипнул.
— А пусть он мне мой метр отдаст. Вдоль, — плаксивым голосом заскулил Филюнин. — Отрезал себе мою землю вдоль и засадил своими смородинами и крыжовниками.
— Да ничего он у тебя не отрезал, мы ж проверяли. Иди отсюда, Филюнин, дел полно, а ты голову мне морочишь.
* * *
— Слухай, Диомидович, я так больше не могу! — жаловался участковому Грыгоровыч. — Филюнин сдурел совсем! То он забор двигал — три раза! Шурудел всю ночь, пыхтел, копал. А когда я с жинкой и детьми на свадьбу до кума в Молдавию уехал, так он, неуемный, свой забор вообще почти до моей хаты переставил. А когда я посадил между нашими дворами смородину, так он мне ее всю порубал. От же ж хворый на голову! Та ж не бытыся мэни з ным! Воно ж худеньке, малэнькэ, ще й пье. А подохнэ?
— Не знаю, Грыгоровыч, до тебя в той хате учителя жили, так повтикалы — Филюнин их довел, требовал в десять часов свет в хате выключать, потому что ему в очи светит, и он спать не может. Ходил туда, в окна подглядывал и стукал. И ничего не помогало: ни уговоры, ни угрозы, ни шторы плотные — ничего. Затемнение повесили, знаешь, как в войну, не дай боже, так летом же ж хочется воздуху. Кислороду…
— Ладно, — Грыгоровыч встал, снял с вешалки кепку, — не можешь повлиять, Диомидович, я тада сам.
— Э! Э! — Участковый потянулся всем телом из-за стола вслед за Грыгоровычем. — Ты там без криминала, а то вон у тебя под яблоней — бутыль водки закопана. Ворованная.
Грыгоровыч резко повернулся в дверях, бессильно развел руками и помотал головой:
— Диомидович! И ты? Не водка, а вино домашне. На свадьбу младшему… И не бутыль, а бочка! И не пид яблоней, а пид грушею. От же ж!
— А что ж ты ему наливал? Самогон?
— Якый??? То ж виски! Виски! Знаешь такэ?.. Так. Всэ. Воювать так воювать.
Грыгоровыч сплюнул и вышел.
* * *
Ну что тут можно сказать? А вот…
Прошло полгода.
Грыгоровыч наш мужик мудрый, терпеливый. Дождался-таки, когда Филюнины уехали на несколько дней. А у Грыгоровыча брат есть, тоже Грыгоровыч, из Шешор, могучий дядько, еще больше, чем наш Грыгоровыч, такой медведь карпатский с бородой окладистой… Наш, значит, Грыгоровыч — старшина на погранзаставе, а брат его, ну который тоже Грыгоровыч, но с бородой, он каменщик, строитель, а главное — пасечник. И лекарь народный. Ну и всяко другое умел делать загадочное. Но не всегда хотел.
Да. И что они придумали: когда Филюнин с семьей в гости уехал к теще, залезли к Филюнину на крышу и в дымоходе… А-а-а-а! И в дымоходе аккуратно вытащили один кирпич, а вместо него установили пустую бутылку горлышком вовнутрь. Замуровали, заштукатурили. Ну и все. Теперь надо было просто подождать.
* * *
Филюнин приехал через два дня, и семья его тоже: жена — незаметная, как тень, сынок — худенький, вихрастый, конопатый, со шкодливыми глазками. Филюнин походил туда-сюда, носом поводил, что-то шагами померил между своим домом и домом Грыгоровыча, скривился, покачал головой.
— Ага! — покивал в свою очередь Грыгоровыч из-за занавески. — Давай-давай, чого ж, меряй, меряй.
Ну и вечер наступил. Спать пора. А тут ветерок такой поднялся. Обычный для сентября. Правда, для кого обычный, а для кого и не очень. Ночью у Филюнина дома вдруг завыло. То как зверь, как говорится, то как дитя. То вообще как непонятно кто или даже что.
Грыгоровыч краем чуткого своего уха слышал, как опухший без сна Филюнин утром рано ябедничал кому-то по телефону, что ночью выло, меняло интонацию, грозилось, что дом дрожал, что боялись спать, а утром все и прошло.
— Ну так да, — пожал плечами Грыгоровыч, бормоча себе под нос, — ветер же утих, воно и мовчыть.
Филюнин вызвал участкового. Тот пришел, понятых взял, опять же свидетелей, болельщиков набежало со всей улицы (болели-то, признаться, не за Филюнина, а за того, кто как зверь и как дитя). Протокол составили, еще участковый подозрительно косился на Грыгоровыча, а тот как раз на работу собирался, ремень затягивал, поглядывая в соседний двор, в свой «уазик» садился. Но ничего противозаконного не нашли. Люди стали шептаться, что «поро́блено и навро́чено», то есть что сглазили хату Филюнина.
— Это не ко мне, Филюнин. Это… — Участковый, уходя, пальцем незаметно погрозил Грыгоровычу. — Это ты сам разбирайся. Даже и не знаю с кем.
А Грыгоровыч посмотрел на участкового Диомидовича прямо, брови возмущенно поднял: «Шо? А я при чем?!»
* * *
На следующий день опять из открытого окна было слышно, как жена Филюнина, Орыся, женщина ранее совершенно безответная, выла и голосила, в точности как этот кто-то или что-то, потому что всю ночь протряслась от страха. И в доме страшно было, и на улицу еще страшней выйти, потому что неизвестно, где, откуда и кто воет.
— Зови батюшку! — кричала она. — А то уйду и сына заберу! Осточертел ты мне, Филюнин, осточертел!!!
Через пару часов во двор явился батюшка при параде, матушка благостная, ласковая на сносях, суровые три, одинаковые на лицо и платки, бабушки-певчие. Принесли два ведра святой воды.
— О, — обрадовался Грыгоровыч, потирая руки, — а у меня как раз выходной.
И уселся в садочке осеннем под облетевшим наполовину орехом за стол вареники кушать. Поближе к соседям, чтобы все видеть из-за кустов, все слышать. Как в телевизоре, только интересней, — смотреть, как эта процессия сначала вокруг хаты пошла брызгать, а потом уже внутрь все зашли и запели.
Одна, которая из бабушек-певчих, потом рассказывала, что сначала у них вообще конкурс был, кто пойдет, все ж хотели знать и видеть, что там у Филюнина в хате. А потом, когда всю хату покропили щедро, матушка, подпевая батюшке, по ходу еще интересовалась, мол, а тазики такие хорошие, где брали? А кто ремонт вам делал? А мебель из дерева или нет? А сколько стоит? Ну, словом, недаром пришли. Отобедали плотно, обсудили, что все это поро́блено, и пошли с миром, заверив, что теперь будет тишина и покой.
А вечерком, не дожидаясь полуночи, опять завыло-разгулялось. Причем под осенний ветер ревело зловеще и причитало конкретно, чуть ли не словами разными ругательными. Филюнину чудилось всякое. Он лежал без сна, одетый, и вдруг стал вспоминать, как ручку в пятом классе у Дмитренко Наташи украл, а свалил на Сокирку Петра. И Петра наказали. Не приняли в пионеры. А его, Филюнина, приняли. И Петро Сокирка подошел и сказал, мол, как ты можешь, Филюнин, носить красный галстук с нашим знаменем цвета одного после всего. А Филюнин только смеялся. Потом Филюнин стал вспоминать, как воровал картошку на огороде председателя сельсовета, и не потому, что картошка нужна, — и своей было достаточно, а так, из вредности, что он — председатель сельсовета, а Филюнин — нет. И соседям-учителям пакости всякие делал, кипяток под их виноград вылил, и виноград засох. И еще много другого… Когда стало светать, под яростный вой «Ка-а-а-а-а-а-айся-а-а-а!!!», он и впрямь почувствовал угрызение совести, слабое, правда, что напрасно он жалуется на новых соседей, мол, они его землю забрали. Но, когда совсем рассвело, подумал, а чего это вдруг, и все-таки решил, что они ему все равно должны метр. Вдоль!
* * *
Утром жена, безответная Орыся, молча повязала на пегие свои волосики платочек, синенький скромный, собрала вещи, взяла сына Эдика своего щипастого за руку и пошла со двора. К маме.
Филюнин поехал куда-то в областной центр и привез экстрасенса, мать Афинарину, полную такую даму в длинном синем пальто, в многочисленных косах разноцветных по всей голове, с жирно подведенными черным глазами, ногтями длинными кроваво-красными, острыми. И с филином на плече. Или совой. Живой. У забора опять собрались зрители, а тут батюшка с матушкой, как будто мимо проходя, густо плюнули Филюнину и Афинарине под ноги.
— Я, — сказала Афинарина, — «Битву экстрасенсов» выиграла, поня́ли? — обратилась она к Филюнину и ко всем вокруг, кто собрался. — У меня уже уровень в шоу-бизнесе. Я известная телезвезда. Так что гроши вперед!
Что она там делала, как плясала, крючки железные крутила в руках, дула во все стороны, карты раскидывала, топала, головой мотая и закатывая глаза, колокольцами бренчала и орала на кого-то невидимого, ножом в воздух тыкала! Ну кино, одним словом. Сова ее или кто совсем перепугалась, ухала, ойкала и везде со страху напачкала. А Филюнин, люди говорили, чтоб расплатиться с Афинариной, последнее из дому вынес и даже бегал одалживать по соседям, но мало кто ему дал, потому что злились все на его безнравственный характер и плохое поведение.
Короче, телезвезда денег много взяла, но не помогла. Дом дрожал по ночам, а то и днем, если прислушаться, по-прежнему. («Ветер-то осенний — это ж не легкий летний бриз, — ухмылялся Грыгоровыч. — Бывает, и сутками дует».) Люди к Филюнину, кто посмелей, приходили специально, как на экскурсию, — послушать, но удирали, крестясь. Голоса выли по всей хате. И еще казалось, особенно по ночам, что кто-то ходит и скрипит половицами. Филюнин перебрался в летнюю кухню. Похудел, сдал, пить не помогало — короче, не жизнь.
* * *
— Ну шо, — хлопнул себя по коленям Грыгоровыч, — а теперь можно и мне, — встал и вразвалочку пошел на территорию неприятеля.
— Здоров, Филюнин. У тебя, я слышал, проблемы, не?
Филюнин сидел хмурый, небритый, страшный от недосыпа. Посмотрел красными глазами, отмахнулся слабо, не ответил.
— Так это… Брат у меня родной в горах живет. Тоже Грыгоровыч называется. Знахарь он, травки всякие знает, мед опять же. Но и другое может. Можэ, вызвать його? Хотя он не всегда соглашается. Не любит он этого. Но я можу поговорыть.
И тут Филюнин всхлипнул, взрыднул, всплеснул ладошками, съехал спиной с лавки, грохнулся в пыль на колени и заголосил:
— Вызови, Грыгоровыч! Умоли брата сваева, все отдам. Хочешь — бери сколько надо метров вдоль, сажай что хочешь, хоть малину, хоть смородину, хоть что. Бери хоть весь двор. Помоги! Жизни нема-а-а!
— Так. Ладно. Ты, Филюнин, удались куда-нибудь на сутки. Чтоб тебя тут не было. И всем скажи, иначе не поможет. Брат мой зрителей ох как не любит, может повернуться и уехать. Поня́л?
— Поня́л, поня́л, — утирая слезы рукавом, шмыгая носом и суетливо подымаясь, ответил Филюнин, — все поня́л. Все сделаю. Все!
Филюнин за секунду убрался к теще своей. А Грыгоровыча брат, который тоже Грыгоровыч, для виду походил вокруг хаты, а потом залез на крышу, опять же для виду помотал там букетом сена, даже дым развел, чтобы любопытные соседи меньше видели, что происходит. Ну и вытащил бутылку из дымохода. А кирпичик на место установил. И заштукатурил быстро и аккуратно.
Денег Грыгоровыч, брат Грыгоровыча, не взял.
* * *
А Филюнин теперь — тихий. Как Грыгоровыч выйдет на крыльцо — кланяется в пояс. Не ябедничает. Нет, ну бывает, понесет его леший к участковому, натура, что сделаешь? Так участковый ему:
— Филю-у-у-унин!
И Филюнин все понимает, замолкает, успокаивается.
И мир, и покой, и тишина.
На речке, на речке-е, На том бережо-очке… Рассказы зимой
Мужчина моей мечты
Сначала осень, потом поздняя осень. И вдруг — оп! — зима. Но не со снежком и морозом, что тоже радость, а с ледяным дождем, со слякотью, с мрякой, как у нас говорят. И сразу в душе тоже мрак, и безнадега, и никакой веры в будущее — нет, ну разве будет когда-нибудь тепло, солнечно и весело? И тут же настроение — вниз, и аппетит — вверх, и с таким трудом сброшенные килограммы гурьбой обратно…
На речке, на речке-е, на том бережо-очке Мыла Марусенька бе-ге-лые но-о-жки…Ай, ну да ладно. Давайте лучше расскажу о Собинове. Лично я очень уважаю Собинова Леонида. Он — мужчина моей мечты. Почему? Сейчас скажу. Во-первых, потому, что, когда был призыв в армию во время Первой мировой войны, он не отморозился, не выпросил справку про плоскостопие, а честно призвался. И воевал, как все нормальные честные господа офицеры. А потом вернулся в свой оперный театр, чтобы гениально петь, и стал помогать бедным студентам. И не только советами, а конкретно: деньгами и едой. И даже Леониду Андрееву помогал. И вот еще — Собинов, оказывается, самородок. Он же учился на юридическом, ну и пел там в хоре. Потом даже где-то работал присяжным поверенным или кем-то еще. А по вечерам в свободное время продолжал участвовать в хоровом кружке. И уже только потом понял, что надо менять жизнь — вот молодец! — и поступил в музыкальную академию. Ну я без подробностей, потому что желающие могут найти сведения о нем в энциклопедиях и в «Википедии». Словом, по всем показателям, он был мало что гениальным певцом, так еще и просто хорошим парнем. Что очень важно.
На речке, на речке-е… на том бережо-о-очке…А почему я вдруг о Собинове? Моя бабушка Софья смотрела оперу «Демон» Рубинштейна в Москве. Очень давно. Бабушка еще была студенткой педагогической академии, которую возглавляла Крупская Надежда Константиновна, ну супруга того самого, вы знаете. Просто моя мама — поздний ребенок. Поэтому моя бабушка еще видела эту самую Крупскую. Да что Крупскую — она Собинова видела!
И вот моя бабушка Софья пошла в Большой театр на «Демона» — так она рассказывала моей маме, своей дочери. Собинов там исполнял партию князя Синодала. А кто пел Демона, бабушка говорила, но моя мама не запомнила. Но баритон этот, который Демон, был довольно крупный. Ну вы знаете — сила звука, диафрагма, то да се, короче, оперный должен быть толстым по умолчанию. Именно так считалось тогда. А у меня вообще закрадывалось подозрение — вдруг оперные просто любили навернуть пару-тройку котлеток с макаронами на ночь и это свое увлечение прикрывали профессиональной необходимостью, нет? Хотя кто знает?
Вон Монтсеррат Кабалье и сейчас всем своим ученикам советует поправиться. Представляю, как раньше в здании училища искусств при каком-нибудь солидном театре оперы и балета — два крыла. Одно — это оперные, второе — балетные. И вот с двух сторон при входе — весы. Там и там. И с одной стороны возглас педагога: «Иванова, опять поправилась на двадцать граммов?! Опять выпила воды на ночь?! Хочешь из училища вылететь? Растолстела!» А с другой стороны, из оперного крыла: «Сидоров! В чем дело? Почему похудел на три килограмма? Немедленно в столовую! Сколько раз повторять: кушай с хлебом! Макароны с хлебом. Картошку — с хлебом. Булочки — с хлебом. Тогда будет звук!»
А я, кстати, люблю оперных. Фактурные такие. Между прочим, сегодняшнюю оперу я не понимаю. Какие-то все худосочные. А вот раньше… Пятнадцатилетняя Татьяна Ларина садилась письмо писать — ножки стула прогибались. Татьяна боками со стула свешивалась, не помещалась вся, зато звук: «Я-а к ва-ам пишу-у-у-у…» — был божественный. А как выходила Виолетта в «Травиате» — бум-бум-бум из кулис — восхитительно! Толстая, роскошная, румяная, чахоточная.
На речке, на речке-е-е-е-е, на том бережочке, Мыла Марусенька…Ой! Что ж это я отвлекаюсь! Зима, что поделать. Зима…
Ну и вот об опере. Короче, моя бабушка Софья и ее подруга причесались гладенько, выгладили ветхие свои блузочки таким утюгом тяжелым, в который еще угольки надо было подкладывать, и пошли на Собинова. Прозвучала увертюра. И вот князь Синодал со товарищи в лохматых шапках спел про ноченьку темную, ветры послушные и собрался укладываться спать. А через секунду должен прилететь Демон, походить среди спящих, посмотреть сурово. Такие брови у него — черные, густые, хорошо приклеенные. Ну дальше все знают. Враги, битва, князь Синодал убит. Правда, убитый, поет еще довольно длинную и печальную арию практически с ножом в груди, как и полагается в опере. Люблю, ох люблю я эту оперную условность! Ну, короче, порезали там всех под красивую музыку Рубинштейна Антона Григорьевича.
Да. Так вот спел Собинов — Синодал про ноченьку, улеглись ночевать все его абреки художественно. Князь еще спел свое последнее «Там-ма-а-а-а-а-ар», а баритон, который Демон, — я говорила, — был очень большой. Короче, все уснули, и вдруг со страшным грохотом сверху, с левой кулисы, на проволоке или еще на чем, просвистело над сценой и свалилось нечто — испуганное, лохматое, с характерными бровями и крыльями за спиной. О! А это Демон так неудачно приземлился, оказывается.
Нет, бабушке говорили, что он обычно спускался плавно, должен был еще повисеть над сценой, вроде как сверху осмотреть этот узор из мирно спящих воинов, потом встать сначала на одну ногу, потом на обе, незаметно отстегнуться и начать обход лагеря своего соперника. (Демон же тоже в Тамару был влюблен, знаете?) А этот мало что со скоростью падающего бомбардировщика пронесся над сценой, так еще и ухнул с высоты, как гуманитарный груз для полярников. Даже пыль поднялась, несмываемая и непереводимая театральная пыль. Бабушка говорила, что в зале-то люди оказались интеллигентные, высокой культуры, поэтому смеялись и чихали тихо и незаметно. Так что ничего, Демон отряхнул брови свои, и публика ему все простила. А что не простить, когда пел он божественно, просто божественно. И все они пели божественно. Особенно мужчина моей мечты Собинов Леонид.
* * *
Да, зима, зима. И хотя много чего согревающего придумали люди, все равно грустно. Редко встретишь сейчас таких, чтоб и пел, чтоб и защитил, чтобы чужими дамскими духами не благоухал, домой придя.
На речке-е, на речке-е-е… на том бережо-о-очке…Как Миша и Сережа по Одессе гуляли
А в Одессе что было. Друзья мои, детские писатели и поэты Сережа и Миша, решили по городу погулять. «А давай, — Миша просит, — пожалуйста, Сережа, давай зайдем в какой-нибудь старый дворик, посмотрим, как там и что, осталась еще Одесса в Одессе или уже нет». Зашли: ах, красота! Картина маслом, как говорил артист Машков. Сережа хвать свою фотокамеру — и щелк-щелк! и щелк-щелк! Сережина жена, известный в Петербурге профессор Люся, сказала однажды, что Сережа никогда со своей камерой не расстается, даже во сне. А то вдруг сон интересный, а он без фотоаппарата. И вот во дворе этом, куда Миша затащил Сережу, белье — как для кино заготовленное, висит на веревках поперек двора, капает себе мирно, чей-то маленький велосипедик валяется и мячик сине-красный, впопыхах брошенный, с уверенностью что тут все свои и никто не возьмет. Галереями обвит весь двор, а на балконе стоит — ах! Мишка чуть с ума не сошел от восторга — высоченная, пышная, в халатик не помещается, и не холодно ей совсем, хоть и осень поздняя, маникюр ярко-красный, шевелюра иссиня-черная, кудрявая до плеч — о, чудо! чудо! Какая красавица огромная! Миша прижал кулачки к груди своей горячей поэтической, закинул голову, смотрит влюбленно, с таким восторгом и упоением, как будто присутствует при сотворении мира, ей-ей. А мадам стоит себе и ничего: курит, откидывая в сторону гладкую и толстую ручку с сигаретой. Выдыхает тонкой струйкой дым, вытянув ярко-красные пухлые губы трубочкой.
Курила, курила молча. Мишка застыл, любуясь. Она мрачнела, мрачнела от его взгляда, потом с силой воткнула окурок в старую металлическую пепельницу и, прежде чем вернуться в дом, мотнула полой яркого тесного халатика, перегнулась через перила и рявкнула очарованному Мише, другу моему и всемирно известному поэту, писателю и переводчику, прямо в его обалделую плавающую мечтательную улыбку: «С-с-сам корова! Понял?!»
На речке, на речке-е-е-е д-на том бережо-го-очке…А еще Сережа и Миша мне рассказали историю, которую, в свою очередь, им рассказали в Одессе. И я ее — эту самую историю — у них под рюмочку в хорошей компании и выцыганила.
Вот считается, что идеал гостеприимства, конечно, грузины. Что, разве нет? Да. Вы говорите «грузины», а подразумеваете «гостеприимство», вы говорите «гостеприимство»… Да.
Но вот однажды одесская семья пригласила в гости грузинскую семью. И грузины — а че там, конечно, и приехали. С детьми. А тут же надо соответствовать. Муж одесский бегает, билеты в театры покупает — кому на вечер, кому на детские спектакли, по городу водит, морские прогулки устраивает, пляжи лучшие, клубы, детям — горки, туда-сюда. А жена знай готовит. Да так, чтобы грузины поняли, что не одни они грузины в мире. Что в Одессе тоже есть дайбох какие еще грузины, хоть и евреи по маме. И по папе тоже.
Словом, думали, что гости на недельку приехали, ан нет… Время идет — неделя, две — муж уже хуже бегать стал, задыхается уже, а жена — вообще. Отпуск их уже к концу идет. Вместо отдыха на пляже или просто в саду с книжкой, она то на Привозе, то на кухне, то подает, то убирает. Вечерами широкие застолья до глубокой ночи, дети веселенькие, шумные, бойкие, визжат, перетоптали цветы, сломали кусты. И конца этому нет. Намекать «простите, а когда вы уезжаете?» — оскорбить в лице гостей весь грузинский народ, что вы…
Но вот наконец загорелые, отдохнувшие грузины с детьми скорбно и торжественно объявляют: «Все, дорогие наши. Мы… — голос грузина — главы семьи волнами пошел, — взяли билеты на паром „Одесса — Батуми“. На послезавтра».
«Наконец-то!» — мысленно возрадовалась принимающая сторона и, в свою очередь, тоже печально и тоже скорбно — да ладно! Чего врать-то — довольно фальшиво выдохнула. Но, почувствовав укол совести за свою неискренность, потому что последние три недели месяца просто не могли этого объявления дождаться, решили напоследок закатить прощальный ужин. Уже сколько она наготовила, нажарила, напекла. Но сил придавала мысль: «Все! Последний раз!» Она думала: «Вот уедут — сразу в кафе. А домой — только полуфабрикаты покупать. Хотя бы месяц без кухни. Буду лежать и пить холодный кефир. И все. Последний раз!..»
Наприглашали гостей: друзей, соседей, аккордеониста Сему позвали. Как широко гуляли, и песни пели, и здравицы провозглашали. И подарки вручали! А потом встал глава пригласившей стороны — уставший муж уставшей жены — и прочувствованно сказал тост, мол, как же нам жаль с вами расставаться, как же нам хорошо с вами было, мы же теперь стали одной семьей, ваши дети теперь — наши дети, наш дом теперь — ваш дом. «Как же мы теперь без вас?!» — напоследок взрыднул охмелевший от вина и радости глава принимающей одесской семьи.
И тогда глава приглашенной грузинской семьи расчувствовался, на глаза навернулись слезы, он помотал растроганно головой, кинулся через стол обнять своего названого одесского брата, потом утер слезы, вытащил из кармана билеты на паром, поднял их высоко вверх, чтобы всем было видно, и решительно пор-р-рвал их к чертовой матери!..
На речке, на речке-е-е, на том бережо-го-оч-ке-е, Мыла Марусе-енька…* * *
Я вот думаю, может, и неплохо, что зима? Отдохнем от жары, от желанных, но немного утомительных гостей, от комаров отдохнем, от громкой музыки из открытых окон, от запаха болгарского перца, что жарится в каждом дворе, от солнцем прогретой живой клубники отдохнем, от настоящих деревенских синеньких отдохнем, от яркой, не анемичной, не тепличной, огородной петрушки отдохнем, от огурчиков маленьких, с пупырышками, прямо с грядки отдохнем, от сандалий на босу ногу и шортиков-маечек таких смешных, коротеньких… Не-е-ет! Не надо! Пусть приезжают! Все, кто хочет, пусть приезжают. Но чтобы тепло, чтобы лето, чтобы солнышко и море, чтобы детский восторженный визг и поломанные кусты. И поздние застолья во дворе под орехом. Пусть. Лето. Скорей бы лето.
На речке-е, на речке-е-е… На том бере-жо-го-очке Мыла Марусе-енька бе-ге-лыя но-ожки…Леди Чертополох
Земную жизнь пройдя до половины и обратив взор свой в прошлое, я наконец поняла, что надежда встретить истинного полноценного рыцаря, надежда, из года в год то подымающаяся из пепла, то слабнущая, в итоге официально заявила, что она умывает руки.
Я лично рыцарей видела только в кино. И там они все время дрались, бились, сражались, состязались и воевали. А такой, чтобы не дрался и не воевал, то есть совсем небойцовый рыцарь, попался мне только однажды — в канадском мультике. И то рыцарь там оказался какой-то некондиционный: маленький, некрасивый и злой. И при этом с торчащим топором в голове. Он совсем не занимался своими прямыми рыцарскими обязанностями — не сражался за отечество, не волочился за дамой сердца, не искал кубок Грааля. Он просто болтался без дела по свету, плел интриги и совершал всякие глупости. С топором в голове. И не замечал вообще этот топор. Свыкся, наверное.
Я вот иногда думаю: почему некоторые мужчины у нас такие злые, завистливые и невоспитанные? Может, причиной тому — как раз вот эти невидимые невооруженному глазу топоры, торчащие из их голов? Топоры, с которыми они свыклись.
* * *
Вот я встретилась с подругами. А они мне, мол, что ты грустишь, что печалишься-то, ну как эта самая…
А я им:
— О-о-о, что вы понимаете, — говорю им, — это я пока еще печалюсь. А потом как соберусь с силами, да как повешу нос и как пригорюнюсь! И уже всю последующую жизнь свою буду кручиниться да кручиниться. А все потому, что, хотя я уже и перевалила серьезный возрастной рубеж, рыцаря в наших селеньях все нет и нет.
— Ну и нету, подумаешь, стоит ли из-за того грустить, печалиться, горюниться и тем более кручиниться, — успокаивала меня добрая моя подруга Надя.
— И вешать нос… — добавила добрая моя подруга Ира.
— Ну вот смотри, — стала рассказывать Надя. — Был у меня Антонов. Да? Двери в помещение передо мной открывал? Открывал. Даже когда мне не надо было туда. Под локоток держал? Держал. Цветы охапками? Дарил. Дрался даже из-за меня. Рыцарь, да? Да.
А однажды мы гуляли. И он свой пиджак накинул мне на плечи. И тут вдруг ка-а-ак затрясется все вокруг. У нас же сейсмически опасная зона. Нет, ну представьте: поздний тихий прохладный вечер. Мы гуляем компанией. Присели на лавочку в парке. Кругом фонари, свет сквозь листья дразнится, играет… — ох, эта Надя поэт! — И тут все вокруг как заходит ходуном! Мостик через речку подпрыгивает, деревья испуганно трепещут, и скамейка под нами как поехала!.. А самое страшное — фонари вдруг погасли и, как пьяные, стали качаться. Землетрясение. И кто-то из наших, самый сообразительный, крикнул: «Бежим! На стадион. Там нет электропроводов, там ничего сверху не упадет». И все, как по команде, сорвались и побежали. И мой Антонов, представь, тоже сорвался и побежал. Без меня… Сорвался, да. Только сначала сорвал свой пиджак с моих плеч и уже тогда убежал. А вы говорите…
— Кто говорит? — ей отвечает Ира на это все. — А я вот замуж было уже собралась. Уже и фата, и столовую сотрудников главпочтамта арендовали для свадебного ужина, и торты с двумя лебедями из безе, и холодец еще, и голубцы… И он забежал ко мне в гости костюм свой показать. Просто так пришел. Родион мой. И я ему кофе, себе кофе. А к кофе — внимание, девочки, — два глазированных сырка. Два. То есть вы поняли, да? Ему кофе, себе кофе и два сырка в шоколадной глазури. Так он спокойно оба развернул и оба съел. Даже глаз не поднимая. Так по-детски, сосредоточенно: «Ням-ням-ням. Чав-чав-чав». А потом поднял глаза и спрашивает: «Что?» И я ему говорю: «Все, Родион Чеглинский, свадьбы не будет». Ничего ему не объясняла. Ничего никому не объясняла. Но свадьбу отменила немедленно… Правда, — вздохнула Ирка, добрая моя подруга, — я за него все равно замуж вышла. Все ведь уже было готово — и лебеди на торте, и голубцы… Но я с тех пор на глазированные сырки смотреть не могу.
* * *
Послушала я моих девчонок и говорю:
— А поедемте, девочки, в Хотин, а? Там как раз Битва наций международная. Хоть посмотрим, какие они бывают, рыцари. Туда, — рассказываю я подругам своим, Ире и Наде, — в старинную, еще Ломоносовым упомянутую крепость, понаедут доблестные воины из разных рыцарских орденов Европы со своими верными оруженосцами, а также всякие сюзерены с вассалами, свободные лавочники, музыканты, колдуны, шарлатаны, фальшивомонетчики и легендарные разбойники, презревшие рыцарские идеалы. Думаю, не побрезгуют визитом в средневековый Хотин, — продолжаю я красочно и вдохновенно рисовать девчонкам перспективы, — и угрюмые пехотинцы — язычники неверные, и суровые коварные сарацины — испанские мавры, и турецкие копьеносцы, и мамелюкские кавалеристы-пустынники с острыми топорами, а также иные приземистые, кривоногие, зыркающие раскосыми дикими глазами из-под косматых самосшитых грубых колпаков друзья степей.
— Ну ладно, уговорила!
И мы поехали.
Ах, какая там была красота! Лукавые румяные, хмельные иезуитские монахи с тонзурами на маковках толпились рядом с таверной, держа огромные кружки то ли с пивом, то ли с элем. Вовсю причитала, рыдала и пела гайта, испанская волынка. Обернутый в рубище, под мостиком скулил нищий с глиняным горшочком, заполненным до половины деньгами разного цвета и достоинства. Смиренные безмолвные оруженосцы — юные светлоликие мальчики — готовили арбалеты, пики и гигантские мечи к предстоящему рыцарскому турниру. По крепости прогуливались девушки в настоящих средневековых одеждах, чепцах и мягких, ручной работы, сапожках или босые. На деревянных скамьях восседала знать в бархатных камзолах и платьях. По обеим сторонам древней, выложенной камнями дороги, ведущей к центральному крепостному замку, разместились жонглеры огнем, ремесленники, сокольничие с боевыми кривоклювыми птицами на жестких своих кожаных рукавицах, менестрели — исполнители заунывных баллад о любви и о тоске по родине. И главное, по крепости просто так, свободно и невозбранно, ходили, стояли или сидели верхом на роскошных породистых лошадях лучезарные рыцари всевозможных сортов, видов и обликов. В сверкающих на солнце доспехах они представляли весь спектр разнообразных рыцарских орденов со своими флагами, пиками, штандартами и гербами.
У меня даже дух захватило, и я потащила подруг поближе к ристалищу.
Всадники на всем скаку бросали пики в мишени, стреляли из арбалетов и рубили огромными мечами капустные головы, да так ловко, что верхние одежды отдающих во славу победителей турнира душу молодых весенних парниковых капуст летели в зрителей, повисали зелеными увядшими лохмотьями на ограде.
И вот шотландский рыцарь не удержал коня своего, на мокрой траве поскользнувшегося. Извернувшись, помчался конь туда, где мы стояли. И хоть была ограда высока и неприступна, для коня она представлялась лишь досадной легкою помехой. И все разбежались, а я, вцепившись в поперечину руками, глядела, совершенно очарованная, как дерзко, радостно и норовливо, хрипя и двигаясь боком, вырывая копытами дерн, играя мышцами, кося диким вишневым глазом, под лязг доспехов седока, неотвратимо надвигается на меня неизбежное. И видела я уже заголовки в Интернете: «Была затоптана конем шотландского рыцаря ордена Чертополоха».
В последний момент всаднику удалось развернуть и остановить коня — а скорее, так оно и было им задумано. Он открыл забрало, привстал в стременах, поднял десницу свою в тяжелой кованой перчатке в приветствии, а затем протянул ее к моему плечу. Я согласно кивнула и сняла с шеи свой любимый шелковый шарф, яркий летящий шарф ручной росписи. Подоспевший мальчик тут же привязал его на рыцарский штандарт.
Рыцарь еще раз поклонился и вновь направил своего коня к месту поединка.
— Достопочтенный Роберт Лермант, пятый герцог Дандар, кавалер ордена Чертополоха, — торжественно объявил глашатай, — против… (тут голос глашатая окреп) против! Черного! Рыцаря!
У мечты моей вырастали крылья: с Черным рыцарем, всадником без штандарта и других опознавательных геральдических знаков, готовился сражаться мой рыцарь. Мой собственный, личный рыцарь. Герцог Дандар. И готовился сражаться под сенью цветов моего шелкового шарфа.
Публика аплодировала и свистела. Девушки визжали от восхищения и бросали рыцарям букеты цветов.
Я отчего-то вдруг приуныла и пошла к выходу. Во-первых, чтобы не видеть, если вдруг Черный рыцарь выбьет из седла моего Лерманта, бьющегося во славу меня, избранной Дамы Сердца. А во-вторых — это вот еще страшнее, — если вдруг мой рыцарь, празднуя победу, пойдет в таверну. И меня пригласит, конечно. Да-да. И там возьмет, например, и… съест оба шоколадных сырка. Оба. И свой. И мне предназначенный. Ням-ням-ням. Чав-чав-чав.
* * *
Музыканты играли джигу, тоненькая девочка в ветхом суконном платье с ослабленной на груди шнуровкой, открывавшей легкую батистовую сорочку, закатила глаза в экстазе и неистово била в барабан.
У входа в крепость, рядом с большой декоративной бочкой, размякший на солнце, дремал дедушка, одетый в казака. На бочке готическим шрифтом было начертано: «Продам пчоли і мiд».
Заклятие Миши Мухи
Когда Миша Муха улетал, ну то есть должен был улетать самолетом в прекрасное далеко, он выставил на продажу свой дом. Ну такой неказистый вроде домик, один этаж, двора нет, садика нет, лавочки нет. А цена — ого!
— Муха, ты сдурел, Муха, совсем? Что за цена за этот сарай? — его люди спрашивали.
— Не покупай, — лениво огрызался Муха.
— Так я и не покупаю, — обижались и уходили.
А один, Бардияш, пришел. Глупый, а думал, что хитрый и пронырливый. И что аферист большой.
И Миша Муха ему сказал:
— Ты купи, Бардияш, ты не пожалеешь. Буду улетать, — таинственным шепотом добавил Муха, — что-то покажу. Ты купи-купи, Бардияш, не будь дураком, слушай. Увидишь, я тебе говорю.
И Бардияш купил, не думая. Потому что был дураком.
Ну я ж его знаю, Бардияша. Он был моим одноклассником. И, оценивая даже не уровень его образования, а его странные глупые поступки, наш учитель математики Владимир Иванович говорил:
— Между тобой, Бардияш Василий, и здравым смыслом — сто тысяч километров пути по бездорожью. Вы никогда не встретитесь.
А тут как раз мама Бардияша, которая была на заработках в Италии, потребовала вложить заработанное. Сказала купить дом. Но посоветоваться. Ну Бардияш и посоветовался. С Мишей Мухой, продавцом.
И в последний день, когда такси уже стояло у дома в ожидании, Миша повел Бардияша в подвал.
В темном сыром помещении из стены торчала тонкая трубочка. Под трубочкой на старой табуретке стояла трехлитровая стеклянная банка. В банку ме-е-е-едленно капало.
— Три капли, — торжественно прошептал Муха — Три капли в минуту. И не больше. Заклинаю тебя, Бардияш! А то будет плохо. Совсем плохо! Ты видишь, трубочка заклеена, оставлена ма-лень-ка-я дырочка. Должно капнуть только три капли. В минуту. И все. И получается трехлитровая банка в день. Этого для жизни достаточно. Заклинаю тебя, Бардияш, заклинаю! Если начинает капать четыре!!! — Муха даже побледнел от ужаса, закрыл глаза и прижал ладони к щекам: — Немедленно — заклинаю! — заклеивай трубочку и считай. Только три! Только три в минуту! Заклинаю!
Бардияш понюхал. Из банки отчетливо пахло спиртом.
— Посмотри на меня внимательно, Бардияш, — настаивал Миша Муха, — посмотри! Ты понял?
Бардияш посмотрел. Глаза его уже где-то мечтательно гуляли. Но он кивнул, что понял.
— Вопросы есть? — напоследок спросил Муха. — Тебя интересует — что, откуда?
Бардияш отрицательно покачал головой. Глаза его разгулялись вовсю.
Эх, Бардияш, Бардияш! Где он был, где был твой здравый смысл?.. Нет, прав был Владимир Иванович, ох прав!..
— Заклинаю, а то будет плохо! — громко из окна такси грозил Миша Муха. — Заклина-а-а-а-а-а-аю-ю-ю-ю-ю-ю… Только три-и-и-и-и-и! — Машина взревела и унесла Муху в прекрасное далеко…
Бардияш тут же бегом собрал по дому пустую посуду: банки, кастрюли, вазы. Снес все в подвал, достал перочинный ножик и… проковырял в трубочке большое отверстие. Оттуда щедро и ароматно полилось.
Буквально за сутки мастер цеха ликеро-водочного завода «Буковинский праздник» с удивлением обнаружил серьезную утечку спирта. Дирекция вызвала милицию. Следственная группа вызвала двух рабочих, которые аккуратно вскрыли плитку в цехе, и следователи пошли вдоль незаметной с первого взгляда «левой» тонкой трубки, которая привела их в соседний, стоящий за хлипким забором, неказистый домик. А дальше было дело техники. В подвале дома был обнаружен в хлам пьяный Бардияш, и пока он проспался, пришел в себя и протрезвел, Муха уже улетел. А Бардияш теперь сидит…
«Отдам осла в хорошие руки»
Если на столбе или заборе висит бумажка, значит, ее не просто так повесили. Ее повесили в надежде, что человек обязательно подойдет, прочитает, оторвет из бахромы, внизу листка нарезанной, номер телефона. Ну и, может, позвонит.
Я, например, всегда читаю такие объявления. Во-первых, человек же ждет. Чтоб ему позвонили.
Вон однажды мне несказанно повезло. На заборе увидела такое, написанное ужасно корявым почерком:
«Продаєсэ стара хата. Є кєрница и город. Питайте вуйну Марію або сусідів спитайте де вона подалася. Може за хлібом а може в дітей. Адреса: село Буджіука, вул. Головна та шо була Леніна номер 17 Але хата тепла є горище та підпіл. Або може в церкву пішла якшо неділя».
То есть продается старый дом (хата). Есть колодец («криниця» по-украински) и огород. Спрашивать тетку Марию или спросить соседей, куда она ушла: может, за хлебом или у детей. Адрес: с. Будживка, улица Центральная, дом 17. И добавлено, чтоб не сомневались, что дом теплый, есть чердак и подвал. И еще добавлено, что бабушка может и в церковь пойти, если воскресенье.
За этим вот клочком — какой характер, целая жизнь и судьба. История.
А когда-то давно я увидела на автовокзале еще одно объявление.
Первая строчка уже практически выцвела от солнца и растеклась по листу от дождей:
«Отдам осла в хорошие руки».
Вторая строчка была посвежей, видимо дописывали недавно:
«Готов обсуждать».
И третья — совсем свеженькая, видимо дописана вчера или сегодня:
«Могу доплатить».
Номер телефона и подпись: «Грыгоровыч».
Все. Упускать нельзя. Я немедленно сорвала номер телефона и немедленно позвонила. И сразу сказала, что осла взять никак не могу, но помогу найти хорошие руки. А в обмен приеду на него, осла, посмотреть и послушать про него историю. Идет?
— Та, конечно, приезжай, чиго уж там! — согласился Грыгоровыч.
Уточню. Это было в тот переломный момент, когда бывшие республики уже начали отделяться и разделяться границами, но страх и почтение перед даже самым мелким начальством и мода носить на праздники фанерные лопаты с портретами апологетов еще была.
Его звали Василий Алибабаевич, этого осла. Грыгоровычу его подарили маленьким осленком, когда Грыгоровыч был в Молдавии. На Пасху его пригласили к куму Октавиану Деомидовичу, начальнику местного отделения милиции. А в день Пасхи сами знаете: весело, пьяно и люди добрые — бери все. Дарят и дарят. Подарили Грыгоровычу несколько громадных заплетенных ивой бутылей вина, потом яблок пару ящиков, еще с прошлого года крепких, компотов всяких — персиковых, грушевых, всяких.
— Что ж тебе еще подарить, пока я пьяный? Ай, — говорит кум Октавиан, — есть у меня еще кое-что! Та ла-а-адно! Бери! От сердца отрываю, но ты, кум, такой хороший человек, Грыгоровыч ты мой! Эх! Бери!
И, заранее причитая от предстоящей разлуки, кум Октавиан заводит Грыгоровыча на задний двор, а там — ослица (Верещага по имени) и он — ослик. Стоит. Сердце сурового Грыгоровыча дрогнуло и зашлось. Плюшевый, игрушечный почти, глаза… ну как у Софи Лорен глаза! — фиолетовые мокрые чернильные капли, как будто он только-только плакал. Невинное личико, уши бархатные на башке — два, ножки стеснительно поставил, как первоклассница, — четыре. Крепенький сам, литое тельце, коренастый. «Ну повезло», — сразу подумал Грыгоровыч. «Ну повезло», — сразу подумал хитрый Октавиан, глядя, как Грыгоровыч растаял от умиления.
Хорошо, а как его через границу? Без документов, разрешения там, прививок, справок, паспорта, хоть он и ослик… Ослам тоже паспорт на границе нужно. И вообще… Это так Грыгоровыч засуетился.
Октавиан в ответ:
— А не вопрос. Как обычную вещь, крупный предмет обихода. Значит, так: запихнем его в скиф. Прицеп такой. А перед вашей таможней прикроешь его специальным тентом, вроде там у тебя типа вещь. А сбоку еще и яблочки, компотики везешь, такое все — покушать чтоб дома, чтоб детям. Ага! Ага! Скажешь, ну кум же подарил, ну!
У Октавиана, к слову, вообще был огромный опыт дурить таможню. Он в Дагестан однажды бритвы электрические повез. (В Дагестан. Мусульманам. Бриться. Ну!) И на них выменял черную икру. И в виде бонуса к икре ему подарили Верещагу. Так вот ее провезли тогда именно как крупный предмет, так что Октавиан знал, что говорит.
Октавиан проводил Грыгоровыча до самой молдавско-украинской границы. Заехали на украинскую таможню. Прикрыли Василия Алибабаевича сначала пледом, потом тентом, такой брезентовой крышей.
Но никто не учел, что Василий Алибабаевич заскучал сразу — как только выехали, у него случился сенсорный голод и дефицит общения. Лишенный компании себе подобных, то есть доброго милиционера Октавиана, его жены Гали-библиотекарши и еще мамы, конечно, Верещаги, ослик впал в уныние и затосковал.
А тут, рядом со скифом, регистрируя автомобиль с прицепом, остановились три таможенницы — Рита Рыжая, Рита Белая и Вера Теплая. Так звали ее, эту Веру. Теплая. Ну чтоб не путали ее с Верой Холодной, а то путали и путали все время. И дразнились: «Гас-с-пада-а-а… Вы зве-е-ери, гас-спа-ада-а-а…» Верка обижалась. Откуда ей было знать, кто такая Вера Холодная? Короче, веселые три дурочки такие в форме. И давай эти три девицы разговаривать и хохотать: весна, Пасха, новый замначальника, Максим, сын генерала, красавчик холостой, гы-гы-гы, хи-хи-хи! То да се. Ну Василий Алибабаевич из-под пледа услышал это все и только поинтересоваться хотел:
«Ма-а-ам, это ты там ржешь? Э?»
Только и всего!
А эти три оказались трусоватыми и сначала кинулись с визгом врассыпную, а потом посуровели и обиделись. И Вера Теплая грозно:
— А ну-ка, это что там у вас под тентом в скифе?
— Чего? Под тентом? А-а-а! Так это предмет обихода у нас там… крупный… — Грыгоровыч растерялся совсем.
А как только тент открыли, этот самый предмет, почуяв воздух свободы, как скакнет, как дунет обратно на историческую родину — только копытца дробно по асфальту: «Туки! Туки! Туки! Туки!»
А с той стороны уже кум Октавиан руками разводит. Мол, не получилось. Ниче, будем перегонять самоходом. Как движущее средство. Как «мерседес». Видно было, что добрый, но расчетливый Октавиан ну очень хочет от ослика избавиться, ну очень. И только потом Грыгоровыч понял почему. У него-то не было опыта сосуществования с ослом, а у Октавиана — был такой опыт!
Словом, за пару дней оформили все документы, взяли справки, перегнали ослика в Украину как транспортное средство. Грыгоровыч извелся, пока забирал его с таможни, — оно же упрямое, на него как тоска опять нашла по отчизне, он опечалился сильно и впал в ступор посреди дороги — еле выпихнули. Еще шутили, мол, транспорт встал, двигатель закипел.
Ослы, конечно, ослам рознь. Но. Их объединяет одна общая черта. Они безусловные, идеальные, полные, ну как бы это помягче сказать, отморозки. К сожалению. И если кто думает, что когда ослик подрастет, то станет поумнее, зря. К ним с возрастом ни сообразительность, ни мудрость не приходят. К ним возраст приходит в абсолютном одиночестве.
Василий Алибабаевич стал жить у Грыгоровыча. В курятнике. Он был еще маленький, чего нельзя было сказать о его голосе. Голос у Василия Алибабаевича был большой. Нет, сначала он смущался, глубоко и пронзительно вздыхал, качал головой, пхекал, покашливал. Потом стал потихоньку упражняться, а когда кто-то из домашних прибегал проверить, что происходит, он замолкал стыдливо. Но однажды в лунную ночь Василий Алибабаевич решил — готов. И пора! Ну и запел. (Он так думал, что это у нас песней зовется.) Усердно горланил несколько часов до рассвета, а утром во двор к Грыгоровычу пошли невеселые ходоки с соседних усадеб, к сельской тишине привыкшие. Не-не, только спросить. Будет ли так всегда, и к чему готовиться, и не хочет ли Грыгоровыч, чтоб это его животное, этого его вокалиста пустили на чебуреки и шаурму. Если так будет всегда. Не-не, пока… только… спросить. Да.
Ничего не ответил Грыгоровыч, только голову повесил и наконец понял, почему хитрый кум, добрый милиционер Октавиан, так настойчиво выталкивал и выпихивал Василия Алибабаевича с территории своего государства.
Но и это было еще не все. В ходе экспериментов оказалось, что Василий Алибабаевич молчит в двух случаях: когда ест и когда гуляет. С первым дело шло хорошо — ослик молотил, хрупал, чавкал, чмокал и наел себе круглое брюшко. Сено и комбикорм уходили как в бездну. Когда еда заканчивалась, семья Грыгоровыча узнавала по истошным крикам. Василий Алибабаевич верещал — ну прямо трагическая актриса: чуть ли не глаза закатывал, и руки заламывал, и одежду на себе рвал. И кто-то бежал задавать Василию Алибабаевичу овса.
Корм катастрофически заканчивался. По подсчетам Грыгоровыча, осел съел несколько гектаров пастбища и бюджет небольшого, но крепко стоящего фермерского хозяйства.
И тогда решили объединить первый случай (кормить) со вторым (гулять). Его стали выпускать на свободный выпас. И чтобы в жару ослика не хватил тепловой удар, Настя, дочка, надела на него шляпу, предварительно вырезав дыры для ушей. Ну а потом еще кто-то в шутку — галстук.
Каждый день с раннего утра и до позднего вечера он стоял рядом с домом на лужайке. Когда наедался, начинал орать. И кто-то из слабонервных соседей его потихоньку отвязывал. Василий Алибабаевич пускался бродить по селу, ходил и рассматривал все с огромным исследовательским интересом. Иногда застывал в раздумье с чрезвычайно сосредоточенным, обращенным в себя выражением на лице. К осени у него появились белые, как очки, круги вокруг чернильных глаз, выросла шоколадная гривка, лохматая челка и неопрятная реденькая бородка. И в таком виде — в очках, в шляпе и галстуке — он смотрелся очень стильно. Почти как Челентано. В таком вот прикиде он и притащился на центральную усадьбу именно к началу праздника урожая (а село было богатое, красивое), на котором присутствовало областное начальство.
Играл духовой оркестр, стояли нарядные дети, девушки в вышитых сорочках готовились поднести областному начальству хлеб-соль, гости вскарабкались на трибуну, и тут вот, как раз ко времени, на площадь довольно разболтанной походкой, помахивая хвостиком, вышел Василий Алибабаевич. Напомню, нарядный — в шляпе и галстуке. Ну и опять же — очки. С самым кротким видом он постоял перед духовым оркестром, смиренно послушал музыку, мужественно продержался минуты полторы, крепился изо всех сил, но потом нервы его сдали, и… он запел. Обнажая крепкие громадные зубы, Василий Алибабаевич исполнил пылкое драматическое ариозо, и, когда оркестр нестройно замолк в замешательстве, осел поддал в голосе огня и закончил выступление соло оглушительным дерзким и омерзительным всхрапом. Потом он навалял теплую кучку под трибуной, где стояло ошалелое начальство с перекошенными лицами, и потелепался себе дальше, взбодренный и беззаботный. А самое ужасное в этом всем было даже не то, что притащился он на площадь, не то, что он переорал оркестр, не то, что он — кучку… А то, что все заметили — галстук на нем был такой же, как на председателе облисполкома.
Конечно, у Грыгоровыча начались беспросветные дни. Дружба с кумом Октавианом сразу дала трещину. Добрый молдавский милиционер назад брать осла не хотел, предъявляя всякие авантюрные резоны. А вскоре и вообще перестал снимать трубку телефона. Каждое утро к Грыгоровычу звонили или даже шли взбешенные и невыспавшиеся соседи с требованием отправить осла куда угодно — на родину, в зоопарк, на шашлык. Словом, подальше!
Грыгоровыч и сам понимал, что так дальше нельзя: ответственный праздник осел сорвал? Сорвал. Грыгоровыч опозорен? Опозорен. И лишен, между прочим, премии и ценного подарка — телевизора, который вручали в конце осени лучшим фермерам. А ослу хоть бы что. Стоило его привязать — и он опять драл горло, как пожарная сирена, а если его отвязывали, тихо просачивался на улицу и объедал цветы на клумбах, белье на веревках, портреты передовиков сельского хозяйства и наглядную агитацию рядом с сельсоветом. Ко всему прочему Василий Алибабаевич, войдя в пубертатный возраст, вдруг стал (как, впрочем, и все подростки, — нет разницы, ослиные дети или человеческие, уж вы мне поверьте) кусаться, как собака, и тогда Грыгоровычу пришлось повесить табличку на ворота: «Осторожно! Во дворе очень злой осел!»
И поскольку двор Грыгоровыча стоял на главной дороге села, то все проезжающие заглядывали проверить, не пошутил ли хозяин. Ну и некоторым, конечно, доставалось — Василий Алибабаевич, кусая за ноги, гнал гостя, косил глазом, как будто он вороной конь, и победно вопил. А иногда, если Грыгоровыч все же успевал выскочить навстречу непрошеным любопытным гостям, то получал: «И где тут осел? Вы, что ли, вуйко?! Гы-гы-гы!»
В этом была, правда, и польза: Василий Алибабаевич гонял со двора парней, которые за Настей увивались. Но и тут прокол случился — он Илюшу укусил, Илюшу, который Насте ну очень нравился. Можно сказать, полюбила Настя его. И вот от любимого — осел откусил кусок. От новых брюк. И Настя плакала — выгони его, выгони, продай. Но куда, кому?
И что же было делать — беда была в том, что Грыгоровыч уже полюбил этого идиота. Нежной, чуть ли не материнской любовью.
Но терпение все же лопнуло, и решение созрело, когда Настю приехали сватать. Так готовились — и покрасили, и подмазали, и вычистили двор, и все дверные ручки надраили, и украсили вход рушниками, как принято. А главное — Грыгоровыч упросил дальних соседей, которые трех коней держали, взять временно Василия Алибабаевича к себе на конюшню. Потому что все ведь сорваться может.
Приехали от жениха торжественно, на иномарках, со староста́ми. И цветы, и подарки, и видеокамера — чтоб, значит, все с самого начала снимать. Ну и завели: «Зычимо миру дому сьому і щастя всім, хто в ньому». Мол, желаем мира этому дому и всем, кто в нем проживает. Ну и потом: не пугайтесь нас, мы не военные, мы — мыслывци, то есть охотники. Вот беда: убежала от нас куница, а может, и лисица, а может, и девица. Мы-то что, а вот легинь наш… (Тут Илюша как пошел отвешивать поклоны налево и направо, и так обстоятельно — дело-то серьезное. Ох, как люблю я эти местные традиции. И нравится, что молодые их чтят. Это очень правильно.) Ну и дальше ведет главный, его у нас сватач называют, ну который сватает. Говорит он скороговоркой нараспев, но разборчиво, чеканно. Легинь, мол, наш страдает, просит мыслывцив, чтоб помогли поймать куницу, не то пропадет. Ну мы пошли по следу, в ваше село пришли, как называется, не знаем, но надеемся на удачу. След привел до вашей хаты. Добровольно отдайте девицу, а то силой брать будем. А легинь за ценой не постоит — «віддасть молодець повний гаманець». То есть кошелек, значит.
А тут и Настя вышла на порог, нарядная, смущенная, вся в новеньком, чистенькая, гладко причесанная. Грыгоровыч весь на нервах, но любуется — хороша девушка Настя, его дочка. И отличница — в университете учится по химии, и собой хороша, и вон рушники вынесла — сама вышивала. Гордится Грыгоровыч. А сватач опять к Грыгоровычу, мол, ну как? Отдаете или пусть пока еще подрастет? (Так положено спрашивать.)
А Грыгоровыч сдавленным от волнения голосом:
— Так нехай же ж Настя решает.
Настя зыркнула на отца недобро (еще бы — с его ослом кусачим можно и в девках было остаться вообще!) и с достоинством произнесла, опустив ресницы на пунцовые щеки, ответила, как и принято у нас:
— Ну, колы вин мэнэ хо́чэ, то и я його хо́чу.
Мы все здесь так отвечаем. И я так отвечала. Ну это обряд такой. На самом деле именно мы, женщины, выбираем, так ведь? Но дедовские традиции для нас — это все! Ну вот, и Настя согласилась.
Все обрадовались, калачами обменялись сдобными и облегченно выдохнули. Гостей пригласили в дом, усадили за стол, стали знакомиться поближе, угощать от всей души, и принялся Грыгоровыч гориво́чку разливать. Конечно, в таком напряжении про Василия Алибабаевича никто и не вспомнил. Ну а он, как вы уже догадались, выбрался очень легко и быстро, а там, может, и хозяева конюшни подсобили, от крика его можно же и ополоуметь. Короче, он вышел, отряхнулся, огляделся, шляпу и галстук поправил и пошел искать своих. Явился как раз к голубцам. И ведь все так развеселились, расслабились, что никто и не заметил, что эта скотина тихонько прошмыгнула во двор и уже давно ошивается под открытыми окнами и георгины жрет.
И тут на вопрос Настиной мамы отец жениха хвастает:
— Мы Илюшеньку нашего на всякие секции водили, он у нас мастер спорта.
А из-за окна, жалюзи прикрытого, пока тихо, но скептически и недоверчиво хохоток:
— Ага. Гы-гы! Йя-ха-ха-ха-а!
Никто, может, и не расслышал — только Илюшина мама. Она напряглась, поводила ртом туда сюда и сразу как-то поскучнела, надулась.
А Илюшин папа опять важничает:
— Илюша у нас пятерочник, сам в мединститут поступил, ничего не по блату, как некоторые…
А за окном уже погромче:
— Ага-аха-а-ах-ха-гы-гы-гы!
Тут уже всем как-то не по себе, только хозяева пока ничего не слышат. Или вид делают?..
А тут сватач поднимается и, бороду поглаживая, говорит:
— Так выпьем же слово наше крепкое! (Мол, что семьи договорились. Этот обряд у нас так и называется «пить слово».)
Тут уж вообще — эта скотина как разошелся, как стал реготать, подвизгивать, всхрапывать, ржать и похрюкивать. И оба Илюшины родителя переглянулись и давай из-за стола быстро выбираться, нервно отряхивая ладонями крошки с колен, мол, все — мы уже пойдем, раз тут над нами так изощренно издеваются.
У Насти истерика тут же случилась, ей нет чтоб заплакать, а она голову закинула и ну хохотать, остановиться не может и только повторяет:
— Я же говорила, я же говорила!
А осел еще громче голосит. Илюша кричит родителям:
— Сидите тут, оно нас не выпустит, покусает обязательно.
А родители ему:
— Не пара, не пара она тебе, вся в родителей она!
Такой ор стоит что в доме, что во дворе — удовольствие всем, кто подслушивал. И тут уже Грыгоровыч хвать кулаком по столу, вскричал и стал объяснять, умолять, заступаться, мол, вот! Смотрите — это ведь не мы! Это кум мой, Октавиан, мне свинью подсунул.
— Какую свинью?! — кричат Илюшины родители. — Свинья так не умеет!
— Ну не свинью, — Грыгоровыч в ответ чуть не плачет, руку на грудь. С бутылкой гориво́чки. Как наливал, так и держит. — Ну осла! Осла Василия Алибабаевича!
А Настя с ослом покатываются, гогочут дуэтом. Грыгоровыч к окну:
Вот! Смотрите! И — р-р-раз! — сдвинул жалюзи в сторону. И тут же — тишина. А в окне этот придурок. В шляпе и галстуке. Со скорбным, но кротким выражением на морде. И хризантему дожевывает меланхолично.
Вот с тех пор, именно с того вечера, и появилось на столбе то самое объявление. Потом, конечно, Грыгоровыч дописывал — люди-то в селе хорошо уже этого осла знали. И других предупреждали.
Ну нашли мы Василию Алибабаевичу добрые руки. Даже очень много добрых искренних рук. Потому что сейчас Василий Алибабаевич живет и работает в Доме ветеранов. Он, бывает, и детей катает, а когда надо, и молоко с фермы возит, и белье из прачечной. И часто его напрокат берут — что-нибудь перевезти. Он парень сильный оказался. Работает. И устает. Поэтому орет уже меньше. И кусаться перестал совсем. А если даже и орет, то старички только посмеиваются.
Грыгоровыч иногда тайком бегает туда: зацепится за забор и подглядывает, как он там, его Василий Алибабаевич, поживает…
«Потом дорасскажу…»
Не знаю, о чем этот рассказ. Может быть, он про катер, или про Геннадия, которого Лева выручил, или про жену Геннадия Тамилу Афанасьевну, или про гениального Леву. Но я вообще-то хотела про Леву.
Это же издевательство какое-то, этот Лева. Нет, он был прекрасный сотрудник, партнер. Истинный гроссмейстер в решении самых безнадежных проблем. И нарасхват. Только разговаривать с ним сложно. Особенно слушать. А так ничего. Он и сам говорит:
— Я найасхват. Я вейный как пес! Ты платишь, я тйюжусь. И все, что мне пойучили, делаю в сйок. Ехать так ехать. Йаботать так йаботать. Сйяжаться так сйяжаться.
Йаньше люди ведь как? Чтобы ноймально жить, они менялись жьятвой. Ты йаботал на спийтзаводе, он йаботал на сыйзаводе, тот йаботал на колбасной фабьйике. Кьюговойот жьятвы в пьйийоде. И какая схема? Ты хочешь стьёить дом? Звонишь мне. Я меняю спийт на сый, сый на колбасу, колбасу везу на кийпичный завод. А дуйочку-дочку дийектора спийтзавода устйаиваю учиться на косметолога. На тебе кийпичи, стйой себе дом. Один я бйал деньгами. Так что я один жил в Евйопе уже в пйошлом столетии. А сейчас вообще легко — все по телефону. Все. Кйьоме детей.
Ему говорят:
— Лева, ты замечательный, надежный человек, Лева, на тебя можно положиться, но с тобой очень сложно разговаривать, особенно по телефону, Лева, ну сходи же к логопеду. Лева.
А Лева отвечает:
— Некогда. А по телефону такое не йешишь.
А тут шеф его давний к нему обратился. Выдричуба Геннадий. Такой хороший парень. Ничего вообще не боится, бесстрашный как сокол. Но жена его Тамила Афанасьевна — это было такое издевательство в его жизни, практически такое же неизлечимое, как Левина дикция. Она, эта Тамила Афанасьевна, так достала мужа Геннадия, что не то что работать — жить не было сил! Только пить. Почему? Тамила Афанасьевна была очень разговорчивая. «Подумаешь!» — скажете вы. Просто вы не знаете Тамилу Афанасьевну! Она бубнила сутками. Ночью даже разговаривала. Потрясет мужа за плечо, слушай, Геннадий, я тогда не дорассказала тебе. И дорассказывает. Нудно, монотонно покачиваясь всем корпусом и поглаживая ладонями колени.
Обижать ее было неохота. Почему? Потому что, если ее обидеть, она еще больше будет говорить. И при этом очень громко. И пойдет соседям рассказывать. И маме своей будет звонить. И пересказывать тысячу раз одно и то же. И перезванивать опять подругам или маме: ой, я же не дорассказала тебе. И дорассказывает.
Почему так, Тамила Афанасьевна? Объясняю. Она работала в узле связи. С десяток лет старательно подслушивала разговоры абонентов. Ну как подслушивала. Нет, не по долгу службы. А по призванию. Она обычный оператор была же: «соединяю», «номер не отвечает», «ожидайте на линии», обычный оператор, которая 07. Короче, она подслушивала из любви к работе. Обожала всякие мелкие детали. Вслушивалась. Вникала. Иногда прямо голову теряла и подключалась к разговору, подсказывала ответы. Например, одна звонит своей подруге в другой город, почему у тебя блинчики получаются такие тонкие и при этом кружевные. А вторая говорит, не знаю, мне мама делает. Тамила Афанасьевна не выдерживает — р-раз! — подключается и говорит, потому что на дрожжах надо. Эти две, которые про блинчики, думают, что такое, кто это. А это Тамила Афанасьевна. Жаловались на нее, конечно. Но она ж была полезная на службе своей — и дело знала и, подключаясь, учитывала детали: все могла рассказать и дорассказать. Безвозмездно. А с эрой мобильных телефонов она оказалась не у дел. И теперь ей разговоров не хватает. И она разговаривает с кем попало. Спрашивает. Отвечает. Когда готовит на кухне — подробно рассказывает. Это сейчас положу, потом то насыплю. Рассказывает, как ходила в магазин, сколько заплатила, как на нее кассирша посмотрела. Сплетничает сама с собой. Всем надоела, люди под любым предлогом от нее удирают. У Геннадия попугай жил. Когда купили, знал только одно слово: «мент». А когда попал к Тамиле Афанасьевне, стал говорливый — чисто депутат. Потом того хуже, не выдерживал информационной и смысловой нагрузки — принимался головой о прутья клетки биться. И кричать «щас дорасскажу, Геннадий, щас дорасскажу», потом вообще: выбрал время, выбил дверцу, улетел. По-видимому, очень далеко. И спрятался.
Тамила Афанасьевна повсюду ходит за мужем и говорит ему: «Что расскажу сейчас, Геннадий». Рассказывает. Геннадий имя свое возненавидел. Один раз просто на рассвете, когда услышал «Геннадий», подхватился и на дачу уехал. Ну как уехал. Удрал. Как его попугай. Телефон отключил. Хотел в тишине. Его даже птицы в саду раздражали. Все казалось, что они: «Дорасскажу, Геннадий, дорасскажу». А потом показалось, что это «дорасскажу-дорасскажу» стало громче. Потом совсем рядом: «Дорасскажу». Опа! Сама Тамила Афанасьевна догнала, приехала. Дорассказать.
Вот честно, если бы не ее красноречивость, цены ей бы не было. Готовила — пальчики оближешь, откусишь и сжуешь. Еще попросишь. Чистота в доме, как в хирургическом шкафчике. Все выглаженное, все выстиранное. Живи — не хочу. И ведь не хочу, с тоской думал Геннадий. Начал соображать, как избавиться хоть ненадолго. Решил купить катер, выплывать на центр реки Днепр, там заглушать мотор и сидеть в тишине. Просто сидеть — не рыбачить, ничего. Потому что там, на середине Днепра, даже птицы не мешают, поскольку редкая птица… ну вы знаете, да. Или дорассказать?
Нашел и купил Геннадий рухлядь — старый адмиралтейский катер, вылизал его под бубнеж жены Тамилы Афанасьевны, мечтая — ничего-ничего, вот скоро выйду на середину Днепра, и тогда…
Но катеру, как выяснилось, нужен был мотор. Вообще, всеми покупками: катер, ремонт, покраска, мотор — занимался Витя. Помощник. Главный инженер когда-то где-то. Ой, я вас умоляю! Это было еще одно издевательство какое-то, этот Витя. Сколько на самом деле стоил катер, сколько стоил ремонт, сколько стоил мотор — никто не знал. И оказалось, что Витя установил на катер мотор от правительственного автомобиля «Чайка». Признался только потом. Логика, конечно, была в его действиях: катер адмиралтейский, мотор с правительственного автомобиля. Нормально, да. Если бы Витя так не пожадничал.
После ремонта перевезли катер из мастерской на Днепр. Запустили. Оказалось, что катер пил бензин, как верблюд воду. В жару. Спустя три месяца в пустыне. Пил-пил, пил-пил, заглох в центре Днепра. А поскольку редкая птица… Ну вы знаете. Потом дорасскажу… А телефон Геннадия остался на берегу, чтобы Тамила Афанасьевна не беспокоила. Так что сидеть на середине Днепра пришлось долго. Потом катер дал течь. Геннадий принялся вычерпывать воду. А Тамила Афанасьевна в это время добивала новостями, рецептами и сплетнями соседей по даче. Когда соседка повязала на голову мокрое полотенце, воспитанная — нет чтобы просто выгнать, — Тамила Афанасьевна стала делиться знаниями, как нужно лечить голову. Говорила: вот была у меня одна абонентка, она была врач по акупун… акупунктуре… Акупунктура это… ну потом дорасскажу. Короче, ей, этой врачихе, дочка звонила, значить, из Киева, так она рассказывала, на какие точки надо нажимать, сейчас вам покажу эти точки, сразу перестает болеть, и, даже когда у моего мужа Геннадия болела голова, а у него часто болела голова наутро… Ой, — Тамила Афанасьевна вдруг сообразила, что мужа Геннадия нет рядом целый день, кинула соседям «потом дорасскажу» и побежала искать. Нашла на берегу, куда притянули дырявое это корыто со злющим Геннадием на капитанском мостике в закатанных штанах. А Тамила, ну такая ж обязательная, убедившись, что муж нашелся, вернулась бегом к соседям дорассказать про акупунктуру, а Геннадию пообещала, что, как вернется, дорасскажет ему про новых соседей.
Геннадию посоветовали, ты к Леве обратись. Он достанет тебе нормальный катер, хоть американский, хоть какой.
— Айайаай! — Лева, пыхтя, сопя и переваливаясь, медленно обошел катер, который, как квелая рыбка, лежал бездыханный на берегу. — Как кьядут! Как кьядут! Айайа! Кьядут все! Но мало кто вам скажет, сколько он укьял. Пойадочные кьядут у госудайства. А мейзавцы! — кьядут у дьюзей. Что ж ты сьязу ко мне не обьятился? Хойошо, — Лева хлопнул пухлой ладошкой по проржавевшей обшивке катера, и там осталась вмятина, — я вам этот пьодам, а новый катей достану. Немного подождите. Недели тьи.
— Лева, побыстрей. Я хочу тишины, Лева.
— Понимаю, — Лева увидел идущую по направлению к ним Тамилу Афанасьевну, — я вам пейезвоню, — шепнул он поскучневшему Геннадию и малодушно бежал. Ему вслед неслось: «Лева, куда вы? Я же вам не дорассказала».
Через три дня Лева перезвонил:
— Поздьявляю! Ты купил катей.
— Где он? — воспрял духом Геннадий.
— В Майами. На пьичале. Скойо будет.
Через две недели элегантный маленький катер покачивался на днепровском причале.
— Как, Лева?! Как?! — рассчитываясь с гроссмейстером, дивился Геннадий. — Ну продать, ладно. Но купить? За неделю?! Перевезти! Из Майами! Сюда?! Как?!
— Пьёще пьёстого, когда есть телефон, — пересчитывая купюры, Лева пожал плечами. — Я позвонил йавину Бейдичева. Йавин Бейдичева позвонил йавину Сайатова. Йавин Сайатова позвонил йавину Майами. Они — бьятья. Двоюйодные. И все. Ведь не пйоблема найти катей, Геннадий. Пйоблема найти честного человека. И он — пейед вами. Все. Мне пойа. Пейезвоню.
— Лева, ты всесильный, Лева! — пожимая на прощание руку, искренне восхитился Геннадий.
— Ойел мух не ловит! — кряхтя усаживаясь в автомобиль, попрощался Лева.
Геннадий был счастлив. Во-первых, новенький американский катер. Во-вторых, честный человек Лева. В-третьих — грядущая блаженная тишина. Прекрасная райская тишина: плеск воды и редкая птица долетит… Ну вы знаете. Что вам дорассказывать.
И уплыл Геннадий по Днепру куда глаза глядят. И ни одна «Жди меня» найти его не может. Откуда я знаю?
Так вот Тамила Афанасьевна повадилась ко мне ходить, рассказывать подробно… Вот опять пришла. Ладно, потом дорасскажу…
Города и люди (дорожные истории)
Посвящается Светлане Борте — человеку и воздухоплавателю с благодарностью за то, что она помогла мне победить себя Все имена и фамилии подлинныеБесформенную мою неосознанную мечту о том, что пора написать книгу о путешествиях, о путешествиях куда угодно, хоть в ближайшее село или на соседнюю улицу, Небеса поручили моим друзьям.
Их, к счастью, много. Они живут в разных городах, в разных странах, на разных континентах. И это именно их фантазия, их удивительные, идущие наперекор суетной жизни, идеи, и главное — их постоянное желание соединять хороших людей — были причиной этих немыслимых для меня подарков: неожиданных поездок и удивительных встреч. Например, Мєейлис Кубитс, начальник мира, успешный испытатель-практик такого понятия как дружба народов, зовет меня участвовать в проектах «Народной дипломатии», которые проходят в разных городах и странах.
Или Галя Рыбникова.
Она уже несколько раз приглашала меня выступать на конференции «Лимуд» в Кишиневе. Это такая еврейская школа, где учат всему, что не помешало бы знать любому хорошему человеку в нашей Вселенной. Всех желающих учат: взрослых, детей, бабушек и дедушек, младенцев тоже. У тебя не спросят, ты еврей или ты исландец, ты болгарин или ты киргиз. Приходи, приезжай, учись тому, чему щедро учат разные выдающиеся знающие дело люди.
Или шляхетный пан Юрий Ковальский, редактор киевского журнала «Радуга», и вся его редакция.
И другие, не менее прекрасные мои друзья.
Они меня зовут, и мне остается самое простое — соглашаться, ехать и записывать, записывать, записывать…
Кишинев
Костя-танцор
Водитель останавливал микроавтобус на каждой станции и шел визировать какие-то свои бумаги. Пружинистый, легкий, точный и тугой шаг. Шел ритмично, поводя плечами, покачивая игриво головой, как будто слышал музыку.
— Костя, ты занимаешься где-то?
— Что «занимаешься»? — не понял водитель.
— Ты танцуешь где-то? — спросила я, предполагая, что по вечерам он переодевается, идет в какой-то свой Дом культуры и репетирует в ансамбле, например «Жок».
— Да-а, — ответил Костя, выразительно подмигивая и опять поигрывая головой под неслышимую мной музыку, — очень танцую. Многа, — на ломаном русском продолжал Костя, — на свадьбы танцую, на куматрии (крестины) танцую, именины. А когда храм (то есть храмовый праздник) — силно много танцую. Сырбу танцую, джок, знаешь джок? Ы, валс танцую, танго́ ище танцую. Разный танцую таниц. А ты знаешь танцывать? — в свою очередь поинтересовался Костя.
— Ээээ, — неопределенно замялась я, боясь, что Костя сейчас заведет музыку посреди поля, щелкнет каблуками, и мы с ним пустимся скакать, радостно присвистывая, гикая и повизгивая.
(Если честно, я обожаю танцевать молдавские танцы. Но у нас их почему-то танцуют как-то очень мрачно и солидно. Ну вот, например. Встанут люди в круг, возьмутся за руки, держа их вверху, на уровне плеч, и двигаются ритмично под музыку с очень и очень серьезными, даже подозрительными лицами. Пока этот хоровод двигается, дамы могут рассмотреть наряды друг друга, а кавалеры могут рассмотреть дам. Ну это, как правило, в начале торжества. Наверное, потом лица гостей веселеют, но я в это время уже смотрю второй сон, ухожу с таких мероприятий рано.)
— А кум текямэ? Тебе как имя? — Вот что мне нравится, что водители автобусов называют меня на «ты», как бы по умолчанию приравнивая мой возраст к своему, и это мне очень льстит. Или они ко всем так обращаются? Ну да ладно.
— Марианна, — отвечаю и волнуюсь, потому что водитель чуть ли не всем корпусом повернулся ко мне, а на дорогу не смотрит.
— Щаз! — многообещающе кивнул он, порылся в коробке с дисками и, выудив один, вставил его в дисковод.
В динамиках прозвучало бойкое вступление, и сладкий мужской голос запел весело про Лилиану и Мариану, как я поняла, о двух красавицах и о том, кого бы ему выбрать. Костя же водитель, как только включилась музыка, вообще сдурел — стал подскакивать на своем сиденье, крутить и махать то одной, то другой рукой в воздухе, отплясывать верхней половиной своего веселого молодого туловища и подпевать, время от времени поворачиваясь ко мне, подмигивая, мол, ну как я тебе, а? фрумушика, а (то есть красотулечка)?
Весь автобус, набитый пассажирами до отказа, с осуждением на меня уставился, мол, довела человека, ополоумел совсем, теперь неизвестно, куда приедем и приедем ли. К счастью, мы въехали на границу между Украиной и Молдавией, водитель с сожалением выключил музыку и посуровел.
К автобусу подошел молодой пограничник с изумительной красоты овчаркой. Она взыскательно оглядывала автобус, обнюхивала багаж, искала оружие, наркотики и что-то там еще запрещенное. «Надо же, — говорю кому-то, — какая дисциплина, ни на что не отвлекается, слушает только команды кинолога, напряженная, спина ровная, вытянута как струнка, уши торчком, хвост в линеечку». Ничего не обнаружив, кинолог и собака ушли в сторонку, все равно строго на нас поглядывая, чтобы мы не расслаблялись. Я думала, что ж он так жестко с овчаркой. Но кинолог, как будто услышал мои мысли (а там кто знает этих пограничников, может, они и мысли слышат), потрепал собаку по лоснящемуся пушистому теплому загривку и отдал команду «сидеть». И вдруг собака, не подчинившись приказу, сделав самовольно всего лишь шаг или два, тесно прижалась головой к ноге кинолога, потерлась мордой о камуфляжные его штаны и так замерла, прикрыв глаза. Кинолог, не глядя вниз (как я поняла, у них этот ритуал происходил уже не в первый раз), перенес руку на крупную умную собачью башку. Погладил ласково и по-детски. Еще погладил. И мягко повторил: «Сидеть, Мальчик. Сидеть». Мальчик подчинился и сел на хвост столбиком, ровненько поставив лапищи, вывалив язык и не сводя шоколадных человеческих преданных глаз с кинолога. Любовь. Верность. Дружба.
— У вас есть антиквариат? — поинтересовался таможенник, раздумывая, открывать мою сумку или нет. И спросил так, как будто ему срочно надо: то ли для отчета, то ли для подарка. То ли просто посмотреть. Мне очень хотелось его выручить, но из антиквариата в тот день среди моих вещей была только я и мои дорожные видавшие виды кроссовки. Ничего другого не было.
Мы въехали на территорию Молдовы.
Хоть легонько рукой
Рядом села тетечка, на колени усадила вместительную сумку, из недр ее принялась отщипывать что-то и кидать себе рот. Это что-то пронзительно пахло чесноком. И водитель стал оглядываться, сопя и фыркая, и ничего не говорил, потому что женщина была довольно пожилая. Но с очень хорошим аппетитом. Она все клевала и клевала что-то чесночное из своей неохватной торбы, и уже все пассажиры нашего маленького автобуса стали фыркать и тихо негодовать.
Наконец мы подъехали к какому-то месту, где стояли деревянные столики с лавками, а за ними небольшие торговые ряды.
— Тут можно кушать, — пригласительным жестом, обращаясь в основном к женщине, сказал водитель Костя.
И моя соседка, подхватившись, первой выскочила из автобуса, побежала к столу, уселась и там уже разошлась вовсю: подоставала из своих мешков всякого и так вдохновенно на все это накинулась — давай откусывать от того да этого, что я прямо позавидовала такой страстной любви к продуктам питания. Особенно в дороге, на пыльной остановке, не помыв руки и деля обед с мухами, осами, заползшими на стол муравьями и прочими насекомыми.
Когда мы наконец опять тронулись, тетенька, не успокоившись, вновь принялась клевать что-то таинственное с чесноком из своего мешка. Костя-водитель не выдержал, остановил автобус и, развернувшись, закричал на молдавском языке что-то не очень вежливое. Женщина оказалась не промах и ухитрялась орать и бурчать ему что-то обидное в ответ, не прекращая поклевывать из мешка. Костя вдруг крикнул на ломаном русском:
— Я не могу любить этат запах. Я — человек искусствий.
И, кинув взгляд на мое позеленевшее от запахов лицо, простер руку в мою сторону, вспомнив, с каким интересом на таможне пограничники разглядывали мои книжки, которые я везла на презентацию в Кишинев, сличали портрет на обложке с оригиналом и жали мне руку на прощание, вдруг выкрикнул:
— Она тожы чилавек искусствий! Да? — вскричал этот беспокойный милый парень, водитель-танцор. — Мы здесь все, — Костя обвел рукой всех пассажиров, — все людей искусствий!
Люди в автобусе приосанились. Костя опять ткнул в меня пальцем:
— Она про все написать в книга! Или в газета! И все узынают, как вы кушалъа устурой в мой аутобус!
Устурой, насколько я поняла, и был злополучный чеснок.
— Напишышь в книга? Да? — призвал меня водитель Костя к ответу.
— Напишу! — пообещала я.
Женщина то ли испугалась огласки, то ли, поскольку нечего уже было клевать, принялась клевать носом и валиться мне на плечо. И наконец уже совсем уютно устроилась на мне и захрапела. Подруга мне говорит, что любовь — это когда ты наслаждаешься даже тем, если к тебе прикасаются хоть легонько рукой. Вот родные любимые люди меня обнимают — мне очень нравится, я наслаждаюсь, значит, я их люблю. Внук Андрюшка дает мне в пути свою лапку, я просто млею от счастья, как я его люблю. Кошка Скрябин садится ко мне на колени и подталкивает головой мою руку — гладь — мне нравится, значит, я ее люблю. Даже знакомая ничейная собака Сириус вдруг касается ласково моей руки, и я понимаю, что я люблю Сириуса, ну недаром же у меня всегда припасено для него что-то вкусное. А эту вот чужую спящую женщину с хорошим аппетитом я совсем не любила. Но я ее терпела. Не знаю зачем. Не знаю, зачем люди терпят тех, кого не любят. Из вежливости? Из жалости? Как Ахматова — из уважения? Эту тетеньку я не любила. Не уважала. Жалела. Даже переживала за нее. Что вдруг испугается, будет стресс, начнется икота, вдруг поймет, что она одна-одинешенька, и ее никто не любит, даже я, случайная спутница ее, человек искусствий. Пусть лежит, подумала я. И тетенька, повозившись, спихнула меня совсем-совсем к окну, навалилась всем своим весом и заснула еще крепче.
Но с другой стороны, если бы не уселся рядом со мной такой колоритный персонаж и не испортил мне и другим пассажирам веселую с Костей-танцором дорогу в Кишинев, что бы я вам рассказывала сейчас, дорогой читатель?
Нет, ну наверняка бы что-то рассказывала. Допустим, о том, как Костя-водитель громко пел. Еще о том, какие веселые аккуратные домики стояли вдоль дороги, какие приятные люди попадались мне на пути и что многие дорожные указатели в Молдове — желто-голубые. А это цвета нашего украинского флага, что трогало душу до слез.
Человек дождя
Наконец я приехала в Кишинев. Шел дождь, и отяжелевший от сырости город устало наблюдал за моим прибытием, равнодушно думая: о, еще одна приехала. Чего приехала? Зачем?
Еще в дороге я поняла, что организаторы настойчиво звонят водителю моего автобуса Косте-танцору и интересуются, правильно ли он меня везет и когда уже наконец приедет, а то они заждались. Как только автобус проехал указатель «Кишинев» и остановился, меня немедленно перехватил веселый парень, вручил карточку с моим именем, усадил в свою машину и повез в отель.
— Что это такое? — без всякого «здрасте» спросил вдруг меня у входа какой-то белобрысый молодой человек. — У вас так всегда?
Я, поднимаясь по ступенькам гостиницы со своей сумкой без припасенного для таможенника антиквариата, но с рукописями для чтения вслух, с украинской цветастой кепкой для подруги Светы и парой книг, остановилась.
— Простите, что «всегда»?
— Я спрашиваю, у вас тут всегда такие дожди?
— У нас — нет, — честно замотала я головой, — у нас не всегда. У нас бывают густые туманы, а после туманов солнце, а дожди только осенью и то не каждой. А когда весной или осенью похолодание, — как на экзамене, подробно объясняла я, — это значит, в Карпатах выпал снег.
— Ну при чем тут?! — сморщил нос молодой человек. — При чем тут вообще Карпаты?!
— Я там живу. Поблизости. В предгорье Карпат, — растерялась я.
— Гуцулка, что ли? — не глядя на меня, вертя на пальце какой-то брелок, поинтересовался парень.
— Я?! Н-ну… Где-то… Как-то… Я… Вот…
— А я из Израиля.
— Аааа… — протянула я.
Молодой человек больше ничего не сказал, поднес мою сумку к стойке, потом спустился по ступенькам и растаял в сплошном потоке воды под раскаты грома и вспышки молнии. Нет чтобы подождать, пока пройдет. Загадочный. Больше я его за эти три дня не видела ни разу. Прямо какой-то человек дождя.
* * *
А в лобби случилось все сразу: на меня напрыгнули организаторы и давай хором говорить, знакомиться, улыбаться, пожимать руку, что-то вручили, дали карточку от номера, объяснили, повели, провели, привели, проверили, как и что, покормили, запутали окончательно и сказали, где спросить, если что. Там я всегда и спрашивала, потому что «если что» со мной случается в жизни довольно часто. И все эти организаторы, в основном молодые женщины, были — хотела написать «как из глянцевых журналов», но куда отфотошопленным глянцевым, искусственным моделькам до этих красавиц, — все эти женщины были невероятно хороши: Галя — чарующая, точеная, как специально созданная для романтического музыкального кино; Таня с ее пушистыми ресницами и восхитительной широченной улыбкой, не унывающая и обворожительная; и очаровательница Люся — да вообще такая красавица, что глаз не отвести. Ну и другие девочки были дружелюбны, милы, радостны, улыбчивы, нарядны и неутомимы.
А тут как раз в отель подоспела Света. Светлана Борта.
Когда ходили трамваи
Со Светой Бортой мы познакомились в Армении благодаря Мэейлису Кубитсу. Вообще, со многими красивыми, добрыми, умными людьми я познакомилась благодаря Мэейлису.
Мэейлис придумал… дружбу народов.
Нет, не то: официальное — чтобы флаги, национальные костюмы, марши, встречи на высших уровнях, фуршеты. Чертовы эти фуршеты. Что там еще входило в этот набор?!
Нет, он придумал другое: он предложил спасать будущее путем знакомства представителей разных стран, совместных концертов, спектаклей, литературных встреч, выставок, конференций, круглых столов, застолий и танцев.
Вот маленькая группа людей, скажем из Таллина, знакомится с маленькой группой, скажем из Одессы. Не суть где знакомится: на пляже, в ресторане или просто на площади. И первая группа людей говорит второй группе людей:
— Нам здесь у вас понравилось, в Одессе, вы такие гостеприимные. А давайте-ка теперь вы приезжайте к нам в гости. Мы вам страну покажем. И друзей с собой привозите. Интересных.
И вот поехали люди из Украины к новым знакомым в гости. Практически частным образом. Но взяли с собой музыкантов, певцов, писателей, чтобы хвастаться, мол, вот какое у нас есть.
Потом ответный визит: теперь вы к нам приезжайте. И группа становится больше, потому что тоже едут артисты, художники, целые оркестры едут, хоры!
Потом обе группы советуются и говорят:
— А давайте теперь вместе куда-нибудь поедем, познакомимся там, подружимся, поговорим, даже выпьем по чуть-чуть в конце концов. Мы же друзья. Например, давайте в Армению. А?
— А давайте! — говорит Мэейлис, и уже те самые одесситы, и таллинцы, и наши друзья из других стран везут с собой в Армению своих друзей не только из Эстонии, Украины, но из Молдавии, из России, из Белоруссии, из США тоже везут.
И круг друзей расширяется. На прощальной вечеринке отплясывают все кому не лень — армяне, украинцы, эстонцы, американцы, молдаване, белорусы. И евреи танцуют. И россияне отплясывают. Наши. Под радостную песню про паровоз. Нет. Не «Чаттанугу, чу-чу» танцуют. Зачем. Под нормальную песню. «Семь сорок» называется.
Теперь все эти люди, которые вообще перемешались и только по акценту угадывают, кто откуда, сидят вокруг расстеленной Мэейлисом огромной карты мира, рисуют стрелки и решают, куда кинуть новые десанты, в какую страну, кто откуда, кто чем, кто самолетами, кто поездами, автобусами, верхом, пешком, чтобы совместно играть в оркестрах или слушать вечную музыку, чтобы обмениваться новостями, чтобы хвастаться театрами, хорами, вокалистами, артистами, книгами, журналами. И чтобы на прощальном вечере опять отплясывать вместе «Семь сорок» или другой веселый танец, потому что ну очень понравилось!
— Почему? Зачем? — спрашивали Мэейлиса журналисты, уже набросав себе в блокноты что-то о спасении нравственности, культуры и вообще человечества как вида, что является истинной правдой на самом деле, — зачем ты это делаешь, Мэейлис?
— А мне интересно, — отвечает им Мэейлис Кубитс, как раз и имея в виду спасение. Спасение себя, души своей, спасение страны, своих друзей, друзей своих друзей и друзей тех друзей, и не совсем друзей, а просто знакомых и незнакомых — всех нас. Короче, спасение нашего будущего.
Не называя этого, не формулируя, он просто говорит:
— Мне интересно. — И добавляет: — НАМ интересно.
И остальные согласно кивают. И я тоже кивнула. И смотрю — сбоку стоит ясноглазая молодая женщина и тоже кивает-кивает-кивает. И говорит мне, улыбаясь:
— Привет. Я Света. Из Кишинева. Я люблю небо и читать.
Ну? И как мы после такого серьезного признания в своих симпатиях и этого нашего общего кивания в знак согласия с Мэейлисом могли не встретиться опять?! Разве такое можно было допустить? И мы встретились.
Чем Света занимается. О, Света занимается… всем. Практически всем. То есть она работает заместителем директора PR-агентства. Для меня это что-то вроде космических исследований — знаю, что они происходят, что кто-то геройски в них участвует, но что конкретно они делают, каких достигают результатов, я не имею понятия. Думаю, что Светино агентство, как и космическая наука, работают на будущее нашей планеты, ее людей, ее детей. Вот. И Света на вопрос «А чем вы занимаетесь?» ответила так:
— В данный момент заканчиваем фестиваль воздушных шаров и начинаем фестиваль коров.
То есть — стратонавт, подумала я. Хотя при чем здесь коровы? В общем, чем занимается — вроде понятно, а что именно делает — сплошная тайна. Примерно так. Ну что ж, я давно смирилась, что есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось, да.
— Света, — говорю набычившись, — ну ладно фестиваль шаров, а как это фестиваль коров? В столице?
А Света кивает и отвечает:
— Объясню. Только сначала пойдем покушаем.
И мы поехали в ресторан молдавской кухни.
— Мы только попробуем немного всего. А потом поужинаем плотно.
И мы стали пробовать, пробовать, пробовать. И это, и то, из легкого невесомого теста, все таяло во рту, было свежим, горячим, душистым. И когда мы отвалились и захотелось прилечь, Света спросила:
— Ну что? Давайте теперь поужинаем?
Это спросила, уточняю, женщина-подросток, примерно пятидесяти килограммов весу и тоненькая, тугая как пружинка, подвижная и точная в движениях.
— Ммммм, — взмолились мы, отказываясь, — нееет. Хвааатит!
А вот сейчас, между прочим, я бы и не прочь, сидя на диете. Вообще, удобная диета — по дороге объясняла я Свете — каждые два часа надо есть примерно такое количество еды, которое помещается в стакан. В стакан! (Это при моих-то способностях, когда, путешествуя, в маленький свой клетчатый саквояж я могу утрамбовать весь дамский будуар, богатый парк обуви на все случаи жизни — а вдруг пойдет снег? — и по два-три наряда на каждый день.) То есть кусок торта в стакан аккуратно нарезать, залить сгущенным молоком и присыпать орехами — та боже ж мой, легко! Или, например, несколько порций пельменей: аккуратно сложить каждый пельмень в стакан, как я обычно складываю одежду, например блузку, рукавчик к рукавчику, плечико к плечику, так и пельмень — ушко к ушку. И вот, пожалуйста, две порции пельменей с лососем плотно утрамбованы в стакан. Нет, договор был — еда помещается в стакан? Да. Все. Так что диета сомнительная, честно говоря. Ну да ладно, я отвлеклась…
Короче, мы еле выползли из-за стола, придерживая руками и коленями животы, и на прощание я потрепала в холле ресторана дружеской, братской практически рукой… Нет, не официанта, хотя он был очень мил. Я потрепала лошадь, красивую тонконогую стройную лошадку, сплетенную из лозы. Думаю, ее специально там поставили, чтобы люди могли выразить свою благодарность за гостеприимство, потому что морда у лошадки была хорошо отполирована руками сытых и довольных посетителей. Как граждан Молдовы, так и их многочисленных заграничных гостей.
Назад мы поплелись пешком. Кишинев, какой-то на первый взгляд тесный, с узкими тротуарами (я же сказала — на первый взгляд!), кривился, грустил и все еще был мной недоволен, пахло мокрой землей, баней, суетой, долгим и скучным дождем. Бежали навстречу озабоченные люди, задевали липкими от влаги локтями меня, праздно идущую и чужую. На проезжей части пробки, на тротуарах не протолкнуться: зонтики цепляются за мою макушку — словом, столица, безликая, измотанная, озабоченная.
— Где же южное настроение? Где радость? Где сияние? Обещанный юмор где? — спросила я Свету. Я не привыкла так долго ощущать себя чужой в городе, где живут любимые мной люди. Каждый город для меня имеет свое лицо. Москва — это моя сестра и Слава Х.; Киев — это шляхетный князь Ковальский и весь его журнал «Радуга» во главе с Галей, Галиной Михайловной; Таллин — это, конечно, Мэейлис Кубитс; Лондон — это Роберт Максвелл и его четыре трудолюбивых брата; Париж — это Таня и ее муж Борис, чистокровный француз; Ереван — это Лилит Меликсетян (между прочим, профессор), Наринэ Абгарян, сестры ее и родители; Тбилиси — это Тинико Мжаванадзе, и муж ее Дато, и дети их: будущая звезда кино Сандро и маленький Мишка; Мельбурн — моя тетечка Фаина, одесситка, источник моего частого вдохновения, пусть она мне будет здорова. А в Одессе их сколько — родных моему сердцу людей!.. Да что там — каждый город мира имеет лицо моего близкого друга или родственника. А Кишинев почему-то меня не принимает. Хотя тут же вот она — Света!
— Оооо, понимаешь, вот когда в Кишиневе ходили трамваи… — вдруг грустно вздохнула Света.
А-а, подумалось мне, конечно. Трамвай, старый трамвай, — это признак даже не эпохи, а чего-то большего, что можно было сохранить для себя в любое время: неторопливости, приветливости, теплых добропорядочных отношений, когда люди уступали друг другу места, когда здоровались и обсуждали новости и цены, когда шутили и смеялись, когда переругивались беззлобно — как без этого, и всем трамваем воспитывали нерадивых пассажиров-подростков, где истрепанные сиденья пестрели выцарапанными пронзенными сердцами, где было знакомо все, как в одесском или черновицком трамвае моего детства.
Мы со Светой шли через парк, немного заплутав. Кишинев присматривался, прислушивался и постепенно открывал свои объятия — немного формально, неохотно, но встречные уже улыбались, помогали найти дорогу, кричали вслед, чтобы уточнить, куда идти покороче, сквозь ветви гигантских древних деревьев вдруг стрельнул по-хулигански лихо и внезапно молодой и ясный солнечный луч. Серая галка слетела с ветки и важно почапала по выложенной камнем тропинке, переваливаясь не спеша, оглядываясь высокомерно на нас, мол, учтите, дамы: червяки — мои, остальное — ваше. Знайте, чей это парк и кто тут главный.
— Ооо, ну вот, как я давно здесь не была, и как здесь все изменилось, — вдруг всплеснула руками Света, — какая тоска!
Светина тоска была вывалена горой на пустыре и состояла из срезанных и покромсанных в большие чурбаки громадных старых деревьев с полыми, изъеденными временем трухлявыми сердцами.
— Ну вот, — говорю, — даже и возраст не посчитать, все кольца годовые изъедены.
— Пойдем отсюда, — Света искренне хотела меня утешить, — вон там есть большой пруд. Все кишиневцы его любят, хотя он в последнее время зарос, исчезли лодки и катамараны, все меньше людей приезжает сюда отдыхать.
Мы подошли к пруду и причудливо отразились в воде. Света оказалась в отражении совсем маленькой девочкой, а я — юной студенткой, и, хотя здесь, в мокром парке, вокруг нас, кроме знакомой серой галки, больше никого не было, в ясном отражении за спинами девушки и девочки, которые стояли на самой кромке бетонного укрепления пруда, отразились радостные люди. Они сидели в пляжных ярких креслах и на клетчатых скатертях, покрывавших широкие деревянные столы, ели, пили, пели под гитару, там в отражении бегали дети, играли в бадминтон, целовалась парочка у фонтана, вокруг пруда поднимались вековые деревья, богатырские и кряжистые, раскинув крепкие сочные ветви с ярко-зелеными листьями. Я, не поверив своим глазам, махнула рукой, девушка, похожая на меня, в зеркале пруда улыбнулась, а девочка поменьше хитро прищурилась. Уходя, мы оглянулись на прощание. (Моя мама говорит, что можно оглядываться до поворота. И смотреть вслед уходящему тоже до поворота.) Я оглянулась: девочки в озере уходили куда-то в глубь парка, а им навстречу бежал и дзенькал радостно, по-детски кишиневский старый трамвай.
Девочка на шаре
И вот раннее утро следующего дня. Вместо доброго утра пробегавшие мимо меня или навстречу волонтеры считали своим долгом спросить:
— Ты кушала?
— Да-да, — рассеянно отвечала я всякий раз.
И, наверное, если бы я десять раз ответила, что нет, меня десять раз потащили бы вниз в кафе и стали бы кормить завтраком из трех-четырех блюд плюс десерт.
Поэтому я всем отвечала сытым голосом:
— Да, спасибо, я кушала.
Хотя по утрам я «кушаю» только кофе.
И вот под десятое «Ты кушала?» в многолюдное, голосящее, веселое, многоязычное лобби отеля, в широкие входные двери вдруг вплыла в облаке хрустящей небесной свежести Света Борта. И глаза ее светились ярко, искристо, как будто изнутри в Светиной голове включили маленькие фиолетовые фонарики. У Светы глаза и вправду фиолетовые. На солнце — светло-сиреневые. В тени — густого цвета персидской сирени. Такая Света.
Она вплыла — именно легко вплыла, как будто парила над полом, или как будто только что влюбилась.
Я ей говорю:
— Здрасте, Света, вы что, влюбленная, что ли, Света?
И смотрю на нее во все глаза — что с ней такое, цвет лица, как будто ей восемь лет, как будто она из той дальней фиолетовой планеты красивых девочек в ярко-желтых майках.
Так вот я ее спрашиваю:
— Света, вы что, с неба свалились?
Она говорит:
— Да. Только не свалилась, а плааавно спустилась.
Тут кто-то пробегает мимо нас и мимоходом спрашивает:
— Ты кушала?
— Да! — хором заорали мы.
— Я кушала… — мечтательно начала Света, и глаза ее фиолетовые были где-то там, далеко и высоко, она вдруг тряхнула головой, — ой! То есть я не кушала, я… летала. Летала, понимаете? В небе. На воздушном шаре.
Вот вы мне скажите, дорогие друзья, что вы делаете, когда приезжаете в другую страну, в незнакомый город, а под отелем стоит автобус и всех приглашают на экскурсию? Вы берете фотоаппарат, блокноты, садитесь в автобус и едете смотреть город, шастать по музеям, фотографировать памятники, посещать дворцы и крепости.
А что делает… я?
Я… делает вот что — заказывает кофе, плотно усаживается в кресло, напротив сажает интересного собеседника, задает ему вопросы и слушает, слушает и слушает.
И вот передо мной исключительно интересный собеседник Света. Поскольку, как выяснилось, ее увлечение — летать.
— Ну что вы, — говорит Света, — это разные вещи, разные ощущения: самолет и воздушный шар. Самолет — это транспорт, цивилизация, это конструктивизм, экономия времени, современность, темпы. Это боязнь, конечно. Это дискомфорт при взлете, при посадке, если летчик не очень опытный или не очень аккуратный. А воздушный шар — это наслаждение, чародейство, приключение, авантюра, путешествие, вояж, странствие, романтика.
Когда ты подымаешься вверх на воздушном шаре, понятие времени перестает существовать. Ты поднимаешься мягко, не чувствуешь практически отрыва от земли — ты же там стоишь! На твердой поверхности. И вот ты, стоя на твердом, поднимаешься в небо, а там такой воздух, озон, прохлада, иногда даже холод. А внизу — неизвестно какое время, какой век — то ли динозавры носятся меж папоротников, то ли конкистадоры завоевывают племена, то ли сумасшедший цезарь обманывает и растлевает свой народ, то ли чья-то королева награждает подданных своих за победу, то ли дымят костры инквизиции, выпускники школ сдают единый государственный экзамен на право поступления в высшее учебное заведение. Путешествие на воздушном шаре расширяет и продлевает твою жизнь и дает тебе силы любить, понимать, терпеть, прощать. Всех.
— И часто вы так?
— Когда нет сильного ветра.
Нет, ну нормально? Я всю жизнь прожила, тупо толкая пятками землю, а тут человек с фиолетовыми глазами встает каждое утро в четыре утра, мчится на специальное поле и, если нет сильного ветра, садится в специальную корзину, над которой шумит горелка, которая питает гигантский воздушный шар, и взлетает. И путешествует там в безвременье, и возвращается юной и свежей. Как будто там, в небе, обменяла себя — утомленную и настороженную мать семейства — на себя же, но юную, беспечную и веселую. А бывает, что и тащит туда своих друзей, друзей своих друзей, группы детей. Устраивает сюрпризы для девушек, когда юноши в небе вручают своим невестам обручальные кольца и делают им предложение. И девушки — все — соглашаются. И не потому, что некуда деться из шара — ну не спрыгнешь же — а потому, что там, наверху, человек виднее и понятней. Собственно, как и в горах. Парня в горы тяни, рискни, там поймешь, кто такой. Так и в корзине воздушного шара.
— Ну да, — соглашаюсь я, — вы поднимаетесь к небесам, наверняка разговариваете с ангелами…
— Бывает, — отвечает Света и с хрустом надкусывает зеленое крепкое яблочко, — а вообще-то лучше просто молчать. Там, вверху на шаре, когда ты плавно летишь, практически плывешь над землей, лучше молчать, потому что и так все ясно.
— Что ясно?
— Что? Что мы ничего, ни-че-го в этом мире не понимаем и ничего не поймем, потому что этот мир, живой и многообразный, спокойный, несуетливый и мудрый, создан не для нас. Что мы тут гости.
— Желанные?
— Да, желанные. Но гости. Так что лучше молчать.
— Ну да, — отвечаю, — молчание порой «понятней всяких слов».
— Это правда! — подхватила радостно Света, как я поняла, она тоже любит то, что я, обожаю я, — совпадения — и рассказала удивительную историю, нормальную божественную историю. Случай, которым наградили Небеса ее, Свету Борту, и сына ее Антона.
Мне никто не сказал
Ну вот. Когда Антон был маленький, Света искала для него детский сад. То есть детское дошкольное учреждение, как называет детский сад наша соседка, строгая Анталия Владимировна, бывшая сотрудница облоно, которую турнули с работы за то, что она воровала тетрадки в клеточку (она очень любила именно в клеточку), простыни, наволочки и пододеяльники из школьного общежития для спортсменов, посуду из столовых, ах да — еще много денег из бюджета. Чуть не забыла про деньги.
Короче, Света искала своему сыну приличное детское дошкольное учреждение. А там, куда Антон пытался ходить, в одном — его дети покусают, в другом — побьют, а в третьем месте — вообще воспитательница рычит и дергает детей за руку, как Баба-яга, а когда тихий час, сама заваливается среди детей в спальне и храпит, а дети боятся и писаются. И вот Свете посоветовали: сходи к психологу, у ребенка есть проблемы с речью — картавость там или что (собственно, я лично это проблемами и не считаю!), и устрой его в сад для детей с особыми потребностями, или как там — с некоторыми особенностями развития.
И Света устроила своего мальчика туда, в этот сад. С добрыми терпеливыми воспитателями, маленькими группами детей и размеренным ритмом жизни. Антону сад понравился сразу, он там стал посредником в переговорах между воспитателями и детьми, которые или не хотели с воспитателями разговаривать, или не могли.
У Антона там появился Витя-друг. Мальчики всегда были вместе, не разлей вода, много играли, общались, были довольны обществом друг друга, и с воспитателями Витя-друг тоже говорил через Антона.
Потом Антон пошел в первый класс хорошей математической школы, и дороги мальчишек разошлись. Однажды, когда Антону было лет десять, в каком-то вечернем разговоре Антон вдруг посетовал, мол, вот каникулы, а друзья все разъехались, и вспомнил, что лучше друга, чем Витя-друг, в его детстве не было. Света, помня, что Витя-друг был нездоров — у него были начальные признаки олигофрении, — спросила:
— Антош, а как вы общались?
— Нормально, — Антон на полу возился с конструктором, собирал паровоз и не поднял головы.
— А он тебя понимал? — осторожно продолжила Света, оторвавшись от компьютера.
— Да, — буркнул сын.
— А ты его?
— Ну конечно. А как бы мы с ним играли, ну, мам!
— А как вы друг друга понимали?
— Нормально, мам, мы ведь были друзья.
— Антон! — Света резко прокрутилась в кресле и развернулась к сыну всем корпусом. — Но он ведь не слышал и не говорил! Он был глу-хо-не-мой!
— Да? — Антон поднял на маму глаза: — Да? Я не знал. Мне не сказали. — Антон пожал плечами и опять принялся складывать свой паровоз.
Вообще, таких как Антон называют детьми-индиго. Молчаливые, в себе, понимающие, умные, загадочные и совершенно непонятные обычным гражданам, в частности учителям.
Ну вот как понять такой случай?
У Светы дома жила кошка. Прекрасная пушистая ленивая горжетка, любвеобильная как я не знаю. И каждый год в марте, отбегав свое, через какое-то время приносила котят. Котятки были красивые, тоже пушистые. Света помещала в Интернете объявление, котят разбирали. И вот однажды к Свете в дом за котенком пришли двое — папа с семилетней дочкой. Пришли выбирать котенка, предупредили, что хотят кота, то есть мальчика. А Света с Антоном как делали: выносили гроздь котят, спускали их на пол, и тот котенок, который побежит к гостю, тот, получается, и выбрал себе будущую семью.
Папа с девочкой сели в кресла, Антон ушел на балкон за котятами и принес одного, белого, причем кошечку.
— Ну, Антон, ну ты что? — смутилась Света и стала объяснять мужчине, что это бракованный котенок, альбинос, кошечка, причем она не слышит.
А котенок поковылял к девочке, забрался к ней на колени, затем по ее рукам к ней на плечо, свернулся там, прижался мордочкой к девочкиной щеке и затрещал от удовольствия. Девочка разулыбалась и как будто тоже замурлыкала.
А мужчина, к Светиному удивлению, страшно обрадовался:
— Отлично! Очень хорошо! Это очень и очень хорошо!
Мужчина и девочка, счастливые, под одобрительным взглядом Антона уносили бракованного котенка-альбиноса.
— Ничего не понимаю… — Света растерянно глядела им вслед, — котенка взяли. Глухого.
— А что тут непонятного, — ответил Антон, — девочка ведь тоже глухая.
— К-как ты понял?! — спохватилась Света. — Тебе кто-то сказал?
— Мне никто не сказал. Понял, и все.
Такой вот мальчик у Светы.
Я вот думаю, может, необязательно говорить им все, разъяснять, разжевывать, вдалбливать. Может быть, им легче все рассмотреть и понять самим. И не сомневаюсь, что поймут они правильно.
Правда, сетует Света, Антон летать не хочет. Ну это пока. Еще полетит. Полетит!..
Давиду, с сочувствием
После выступления гости подходили ко мне с моими книжками, я благодарно подписывала их, как правило «На счастье» или еще как-нибудь весело и простенько. И подпись у меня корявая, червяком, и смущаюсь я очень, не могу привыкнуть и, дай Бог, долго не привыкну.
И вот я подписывала, подписывала, подписывала, передо мной выкладывали раскрытую книжку, я смотрела в лицо своему читателю, спрашивала имя, потом отдавала книгу. Благодарила, брала следующую книгу. И вдруг поняла, что кто-то давно стоит, книгу придерживает на столе твердым пальцем. И вообще — что-то происходит не так, и повисло странное молчание. Оказалось, уже почти все ушли. Перед столом стояла большая очень красивая дама с недовольным лицом «где я, там скандал», со скривленными капризно губами. Я похолодела и поняла, что, наверное, она из тех, кто пишет на меня пасквили в Сети, ругательные рецензии, прочтя книгу до семнадцатой страницы, и вообще, лучше бы ей жить на планете, где меня нет. Или лучше, наоборот, отправить меня куда подальше.
— Я ващета, — глубоким сочным голосом сквозь зубы начала она, — вэшэ дэвнее пэклэнницэ. (Что означало «Я — ваша давняя поклонница».) И этэ я еще вэших книг не читэлэ (что означало «И это еще я ваших книг не читала»). Тэк, чудь-чудь, в Интэрнэте, — водя ладошками, как морской котик ластами, сказала недовольным тоном дама.
Я сидела и смотрела на нее снизу, как курица, которая не понимает, то ли голову сейчас оторвут, и надо удирать, то ли зерна насыплют в плошку.
— Купила вэшу книгу. Дороговато… Ну все равнэ пэдпишитэ! — командным тоном приказала дама.
— А как вас зовут, кому подписать?
— Подпишите «Давиду».
— Ко-му?
— Это мой муж! Его зовут Давид. Я возьму у него почитэть.
С облегчением я подписала книгу:
«Дорогому Давиду. С глубочайшим уважением».
Хотела написать еще «И с сочувствием», но побоялась. Не посмела.
И опять меня спросил кто-то на бегу, кушала ли я. И хорошо ли мне.
И я остановилась и даже не знала, что ответить, чтобы мне поверили, что мне очень хорошо и я ку-ша-ла!
Света Борта, стоящая рядом, решила меня выручить, указала на меня своей крепкой, закаленной в полетах рукой и подтвердила:
— Она мне говорила! Правда, ей здесь очень хорошо. И она точно кушала. Ей-ей! Она даже перекреститься может.
— Пэрэкрэститься?! Здэсь?! В шаббат?! — подала свой сочный внушительный голос подоспевшая красивая большая дама, моя «дэвняя» поклонница с книжкой для Давида, покачала осуждающе головой и поплыла по направлению к кафе. Кушать…
Вероника
Не знаю, стоит ли мне писать дальше о том, что происходило за эти три дня в Кишиневе. Со знанием дела написать не получится. Потому что я практически ничего не успела, разве только бросила все и пошла слушать Веронику Долину.
Вероника читала свои стихи. И пела свои стихи. И так честно читала и пела, как будто каждого, кто слушал, целовала сухими теплыми губами в макушку. Когда она заканчивала, мне хотелось молчать и чтоб была тишина. Но раздавались аплодисменты, а Вероника поднимала руку с вытянутым указательным пальцем, качая им осудительно:
— Не надо. Не надо аплодировать.
И когда какой-то дяденька из зала, прижав руки к груди, хотел что-то сказать — о своих впечатлениях там, о настроении — словом, поблагодарить, с надрывом и слезой в голосе призвал всех других слушателей присоединиться и стал шептать, мол, присоединяйтесь, присоединяйтесь ко мне, вставайте, Вероника сурово поглядела в зал над сползшими с переносицы круглыми, как у Гарри Поттера, очками и приказала:
— Нееее надо! совещаться! над моим! телом…
Что сказать. Настоящая. Классная. Красивая. Как говорит учитель мой: «Не глупого десятка».
Платье с пуговицами
А еще, еще… Времени не было абсолютно, а вот все равно очень хотелось мне познакомиться с одной таинственной девочкой. С ясным лицом и славной мальчишечьей челкой. Эта молодая женщина пришла ко мне на авторскую конференцию в изумительном платье с огромными, как совиные глаза, пуговицами. И так она меня пленила этими вот пуговицами и своим милым чистым лицом и подростковой этой совсем родной челкой и своим платьем, которое красиво и на приеме, и на пляже, и, как писала Анна Андреевна, на ветру, что я еще подумала — ой, не пропустить бы, потому что из всех моих знакомых только я люблю ходить с такими вот пуговицами, с такой челкой, а другие женщины строят из себя светских дам в локонах и фукают на такие платья и на такие прически.
И вот я говорю — времени у меня в обрез, ну хоть чуть-чуть, и я проскочила в зал, где проходила встреча с Леной. Я говорила, что Лена ее звали? Да, ее звали Леной, эту девочку.
Словом, я пошла на встречу с писательницей Леной Смеховой, и она (такая хорошенькая и пленительная в этом платье, красавица с быстрыми обворожительными яркими глазами) стала с легкой таинственной улыбкой говорить о том, что не знаешь, где свое счастье встретишь. Вот бывало, рассказывает Лена вроде бы серьезно, летит женщина на край земли знакомиться с каким-нибудь мачо, с которым познакомилась в Фейсбуке, строит планы, предварительно покупает себе наряды, дорогущие колготки, обувь, всякого другого, что так необходимо женщине для тела и души. И что в итоге? Встречает ее странноватый эгоистичный, закомплексованный одинокий мужчина-мальчик — и кто его знает, что с ним делать, как себя вести, — и начинают мучить эту вот молодую женщину сомнения, какого беса лихого вообще она поперлась на другой континент, ради кого или ради чего. Собственно, эти сомнения, эти аргументы и факты немедленно подтверждаются, когда, потерпев фиаско, она возвращается домой и еле-еле втаскивает свой чемоданище с дорогущими ненужными нарядами и прочим барахлом в лифт своего дома, и ей помогает удачно подоспевший новый сосед по лестничной площадке. Как потом выясняется, свободный, без вэ пэ, застенчивый и с чувством юмора. И щедрый. Потому что, как объясняет Лена, щедрый — это не тот, кто тебя в Метрополитэн— опера на своем джете транспортирует, а тот, кто на последние деньги тебе покупает букет сирени у бабушки седенькой и усталой на углу, кусок торта «Мишка» в пластиковой коробочке и «Ахашени» настоящего грузинского разлива. Для радости.
И вот я эту Лену слушаю, а потом смотрю на притихших, стыдливо потупивших взоры в зале молодых женщин, девушек, дам постарше и предполагаю, что — эгэээ, миленькие, ведь было это с вами, было! Хотя бы в мечтах или во сне. И еще думаю, что вообще-то такая встреча с Леной — это уже даже больше нежели встреча с писателем, а скорей тренинг «Как перестать быть дурой и наконец стать счастливой». За участие в таком тренинге женщины сумасшедшие деньги платят, а тут сиди, слушай и учись.
Собственно, это было обсуждение нового романа Лены. Как раз вот о том, что написано выше.
Ну а что еще согрело мне сердце, сейчас расскажу.
Мне уже надо было бежать, и тут Лена вдруг принялась тепло рассказывать, как в юности ее и сестру родители взяли с собой на большой семейный праздник. Это была чуть ли не золотая свадьба бабушки и дедушки. И вот московская девочка вдруг с удивлением слышит, как все гости вокруг поют «Lomir alle in einem» на идиш — вечную песню о радости. И к своему изумлению, и она, и сестра понимают, что и отец их, и мама, светские, не сказать богемные, люди, тоже поют, знают и слова, и мелодию, и радостно хлопают в такт: «Ло-о-мир аа-алле ин эйнем, ин эйнэм…»
— И тогда, — закончила Лена просто, по-детски и без надрыва, — мы с сестрой заплакали.
Вдруг за моей спиной музыкант Слава Фарбер сочным мягким баритоном тихонько запел: «Ло-о-мир аа-алле…» И отовсюду подтянулись голоса — женские, мужские, тихие, нежные, чистые. И вот уже поет хор: «Ло-о-мир аа-алле ин эйнем, ин эйнэм…»
И Лена стоит перед всеми растроганная, растерянная, счастливая. Такая хорошая девочка Лена в своем отличном платье. С большими пуговицами. Класс, да? Душевно. Вот так неожиданно этот Слава и другие люди взяли и всем залом перенесли Лену в лучшее время ее детства, где мама, папа, сестра и она. Где маленький, но чуткий человек не перестает радоваться, огорчаться и опять радоваться. И главное — удивляться, удивляться, удивляться.
Ну что за привычка у меня — уходить в самом разгаре. Как будто сама судьба тянет меня за шкирку, мол, хватит, пошли, побежали дальше, тебе достаточно. И всегда на самом интересном, на самом пике заставляет меня уходить. Как Золушку. Но я знаю, что за это я непременно буду вознаграждена.
Так и случилось. Так и было. Великая сила — Интернет. Накануне моего отъезда мы с Леной познакомились. И вот что я заметила: она рассматривает людей с тем же детским любопытством, что и я. В упор. Немедленно задает вопросы, которые ее интересуют. И правильно. Я всегда говорю: лучше спросить, чем потом мучиться, сплетни слушать или догадки строить. Лучше сразу спросить. И вот мы встали друг напротив друга, как в детском саду в песочнице, руки за спину закинули, выставили животы, насупились, и давай друг друга рассматривать и спрашивать, а кто что любит — есть на завтрак, читать какие книжки, где гулять, куда ездить и, главное, как одеваться. И не просто как, а именно в платье с большими яркими пуговицами! Теперь мы частенько болтаем в Сети — в Фейсбуке, в скайпе, по и-мейлу. И обязательно-обязательно будем еще встречаться.
Прощай, Кишинев… Нет, лучше — до свиданья!
О стольких людях еще можно рассказать! Но пора прощаться. В шесть часов утра я вышла в лобби со своими вещами, у входа в отель ждала машина, чтобы отвезти меня на автовокзал. Милый молодой, не знакомый мне человек, видимо волонтер, вынес мне пакет, попрощался, пожелав счастливого пути.
— А что здесь? — растерялась я — пакет мне не принадлежал.
— А! Это? Покушать. В дороге, — помахав ладошкой на прощание, ответили мне.
Кто бы сомневался, что эти ребята не могут забыть, чтобы их презентер по-ку-шал!
* * *
Так получилось, что в автобусе я в начале обратного пути была одна. То есть не одна — еще был водитель Толя. За первые пять минут нашей поездки я узнала, что он служил в Санкт-Петербурге в воздушно-десантных войсках.
— Вэдэвэ! — вдруг дико, по-звериному заревел Толя-водитель, большим, как молот, кулаком трижды ритмично ударил по приборной доске, довольно рискованно. — Вэдэвэээ!!! — А потом тихо мне, почти не оборачиваясь: — Слышала такое?
— Слышала, — устало отозвалась я и тяжело вздохнула — да что ж такое: туда ехала — балетный попался, всю дорогу дрыгался под музыку, обратно еду — горластый десантник.
— Смотри! Смотри! Да смотри же! — вдруг опять заорал десантник, тыкая пальцем в лобовое стекло перед собой. — Видишь?!
— Нет…
— Ай! Ладно! Я ж не поезд! — Десантник отъехал на обочину и остановил автобус. — Выходи, а то пожалеешь, — приказал он.
«Ой, мама…» — подумала я и схватилась за телефон. Но тут вдруг я увидела…
С ярко-зеленого луга вверх в небо медленно и плавно подымались воздушные шары. Разных расцветок и размеров.
— Свеееета! — завопила я во все горло, подпрыгивая и размахивая руками туда, откуда по-королевски важно взлетали воздушные шары. — Свеее-таааа!!!
Десантник присел от неожиданности, почесал затылок и заметил:
— Ну ты и орешь!
— Там Света, — я беспомощно пыталась объяснить про сиреневые глаза, про шары, про небо, но куда мне.
Шары еще долго сопровождали нас — наверное, с полчаса они величаво летели над дорогой или рядом. Сияло солнце, шары задевали облака, те не выдерживали конкуренции и таяли, оставляя на небе жалкие лохмотья. Шары летели. Наверное, там кто-то признавался в вечной любви и просил руки и сердца, обещая быть верным в горе и в радости. А может, вообще там свадьба. Вооон из полосатого синего с желтым шара букет полетел. Интересно, кто его поймает, кому достанется. Дааа. Свадьба в небе. Это тебе не к Мавзолею тащиться, как раньше было принято.
Замечательное было утро, автобус наполнялся разными симпатичными людьми. Они входили, выходили. От сумок и корзин мирно пахло ягодами, зеленью, свежим хлебом. Дедушка вез целый ящик рассады и долго по-молдавски объяснял мне, как надо сажать эту рассаду неопознанного мной растения, собирая пальцы в пучочек, демонстрируя, как тыркать растение в землю. И все это под хохот водителя-десантника. Но потом начались неприятности.
На длительной остановке в Бельцах, в большом, практически уже европейском городе, на автовокзале промышляла стая профессиональных нищих. Можно было не обращать на них внимания — мало ли какой у человека бизнес, и насколько артистично он подвывает «мы сами не местные», но у каждой молодой женщины, входившей в наш автобус, бедно, но чисто одетой, на руках был ребенок. И все эти дети — в десять утра — спали. Спали не безмятежно, не сладко, как обычно спят дети. Они спали напряженным больным сном, кривя усталые, измученные серые лица. Они спали или были без сознания, как пьяные. Как опоенные чем-то. Рядом, совсем недалеко от нашего автобуса, стояла патрульная полицейская машина.
Я подскочила к полицейским и закричала:
— Что же вы смотрите? У вас что, нет уголовного преследования за использование детей в попрошайничестве?!
Молодой красавец в форме покачал головой и, ухмыляясь, развел руками:
— Ну штиу русешти.
От беспомощности я перешла на английский. Он опять развел руками. Просигналил мой автобус, я вошла в салон, села на свое место, а опечаленный водитель наш, десантник, наблюдавший всю эту сцену с детьми и полицейскими, широко разворачивая руль, сказал вроде как в никуда:
— Они в доле. Понимаешь?
И загремел по приборной доске кулаком, так же как недавно кричал «вэдэвэ!»:
— Они в доле!!!
* * *
За полчаса до границы с Украиной в автобус подсела беременная девочка. Водитель посадил ее на переднее сиденье рядом с собой. И девочка звонким счастливым голоском поведала, что это будет уже четвертый ее ребенок, что она — мать-одиночка, и что едет она в мой родной город забрать старших своих детей, которые живут у мамы. Потому что мама ей звонит каждый день и жалуется, что у нас убивают тех, кто говорит по-русски. Я подумала, что ослышалась, и переспросила:
— Правда убивают?
— Ну не убивают, — легко согласилась девочка, — но преследуют и бьют.
— Что вы несете, девушка?! — взревела я. — Я всю жизнь живу в этом городе и говорю по-русски.
— А я не с вами разговариваю! — отрезала мать почти четверых детей и продолжала щебетать, как заберет в Молдову своих детей. И как ей дадут статус беженца. И денег заплатят — ведь мать четырех детей. И они спокойно смогут говорить по-русски, не оглядываясь на всяких правосеков. И оглянулась на меня.
— А по-молдавски ты и твои дети разговаривают? — поинтересовался водитель-десантник.
— Ну… Нет, — пожала плечиками беременная.
Ну дальше я уже не слушала. Зачем. Впереди была граница, измотанные жарой и наплывом приезжих пограничники с особой тщательностью проверяли все автобусы, въезжающие из-за границы. В нашей стране в этот день проходили выборы президента. Я спешила, чтобы успеть проголосовать. Потому что чуть ли не впервые в жизни была уверена, что именно от меня, именно от меня лично, от моего негромкого слабого голоса многое в этих выборах зависит…
Витебск
В городе, где родился великий волшебник Марк, все было именно так, как я и предполагала: по улицам с мечтательными задумчивыми лицами расхаживали люди в длинных черных сюртуках, здания меняли очертания и цвет по собственному желанию, улицы капризно изгибались и бежали, куда хотели, а не туда, куда кто-то запланировал, а по небу шмыгали козы, которые играли на скрипках.
Лифт
Эта история требует отдельного рассказа. Лифт в гостинице был с характером. Он постоянно жаловался, капризничал, но ни разу никому не отказал: печально поднимал народ вверх на указанный этаж и опускал вниз. Лифт говорил с нами унылым женским скрипучим простуженным голосом. И все больше и больше напоминал чью-то добрую старенькую бабушку, которая, как правило, тысячу раз пожалуется, продемонстрирует, как ей тяжело, как плохо, как хочется отдохнуть от нас от всех, а потом все равно сделает и даже где-то с удовольствием.
— Лифт пе-ре-гру-жен! — склочно объявлял лифт.
Но у каждого человека обязательно должна быть бабушка и опыт общения с нею. Поэтому стойкие люди просто стояли и не думали даже покидать кабину. Лифт ждал. Люди ждали. Потом кто-то замечал в потолок, ни к кому не обращаясь:
— Ну? Так мы будем ехать или будем не ехать?
Лифт, осознавая, что с этими не поторгуешься и деваться некуда, тяжело вздыхая, задвигал двери. В последнюю секунду, когда двери еще полностью не были задвинуты, в кабину заскакивал еще кто-то. Лифт крякал, кряхтел, делал рывок и, постанывая, поднимал людей наверх.
— Второй этаж, — гнусавым плаксивым голосом объявлял лифт с такой интонацией, как будто укорял, мол, не могли уже подняться сами пешком по лестнице, надо гонять туда-сюда старенькую бабушку.
Как и следует старушке, лифт был несколько глуховат, а то и просто делал вид, что не слышит, и упрямился, когда его вызывали сверху или снизу, нажимая и нажимая кнопку вызова. Иногда все-таки подымался и демонстративно распахивал двери:
— Ну что?! Что?! Уже не мог пройти пару этажей вниз? — Такой был у него взъерошенный и всклокоченный вид.
Иногда, если народ внутри вдруг заводил какой-то случайный разговор, а то и по настроению напевал какую-то песенку, лифт не торопился раздвигать двери. Так и держал людей в кабинке, заслушавшись или замечтавшись. На четвертом этаже он долго стоял, раззявив двери, наблюдая, как весело играют малыши в холле напротив. И когда вдруг расплакалась маленькая девочка, захотев то ли кушать, то ли спать, то ли просто соскучившись по маме, а может, и все сразу, лифт мигом слетал на другой этаж и привез маму девочки. И радостно вздыхал, наблюдая воссоединение семьи.
Я старалась поменьше пользоваться лифтом и хотя бы вниз спускаться пешком. И поднялась-то всего один раз, когда была в туфлях на высоких каблуках. И вот в последний день, одна в кабинке, спускаясь в лобби со своими вещами, на прощание я погладила кнопки этажей:
— Ну пока!
— Лифт перегружен, — выходя на первом этаже из кабинки, услышала я отчаянный жалостливый слезливый шепот. — Лифт перегружен…
Кондитерская
То ли маленькая кондитерская, то ли просто буфет. Но в витрине — чистое искушение: красивые маленькие пирожные чизкейки во фруктовых и кремовых шапочках, щедро залитых капюшончиками желе. И кофе. Отличный ароматный кофе.
А нас четверо. И мы не можем выбрать.
— Подайте нам к кофе пять… нет, шесть разных пирожных. И мы будем делиться. Только принесите ножи и чистые тарелочки.
— У нас нет ни ножей, ни чистых тарелочек, — равнодушно отвечает официантка, подавая нам пирожные в кружевных бумажных розеточках и кофе в бумажных стаканчиках.
— Но у вас же тут скатерти. Крахмальные. Мы ведь можем испачкать… — растерялись мы.
— А вы постарайтесь, — как-то неопределенно парировала официантка.
— «Постарайтесь» что? — поинтересовалась шепотом поэт Надя Делаланд. — Что постараться?
— А это кто на что способен, — с набитым ртом ответил довольный Саша Володарский.
— Мммм! — от удовольствия постанывала я, помахивая ложечкой в такт какой-то мелодии, звучащей у меня в голове, вроде «Заздравной чаши» из «Травиаты».
— Аааа… — вторили друзья, запивая десерты отменным кофе — вкууусно, вкууусно.
Мы беззаботно откусывали от пирожных, передавая розетки по кругу. Мы даже опьянели от радости встречи, от солнечного теплого дня, от совпадения вкусов, от умения всех нас «отличать ямб от хорея», от крепкого кофе и предвкушения трех радостных дней впереди на конференции. Я принялась тягать из Надиной розетки фрукты, тщательно отколупывая их с тортика, Лена хищно нацелилась на малиновый крем Сашиного пирожного.
В общем, мы славно посидели. И с липкими от вкусного губами я пошла извиняться перед официантами.
— Вот чего я не пойму, — рассуждала я, — у вас столы покрыты чистыми крахмальными льняными скатертями со складочками от утюга, а подаете вы десерты и кофе в бумаге.
— И что? — спросила официантка.
— А ничего. Спасибо. Все было очень вкусно. Мы постарались, как вы и просили.
— Че? Насвинячили? — откликнулась бесхитростная официантка.
— Ну можно сказать и так.
Мы ушли, корчась от смеха, три солидных прозаика и один известный прекрасный поэт, без пяти минут профессор Надя, которая через полчаса вдруг своим неповторимым нежным голоском произнесла:
— Пирожное-то с малиной мы не доели. Осталось оно, почти целое.
Мы опять заржали как трудновоспитуемые подростки. Незабываемый день. Отличная компания.
Страна приветливых милиционеров
— Как пройти в ближайший круглосуточный супермаркет?
— А что вы там хотите купить? — Сержант в ответ интересуется, прямо как будто он одессит. Это ведь только одесситы любопытствуют, куда ты идешь, зачем, как здоровье всех родственников и нет ли у меня хорошего недорогого врача для его котика. А тут молодой мальчик-милиционер в Беларуси.
— Ну… Мне надо… там… — растерялась, — а зачем вам знать?
— Я к тому, что если вам водки, — по-отечески растолковывает сержант и жестикулирует большими, как лопаты, ладонями, — то надо проехать отсюда две остановки, там есть небольшой магазинчик, где дешевле…
— Я?! Водку?! С чего вы взяли?!
— Ну а че? — оценивающе рассматривает меня сержант. — Вы что, не человек, что ли?
— Я не пью водку! Я вообще ее никогда не пробовала, эту вашу водку.
— Как это?! Никогда?! Совсем?! — Сержант смотрит на меня как на снежного человека. — Совсем-совсем никогда?!
— Нет.
— Совсем-совсем? Ни глотка?
— Нет, — чуть поколебавшись, ответила я.
— А как же вы тогда? — с жалостью и сочувствием смотрит на меня сержант, чуть не плачет, сдвигает свою форменную фуражечку на затылок и складывает свои лопаты на животе в замочек.
— Ну, — пожимаю плечами и развожу руками, — вот так и живу. А что делать…
Сержант хлопает длинными прямыми льняными ресницами.
— …Коньяком обхожусь.
— Ааааа! — облегченно смеется милиционер и грозит мне шутливо указательным пальцем, милый белобрысый веснушчатый мальчишка. — Аааа! Юмор типа, да? Типа вы шутите, да?
— Так где тут у вас супермаркет? Мне воды купить…
— Воды… Понятно, — понимающе кивает сержант, — вооон туда идите. По ступенечкам вниз. Там есть. Вода. И армянский есть… вода. И грузинский… вода. И даже французский… вода.
Ну не верит мальчишка, что женщина моего возраста, вышедшая из гостиницы в шесть часов утра всего лишь в легкой футболочке (а кто знал, что в Витебске уже осень в начале сентября?!), не нуждается в алкоголе.
Но зато какой вежливый. Какой уважительный.
Профессор на велосипеде
Я гуляла по Витебску. Жители города охотно и даже где-то с гордостью указывали путь, а иногда бросали свои дела и вели за собой, чтобы я не заблудилась.
Нужно сказать, что, прежде чем собираться в Витебск, я, как всегда, заглянула в Интернет и записала, что хотела бы посмотреть.
В разделе «Культовые сооружения» на одном из туристических порталов я прочла изумительную по силе образов фразу:
«История уготовила нелегкий путь развития для церквей Витебска. В разные эпохи их поджидали пожары и разгромы».
Я так и представила себе, как коварные пожары и разгромы, подлые и ожесточенные, затаившись, поджидали, чтобы сожрать в огне не только витебские храмы, но и другие, созданные умными талантливыми человеческими руками, произведения архитектуры и искусства. А уж Витебск, как птица феникс, сгорал и возрождался, сгорал и возрождался, погибал в огне и заново упорно отстраивался.
Полезла я в Интернет искать, зачем Петр I приказал сжечь Витебск, ну зачем, ну что он совсем уже был какой-то вообще? Что, он так не ценил чужой труд? А он, оказывается, тот еще был парень, чуть что не так, не подчинились, не согласились — как мотнет рукавом — и сжечь! Отдавал приказ и усами злобно водил своими. Горячий был царь. Нервный. Вспыхивал, как головешка. В прямом смысле этого слова.
В Витебске искала я храм Святого благоверного князя Александра Невского. На фотографии он выглядел так, как будто ему несколько веков, — ладный, маленький, чистый, дождями умытый, срубленный из дерева с поседевшей кровлей. Бродила я, бродила с картой, спрашивала у прохожих, все пожимали плечами, мол, нет у нас такого старинного храма, есть новый. Я им, мол, мне не новый нужен, а старый. В конце концов навстречу выехал мальчик на велосипеде, экипированный по всем правилам: и шлем, и перчатки без пальчиков, и наколенники, и форма в облипочку. А велосипед — шедевр инженерной мысли.
— Аааа! Это всегда так путаются, — засмеялся мальчик. — Храм-то новый, а выглядит как старинный и отреставрированный. Пойдемте, я вам покажу. Мой друг там в колокола звонит, — с гордостью поделился мальчик. — Этот храм был сначала построен как временный. Вроде как такой, каким были храмы при Александре Невском. Вот. Но люди его полюбили, пока строили каменный рядом. Там очень уютно, там спокойно, там чувствуется присутствие Святого Духа, понимаете?
Я с уважением посмотрела на мальчика. И пока мы шли, я — просто так, беззаботно размахивая по привычке руками, а мальчик — бережно ведя за руль свой роскошный велик, я многое узнала. Потому что мальчик говорил, не останавливаясь, мне казалось, что он даже забывает вдохнуть — так часто и с невероятной скоростью он расставлял слова в своей речи. Он не только много чего рассказал из того, что меня интересовало, но и вдруг стал спрашивать пройденный материал, чтобы убедиться, что слушала я его внимательно. Мне казалось, что мы с этим мальчиком были идеальной парой. В том смысле, что я — внимательный слушатель, а он — изумительный рассказчик. А поскольку слушать — это вообще самое любимое мое занятие, то из утренней прогулки к храму Александра Невского я очень многое узнала не только о новгородском периоде жизни князя Александра, о разных культовых сооружениях города Витебска, но (в самых мелких подробностях) и о горных кросс-кантри велосипедах марки Haibike Xduro Cross RX 28, о его двадцати семи скоростях, о воздушно-масляной амортизации и о дисковом гидравлическом заднем тормозе. Мальчика-велосипедиста, моего спутника, звали Тарасий. Та-ра-сий. Каких прекрасных Тарасиев родит земля белорусская и выводит мне навстречу мироздание! Спасибо.
Год вежливости
События были всякие: иногда веселые, иногда печальные. Не то чтобы трагические — печаль наша была достаточно светла.
И вокруг — на улицах, в магазинах, кафе, гостинице, музеях, театрах — нас встречали приветливые спокойные и милые люди. Объясняли, показывали, провожали.
Ну разве только в магазине учебников, куда я зашла купить моей маме карандашей в коллекцию, на меня стала ворчать дама-продавец: уж слишком долго я копалась в кошельке и путалась в деньгах. Эти белорусские деньги такие коварные: суммы гигантские — десятки тысяч, а за них можно купить два карандаша. И мрачная продавчиха, у которой, по-видимому, случился не очень удачный день, наткнувшись на мою сияющую открытую физиономию, рявкнула, мол, быстрей давайте, считать не умеете. Я даже не обиделась, а, выйдя из отдела, принялась хохотать: на витрине изысканная серебром на красном табличка гласила: «В нашем магазине год вежливости». Правда, год был не указан, поэтому я сделала вывод, что последние секунды года вежливости истекли как раз именно в тот момент, когда я копалась в своем бумажнике.
Или когда я пожаловалась новым знакомым Ирине с Ефимом, что пару ботинок мне перевязали в витебском универмаге как в детстве, веревочкой, и не дали пакет, Ефим рассказал, как он тут детские куриные сосиски покупал: женщина-продавец цапнула их с витрины рукой, шваркнула на весы, потом приподняла эту кучу в жмене и спросила:
— Вам куда поло́жить?
У Фимы из тары был только карман. Сосиски он не взял.
Однако эти исключения только подтверждают правила. Беларусь — ласковая, прозрачная, нежная и, как мне кажется, незащищенная страна. Страна березовых рощ, трепетного неяркого неба. Страна красивых ироничных женщин с тонкими запястьями и узкими щиколотками. Страна сообразительных мужчин и очень смешных обаятельных детей. Страна любезных, уважительных, воспитанных и, как правило, очень увлеченных людей.
Смотреть и видеть
Как же я люблю смотреть и при этом видеть. Человек, который никогда не терял зрение, не сможет меня понять. Когда в одесском институте Филатова мне сделали невероятную операцию и вернули зрение, я вышла во двор клиники, где отлеживалась после операции, вышла погулять и объясняла мужу по телефону, где меня найти:
— Я — около дерева с очень губчатым стволом. Тут еще муравей ходит. Только я не с той стороны, где муравей с разными передними ногами, одна короче другой, а с той стороны, где муравей помоложе, который тащит гусеницу. Светло-коричневую гусеницу. С зелеными глазами.
Вот как я люблю видеть и разглядывать. А они мне говорят:
— Не верти головой по сторонам!
Это делает мне замечание кто-то из компании: Лена? Надя? Галя? Таня? Конечно, они все мудрые, хорошо воспитанные. У каждой есть чему поучиться. А как не вертеть, когда столько вокруг всего.
Знаете, как в Витебске?!
Там, если рабочие работают на улице — например чинят дорогу, — так работают все! Приехали пятеро и работают пятеро, представляете? Это же чистая Европа!
У нас ведь дома как: раскопали яму, один возится внутри, четверо сидят по краям ямы, курят, а двое в костюмах с папками стоят и тыкают пальцем. Или качаются с пяток на носки. Это называется «руководить процессом». И вот в Витебске латают проезжую часть, я остановилась и стою — не могу налюбоваться. У каждого есть свой участок работы. И никто не руководит, не качается над нами с папками и в галстуках, а работа все равно идет, и быстро. Мелочь, конечно, но мне за Витебск радостно.
А еще. На бульваре у театра. В черном платке, в длинной темной монашеской юбке и в темном жилете поверх серой старушечьей блузки, лицо желтое, как из дерева вырезанное. Возраста не разберешь — сплошная усталость. Сумка большая клетчатая, с какими ездят челночники. Вдруг остановилась и резко присела на край скамьи.
— Вам плохо? — спрашиваю.
— Нет, дочка, отдыхаю.
— Давайте помогу, вам далеко?
— Нет, мне рядом, да оно и не тяжелое. Коробок набрала, сынам овощей всяких и закруток в Минск передать. С ночной смены иду.
— А где вы работаете?
— А санитаркой я. В больнице. Тут недалеко.
— Тяжелая работа.
— Скорбный труд, дочка. Старички. Одинокие. Провожаю я.
И поплелась бы я дальше за этой женщиной, которая ну лет на пять — семь старше меня, ну ладно, ну пусть на десять, не больше, а зовет меня дочкой. От того, что мудрости в ней на сотню матерей. Но не позволила она. Да и времени у меня почти не осталось.
Город Марка
«По вечерам, когда лавка закрывалась и прибегали с улицы дети, дом затихал: вот, сгорбившись, сидит у стола отец, застыл огонь в лампе, чинно молчат стулья; даже снаружи — ни признака жизни: есть ли еще на свете небо?»
Так писал в своей книге Марк Шагал, знаменитый художник из Витебска. Марк, к которому на свидание я приехала сюда.
Ах, Витебск поздно вечером, вздыхаю я сейчас, нежно вспоминая; ах, Витебск в сумерках, когда спеты все песни, произнесены все молитвы, когда наплакались и уснули наконец все младенцы, когда устало расправляет свои многострадальные ступени большая, длинная крутая лестница к Свято-Успенскому кафедральному собору, вопреки всей истории, всем легендам и трагическим событиям, выстраданному и намоленному, в двенадцатый раз восстановленному на Пречистенской горе… И только тихо журчит фонтанчик на площади у гостиницы. Вот тут и выходит с аккуратной седой, тщательно расчесанной и подстриженной бородой, в солидной добротной непременной кепке, неся тревожные новости завтрашнего дня о еще не свершившихся событиях, разносчик газет. А следом за ним в старых запыленных сапогах с котомкой на палке, заброшенной на плечо, скользит унылой иллюзорной тенью Вечный Жид, глядящий в себя и ничего не видящий. Вот рысью проскакала лошадь, а на спине ее развалилась обнаженная акробатка. Клоун в красных штанах верхом на большом петухе с нарядным ярким хвостом проскользнул вслед за синей лошадью, обхватив сказочную птицу крепко за шею. У моста обнимаются фиолетовые влюбленные. У всех настенных часов отросли голубые крылья, и время вернулось вспять. Марясинка, сестра художника Марка, выглянула из-за пышного фикуса, расплетая на ночь косички свои, девочка-подросток в кружевном воротничке, смотрит в окно на темную улицу. А мимо спешат зеленые, серые и синие люди с удивленными блестящими глазами. И, подтянув повыше ситцевую белую в мелкий цветочек занавеску, смотрит Марясинка, привстав на носочки, подальше туда, за улицу и за город Витебск далеко, на призрачную лужайку с березками, что светятся даже в темноте, где стареющий лев смирно возлежит, а рядом пасется безмятежно низкорослый утомленный конь, коза седая с костистым хребтом и маленький ослик.
Зовет и манит оранжевым греющим светом харчевня, где пьет чай солдат. Любуется он, усатый и лихой, расторопной хозяйкою, и мечтает усадить ее, такую сдобную, ароматную, к себе на колени да обхватить ее всю сильной своей рукой. И никуда больше не идти, не стрелять, не воевать, а остаться здесь навсегда, покачивая румяную красавицу на коленях да попивая чай. Но кто-то где-то кричит и зовет — горит на окраине деревянный дом, все бегут туда, кто с ведрами, кто просто так поглазеть, и несет телегу без дороги испуганная лошадь, и роняет груз и седока, страшась огня. И отражается полымя в окнах синих домов и в больших ржавых зеркалах старой цирюльни. А старик в кипе, забыв молиться, тянется к табакерке за понюшкой и глядит в окно тревожно, а что там опять.
Пошел утешительный мелкий скупой дождик, старик под зонтом в черном суконном пальто пробежал и исчез в переулке, осталась только стоять корова, она жует свою жвачку и не торопится. Ногой передней держит она зонт над своими ресницами, чтобы глаза не намокли, а хвост — так пускай.
И между темнотой и светом настраивают свои инструменты скрипачи. Один закатный, то ли красный от ушедшего солнца, то ли от вдохновения, другой рассветный, сизо-серый, чью скрипку мазнул уже первый луч солнца, и она иззолотилась ярко и зазвучала. И затанцевал рассветный скрипач. И другие — и тот, красный, закатный, и синий, и фиолетовый, ночные, и серый, белый рассветные — заиграли: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И с первыми лучами солнца вышел на улицу художник в ярко-зеленом сюртуке, крепко держа за руку свою спутницу, плывущую рядом с ним по воздуху. А потом взмыли они вверх и полетели вместе, и вдали призывно засияла огнями Эйфелева башня.
Я уезжала. И смотрела, и всматривалась сквозь окна автомобиля в таинственные очертания города. Вот мы уже выехали с парковки гостиницы, поехали по центральной улице города, выехали на магистраль. И ехали, ехали, ехали…
И вслед смотрел мне Витебск.
И вслед смотрел мне стареющий лев.
И вслед глядела мне Марясинка из своего окошка, разведя ситцевые занавесочки, белые в мелкий голубой цветочек. Смотрела, заплетая задумчиво косички свои.
И вслед мне смотрел дом с зеленым глазом.
Домой
Поезд набирал ход. Вдоль дороги лежали для просушки ровненько разложенные березовые чурочки. Лежали как послушные фокстерьеры, похожие на Глашу, собачку Сергея Довлатова. Девочки из Могилева хвалили свою страну, но на вопрос, почему они не говорят на родном языке, пожимали плечами:
— А у нас почти никто, кроме, разве что, президента, не говорит на белорусском. А зачем? Мы нормально общаемся на русском.
Тяжело было объяснять, зачем. Да и незачем объяснять, зачем. Поймут сами. Только бы не было поздно.
Утром в сером небе Ивано-Франковска из окна своего купе я вдруг увидела знак — привет из Кишинева, от Светланы Борты. Я увидела большой серо-белый воздушный шар. Он поднимался, чуть покачиваясь, неся корзину с пассажирами. И не удивился бы никто из наших друзей, если бы в корзине находилась сама Светлана. Потому что она — Мэри Поппинс наоборот. Мэри летит, когда появляется ветер, Светлана — когда ветер стихает.
Шар плыл над нашим поездом — могущественный вестник, посланный моим ангелом.
Каникулы в один день (Киев)
Чай втроем, или Мои Че
Че — это Лорочка и Сережа. Черепановы. Эти ребята — профессиональные путешественники. Нет, они не получают за путешествия плату, наоборот, они много и тяжело работают, для того чтобы путешествовать. А уж как они собираются в путешествие — надо видеть. Какая крепкая у них обувь, удобная экипировка. Эти ребята — вояджеры. Пусть не во Вселенной, но с нашей планетой они на дружеской ноге.
Чтобы не терять времени, я притащилась к ним с утра пораньше, вооружившись маминым ореховым пирогом. В их доме я была впервые, ходила по квартире как по музею и забыла вообще, зачем пришла. А Сережа и Лариса, видя мое детское неподдельное восхищение, давай хвастать, какие чурбачки, палочки, трубочки и камешки они напривозили со всего мира. Какая же у них красота! Например, у них в гостиной много специальных полок, продольных и поперечных, где висят, лежат, стоят и торчат уникальные вещи, купленные, полученные в подарок, а иногда и стыренные (у природы! не придирайся, читатель, здесь эти штуки в сохранности и в полной безопасности).
Сережа бережно снял с полки широкую трубку с насадкой в виде головы дракона и специальную стрелу. (Как из детектива!) Эта короткая стрела вставляется в трубку, нужно легонько дунуть, и стрела вонзается во входную дверь. И, забыв обо всем на свете, мы принялись пулять из этого дракона! А дверь, к слову, вся в дырочках. Это значит, что все друзья семейства Че хорошенько поразвлекались тут.
Сережа рассказывает, мол, эту штуку я выторговывал полдня. Уходил, возвращался, опять уходил. На острове, где живут бандиты, пираты, воры и разбойники. Меня предупредили, что оттуда надо уходить до четырех часов вечера, вместе с полицией, а иначе хуже будет.
«И ты просто так уехал? До четырех часов? С полицейскими?! И не увидел, как там дальше будет на этом острове разбойников и пиратов?» — хотела я спросить разочарованно, но наткнулась на взгляд Лорочки, такой, знаете, взгляд, как у Кончиты: «Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна…» Хотела спросить, но прикусила язык.
Мы пили чай в доме Лорочки и Сергея, в их уютном приветливом доме, наполненном светом и воздухом, где еще до сих пор носится и машет хвостом фантомная тень собаки Мэлфина. Мэл ушел навсегда, но ведь никто не запрещает его любить как и прежде. А когда любишь кого-то, этот кто-то всегда с тобой. Лора и Сережа рассказывали вместе, слаженно, но не перебивая друг друга. В рассказе Сергея вдруг удобно помещалась реплика Лоры, в рассказе Лоры вдруг появлялось вежливое мягкое и деликатное объяснение непонятного мне, бестолочи такой, от Сережи. Такие люди легко помещаются в тесном пространстве, не раздражая друг друга. Таких людей хорошо посылать в космос, потому что они спаянная команда. Экипаж.
К чаю Лора подала любимое лакомство моего детства: нежную легкую душистую пенку малинового варенья. Мы разговаривали, пили чай с малиновыми пенками, и я почувствовала себя среди своих. Наступило время проситься в экипаж — путешествовать по Киеву.
* * *
Обязанности в их экипаже распределяются так: Лора — рулевой. Она водит автомобиль. Сережа — чичероне. Слово «экскурсовод» ему не подходит. Он подвижный, легкий, загадочный, радостный, неутомимый чичероне, который заражает своей любовью к городу немедленно.
Рейтарская, 9, или Птицы, ежи, лошади
— Сначала, — объявил Сережа, — мы поедем к во́ронам, а потом к Ежику.
— Я зоопарки не очень, — робко отозвалась я, — если честно, то очень не очень.
— Это не зоопарк, тебе понравится, — пообещала команда.
В обычном дворе, похожем и на одесский, и на черновицкий, в огромной клетке живут ручные во́роны Кирилл, Карлуша и Корбин. Жильцы двора ухаживают за ними, кормят и придумывают о во́ронах всякие легенды.
Надо сказать, что эти во́роны не уступают по размерам и красоте даже легендарным во́ронам лондонского Тауэра — тем самым, которые берегут устои бывшей королевской тюрьмы.
Киевские во́роны сытые, веселые и общительные.
Иногда они ни с того ни с сего вдруг имитируют звук автомобильной сигнализации. И опешившие гости несутся вон со двора, проверить, не их ли машины угоняют. Иногда они ворчат что-то нечленораздельное. Или хохочут. И очень ревностно охраняют свое личное пространство и свою еду.
Как-то они даже наваляли грозе района, известному в округе вороватому коту, за то, что он всего-то хотел угоститься сосиской из во́роновой кормушки. Не судьба. Кот еле лапы унес. А потом сидел на ветке дерева рядом с во́роновыми вольерами и орал. Дразнился. Вороны, быстро переняв его обиженное мяуканье, орали ему по-кошачьи в ответ. Разговор шел на повышенных тонах. Язык людям был непонятен, но интонации знакомые.
В тот день, когда мы нанесли визит этим королевским птицам, Бог послал им на обед куриные желудочки.
— Приятного аппетита, Карлуша, — стал подлизываться Сережа, во́рон застыл, глядя боком своим бусиновым глазом Сергею в лицо, как будто узнал своего, затем покрутился суматошно (мол, ой-ой, ты пришел, а я как-то не ожидал, не готовился), нашел тонкую палочку, взял в клюв, подскакал поближе к месту, где мы стояли, и просунул палочку сквозь прутья клетки, мол, давай, мужик, займись делом, — курлыкал во́рон — давай чеши, не стой.
И Сергей Черепанов, кандидат наук, известный прозаик, поэт, публицист, член редколлегии киевского журнала «Радуга», элегантный мужчина в белых брюках, послушно взял грязную палочку и принялся чесать во́рону Карлуше голову, спинку и крылышки. Ворон, сгорбившись, поворачивался то грудью, то спиной и покряхтывал от наслаждения.
* * *
— Понимаешь, — объясняют Лора с Сережей, лаская взглядами и улыбками деревянного Ежика, созданного киевским скульптором Константином Скритуцким по эскизам из мультика Юрия Норштейна, — эта скульптура называется не «Ежик в тумане».
— А как?! — Я разглядывала знакомого с детства застенчивого ежика с узелком в лапках. В узелке — варенье. Можжевеловое. Он, такой милый, уселся на пенек, прижал узелок к пузичку, болтает ножками и удивленно смотрит куда-то вверх.
— А ты взгляни, куда он смотрит, — предложила Лора.
Я встала рядом с ежиком и посмотрела. Ежик смущенно и радостно пялился на памятник защитникам границ — всадника в центре большой площади. Естественно, всадника на лошади. Правда, он, этот верховой, как-то неестественно сидел, а еще верней, стоял верхом на этой лошади. Как будто он сначала просто стоял на постаменте, расставив ноги, такой удалой да бравый, а потом под него подсунули коня. Мол, не стой, богатырь, садись. А тот не заметил. Так и стоит. Но верхом на лошади. Но для нас этот факт неважен. Нам важно, что ежик из своего скверика видит лошадку.
А лошадка вороная, стройная, длинноногая, с точеной головой, пышной гривой и хвостом. Все как надо, чтобы удивить маленького ежа в тумане.
И у ежа как раз такое личико. Как раз такое: Ииии… Лошаааадка…
Кстати, скульптура сидящего на пеньке Ежика так и называется. «Лошадка»
— А когда туман, — сказал Сережа, — кажется, что она плывет в воздухе. Лошадка.
Дом-музей Булгакова
Давность для меня ничего не значит. Каждый человек, как далеко по временно́му мосту я от него ни ушла, все равно живой. Поэтому я не очень понимаю шутки про давно ушедших людей — про Джордано Бруно, например. Когда я читаю о его последних ужасных минутах на Кампо деи Фьори, я плачу. Он ведь для меня лично так много сделал. Для меня, для моих детей. И для Андрюши, моего внука. Когда доказывал, что не только Земля, но и Солнце вертится вокруг своей оси и что планет вокруг Солнца гораздо больше, чем тогда знали. И даже что Солнечная система не единственная. И что мы не одни в звездном мире. Он был один на один со своей правдой.
Вот так же у меня сжалось сердце, когда мы пришли в гости к Михаилу Афанасьевичу. На мой глупый вопрос: «Скрипят ли полы здесь по ночам, слышен ли шепот и легкое дыхание, скользят ли тени зыбкие из залы в залу» — Ирина, которая вела нас по дому, улыбнулась сдержанно и ответила просто:
— Мы не заигрываемся.
Вот Ирина. Тоненькая, неброско одетая. Очень деликатная, с тихим, чуть глуховатым голосом. Как она подходила этому дому своей интеллигентностью, нежным лицом и тоненькой фигуркой.
Сначала я ныла — не надо экскурсовода, не надо, предполагала, что сейчас выйдет артистичная дама и давай, мотая кистями длинной вязаной шали, воздымая руку и закидывая голову, примется, театрально подвывая, читать отрывки из «Турбиных», педалируя и закатывая глаза. А то еще и споет:
— Целую ночь соловей нам насвистывал…
Ой, только не это. Мой любимый романс.
— Не надо экскурсовода!!! — умоляла я.
Ну что ж я такая недальновидная! Как я вообще могла, как я смела предположить, что такой дом, такое место может позволить себе пошлость и навязанную театральность! Все наоборот. Ирина, научный сотрудник, фамилии так и не узнала, держалась так незаметно, говорила так по-человечески, незаученным тоном, негромко, спокойно, что только украсила наше пребывание в доме Михаила Афанасьевича.
«Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда!»
Пошел дождь. Летний. Теплый. Он шлепал по кустам, как будто легко хлопал в ладошки. Город молчал, и молчали дома. Мы сидели на веранде булгаковского дома, пили чай по рецепту бабушки Турбиной, настоянный на смородиновых ягодах и вишневых листьях. Мы пили чай с тыквенным и ореховым вареньем, с вишневым пирогом. Мы пили чай, слушали дождь.
«В час, когда ветер бушует неистовый, // С новою силою чувствую я // Белой акации гроздья душистые // Невозвратимы, как юность моя, // Белой акации гроздья душистые // Неповторимы, как юность моя».
Лысая гора
У Сережи абсолютно свои личные бережные, теплые отношения с историей. Мне кажется, история тоже любит Сережу и раскрывается ему, и доверяет ему. Как ворон Карлуша.
Куда он потащил меня, человека, мягко говоря, непредсказуемого, закрытого, сующего нос в тайны бытия? Человека, который дружит с седыми древними мольфарами и несет груз скорби по тем ученым людям и красивым женщинам, сожженным неправедно на инквизиторских кострах?
Правильно. Мы потащились на Лысую гору.
Сначала Сережа подвел нас с Лорочкой к высокой-превысокой лестнице. Конца ее снизу даже не видно.
Ну что, поднимемся?
— Это она? — От любопытства я стала пританцовывать. — Лысая гора? Да?
— Ну как сказать, — Сережа ответил нехотя, — это не самая главная Лысая гора.
— Дополнительную открыли? — брякнула я. — Все ведьмы на главной не помещаются? — и полезла наверх.
Еще бы не Лысая гора, вокруг этого спуска дома под номером 13. «Не главная, — ворчала я про себя, — они просто делиться со мной не хотят, — конечно главная», — перлась я наверх с несокрушимой силой.
Макушка горы действительно оказалась лысой. Но не потому, что была истоптана сотней ведьм, колдуний и прочей нечисти. А потому, что была выложена аккуратной плиточкой.
— Чего мы сюда притащились? Спляшем, что ли? — предложила я.
Но Сережа вдруг опечалился. Он показал рукой туда, далеко, на высокую гору напротив и сказал грустно:
— Вооон там, собственно, он и встретил ту гадину.
— Кто? Сережа, кто кого встретил?
— Олег.
— Олег?
— Князь Олег. Там змея его и укусила. Там он и похоронен.
Сережа печален. И я, повинуясь талантливому рассказчику и ведомая им по спиралям времени, вижу сама, как князь Олег, спустя четыре года после предсказания вещуна, вдохновленный победой в очередной битве, говорит своим братьям-соратникам, мол, так, а конь мой, от которого смерть я должен был принять, где же? А ему — дак, княже наш, ты, конечно, извини, но нету коня. Помер же. Ты подзабыл, наверное.
«Ах да, точно! Вот бедняга, — вспомнил князь, хлопнув себя ладонью по лбу, — как я мог забыть, друг мой верный помер».
Тут бояре уши прижали, головы — в плечи, глаза долу, ожидая, что князь, запальчивый в гневе, поколотит их, а то и на кол, ой-ой!
А князь ничего, нормально. Доволен, что вдохновенный кудесник ошибся. Говорит:
«А что, други мои? Верить ли волхвам-кудесникам, а?»
Тут все радостно: «Неее, княже, не вееерить!»
«Конь помер, а я-то — живой!» — выхваляется князь.
«Живой, батюшка ты наш, солнце наше ясное, живой!» — шумит свита.
«А ну-ка, пойдем посмотрим… — закручинился тут князь, — поклонюсь я коню моему. Даром убили конягу. Жил бы еще и жил, в делах моих ратных был бы верен, с поля боя выносил бы, мча, как стрела».
И ослушаться никто не хочет, боятся сказать, мол, может, отдохнешь лучше, княже наш светлый, после брани жаркой. Нет. Тащатся за ним все в гору. (Как я вот сейчас — на дополнительную Лысую.) Лезут послушно кланяться. Скелету коня.
А гадюка та самая, не будь дурой, его и подстерегла. Олега. Князя. Цап. И все. Вот бедняга. Говорили же ему — куда лезешь, зачем? Но от судьбы разве убежишь?
И поэтому наш Сережа тоже стал невесел, голову повесил. И мне в данном случае больше Сережу жалко, потому что, если бы Олег слушал советников своих, если бы они не трусили его отговорить, он, может, еще много всяких дел для Киева сотворил.
А Сережу уже было не унять в его печали. Смотри — ведет он сверху рукой широко от плеча. Вон там жил люд рабочий: ремесленники, гончары, кожемяки, строители, которые создавали сегодняшний Киев. А недавно совсем, лет пять — десять назад, набежали варвары, верней, понаехали, да и принялись сносить такие драгоценные для нас, киевлян, да и для всех-всех, кто Киев любит, исторические постройки, строить виллы, обносить все высокими заборами и рубить! рубить! рубить деревья.
Сережа умеет рассказывать. И Лора умеет сочувствовать. У них у обоих теплые щедрые души.
Мы стояли с ними, молчали, а на моих глазах прошлое, еще недавно видимое и осязаемое, растворялось в пошлых безвкусных застройках.
— Господи, смотрите, ребята, — вытянула я шею, — рубят деревья! — ахнула я и рассказала друзьям моим ужасную историю.
* * *
Недалеко от моего дома рос дуб. Он помнил наш город молодым, он помнил самых древних жителей нашего квартала маленькими. Он помнил войну и горе, он помнил первые после победы свадьбы и рождение детей. Мы все — в переулке восемь домов — очень гордились нашим дубом. Крепкий, огромный, живой, живее некуда. Ни одной сухой веточки. Желтел по осени позже всех, ронял листики красные и ярко-желтые, блестящие глянцевые, катились желуди, снимали перед осенью шляпки, и тихонько прорастали то там, то тут новые дубки. В его могучих ветвях весной собиралось столько птичьего народу, что, когда они просыпались на рассвете все, стоял такой ликующий переливчатый гвалт — мы нарадоваться не могли. Там шумели, галдели, учили, кормили, воспитывали. В начале августа с его кроны срывались стаи и учили своих детей летать, делали круги над нашим переулком. Мы благодарно и радостно задирали головы — наши. Наши ставят на крыло малышей. Жизнь продолжается. Думаю, что прилетали к нам одни и те же много лет, потому что они нас совсем не боялись. Заглядывали в окна, садились на крыши домов, малышня, бывает, падала, но мы, наученные, как правило, не трогали их, но стерегли, чтобы наши кошки и собаки не трогали слеток. Часто мы с детьми наблюдали, как родители нарезали круги над упавшим малышом, кричали: «А ну давай, расправляй крылья, не бойся! Мы тут. Делай как мы!» И малый вспрыгивал сначала на нижние ветки, а потом взлетал. Неловко, боком, смешно растопыривал ножки: фрррр!
Мы всегда вывешивали кормушки зимой. Мы не гоняли птиц из наших садов, разрешали им есть наши вишни и виноград. Наверное, поэтому к нам хорошо относились и аисты. Они ведь чувствуют, где живут хорошие люди. И только там селятся или отдыхают. Недаром говорят, что аисты приносят счастье. Они, пролетая весной и осенью, всегда на несколько дней делали остановку на наших водонапорных башнях. Мы выходили их встречать всей улицей. Они приветственно кланялись и щелкали клювами, громко, как кастаньетами. Однажды они прилетели слишком рано, выпал снег, и мы их, таких растерянных, замерзших, кормили. У нас с птицами была хорошая дружба. Мы жили как два дружественных мира, как две соседние планеты, не мешая друг другу и проявляя друг к другу уважение и оказывая почести.
Его убили весной. Когда он уже пустил соки. И на ветках появились клейкие листочки. Когда мы приехали откуда-то, на его месте зияла только яма от выкорчеванных корней. Поселился тут какой-то. Купил здесь у нас дом. Принялся что-то достраивать. Поставил высоченный забор, из-за которого долго слышен был звук электропилы. Мы не могли понять, что он делает, потом забрались на свой чердак, посмотрели оттуда и поняли: он вырезал фруктовый сад. Потом взялся за дуб. Мы не могли подумать, что он убьет наш дуб. Во-первых, он рос не на его территории, и мы в свое время даже изменили направление дороги в наш переулок, чтобы наш дуб жил спокойно. А во-вторых, наш дуб — этим мы тоже очень гордились — был отмечен на всех топографических картах нашей страны. Вот как!
Когда все были или на работе, или в отъезде, а в квартале было почти пусто, они его убили. Говорят, там трудилась целая бригада. Дуб из последних сил цеплялся корнями за жизнь. А нас в это время не было. И наших соседей не было. Никто его не защитил. Его разрезали на части, вывезли куда-то и продали.
Да, мы выясняли зачем. Нам объяснили, что этим мешают корни. Мы выяснили, кто они такие. Семья переехала из дальнего глухого села. Заработала на перепродаже машин и переехала. Рисковое занятие это — продажа автомобилей, надо еще уметь — гонять подержанные машины из-за рубежа. Не всякий возьмется. А труд на земле, он ведь что — он ведь неблагодарный. Каждый день вставай, корми домашнюю скотину, лечи, утепляй сараи, а доить — руки же не казенные. И платят мало. И не всякий возьмется.
Мы даже пытались выяснять, кто разрешил убить наш дуб. Чиновники вяло кивали друг на друга. Нам и так все было ясно: кто-то заработал на бумажке с разрешением, кто-то — на продаже дерева.
Сейчас там строится новый дом. С колоннами и подземным гаражом.
Во дворе перед домом стоит огромная пластиковая декоративная корова.
Хозяин ни с кем не здоровается. Да мы, собственно, тоже не очень стремимся знакомиться. Пришел и за несколько дней захватил и уничтожил живой мир. Пришел со своими правилами, своими законами и убил целую живую планету. Снес большой, шумный радостный живой дом. Уничтожил нашу память, а что ему — наша память.
У нас в квартале сейчас очень тихо. Летают только совы-сплюшки и кричат по ночам. Говорят, они предвещают беду. А мы же знаем — вещунам надо верить.
Этим летом нечем было дышать. Все говорили — дышать нечем.
А мы отвечали:
— А деревья? Деревья где? Старые срезали, выкорчевали. Новые не посадили. Чем дышать?
Дочь моя и ее друг посадили аллею фруктовых деревьев. Купили красивые саженцы и посадили рано утром. Бегали поливать. Пришли как-то утром, а саженцев нет. Кто-то выкопал. Украл. Одна надежда, что где-то за чьим-то высоким забором они все-таки растут. И по ночам выделяют кислород. Чтобы людям было чем дышать.
Господи, какая же у нас теперь в переулке мертвая тишина.
— А как же аисты? — тихо спросила Лора.
— Не прилетали, — убежденно подсказал мне ответ Сережа.
— Не прилетали, — подтвердила я.
* * *
Лора усадила нас в машину и уверенно повезла нас дальше.
Золото скифов и таинственная пектораль
Там было пусто и свежо. Что за время, когда не видно было ни туристических групп, ни паломников, ни-ко-го? Казалось, что мы там были одни. Не считая охранников и хранительниц музея.
Сколько воздуха в лавре, сколько силы и простора! Сколько мудрости и чудес небесных! Мы даже немного успокоились после тяжелых разговоров.
— Сегодня мы пойдем смотреть пектораль. И все. Больше тебе сегодня ничего не надо смотреть. Ты должна это запомнить. Пошли! — скомандовал Сережа.
Уставшая и замотанная, я принялась ныть, что про пектораль я учила в школе, видела ее тысячу раз на фотографиях.
А Сережа с Лорой знай неслись через открытые площади лавры, не прислушиваясь к моему нытью. Потому что они знали, что делают. И были уверены, что увидеть пектораль мне было необходимо.
Собственно, как всегда, они были правы.
Да, мы видели украшения, кубки, головные уборы, снаряжение для коней — тонкая ювелирная работа. Но все это меркнет по сравнению с пекторалью.
Миниатюрные фигурки коней, коров были выполнены с таким мастерством, с такой любовью и с таким юмором, что меня опять поманила история, играя очами и водя плечиками, мол, глянь, какие у меня люди. И они есть, только там, далеко. Они есть. И эта пектораль — знак, что они есть.
— Посмотри, — сказал Сережа, — как припаяны фигурки к основе. Так аккуратно и незаметно это можно сделать только при помощи лазера.
— К-какого лазера в четвертом веке?!
Мы уставились друг на друга. А серьезная мудрая Лора отозвалась:
— Значит, мы многого еще не знаем.
— Ино… — начала я.
— …плане… — тихо и осторожно продолжил Сергей.
— …тяне? — спросила я.
— Это значит, — твердо сказала Лора, — что мы многого еще не знаем. Пошли, померяем диадемы.
— Куда?
Лора подошла к витрине, где на темном бархате выставлен был золотой головной убор, а по бокам висели тяжелые височные украшения. Она отразилась в стекле, и оказалось, что Лора стоит в диадеме, а на висках у нее золотые колты.
— А я? Я тоже хочу!
Но витрины делались для Лоры. Не для меня. Мне приходилось вставать на цыпочки и балансировать, чтобы увидеть себя в короне, в колье или колтах. У Лоры величественное царское лицо. Длинная шея. Ей так шла вся эта амуниция. А я выглядела как петрушка из кукольного театра, которому по ошибке надели чужую шапку. Эх, не быть мне княгинею, а царицей и подавно.
— Ничего больше не надо смотреть. Давайте посидим. Подумаем.
Сережа еще долго рассказывал о пекторали, загадка которой не давала ему покоя. Мне кажется, в моем лице и он, и Лора нашли хорошего слушателя. Я вообще очень люблю слушать очарованных людей. Слушать и любоваться.
Чтобы продлить волшебство, Сережа повел нас какими-то узкими дорожками, вглубь строений, и завел нас в маленькую трапезную (для своих — а Сергей и тут был свой) и накормил домашним обедом. На стол подавала неулыбчивая девочка в белом платочке, послушница. Даже когда мы прощались и расхваливали обед, она сдержанно попрощалась, но так и не улыбнулась.
— Ну ты уже можешь сказать что-нибудь? — поинтересовались оба: Лора и Сережа.
— Могу. Когда мы вышли из залов экспозиции «Скифское золото» и перешли в зал, где находится выставка облачения и наград современных наших священников, я бродила среди этих шитых золотом риз, звезд и крестов в бриллиантах, изумрудах и рубинах, я примеряла каждый камешек в украшениях и облачениях к цене одной операции больного ребенка. К цене обследования и ежедневного анализа крови. К цене послеоперационной реабилитации. Просто к цене ремонта в известных, но таких бедных клиниках, где работают врачи мирового уровня, к цене ремонта палат, где ночью моему знакомому, моему маленькому другу, шестилетнему Назарчику с ДЦП, и его маме не дают спать тысячи тараканов.
Я, наверное, не совсем права… Я, наверное, неправа.
Или что?
В Кишинев возвращаются
— Зачем ты едешь этим страшным автобусом?!
— Ну, во-первых, больше туда ничего не идет. Разве только с котомкой и пешком.
— А во-вторых…
А во-вторых, мои персонажи — герои, авантюристы и рыцари, правдоискатели и мошенники, пираты и викинги, мушкетеры и гондольеры, красавицы и чудовища, обожаемые мной участники большого представления под названием «Дорога» или, бери выше, «Жизнь», это уж как читателю понравится, — они уже сидят, смотрят на часы и нетерпеливо ждут, когда я тоже усядусь на свое место и очередной мой автобус покатит по дорогам навстречу приключениям.
Ну что ж, не в первый раз и, хочется думать, не в последний, медленно выруливая, в повествование въезжает карета… Ой, нет. Шарабан? Дилижанс? Тоже нет. Вплывает парусник? Гондола? Ладья? Ковер-самолет? Нет.
Обычный затрапезный старый скрипящий мини-автобус.
Два стеклянных шарика
Багажник этого сомнительного транспортного средства плотно замуровали торбами. До потолка буквально. (Я была так потрясена, что вот эта арба собирается в таком виде переезжать границу между двумя государствами, что никак не могла вспомнить слово «баул», такая гигантская клетчатая бесформенная сумка, символ современного коробейника-челнока. Кто-то в начале девяностых хорошо разбогател на изобретении этого вот легендарного багажного средства.) То есть мой чемодан и чемоданы других пассажиров уже некуда было поставить, кроме как в проход. Так и переступали входящие и выходящие через мой элегантный серебристый кофр, постепенно затаптывая его ногами. Кто-то даже пытался на него присесть и сплюснуть.
— А как же мы со всем этим поедем? — Я только растерянно указала в сторону замурованного багажного отделения.
— Так когда машина тяжелей, оно ж мягче будет ехать! — убежденно парировал водитель мои беспомощные взмахи руками.
Оказалось, что рядом с основной своей налогооблагаемой деятельностью этот самый водитель международного мини-автобуса «Спринт» широко делал и другой бизнес — налогонеоблагаемый. И, как всегда, с любопытством я приготовилась смотреть, как же он, такой предприимчивый, переедет границу со всем этим барахлом. К слову, граница с Молдовой у нас рядом. А ну, а ну, думала я. Как, интересно, он будет с ними объясняться? Ну с таможенниками? А и ничего! Легко проехав одну таможню, другую, уверенно помахав ладошкой всем, видимо давно знакомым мастерам досмотра и пограничникам, водитель тронул автобус и въехал в страну Молдову. Одно утешало: если бы его багаж представлял угрозу, то ни с одной стороны, ни с другой не стали бы с ним церемониться. Видимо, подторговывает он чем-то вроде обуви или одеял, например. И на него давно махнули рукой, тем более он, по всей вероятности, с ними со всеми делится, одаривает, черт его знает что еще.
Как-то я ехала в Москву в вагоне почти пустом. Правая рука у меня была в гипсе. Перед границей проводник вошел в мое купе (я была там одна) и втащил огромную бесформенную, забитую чем-то сумку. Да-да, именно баул.
— Скажете, что это ваша! — велел он приказным тоном бывалого прапорщика, запихнув клетчатого монстра в рундук.
— Нет. Не скажу.
— Почему? — удивился проводник. Он вел себя так, как будто вагон был его собственностью, и я находилась то ли у него в гостях, то ли у него в плену.
— Во-первых, я не знаю, что там…
— А какое ваше дело? — набычился проводник. Вот же балбес совсем.
— А во-вторых, я вам не подхожу. Я не умею врать и могу сказать лишнего. На допросе. Рассказать, как вы…
— Тэк! Ладно. Запомним, — пообещал проводник, вытащил из рундука сумку и поволок ее в соседнее купе.
Никогда, ни на какой границе меня не проверяли так тщательно, так внимательно и так придирчиво, как в тот раз. Одной рукой мне приходилось вытаскивать свой саквояж (вторая была в гипсе, я говорила?), открывать его, отвечать на вопросы, открывать сумочку, показывать, что там внутри, открывать косметичку, распаковывать коробки с подарками, пакеты с колготками…
В спину очередной уходящей, наконец, таможеннице я пробурчала:
— А что ж зубную пасту не выдавили?
Таможенница, молодец, обладала острым слухом и по-киношному остановилась — говорящая такая спина, как в шпионском фильме, — и не оборачиваясь:
— Что вы сказали?!
С тех пор я стараюсь не иметь дела, не встречаться глазами с теми, кто меня перевозит, отвечает за мой комфорт и безопасность. Потому что ни черта они не отвечают ни за что, а наоборот — плюют на все и всех. (Не все. Не все. Те, кого я имею в виду.)
На этот раз водитель делал бизнес не один. С ним ехали его теща и его мама. Две крупные женщины. Уверенные. Басовитые. Хмурые. Строгие. Как надзирательницы исправительной колонии. Очень крупные. Я говорила, что крупные? Ах да. Так вот — очень-очень крупные. Настолько крупные, что обе заняли по два места впереди, сразу за водителем. И там каждой из них было тесно. Женщины командовали пассажирами, указывали, кому куда сесть или встать, кому что делать и как себя вести: вы, мужчина, руку уберите, там беременная встанет. Ей тесно. Беременная, иди вон туда. Да сдвиньте вы этот чемодан! Или нет, беременная, садись на чемодан. Солдатик, чего ты встал? Тебе выходить уже. Как это, еще не уже? Вон же комендатура, иди давай. Не надо тебе в комендатуру? Точно? А чего встал тогда? Ну ладно, садись, беременная, на место солдатика. Раз он такой вежливый.
Короче, я сразу почувствовала себя достаточно комфортно: путешествие наше началось, меня ждали приключения, и я стала приглядываться и прислушиваться. Мы все как будто оказались заложниками этой бойкой семейки. И теперь от них зависело, какой дорогой и куда нам ехать, как нам быть, как нам жить, когда есть, когда дышать и так далее.
Автобус наш останавливался в совершенно неожиданных местах.
Например, вдруг остановился в чистом поле. Рядом с дорогой на деревянной, грубо сбитой лавке (откуда она там взялась?) сидел человек. Спокойно, неподвижно сидел, положа руки на колени, безмятежный, как Будда. Ждал. Водитель вышел, сел рядом с человеком и тоже положил руки на колени. Они стали молчать и смотреть перед собой. Посидели. Помолчали. Минут десять. Водитель вдруг резко встал. Положил на лавку что-то, по-видимому деньги. И пошел на свое место у руля. Человек так и остался сидеть и смотреть перед собой. Грустный такой. Большой. Обиженный.
На каждой остановке эти трое — две мамаши и сын-зять — с пыхтеньем тягали туда-сюда какие-то свертки: выносили желтый пакет, вносили оранжевый. Выносили голубой, вносили черный. Водитель открывал и закрывал багажник, куда-то бежал деловито, уносил, прибегал, приносил. А в середине пути, где стояли пластиковые грязные столы у дороги, автобус основательно встал, и семья села обедать. Женщины, тяжело переваливаясь, вылезли из автобуса, захватив один из баулов, который по их приказу пассажиры передавали через головы:
— Та не тот! Тот положь назад. Аккуратно! Отот, другой, сбоку. Та не там сбоку — с другого боку. От жеж бестолковый!
Весь наш пассажирский состав, кто с брезгливостью, кто с завистью, наблюдал из окошек этих троих с их огурцами, колбасой, газированной ярко-оранжевой водой прямо из горлышка, по очереди. И когда солдатик потерял терпение и попытался выскочить наружу с криком:
— Мы не рабы. Рабы! Не! Мы!
— Вы-вы… — спокойно парировала то ли теща, то ли мама водительская и приказала: — А ну влазь обратно, солдатик, сейчас уедем без тебя, будешь знать.
Солдатик оробел, послушался и забрался в салон.
Две девушки в странных костюмчиках, вроде бы и спортивных, но бархатных и в стразиках, отчаянно замахали нам на перекрестке и влезли в переполненный наш «Спринт». Одна полненькая, вторая худенькая. То ли теща, то ли мама опять старательно перетасовали пассажиров, и девушки оказались в разных концах автобуса. Но не огорчились и принялись перекликаться оглушительно, как в поле или в горах.
Мамаши смотрели сурово то на одну, то на другую. Девушки не обращали внимания.
— А ну включи! — приказала то ли теща, то ли мать.
И водитель, чтобы заглушить беседу девушек, включил. Не знаю, что было хуже — то ли крики этих двух в стразиках, то ли «младший лейтенант, парень молодой…» — скулеж безголосой императрицы, любительницы потанцевать и пофлиртовать с юными лейтенантами.
— Аээоэ! — прокричала полная девушка другой, которая худенькая.
— Что? А? — не расслышала худенькая.
Пассажиры, которые стояли и сидели между переговорщицами то ли от скуки, то ли от жалости устроили живой телефон и передавали друг другу, что сказала девушка.
— Она сказала, что забыла телефон в общежитии, — передавали по цепочке от полной девушки.
— Ничего, будет звонить с моего. У меня есть все номера с ее телефона, — худенькая.
— У нее есть все номера, передайте, пусть не волнуется.
— Как это все номера?! — Это полная девушка, когда ей пришел ответ с другого конца автобуса.
— Как это все номера?
— Как это все номера?
— Почему все номера?
— Все номера?
Это пассажиры передают.
— А так! — хвастливо отвечает вторая, худенькая.
— А так!
— Ну… так.
— Так получилось.
— Ну почему-то так, — это пассажиры передают толстушке.
— И Семена телефон есть?! — толстушка.
— И Семена?
— А Семена?
— Семен есть в телефоне?
— Есть Семен? — пассажиры.
— Ага. И Семен есть, — хвастливо худенькая.
— Есть Семен.
— Да, есть.
— Увы, есть Семен.
— Представляешь, а Семен-то — есть.
— Есть телефон Семена. (Вот стерва, да?)
— Семен-то дал ей свой телефон! — пассажиры.
Полная что-то буркнула и замолчала. Худенькая что-то проорала, но пассажиры солидарно с полненькой тоже замолчали. Вот же подлая, Семена телефон где-то достала. А еще подруга! И Семен тоже хорош.
— Что она сказала? — спросила худая.
— Она на тебя обиделась. Так друзья не поступают.
— Обиделась она. Так не делают!
— Обиделась. Предательница.
— Ты зачем Семену звонишь? Она поэтому обиделась. Он же ей нравится, наверное, а ты ему звонишь, вот зачем?!
— А ваше какое дело? — хмыкнула худенькая, на остановке вышла первой и стала поджидать подружку. Пока толстушка пробиралась по салону, пассажиры ободряюще что-то говорили ей, а солдатик сунул в руку бумажку с номером своего телефона:
— Меня Игорь звать. Позвони мне, ладно? Только со своего телефона. Позвонишь?
Все пассажиры:
— Позвони!
— Позвони ему?
— Позвони ему обязательно! Только подружке своей телефон нашего солдатика не давай.
— Позвонишь?
— Ты позвони. Он хороший. Он беременной место уступил и дал ей воду и половину пирожка с сыром, — это сказала то ли мамаша, то ли теща.
Толстушка вышла из автобуса победительницей, сияющая и довольная. Солдатик махал ей в окошко, она помахала в ответ бумажкой с номером телефона, развернув пальцы, поднесла их к уху, мол, позвоню-позвоню. А затем, подмигнув, сунула бумажку с номером не в сумку, а в лифчик под нескромно, чуть ниже, чем надо, расстегнутую «молнию» спортивного бархатного костюма в стразиках, который своей пошлостью так и не смог испортить девичью яркую, свежую молодую красоту.
Пассажиры ликовали, смеялись и аплодировали. Солдатик краснел и счастливо улыбался.
Как-то, болея гриппом, в вынужденном безделье я «серфила» Интернет и нашла пост, каких много в Сети и которые, как правило, читают и «перепощивают» школьницы старших классов. Не знаю, что именно привлекло меня… А, вспомнила — картинка. На фотографии была прозрачная пластиковая банка с яркой крышкой, наполненная разноцветными шариками. Шарики — marbles — стеклянные разноцветные шарики, моя давняя любовь, такие волшебные шарики, секрет которых еще не раскрыл ни один ребенок. В такие, между прочим, только алебастровые, играл Том. Ну какой-какой… Сойер, конечно. Шарики, что были дороже всяких сокровищ. И один шарик, такой драгоценный, он подарил Бекки Тетчер. Девочке в платье на крахмальных нижних юбках, и в белом фартучке, и в шляпке, дочери судьи, Бекки, прекрасной, единственной на свете Бекки. И эта девочка обиделась на Тома, что он с кем-то там до нее уже успел поцеловаться, разрыдалась и этот шарик бросила в камин. А почему обиделась? Между прочим, за дело. Это ведь важно для девочки, чтобы ты была для кого-то единственная на свете, разве нет? Ну да, я отвлеклась.
Короче, в этом интернетовском посте были банальные прописные истины, но задело меня предложение автора — наполнить банку каким-то количеством шариков, поставить на полку или подоконник и каждый день выбрасывать из банки один шарик. Куда-нибудь в такое место, где ты не сможешь его подобрать и вернуть на место, в банку, например в пропасть. И тому, кто решится на такое, будет отчетливо видно прямо на собственном подоконнике, как уходит его жизнь, как пустеет его банка с выделенным ему Небесами временем, с подаренными ему жизнью чудесами, с восходами и закатами, с его любовью, с его встречами и прощаниями, с его путешествиями и обедами с друзьями, с его пустыми разговорами и неприятностями. То есть эта странная, притягивающая, гипнотизирующая банка отчетливо давала тебе понять:
«Том! (Ну или не Том, а другой какой-нибудь человек.) Не трать время даром! Сегодня вечером тебе предстоит выбросить в пропасть еще один день твоей жизни. Вон тот, желто-зеленый… Цвета глаз влюбленной в тебя девочки…»
«Как страшно. Это ведь очень страшно, — сказал на это мой муж, — не делай этого. Никогда этого не делай. Я не хочу это видеть на своем подоконнике».
А он редко чего-то боится. Я, конечно, не стала заводить себе такую банку, роковую, знаковую… Зачем, если у меня и так хорошее воображение. Она поселилась у меня в голове и начала тикать, отсчитывая мои дни, указывая на бесполезно проведенные в унынии часы, дергая меня за плечо, — что ты сидишь, помни про шарик. Желто-зеленый. Цвета твоих глаз.
И вот, когда мы все, пассажиры, сидели в жарком автобусе «Черновцы — Кишинев» и терпеливо ждали, когда водитель завершит еще один свой ловкий гешефт, я услышала шорох: сквозь пальцы, как песок, утекала моя жизнь, вот-вот я должна была выбросить желто-зеленый шарик. Он с глухим стуком или совсем неслышно должен был где-то исчезнуть, утонуть, затеряться. Такой красивый полупрозрачный, в извилинах, в ямочках, теплый на ощупь, как живая, хоть и крохотная, планета. И его мог поднять какой-то изворотливый водитель микроавтобуса или его теща. И засунуть себе в карман, а потом бросить с глухим стуком в свою банку на своем подоконнике. Они могли бы использовать его для чего-то — для своего бизнеса например… И я сидела, чувствовала кожей, сердцем, как убивают весенний день моей жизни, и ничего не делала. Ждала и видела, как эта предприимчивая семейка нанизывала наши — всех моих попутчиков и мои — шарики и делала из наших многоцветных теплых планет дорогие яркие бусы. Чтобы выскочить из автобуса где-нибудь и продать их.
И когда водитель соскользнул, как тюлень, со своего места, уселся в ожидавший его автомобиль и умчался куда-то вдаль, а мы тупо остались подсчитывать оставшиеся шарики в своих банках, моя чаша терпения, стоявшая в моем воображении рядом с моей банкой времени, дала трещину, и я решила обратиться к одной из водительских мамаш. Но она в это время переодевалась как у себя дома. Сняла клетчатую мужскую рубашку — плевать ей было, смотрят на нее или нет, она была у себя дома — и натягивала искусственную, почти пластиковую кофту, зеленую. Ярко-зеленую кофту, всю в полосках блестящей, как елочная мишура, бахромы. Водительская мамаша застряла в кофте, возилась там, ее голова попала сначала в пройму рукава, не пролезла, потом никак не появлялась в вырезе. И в результате она стала похожа на большую зеленую гусеницу — шевелились, поднимались и опускались, волнами ходили эти блестящие волоски на мамашиных складках по всей ее спине… «Бедная, бедная, — думала я, — она никогда, ни-ког-да уже не сможет стать бабочкой». И шарики ее жизни летят и летят в пропасть, глухо стуча и разбиваясь о скалы… Все завороженно следили за навязанным нам всем стриптизом и не заметили, как подъехала машина и наш водитель бодренько скакнул на свое место и завел мотор. Вот уж кто не терял времени даром, но шарики в банке его жизни были одинаковые, бесцветные, гладенькие, без всяких ямочек и впадинок.
— Да что же это такое?! Почему мы все таскаемся по делам этой предприимчивой семейки? — возмутилась я вслух.
— «Соломенную шляпку» смотрели? — вкусно округляя гласные, с мягким молдавским акцентом спросил пожилой куртуазный благообразный дедушка. — Чем дальше, тем больше мне кажется, что нас возят в поисках того самого головного убора. Как думаете?
Семейка с озабоченным видом проводила совещание, не обращая внимания на ропот пассажиров. Видно, все у них шло не так. В Кишиневе на автовокзале, когда пассажиры высыпали наконец облегченно из автобуса насовсем, эти трое, расстроенные, с мрачными мордами, остались сидеть в салоне, звонили куда-то со своих телефонов, им не отвечали — видимо, покупатель их одеял или чего-то там, что было в горе баулов в багажнике, затмивших нам весь белый свет и радость путешествия по весенним дорогам, не пришел.
Иногда мои друзья и родные, предупреждая, кричат:
— Молчи!
Особенно когда чиркает по небосводу звезда, или я оказываюсь между двух людей с одинаковым именем, или падает ресничка, и я всегда угадываю, с левого глаза или правого, или меня угощают чем-то новым, или просто кто-то говорит: «Загадай желание».
— Молчи! — кричат мне. — Сначала хорошо подумай. Мы тебя знаем. Как загадаешь, так сразу и начнется.
Нет, я готова молчать. Но что делать с тем, что уже написано в моих книгах? А Света Борта, друг мой из Кишинева, моему читателю уже знакомая из первой главы о поездке в Кишинев, очень занятая бизнес-леди, пиар-менеджер большого агентства, находит время для чтения и очень внимательно читает именно мои книги. Вни-ма-тель-но!
В одной из книг — вот ей-ей, для красного словца — я написала, что жизнь прожила, а на воздушном шаре не летала. Света мало что красивая женщина, талантливая, умная, мало что прекрасная мама юноши Антона, который и сам является незаурядной личностью (я о нем тоже писала в предыдущей главе о поездке в город Кишинев), мало что ее знает вся страна, а также другие страны Европы, мало что она невероятно щедрая, последовательная и очень цельная, как крепкое тугое пшеничное зернышко, Света — человек-инструмент. Нет, не рояль, не скрипка, не арфа. Она — инструмент Небес. Она деловито помогает Небесам выполнять самые сокровенные человечьи желания. Она не просто выполняет желания, но и чувствует себя при этом невероятно счастливой. И поскольку она прочла мою книгу, увидела там, что все мои желания практически сбылись, кроме одного — путешествия на воздушном шаре, смекнула:
— Ага.
— Ой… — ответила на ее предложение я.
— Да-да! Все решено! — тоном, не терпящим, как говорится, возражений, ответила Света. — Будем выполнять… желание.
Тогда я подумала, что, скорей всего, буду занята: два концерта за три дня, много встреч, выступлений других, любимых мной литераторов, актеров, музыкантов, лекции театроведов, литературоведов, политологов, философов. Отговорюсь, подумала я. Ну куда мне?! Трусливой. С очевидной акрофобией, навязчивой боязнью высоты. Как-то я писала, что даже мультфильмы со своими детьми не могла смотреть, если там персонажи с клейкими пальцами, вырабатывающими паутину, или с ушами летучей мыши лезли куда-то наверх и оттуда сверху отважно прыгали, сползали или кричали, потому что не могли слезть. Да что там! Книги Жюля Верна (я говорила, что у меня воображение?) — и биография великого романиста, где про его полеты над Атлантикой, хоть и были привлекательны и вызывали восхищение бесстрашием людей, что поднимались в небо на аэростатах, все же порождали у меня ужасное головокружение и страх. Тем более Жюль Верн и сам потерпел крушение. Нет-нет, решила я, обязательно буду занята. Очень занята.
Свободное «окно» во времени Света нашла сама.
А как она меня обрабатывала!
В вечер моего приезда она примчалась в отель нарядная, в роскошных, как мне показалось, пестрых пижамных штанах (как же они ей шли, эти штаны!), в каком-то невообразимом шикарном жилете, прихватив с собой от вечерней прохлады изумительный белый шарф-палантин, вышитый бисером. На палантине, как живые, бегали, сновали, блестели, сверкали и переливались нежные синие птицы на бело-серых хрупких ветках. В обеих руках Света тащила в фирменных пакетах горячие плацинды, конфеты и вино. Сияюще-красивая и, как выяснилось потом, по уши влюбленная, она появилась в дверях моего гостиничного номера. И с ее приходом заиграло все вокруг, стало праздничным, радостным, в номер принялись стучать как бы между прочим другие участники конференции, кто приходил с чайником, кто со стаканами, кто с пирожками, кто просто заглядывал на шум и смех.
— Тысячи… Миллионы людей мечтают подняться в небо на воздушном шаре, — помахивала Света перед моим носом пальчиками, собранными в горсточку, — а вы что?! Это же впечатление на всю жизнь! Бросьте себе вызов в конце концов! — гнула свою линию Света, ей и в голову не могло прийти, что она не сможет затащить меня на борт… Вернее, в корзину. — Набор высоты, скорость и прочее совершенно не чувствуется, вы наслаждаетесь чувством свободного плавания. Вы как будто медленно вальсируете в воздухе. В конце концов, вы сможете объять необъятное! Вот увидите.
— А корзина, — немедленно уловив мою тревожную мысль, сообщила чуткая Света, нарезая плацинду, — сделана из виноградной лозы. Поэтому она прочная, гибкая и упругая.
— Но… Я даже боюсь смотреть вниз с балкона второго этажа… — робко возразила я.
— Хм… Сравнили! Корзина — это же кор-зи-на. Это ж не балкон! — Света постучала кулачком мне по лбу. — Что за глупости! Балкон — это обыденность, это проза, тривиальность, — объясняла Света, подсовывая мне и сама аппетитно поедая горячий ломоть плацинды с сыром, — а корзина под аэростатом — это небо, воздух, поэзия. Это чудо. В корзине вы не будете бояться.
— Буду. Но никто об этом не узнает. По мне не видно.
— Да вы когда попадете в корзину, когда вы подниметесь в воздух, когда вы будете плыть по небу… Да вы просто не поверите всему этому. Поэтому страху не будет там места. Феномен аэронавтики в том, что все летают стоя. А если ноги имеют твердую опору, человек чувствует себя в безопасности. Между прочим, стоя (а не лежа или сидя) человек быстрей выздоравливает! — убежденно закивала Света в знак согласия со своей же сентенцией, встала и произнесла тост: — За тех, кто в небе.
— Эээй, ладно! — Красное молдавское вино сделало свое дело, и я, как Скарлетт, решила подумать об этом завтра. Или послезавтра.
Послезавтра пришло быстро. Буквально два стеклянных теплых шарика — и уже послезавтра. Света появилась в холле отеля и ужасно раскомандовалась:
— Наденьте брюки. Возьмите курточку. Там, на высоте, может быть прохладно.
— А вдруг это еще не сейчас, а вдруг это еще не за мной… — надеялась я, разглядывая поданный ко входу в отель автомобиль.
— За вами, за вами! Аэростат практически уже под парами, — Света распахнула дверь такси, — поехали! Да, кстати, когда аэростат будет садиться, не забудьте взяться за специальные петли и присесть. Ну, вообще-то, с вами проведут инструктаж. Но вы от волнения можете не услышать. Поэтому я говорю вам сейчас.
— А за-за-зачем надо приседать?
— Ради вашей же безопасности.
— Но вы же сказали…
— Вот поэтому и надо приседать.
— Света, — заныла я, — наверное, я не полечу.
— Как хотите, — Света пожала плечами, обиженно глядя перед собой, — советую подумать. Ехать полчаса. — Светин профиль посуровел, застыл и засеребрился, как абрис королевы на старинной монете, королевы строгой и неподкупной.
Водитель с интересом посмотрел в зеркало заднего вида. Я одними губами прошептала ему:
— Па-ма-ги-тииии…
Водитель отвел взгляд. Они там все были заодно. Они все хотели одного. Чтобы я переборола себя и бросила вызов этой трусихе, то есть себе, чтобы я доказала родным, друзьям, читателям своим, что я настоящий писатель. И если писатель пишет о Северном полюсе, он едет на Северный полюс, испытывает там лишения, холод и встречи с белыми медведями. Если он пишет о путешествии на воздушном шаре, значит, должен подняться в небо, а потом описать свои ощущения. Если не свалится там, наверху, в обморок и что-нибудь запомнит.
Когда мы подъехали к салатовому, по-весеннему нарядному лугу, как раз в специальной машине туда подвезли корзину в кузове и принялись ее сгружать. А на лугу развернули красно-черное полотно, включили промышленный ветродуй, как на киностудиях, и принялись надувать это вот полотно, которое впоследствии оказалось тем самым аэростатом, а в просторечии невероятно гигантским воздушным шаром.
— Света, я, наверное, не полечу… — опять заныла я.
Света опять пожала плечами и опять, не глядя мне в лицо, ответила:
— Как хотите.
Все эти ребята, что обслуживали шар, были невероятными красавцами. Поджарые, спортивные, под их одинаковыми футболками с названием аэроклуба мышцы так и играли. А вокруг девушки-пташки собрались стайками, пищат, ахают, взвизгивают, хихикают, глазки строят, такие хорошенькие все, а ребята эти, которые с шаром возятся, по сторонам не смотрят, а, сурово сцепив зубы, деловито растягивают тросы, цепляют их за колышки в земле и привязывают к автомобилю, чтобы шар не улетел раньше времени.
— Свет, Свет, — дергаю я за рукав Свету, мы обе любуемся, как эти аэронавты, эти штучные люди снаряжают шар необходимым: балластом, газовыми баллонами, — как они устанавливают на траву корзину, — Свет, откуда такие красавцы здесь? Они что, из кино?
— Ну… Один из них так точно в кино снимается. Эй, — Света позвала по имени крепкого, сбитого, ладного в бандане и темных очках (ой, где юность моя, где!), — ты кого играл в последнем кино? Бандита?
— Да. Полицейского, — не оглядываясь, ответил Ладный, изо всех сил сдерживая корзину, что под силой раздувающегося шара перевернулась вместе с двумя ребятами. Те ловко переступили в корзине, сгруппировались и не упали, а остались стоять.
Мимо со свистом, рычанием и гиканьем промчалась целая стая мотоциклистов, обдав нас выхлопными газами.
— Вот! — вдруг разволновалась Света и ткнула вслед им пальцем. — Их даже страховать не хотят! Я сама видела. В страховом агентстве. Мотоцикл? О нет! Или большую сумму берут. Меня тоже вот страховать не очень-то и хотели…
— Почему? — удивилась я.
— Ну из-за шаров, — Света подбородком кивнула на повисший перед нами в воздухе гигантский величественный фантастический по красоте шар.
— Ой… Я, наверное, не полечу. Что-то мне на земле побыть охота… Зелень. Солнышко, — запаниковала я третий раз, но по мне не было видно. Опять я стала искать Светин взгляд, а она на меня не смотрела и вот-вот должна была окончательно обидеться.
— Паспорт взяли с собой? — как бы между прочим спросил пилот. (Про пилота потом отдельно. Девушки! Пилот, девушки! Ой, девушки, какой пилот!)
Паспорт? Он сказал «паспорт»?! «Это зачем же паспорт?» — запаниковала я в который раз, но вслух вопрос не задала.
— А как туда забираться? — спросила я Свету. — Я ж думала, там дверца какая-нибудь.
— Ага. И лакей, — отозвалась Света. — Вон видите окошечко внизу корзины? Туда ставите одну ногу, вторую забрасываете на борт корзины и перепрыгиваете внутрь. Понятно?
— Так я лечу?
— А как иначе? Конечно, летите.
— А куда?
— В Кишинев. — И тут Света в первый раз за все время, что уговаривала меня, произнесла правильную фразу. То, что я должна была услышать с самого начала: — Если ветер не переменится.
Ключ. Знак. Привет из Великобритании. Из моей веселой Англии. Если ветер не переменится — машет мне английская няня, летящая в небе на зонтике, подмигивает с яркой обложки моей собственной книжки.
Как я могла еще ломаться и капризничать? Лететь. Конечно же, лететь! Даже если ветер переменится — все равно лететь.
Я ринулась к шару и первая кое-как забралась в корзину.
Вместе со мной в путешествие собралась милая пара влюбленных молодых людей, журналистов, Инна и Андрей. А четвертым в корзину влез совершенно отвязный беззаботный, обаятельный Ваня.
Так. Сейчас про пилота. А уже потом про Ваню, ладно?
Один из лучших пилотов Европы. Ему подошло бы и золото кружев розоватых брабантских манжет. И рыцарские доспехи. И шлем викинга. И плащ тамплиера, и тога римского военачальника. И элегантный костюм современного дипломата высокого ранга. Аристократичный, при этом открытый, дружелюбный, обаятельный… Не орал на нас четверых, ничего. Был терпелив, мягок и подчеркнуто вежлив.
Я сразу про себя стала звать его Капитаном S. Капитан — потому что выглядел он как капитан дальнего плавания, хоть и не по воде, а по воздуху. S. — потому что это была первая буква его имени. Но его я вам, девушки, не скажу. Ишь чего захотели!
— Господа, — он обратился к нам галантно, — вы должны слушаться моих указаний и спрашивать разрешения, что бы вы ни захотели предпринять.
Я представила себе, что спрашиваю его, такого интеллигентного молодого красавца, который на «ты» с небом и на короткой ноге с ветрами:
— А не позволите ли мне, господин капитан, свалиться тут у вас, в корзине, в обморок?
Но промолчала. Света выполняла свою задачу — она снимала меня, позеленевшую, на камеру. Для моей мамы и мужа. Для моих детей и внуков. Для читателей. Для меня.
— Когда будете подыматься, — велела Света, — перегнитесь через борт корзины и помашите рукой! Потомкам! Ладно? Только широко. Я буду вас снимать.
Забегая вперед, скажу: когда мы подымались, я не то чтобы перегнуться — я посмотреть вниз боялась, а на Светин крик снизу аккуратно выставила пальцы ладони и ими робко поводила. Помахала. Потомкам.
Нас, четверых пассажиров аэростата, поставили в корзине по сторонам света. И если бы мы хотели поменяться местами, мы должны были спрашивать разрешения у Капитана S.
Ну все, больше откладывать было некуда. Все эти кинозвезды-аэронавты дружно и ловко принялись отвязывать канаты, тросы, веревки. Капитан S. что-то повернул, вверх пыхнул столб огня, и шар свободно и радостно, помахивая оставшимся на земле своей корзиной, в которой находились мы, рванул вверх. Хотя нам всем показалось, что мы поднимались плавно, мягко, почти незаметно.
Скажу сразу: сильно паниковала я за это время минимум дважды. Первый раз — когда сверху увидела гигантскую тень нашего шара, что ползла по верхушкам деревьев, по полям и лугам, тень, от которой в испуге убегала ярко-рыжая молодая лиса. Второй раз — когда девушка Инна, невеста Андрея, попросила меня, намертво вцепившуюся в борт корзины, поменяться местами. И спросила у Капитана S. разрешения. Я рассчитывала, что он ответит: нельзя, а он ответил: можно. И вот, когда мы стали меняться местами, корзина на какое-то время заплясала под нами. Но заметьте, я не ныла, не скулила, не просилась назад. (А смысл? Шар опускается только тогда, когда в баллонах заканчивается газ.) Я молчала, поскольку обнаружила, что потеряла дар речи.
Итак, мы поднимались плавно, мягко, почти незаметно.
Влюбленные, которые были не только женихом и невестой, а еще и журналистами, без конца щелкали своими навороченными камерами, показывая друг другу фотографии на мониторах, и, кажется, забыли, что это путешествие запланировано как романтический подарок жениха невесте.
А четвертый пассажир Ваня — это был подарок для меня, для этой вот рукописи, для моих читателей, настоящий готовый мой персонаж. Сначала, не теряя времени, он принялся фотографироваться, беспечно перегибаясь через борт корзины то спиной, то одним боком, то другим, делая селфи айфоном своим и так и этак. От этой фотосессии у всех у нас закружилась голова, но Капитан S. приказал Ване прекратить это рискованное занятие. Тот подчинился и принялся звонить:
— Але! Наташа?! Наташка! Это я. Я улетаю. — Ваня, деловито нахмурив брови, распоряжался в телефон: — А ну посмотри наверх. Наверх, наверх, Наташа! Я же вижу тебя. Вон ты, у бассейна стоишь, красивая такая в платье розовом новеньком, что я подарил тебе к годовщи… Стоп! А это кто рядом, Наташа?! А, Наташа?! Наташа! Я кому сказал. Кто это там?! Мне сверху видно все, ты так и знай, Наташа! Кто? Ааа, кумнат, уффф. (Брат мужа или жены с молдавского.) Хм, не признал. Скажи ему, что еще богаче будет. Куда я лечу? Да так. Недалеко тут. Как-как… Так попал. Оформил все — страховку там, наследство… Машину и дом на тебя, Наташа, переоформил, да. А ты как думала? Все оформил, остался голый-босый, да и полетел. Сама ты клоун, Наташа! С кем лечу? Пилот тут летит с нами. Еще кто летит? Пара одна — у них романтическое путешествие. Он будет ей предложение делать, а она соглашаться. — Мои журналисты тут замотали головами отрицательно, мол, ты зачем, Ваня! — И еще один человек, — Ваня задумался, как представить меня Наташе, — человек в курточке белой. Ну не белой, а такой, как кофе американо с молоком. Или как его… Да, Наташа, женщина, женщина! Но, Наташа! Подожди, Наташа! Она… — Ване неудобно было вслух сказать о моем возрасте, о том, что я не в его вкусе, и прочее…
— У нее внук есть… — подсказала я.
— У нее внуков полно уже, Наташа! Сколько у вас внуков?
— Один… — растерянно отозвалась я.
— Четыре! — в трубку радостно объявил Ваня. — Взрослые внуки? — Это опять мне.
— Восемь лет, — отчиталась я.
— Восемнадцать, Наташа. Младшему. А ну-ка, сделайте лицо повзрослее, — приказал он мне, наведя на меня телефон. Но тут уж я повернулась к нему спиной.
Мы проплывали над виноградниками. И между рядами лоз петляла и не могла выбраться знакомая, испуганная тенью шара молодая лисичка. А может, это была другая лиса, кто там их разберет с такой-то высоты.
Капитан S. вел переговоры по рации, постоянно докладывая, на какой высоте мы находимся и в какую сторону плывем, указывая высоту в футах, которые называл почему-то фитами, что меня, вероятно, и сбило с толку.
Вот если я буду делать тест на IQ на земле, желательно утром и желательно употребив чашку хорошего крепкого кофе, — результат будет один, а вот если делать этот тест наверху, в корзине аэростата… А чем иначе объяснить, что я быстренько пересчитала футы в мили. Причем в морские! Мы же ведь плывем! — значит, морские. Сухопутные мили — mille passuum — тысяча двойных шагов римских солдат в полном облачении — это ерунда по сравнению с милей морской. Морская миля — это же почти два километра. И когда Капитан S. запросил разрешение подняться на 1700 футов, по-ихнему фитов, я тут же представила себе 1700 миль (морских) и сообразила, что воздух уже должен быть разреженный, что дышать уже нечем и пора уже как-то мне и проявиться в наихудшем своем качестве, например забиться в истерике, начать терять сознание от кислородного голодания. Однако я помнила твердо, что в это время моя Света ехала во внедорожнике, преследуя аэростат по GPS, чтобы встретить меня как триумфатора: со щитом, а не на щите. Раскисать нельзя было.
Я попыталась успокоиться и глубоко вдохнуть: дышалось хорошо. Отлично. Восхитительно дышалось. Воздух был пьянящий, свежий, прохладный. Весь согретый дневным солнцем весенний дивный аромат медовых лугов, цветущих садов, виноградников, истекающих слезами «плачущей лозы», орошающей землю для будущих винных гроздьев, поднимался сейчас в небо и был подан нам пятерым как изысканный коктейль, чуть приправленный легким запахом от газовой горелки, но это была ерунда. Дышим глубже. Плывем дальше. Живем веселей.
— А зачем запрашивать разрешение на подъем или на спуск? — полюбопытствовал кто-то из нашей лихой, уже спаянной четверки.
— А это чтобы ПВО нас по ошибке не сбило. Как неопознанное летательное средство.
— Аааа, — бесстрашно закивали мы все понятливо. Нас, закаленных, уже было не пронять такими мелочами, как угроза ПВО, да и Капитан S. умел вселить в нас уверенность своей непоколебимостью, спокойствием и чарующей улыбкой.
Мне почудилось, что прошло много времени. Я еще осторожно пилоту — мол, у меня на завтра билет на автобус, я успею? Но оказалось, что всего-то прошло минут сорок. И вот когда шар поплыл плавно, когда мы практически, как мне казалось, замерли в воздухе, вот тогда я вдруг услышала легкий стук, звон, будто перекатывались где-то маленькие стеклянные шарики. Это (уважаемый читатель, и не сомневайся!) в мою пластиковую банку, ту, что стояла в моем воображении у меня на подоконнике, в ту самую банку, откуда за последние два года знакомые и незнакомые люди вытащили сотни шариков моей собственной личной жизни, в ту банку, куда не лез за моим временем только ленивый, или разве только самые родные щадили меня… Вот в ту самую прозрачную банку с радостным нежным игривым звоном стали сыпаться новые стеклянные шарики. Небеса, покоренные Капитаном S. и его командой, снисходительно приняли мой вызов и добавляли мне сначала минуты, потом часы, потом дни моей жизни. Сыпались и сыпались, и гулко перекатывались, и тесно устраивались шарики радостного желто-зеленого цвета моих глаз.
— Господи, — прошептала я благодарно, оглядывая мир вокруг, лежащий прямо под нами. — Господи! — Ровные прямоугольники полей и ярких майских лугов, крохотных коров и овец, пряничные крыши домов, похожие на махровую густо-зеленую ткань, рощи и леса, искристый в закатном солнце Днестр. Мы летели над миром, созданным для тихой душевной радости, светлой печали и вечной любви. Мы летели, такие счастливые, временами серьезные, иногда комичные, веселые и грустные, болтливые и задумчивые, неуклюжие и трогательные, как дети, со своими страхами, восхищением, со своими планами, мыслями… Летели, блаженно восторгаясь заходом солнца. А в это время там, где-то внизу, в моей стране шла война. Нелепая, бессмысленная, жестокая. Гибли люди. С их уходом мелело, таяло, исчезало будущее этого мира.
— Господи… — шептала я еще и еще. И Небеса знали, за что я благодарю, о чем я думаю и чего прошу. О чем молю, молю, умоляю.
И да, спасибо, Света, что вы подарили мне такой шанс подняться в небо и шептать мои молитвы практически в ухо Всевышнему. Чтобы меня услышали.
— Будем репетировать посадку, — спокойно своим мягким баритоном объявил Капитан S. — Когда я скажу «Садимся», вы должны взяться за петли в корзине, — он показал, — и присесть. Внимание, репетируем:
— Садимся!
Мы четверо цапнули петли и дружно рухнули вниз, пятыми точками своими немалыми чуть не уронили нашего Капитана, крепко стиснув его ноги. Он по службе своей оставался стоять прямо и следил за полетом.
— Молодцы, — похвалил пилот.
И мы радостно опять повылезали, как любопытные щенки, смотреть, что там вокруг.
Шар опускался все ниже и ниже, вот корзина стала задевать верхушки деревьев (аэронавты называют это «собирать гербарий»). Запахло скошенной травой. Корзина одним боком коснулась земли и мягко заскакала, то чуть подымаясь вверх, то падая вниз, — шар боролся за свою свободу и стремился взлететь, но слабел, терял силу и живое тепло — мы расселись на дне, кряхтели и отчаянно крякали в такт скачкам корзины — два журналиста, писатель и бизнесмен:
— Эг! — эг! — эг! — эг!
Наконец движение прекратилось. Прекратилось. Все затихло. Я стояла в корзине — Капитан S. приказал оставаться внутри, не покидать ее, чтобы шар, наш аэростат, не взлетел обратно вверх. Нас окружила стая мальчишек — кто на велике, кто просто так. Прискакал даже один верхом на лихом скакуне, без седла! Всадник, босой пацан лет тринадцати с дикими глазами, орал на всю округу:
— Ааааааааааааа! С неба! Упало! Свалилось!
Приехало несколько машин с веселыми людьми в халатиках домашних, в шортах, в шлепанцах (было воскресенье, а тут бесплатное зрелище). Увядающий, засыпающий аэростат, под ним корзина, а из нее торчат, как в кукольном театре, неопознанные встрепанные головы с перевернутыми, очумелыми от впечатлений лицами.
И только потом я поняла, откуда в нашем Капитане S. его аристократичность, откуда в ребятах из его команды такая элегантная простота, искренняя обходительность и обаяние.
Поскольку после изобретения летающей сферы, наполненной горячим воздухом в 1783 году братьями Монгольфе, первыми в воздух в ивовой корзине на воздушном шаре поднялись французские дворяне, то по традиции, берущей свое начало в XVIII веке, всем, кто поднимается в воздух на аэростате, присваивают дворянский титул и даже вручают специальную грамоту, удостоверяющую сие, а также подтверждающую принадлежащие отныне новоявленному дворянину зе́мли.
К сожалению или к счастью, церемония посвящения считается тайной, секретной, и описывать тут ее я не имею права. Так что ищите капитана S. с его командой — а в самом Кишиневе его надо еще действительно поискать и найти, потому что плавает он на своем шаре по всей Европе, — ищите давайте и поднимайтесь сами. Переживите то, что пережили мы, поволнуйтесь с наше, получите такие же, а то и посильней и ярче впечатления, полюбуйтесь на наш мир с высоты 750 метров (а можно и выше), тогда и вы пройдете, пожалуй, такую же романтическую, как и сам полет на шаре, торжественную, но тайную церемонию посвящения.
Капитан S., добрый и романтичный, разрешил детям влезть в корзину, сфотографироваться рядом с понурившимся шаром, потрогать все не понарошку, а по-честному, чтобы потом хвастаться друзьям. В это время подъехала команда Капитана S., очень слаженно разобрала всю конструкцию, скатала совсем угомонившийся уснувший шар, погрузила корзину на специальный грузовик. И мы поехали. Света молчала, потому что понимала, что я, переполненная событиями, тоже хочу помолчать.
Когда мы приехали в отель, организаторы конференции нас встретили криком и скандалом:
— Где вы были?! Тут прошел слух, что вы уехали прыгать с парашютом!
— А неплохая идея для следующей встречи… — задумчиво пробормотала Света.
— Ой, нет, вот уже точно — нет!
— Вы что, — Света посмотрела на меня внимательно, остро и одновременно заботливо (она ведь инструмент Небес, я же говорила, у нее особая служба), — вы не хотите бросить себе вызов?! Я вас не узнаю!.. Ну?!




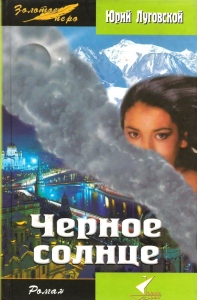


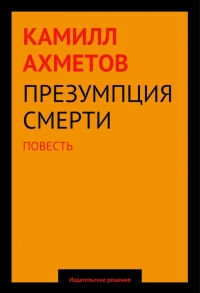
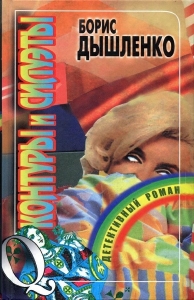
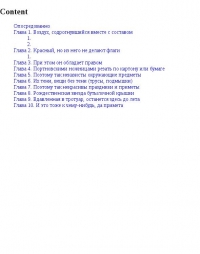
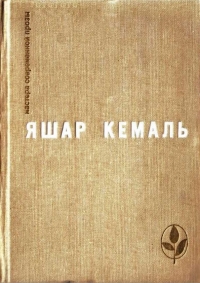
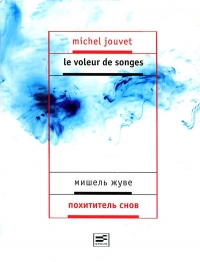
Комментарии к книге «Папа, я проснулась! (сборник)», Марианна Борисовна Гончарова
Всего 0 комментариев