Элизабет Страут Меня зовут Люси Бартон
Elizabeth Strout
My Name is Lucy Barton
Copyright © 2016 by Elizabeth Strout
Фото автора © Photo by Leonardo Cendamo
The translation is published by arrangement with Random House, a division of Penguin Random House LLC.
© Фрадкина Е., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
***
В этом изысканном романе отсутствует сентиментальность. История Люси Бартон, написанная очень просто, с обилием вибрирующих пауз, подарит вам целый спектр эмоций, от самого темного страдания до ощущения счастья.
The New York Times Book Rewiew
Книга о болезненной и неразрывной связи между матерью и дочерью.
People
Страут показывает сложный рельеф человеческих отношений, сосредотачивая внимание на том, что часто не высказывается, а лишь подразумевается.
The Seattle Times
Импрессионистичный, запоминающийся роман Страут напоминает, сколь важны нам истории, и еще – сколь важно выходить за пределы собственных нарративов.
Maiami Herald
Написано мощно. Бесстрастно и без намека на жалость. Страут обнажает боль одиночества, которая всем знакома.
Times
***
Моей подруге Кэти Чемберлен
Много лет назад мне пришлось провести в больнице почти девять недель. Это было в Нью-Йорке, и по ночам со своей кровати я видела Крайслер-билдинг[1] в геометрическом сиянии огней. В течение дня красота этого здания тускнела, и постепенно оно становилось просто одной из больших конструкций на фоне голубого неба. Все городские здания казались очень далекими и безмолвными. Был май, затем наступил июнь – помню, как я стояла у окна и смотрела вниз, на тротуар. Там проходили молодые женщины в весенних нарядах, мои ровесницы. У них был перерыв на ланч. Я смотрела, как они жестикулируют, о чем-то беседуя, как ветер треплет их блузки, и думала: когда выйду из больницы, то каждый раз, проходя по тротуару, буду благодарна за то, что я – одна из них. И много лет так и было, поскольку я помнила, как смотрела вниз из больничного окна, и благословляла даже тротуар, по которому ступаю.
Сначала это была простая история: я легла в больницу, чтобы мне удалили аппендикс. Через два дня меня покормили, но пища не удерживалась в желудке. А потом началась лихорадка. Никому не удавалось выделить какие-нибудь бактерии или понять, в чем дело. И никто так никогда и не разобрался. Мне вводили питательные растворы и антибиотики с помощью капельницы. Она была прикреплена к металлическому шесту на шатких колесиках, и я таскала ее за собой, но быстро уставала. К началу июля мои проблемы закончились. Однако до тех пор я пребывала в очень странном состоянии: это было в буквальном смысле лихорадочное ожидание, и я очень страдала. У меня дома остались муж и две маленькие дочки. Я ужасно скучала по своим девочкам и так беспокоилась о них, что, наверно, это ухудшало мое состояние. Я питала глубокую привязанность к своему доктору. Это был еврей, который кротко нес на своих плечах печаль (я слышала, как он говорил медсестре, что его дедушка, бабушка и три тетушки погибли в концлагерях). У него были жена и четверо взрослых детей здесь, в Нью-Йорке. Этот чудесный человек, я полагаю, сочувствовал мне. Он распорядился, чтобы моих девочек – одной было тогда пять, а второй шесть – пустили ко мне, если они ничем не больны. Их привела в мою палату подруга нашей семьи, и я увидела, какие у них грязные личики, и волосы тоже. Я потащила их в душ, волоча за собой капельницу. Они закричали: «Мамочка, какая ты тощая!» Девочки в самом деле испугались. Потом они сидели на моей кровати, а я вытирала им волосы полотенцем. А когда они начали рисовать картинки, то делали это с опаской: не спрашивали каждую минуту: «Мамочка, мамочка, тебе это нравится? Мамочка, посмотри на платье моей сказочной принцессы!» Они очень мало говорили, особенно младшая. Обняв ее за плечи, я увидела, как выпятилась нижняя губка и дрожит подбородок. Эта кроха изо всех сил старалась быть храброй. Когда они распрощались, я не стала смотреть из окна, как они уходят с моей подругой, которая их привела и у которой не было собственных детей.
Мой муж, естественно, был занят: он вел дом и был загружен на работе, поэтому ему редко удавалось навестить меня. Когда мы познакомились, он сказал мне, что терпеть не может больницы: когда ему было четырнадцать, его отец умер в больнице. Теперь я поняла, что мой муж действительно их терпеть не мог. В первой палате, куда меня поместили, лежала умирающая старуха. Она все время звала на помощь, и меня поражало, с каким безразличием слушают медсестры, как она кричит, что умирает. Муж не мог этого вынести – я имею в виду, не мог вынести, что ему приходится навещать меня там, – и перевел в отдельную палату. Нашей медицинской страховки не хватало, чтобы оплатить такую роскошь, и с каждым днем наши сбережения таяли. Я была благодарна, что не слышу криков бедной женщины, но если бы кто-нибудь узнал, насколько мне одиноко, мне было бы неловко. Когда приходила сестра, чтобы измерить мне температуру, я старалась задержать ее хоть на несколько минут. Но сестры были заняты и не могли тратить время на болтовню.
Однажды вечером, примерно через три недели после того, как я попала в больницу, я обнаружила, что в изножье кровати, в кресле, сидит моя мать.
– Мама? – удивилась я.
– Привет, Люси, – ответила она. Ее голос звучал робко, но вместе с тем как-то настойчиво. Она наклонилась и сжала мою ступню через одеяло. – Привет, Уизл[2].
Я много лет не видела мать и смотрела на нее во все глаза, но никак не могла понять, почему она какая-то другая.
– Мама, как ты сюда попала?
– О, я прилетела на самолете. – Она стиснула пальцы, и я почувствовала, как нам трудно справиться с эмоциями.
Я опустилась на подушку.
– Думаю, с тобой все будет хорошо, – добавила она все тем же робким, но настойчивым голосом.
У меня не было никаких снов. Оттого, что она здесь и называет меня прозвищем, которого я не слышала столько лет, мне стало тепло. Обычно я просыпалась в полночь и дремала урывками. Порой у меня не было сна ни в одном глазу, и тогда я смотрела в окно, на огни города. Но в ту ночь я крепко спала, а утром обнаружила, что мама сидит на том же месте, что и накануне.
– Это не важно, – ответила она на мой вопрос. – Ты же знаешь, я мало сплю.
Сестры предложили принести ей койку, но она отрицательно покачала головой. И каждый раз в ответ на это предложение сестер она качала головой. Через какое-то время сестры перестали спрашивать. Моя мать оставалась со мной пять ночей, и она спала только сидя в кресле.
Во время нашего первого дня, проведенного вместе, мы с мамой время от времени возобновляли беседу. Я думаю, ни одна из нас не знала, что делать. Она задала мне несколько вопросов о моих девочках, и к моему лицу прихлынула кровь.
– Они изумительные, – сказала я. – О, они просто изумительные.
Мама ничего не спросила о моем муже, хотя (он сказал мне это по телефону) именно он позвонил ей и попросил приехать и побыть со мной, и оплатил ее билет на самолет. Он предложил встретить ее в аэропорту: ведь моя мать никогда прежде не летала. И хотя она отказалась, сказала, что возьмет такси, мой муж снабдил ее инструкциями и деньгами, чтобы она добралась до больницы самостоятельно. Сейчас, сидя в кресле в изножье моей кровати, мама ни словом не обмолвилась о моем отце, так что я тоже о нем не спросила. Мне все время хотелось, чтобы она произнесла: «Твой отец надеется, что тебе станет лучше». Но она так не сказала.
– Было очень трудно поймать такси, мама?
Она заколебалась, и я почувствовала ужас, который, должно быть, охватил ее, когда она вышла из самолета. Но она ответила:
– У меня же есть язык.
Помолчав с минуту, я сказала:
– Я в самом деле рада, что ты здесь.
Ее губы тронула улыбка, и я перевела взгляд на окно.
Это было в середине 1980-х – тогда еще не было сотовых. Когда зазвонил бежевый телефон рядом с кроватью, мама, несомненно, поняла, что это мой муж – поняла по жалобному тону. Я произнесла «привет», словно готова была расплакаться. Она тихо поднялась с кресла и вышла из комнаты. Полагаю, все это время она сидела в кафетерии – ведь я никогда не видела, чтобы она ела. А быть может, она звонила моему отцу из телефона-автомата в вестибюле: наверно, его интересовало, благополучно ли она долетела. Насколько я понимаю, у них были нормальные отношения. После того как я поговорила с обеими девочками, дюжину раз поцеловав телефонную трубку, и опустилась на подушку, прикрыв глаза, мама тихонько проскользнула в комнату. Когда я открыла глаза, она была на месте.
В тот первый день мы говорили о моем брате, самом старшем из нас троих. Он не был женат и жил вместе с родителями, хотя ему было тридцать шесть. Говорили мы и о моей старшей сестре, которой было тридцать четыре и которая жила в десяти милях от родителей с пятью детьми и мужем. Я спросила, есть ли у брата работа.
– У него нет работы, – ответила мать. – Он проводит ночь со всеми животными, которых назавтра должны убить. – Я переспросила, и она повторила сказанное, добавив: – Он идет в сарай Педерсонов и спит рядом со свиньями, которых завтра отправят на бойню. – Это меня удивило, и я так и сказала. Мама пожала плечами.
Потом мы с мамой поговорили о медсестрах. Мама сразу же дала им прозвища: тощую сестру в хрустящем накрахмаленном халате она назвала Печенье, мрачную сестру постарше – Зубная Боль, а индианку, которая нравилась нам обеим – Серьезный Ребенок.
Но я устала, и мама начала рассказывать мне истории о людях, которых знала много лет назад. Я не узнавала ее манеру речи: казалось, в ней годами копились чувства и наблюдения, и теперь она говорила с придыханием, не сдерживаясь. Иногда я задремывала, а когда просыпалась, то просила ее продолжать. Но она говорила:
– Уизл, тебе нужно отдохнуть.
– Но я же отдыхаю! Пожалуйста, мама. Расскажи мне что-нибудь. Расскажи что угодно. Расскажи о Кэти Найсли. Мне всегда нравилось ее имя.
– О да. Кэти Найсли. Боже мой, она плохо кончила.
Мы, то есть наша семья, были изгоями даже в крошечном сельском городке Эмгаш, Иллинойс. Там были и другие захудалые домишки, которые давно пора было заново покрасить. У них не было ни жалюзи, ни садика, и глазу не на чем было отдохнуть. Эти дома составляли городок, тогда как наш стоял на отшибе. Хотя и говорят, что дети воспринимают свои домашние условия как норму, мы с Вики понимали, что мы не такие, как все. Другие дети говорили нам на площадке для игр: «От вашей семьи воняет», – и убегали, зажав пальцами нос. Когда моя сестра была второклассницей, учительница сказала перед всем классом, что нищета не оправдывает грязь за ушами: бедность не мешает купить кусок мыла. Отец работал с сельскохозяйственными машинами. Правда, его часто увольняли за конфликты с боссом, но потом снова брали. Наверно, он был хорошим работником. Мать занималась шитьем. Там, где наша длинная подъездная аллея пересекалась с дорогой, красовалась написанная от руки вывеска: «ШИТЬЕ И ПЕРЕДЕЛКИ». Когда отец молился перед сном, он заставлял нас благодарить Бога за то, что у нас достаточно пищи. Однако на самом деле я часто была голодной, и на ужин у нас был только хлеб с черной патокой. Нас наказывали, когда мы лгали или выбрасывали пищу. А порой, без всякого предупреждения, мои родители – обычно это делала мать в присутствии отца – давали нам хорошие затрещины. Наверное, люди об этом догадывались по нашему угрюмому виду и синякам.
А еще было безлюдье.
Мы жили в Сок-Вэлли, где можно долго идти и увидеть при этом всего один-два дома, окруженных полями. Как я уже сказала, по соседству с нами не было ни одного дома. Кукурузные поля и поля соевых бобов тянулись до самого горизонта. А за горизонтом была свиноферма Педерсонов. Среди кукурузных полей стояло большое дерево. Много лет я считала это дерево своим другом, и оно действительно было мне другом. Наш дом располагался в конце очень длинной дороги, неподалеку от Рок-Ривер. Вдоль дороги были посажены деревья для защиты полей от ветра. Таким образом, у нас не было никаких соседей. В доме не было ни телевизора, ни газет, ни журналов, ни книг. В первый год своего замужества мама работала в местной библиотеке и, судя по всему (это сказал мне брат), любила книги. Но потом ей сообщили, что в библиотеке изменились правила и они могут принимать на работу только людей со специальным образованием. Моя мать так никогда им и не поверила. Она перестала читать, и прошло много лет, прежде чем она отправилась в другую библиотеку, уже в другом городе, и снова принесла домой книги. Это к вопросу о том, каким образом дети начинают понимать, что такое мир и как вести себя в нем.
Например, откуда тебе знать, что невежливо спрашивать у супружеской четы, почему у них нет детей? Откуда тебе знать, что некрасиво жевать с открытым ртом, если никто и никогда не говорил тебе об этом? Откуда тебе знать, как ты выглядишь, если единственное зеркало в доме – это крошечное зеркальце, повешенное высоко над кухонной раковиной, и ни одна живая душа не говорила, что ты хорошенькая. Напротив, когда у тебя начинает расти грудь, твоя собственная мать говорит, что теперь ты похожа на одну из коров в сарае Педерсонов.
Как со всем этим справлялась Вики, я до сих пор не знаю. Мы были не так близки, как можно было бы ожидать. У обеих не было друзей, нас одинаково презирали – и мы смотрели друг на друга так же подозрительно, как и на остальной мир. Теперь, когда моя жизнь полностью изменилась, я порой вспоминаю ранние годы и думаю: было не так уж плохо. Да, наверно. Но порой, когда я иду по солнечной стороне тротуара, или наблюдаю, как гнется на ветру вершина дерева, или вижу ноябрьское небо, нависшее над Ист-Ривер[3], меня вдруг переполняет такой мрак, что я готова закричать. И тогда я захожу в ближайший универмаг и беседую с незнакомкой о фасоне свитеров, которые только что поступили в продажу. Должно быть, именно так почти все мы неосознанно лавируем в этом мире, и нас посещают воспоминания, которые, быть может, не соответствуют истине. Но когда я вижу, как другие уверенно идут по тротуару, словно им совершенно неведом ужас, я представить себе не могу, каким образом они справляются. Ведь жизнь кажется такой рискованной.
– Что касается Кэти, – начала моя мать, – что касается Кэти… – Она подалась вперед в своем кресле и, склонив голову, подперла рукой подбородок. Постепенно я разглядела, что за годы, прошедшие с тех пор, как я видела ее в последний раз, она немного пополнела, так что черты смягчились. Теперь она носила не черные, а бежевые очки, и волосы стали светлее, но не поседели. Она казалась несколько крупнее и мягче, чем прежде.
– Что касается Кэти, – сказала я, – она была милой.
– Не знаю, – ответила мама. – Я не знаю, насколько милой она была.
Нас прервала голубоглазая сестра Печенье, вошедшая в палату. Она взяла меня за запястье и сосчитала пульс, взгляд у нее при этом был отсутствующий. Затем сестра смерила мне температуру и, посмотрев на термометр и что-то записав в моей медицинской карте, вышла из комнаты. Мама, наблюдавшая за Печеньем, теперь перевела взгляд на окно.
– Кэти Найсли всегда хотела большего. Я часто думала, что она потому дружит со мной (впрочем, не знаю, можно ли назвать нас подругами, ведь я просто шила для нее, а она мне платила). Так вот, я часто думала, по какой причине она остается и беседует со мной. Да, она пригласила меня к себе, когда у нее начались проблемы, но вот что я пытаюсь сказать: по-моему, ей нравилось, что мое материальное положение намного хуже, чем у нее. Ей не нужно было мне завидовать. Кэти всегда хотелось того, чего у нее не было. У нее были красивые дочери, но этого было недостаточно: она хотела сына. У нее был чудесный дом в Хэнстоне, но он был недостаточно хорош: ей хотелось жить поближе к городу. К какому городу? Вот такой она была. – И сняв пушинку с колен и прищурившись, моя мать добавила, понизив голос: – Она была единственным ребенком. Думаю, в этом все дело. Единственные дети бывают такими эгоистичными.
Меня как будто внезапно ударили. Мой муж был единственным ребенком, и мать говорила мне давным-давно, что такие дети вырастают эгоистами.
Она продолжала:
– Так вот, она завидовала. Не мне, конечно. Например, Кэти хотелось путешествовать, а ее мужу – нет. Он хотел, чтобы Кэти была всем довольна и сидела дома и чтобы они жили на его жалованье. Он неплохо зарабатывал: управлял фермой кормовой кукурузы, знаешь ли. Они очень хорошо жили, каждый хотел бы так жить. Они даже ходили на танцы в клуб! А вот я не была на танцах со школы. Кэти приходила ко мне и заказывала новое платье специально для того, чтобы пойти на танцы. Иногда она приводила девочек. Такие хорошенькие малышки, и хорошо воспитанные. Помню, как она привела их в первый раз. Кэти сказала мне: «Позвольте представить миленьких девочек Найсли». А когда я ответила: «О, они действительно миленькие», она пояснила: «Нет, так их называют в школе, в Хэнстоне: ”миленькие девочки”[4]». Я всегда думала: каково это? Когда тебя называют «миленькие девочки»? Правда, однажды, – продолжила мама своим настойчивым голосом, – я услышала, как одна из них шепчет сестре, что в этом доме как-то странно пахнет…
– Они же еще дети, мама, – сказала я. – Детям всегда кажется, что в домах как-то странно пахнет.
Мать сняла очки, подула на стекла и вытерла их о подол юбки. Я подумала: какое голое лицо у нее без очков. И никак не могла оторвать взгляд от этого голого лица.
– А потом, в один прекрасный день, все изменилось. Люди считают, что все поглупели в шестидесятых, но на самом деле это случилось только в семидесятых. – Мама снова надела очки, и ее лицо стало прежним. – А может быть, просто перемены долго добирались до нашего захолустья. Но однажды ко мне зашла Кэти, и она была какая-то странная и все хихикала – знаешь, как девчонка. Ты к тому времени уже уехала в… – Мама подняла руку и пошевелила пальцами. Она не сказала: «В школу». Она не сказала: «В колледж». И поэтому я тоже не стала уточнять. Мама продолжила: – Кэти в кого-то влюбилась, это было мне ясно, хотя она не стала откровенничать и не призналась. У меня было видение. Оно возникло у меня, когда я сидела, глядя на нее. И я увидела это, и подумала: «Ого, Кэти попала в беду».
– И так и было, – сказала я.
– И так и было.
Кэти Найсли влюбилась в учителя одной из своих дочерей – к тому времени все три были в средней школе. И она начала встречаться с ним тайно. Потом она сказала мужу, что должна более полно реализоваться, но не может это сделать в домашних оковах. И она ушла, покинув мужа, дочерей, свой дом. И только когда она позвонила маме и расплакалась, та узнала все детали и поехала разыскивать ее. Кэти сняла маленькую квартирку. Она сидела в старом кресле, сильно похудевшая. Вот тут-то она и призналась моей матери, что влюбилась. Но когда она ушла из дома, тот парень бросил ее. Сказал, что не может так продолжать. Дойдя до этого места своего рассказа, мама подняла брови, как будто была сильно озадачена, однако не особенно удручена.
– В любом случае, она унизила своего мужа, и он рассвирепел. Он так никогда и не принял ее обратно, – заключила она.
Муж не принял ее обратно. Десять лет он даже не разговаривал с ней. Когда старшая дочь, Линда, вышла замуж прямо со школьной скамьи, Кэти пригласила моих родителей на свадьбу. Как предположила мама, оттого, что у Кэти не было на этой свадьбе ни одного человека, с которым она могла бы поговорить.
– Эта девушка так быстро вышла замуж, – продолжила мама, и речь ее ускорилась. – Люди думали, что она беременна, но лично я никогда не слышала ни о каком ребенке. А через год она развелась и уехала – кажется, в Белуа. Наверно, искать богатого мужа. Кажется, я слышала, что она нашла себе такого. На свадьбе, продолжила мать, Кэти очень нервничала и носилась большими кругами:
– Грустно было на это смотреть. Конечно, мы там никого не знали, и было понятно, для чего она нас притащила на эту свадьбу. Мы сидели в креслах – помню, на одной стене (знаешь, это был клуб, дурацкое заведение в Хэнстоне) были выставлены под стеклом все эти индейские наконечники стрел. Так вот, Кэти попыталась с кем-то заговорить, а потом вернулась к нам. Даже Линда, вся в белом (Кэти не просила меня сшить свадебное платье, девочка пошла и купила его), даже невеста почти не обращала на мать внимания. Кэти почти пятнадцать лет жила в маленьком домике, в нескольких милях от своего мужа – теперь уже бывшего мужа. Совершенно одна. Девочки были преданны отцу. Знаешь, меня удивляет, что Кэти вообще пустили на свадьбу. Во всяком случае, у него больше никогда никого не было.
– Ему следовало принять ее обратно, – сказала я со слезами на глазах.
– Полагаю, была задета его гордость. – Мать пожала плечами.
– Но он же теперь один, и она одна, и однажды они умрут.
– Верно, – согласилась мать.
В тот день, когда мать сидела в изножье моей кровати, я сильно расстроилась из-за судьбы Кэти Найсли. По крайней мере, так мне запомнилось. Я точно помню, как сказала матери – в горле у меня стоял комок, а глаза щипало, – что мужу Кэти следовало принять ее обратно. Я совершенно уверена, что сказала:
– Он еще пожалеет. Говорю тебе, он пожалеет об этом.
А мать ответила:
– Подозреваю, что это она жалеет.
А быть может, мать и не говорила этого.
До одиннадцати лет я жила в гараже. Этот гараж принадлежал моему двоюродному деду, который жил в доме рядом. В гараже был только умывальник, из которого текла тоненькая струйка холодной воды. Изоляция, прибитая гвоздями к стене, была с наполнителем, похожим на розовую сахарную вату. Но нам сказали, что это стекловолокно и мы можем порезаться. Меня это удивляло, и я часто смотрела на эту красивую розовую вещь, до которой нельзя дотрагиваться. Меня удивляло, что это называется «стекло». Теперь мне кажется странным, что я так много размышляла об этом – о загадке красивого и опасного розового стекловолокна, рядом с которым мы жили. Мы с сестрой спали на брезентовых койках, расположенных одна над другой – верхняя держалась на металлических опорах. Родители спали под окном, из которого открывался вид на кукурузные поля, а мой брат – на койке в дальнем углу. Ночью я прислушивалась к бесконечному жужжанию маленького холодильника. Порой по ночам в окно просачивался лунный свет, а иногда было очень темно. Зимой было так холодно, что я не могла уснуть, и иногда мама подогревала воду, наливала ее в красную резиновую грелку и позволяла мне брать в постель.
Когда умер мой двоюродный дед, мы перебрались в дом. Теперь у нас была горячая вода и туалет со сливным бачком, хотя зимой в доме было очень холодно. Существуют вещи, определяющие наш путь, и мы редко можем четко указать на них. Но я порой думаю о том, как допоздна оставалась в школе, где было тепло, просто чтобы согреться. Привратник с добрым лицом, молча кивнув, всегда впускал меня в класс, где еще шипели батареи, и я готовила там уроки. Часто я слышала слабое эхо из гимнастического зала, где тренировалась группа поддержки[5] или стучал мяч. Иногда из музыкальной комнаты доносились мелодии: там репетировал оркестр. Но я оставалась в классе одна, и тогда-то до меня и дошло, что работа будет сделана, если просто ее делать. До меня дошла логика моих домашних заданий, чего никогда бы не случилось, если бы я выполняла их дома. А когда с приготовлением уроков было покончено, я читала – пока наконец не приходило время отправляться домой.
Наша начальная школа была небольшой, поэтому там не имелось библиотеки. Однако в классных комнатах были издания, которые мы могли брать домой и читать. В третьем классе я прочла одну книгу, вызвавшую у меня желание написать свою собственную. Это была книга о двух девочках, у которых была милая мама, а на лето они уезжали в другой город. Это были счастливые девочки. В этом другом городе была девочка по имени Тилли – Тилли! – странная и непривлекательная, потому что она была грязная и бедная. Девочки не очень-то хорошо относились к Тилли, но милая мама заставила их обращаться с ней хорошо. Вот что мне запомнилось из этой книги: Тилли.
Моя учительница, увидев, что я люблю читать, давала мне книги – даже книги для взрослых, – и я их читала. И позже, в средней школе, я по-прежнему читала книги в теплом классе, когда уроки были приготовлены. Книги много мне дали. Таково мое мнение. Они заставили меня почувствовать себя не столь одинокой. Так я считаю. И я подумала: я буду писать, и люди не станут чувствовать себя такими одинокими! (Но это был мой секрет. Даже когда я познакомилась со своим мужем, я не сказала ему об этом. Я не могла принимать себя всерьез. И все-таки принимала. Я принимала себя всерьез – тайно, тайно – в глубокой тайне! Я знала, что я писательница. Я не знала, как это тяжело. Впрочем, никто не знает. И это не имеет значения.)
Потому что я проводила часы в теплом классе, потому что читала и потому что поняла: если выполнять домашние задания, ничего не пропуская, они имеют смысл – благодаря всему этому я начала учиться на «отлично». В выпускном классе женщина-консультант[6] позвала меня в свой кабинет и сообщила, что один колледж под Чикаго приглашает меня посещать занятия бесплатно. Мои родители мало об этом говорили – вероятно, щадя моих брата с сестрой, у которых оценки не были не только отличными, но и хорошими. Ни один из них не продолжил учебу.
Дама-консультант отвезла меня в автомобиле в колледж в исключительно жаркий день. О, я сразу же влюбилась в это место – я не могла вымолвить ни слова, у меня просто сбилось дыхание! Территория показалась мне огромной: множество зданий, гигантское озеро, люди, входящие в аудитории и выходящие из них. Я была в ужасе, но при этом радостно взволнована. Однако я быстро научилась подражать людям и пыталась скрыть пробелы в своем образовании. Правда, это было нелегко.
Но вот что я помню: вернувшись домой в День благодарения[7], я не могла заснуть ночью – боялась, что моя жизнь в колледже мне приснилась. Я боялась проснуться и обнаружить, что снова нахожусь в этом доме и буду в нем вечно – это казалось мне невыносимым. Я подумала: «Нет». И продолжала так думать долго, пока не заснула.
Я устроилась на работу возле колледжа и покупала одежду в комиссионном магазине[8]. Была середина семидесятых, и это было приемлемо, даже если вы не были бедны. Насколько я знаю, никто не обсуждал, как я одета. Но до того, как я встретила моего мужа, я по уши влюбилась в одного преподавателя, и у нас был краткий роман. Он был художником, и мне нравились его работы. Правда, я сознавала, что ничего в них не понимаю, но я любила его самого, его резкость, его ум, его решимость воздерживаться от определенных вещей, чтобы жить так, как ему нравится. Например, дети – от них следовало воздержаться. Но я вспоминаю его сейчас только потому, что он был единственным человеком в моей юности, который заговорил о моей манере одеваться. Он сравнил меня с одной женщиной, преподавательницей с его кафедры, которая одевалась в дорогих магазинах. Она была крупной, а я – нет. Он сказал: «У тебя больше содержания, но у Ирен больше стиля». Я возразила: «Но ведь стиль и есть содержание». Тогда я еще не знала, как это верно – просто однажды записала эту фразу на спецкурсе по Шекспиру. Ее произнес мой преподаватель, и я подумала, что это звучит убедительно. Художник ответил: «В таком случае, у Ирен больше содержания». Меня слегка озадачило, что он считает, будто у меня нет стиля: ведь вещи, которые я носила, были мной. И если я купила их в комиссионке, то, на мой взгляд, это ничего не значило – разве что для человека неглубокого. А в один прекрасный день он спросил: «Тебе нравится эта рубашка? Я купил ее как-то раз в «Блумингдейл»[9], когда был в Нью-Йорке. Это впечатляет меня каждый раз, когда я ее надеваю». И это снова меня озадачило. Потому что, по-видимому, он считал, что это имеет значение – а я-то полагала, что он глубже и умнее. Ведь он художник! (Я очень его любила.) Наверное, он был первым, кто поинтересовался моей классовой принадлежностью – правда, в то время я и слов-то таких не знала. Он ездил со мной по округе и спрашивал: «Твой дом похож на этот?» Дома, на которые он указывал, не имели ничего общего с теми, которые были мне знакомы. Эти дома не были большими, просто они совсем не были похожи на гараж, в котором я выросла, а также на дом моего двоюродного деда. Я не расстраивалась из-за этого гаража – а ведь он считал, что этот факт должен был меня огорчать. И все-таки я любила его. Он поинтересовался, что мы ели, когда я росла. Я не сказала: «Главным образом хлеб с черной патокой» – нет, я ответила: «Мы часто ели печеные бобы». И он спросил: «А что же вы делали после этого – слонялись и пукали?» И тогда я поняла, что никогда не выйду за него замуж. Просто удивительно, как из-за какой-то мелочи вроде этой наступает момент истины. Можно отказаться от детей, которых всегда хотела, можно снести критические замечания относительно твоего прошлого или манеры одеваться, но достаточно одной фразы – и твоя душа съеживается и говорит: «О!»
С тех пор у меня появилось много друзей, и все они – и мужчины, и женщины – говорили то же самое: «Каждый раз эта красноречивая деталь». Я хочу сказать, что это не просто женская история. Такое случается со многими из нас, если повезет столкнуться с подобной деталью и обратить на нее внимание.
Оглядываясь, я полагаю, что была очень странной, что я слишком громко говорила – либо молчала, когда заходила речь о культуре. Наверно, я неадекватно реагировала на юмор обычного типа, неизвестный мне. Думаю, я вообще не понимала иронию, и это людей смущало. Когда я впервые встретилась со своим мужем, Уильямом, то почувствовала – и это был сюрприз, – что он действительно меня понимает. Он был лаборантом моего преподавателя биологии, когда я училась на втором курсе, и у него был собственный взгляд на мир. Мой муж родом из Массачусетса, а его отец был немецким военнопленным, которого послали на работы в картофельные поля Мейна. Этот мужчина, полуголодный, как и все военнопленные, покорил сердце жены фермера. А когда он вернулся в Германию после войны, то думал о ней и писал ей письма. Он написал в письме, что Германия и все, что они сделали, вызывает у него отвращение. Вернувшись в Мейн, он сбежал вместе с фермерской женой в Массачусетс, где прошел обучение и стал инженером-строителем. Естественно, их брак дорого обошелся его жене. У моего мужа тот же белокурый немецкий тип, что и у его отца, фотографии которого я видела. Его отец много говорил по-немецки, когда Уильям рос. А когда Уильяму исполнилось четырнадцать, отец умер. Переписка родителей Уильяма не сохранилась, так что я не знаю, питал ли его отец отвращение к Германии на самом деле. Уильям верил, что это так, и я много лет тоже в это верила.
Уильям, сбежав от нужды из дома своей овдовевшей матери, отправился в школу на Среднем Западе. Однако когда я с ним познакомилась, он уже горел желанием как можно скорее вернуться на Восток. Но он хотел прежде познакомиться с моими родителями. Это была его идея: чтобы мы вместе приехали в Эмгаш. Он бы объяснил им, что мы собираемся пожениться и уехать в Нью-Йорк, где его ждет место на кафедре в университете. По правде говоря, у меня не было никаких тревожных предчувствий. Я была влюблена, жизнь шла вперед, и это было естественно. Мы ехали мимо полей соевых бобов и кукурузы. Стоял ранний июнь, и с одной стороны на пологих холмах были поля соевых бобов резкого зеленого цвета; с другой стороны – кукуруза, еще не доходившая мне до колен. Ее яркая зелень потемнеет в будущие недели, а мягкие листья станут жестче. (О, кукурузные поля моей юности, вы были мне друзьями! Я все бежала и бежала между рядами кукурузы – так может бежать только одинокий ребенок летом, когда мчится к большому дереву, стоящему среди кукурузных полей…) Помнится, когда мы ехали, небо было серым, и казалось, что оно как бы поднимается. Это было очень красиво: ощущение, что небо поднимается и становится светлее, и серый цвет приобретает легкий оттенок голубого, а на деревьях зеленеют листья.
Помнится, мой муж тогда сказал: он не ожидал, что мой дом такой маленький.
Мы провели у моих родителей неполный день. Отец, в спецодежде механика, взглянул на Уильяма, и когда они обменялись рукопожатием, я заметила, как сильно исказилось лицо отца. Это часто предшествовало тому, что я в детстве называла Жуть — состояние, когда мой отец приходил в сильное волнение и не владел собой. Думаю, после этого мой отец ни разу не взглянул на Уильяма – впрочем, я в этом не уверена. Уильям предложил отвезти моих родителей, брата и сестру в город и там всем вместе пообедать в каком-нибудь ресторане по их выбору. Отец вскипел от этого предложения: наша семья никогда не ходила в ресторан. Он сказал моему мужу: «Ваши деньги здесь не в чести». Уильям посмотрел на меня со смущенным видом, а я пробормотала, что нам пора. Мама подошла ко мне, когда я в одиночестве стояла у машины, и сказала:
– У твоего отца было много проблем с немцами. Тебе следовало предупредить нас.
– Предупредить?
– Ты же знаешь, твой отец был на войне, и какие-то немцы пытались его убить. Он ужасно переживал с той минуты, как увидел Уильяма.
– Я знаю, что папа был на войне, – ответила я. – Но он никогда не говорил ничего такого.
– Существует два типа мужчин, когда речь заходит об их военном прошлом, – сказала мама. – Одни говорят об этом, другие – нет. Твой отец принадлежит к тем, кто не говорит.
– А почему?
– Потому что это было бы некрасиво, – объяснила мама. И добавила: – Господи, кто тебя воспитывал?
И только много лет спустя я узнала от своего брата, как наш отец столкнулся в одном немецком городе с двумя молодыми людьми, напугавшими его. Отец выстрелил им в спину. Он не думал, что они солдаты, на них не было солдатской формы, но он их застрелил, а когда перевернул одного, то увидел, как тот молод. Брат рассказал мне, что Уильям показался нашему отцу копией того юноши, только постарше. Молодой человек, который вернулся, чтобы изводить его, забрать у него дочь. Мой отец убил двух немецких мальчиков, и когда он лежал при смерти, то сказал брату, что не проходило и дня, чтобы он не думал о них и не чувствовал, что должен отдать взамен собственную жизнь. Не знаю, что еще случилось с отцом на войне, но он участвовал в битве в лесу Хюртген[10], а это место было из худших в той войне.
Моя семья не приехала на мою свадьбу и не прислала поздравления. Но когда родилась моя первая дочь, я позвонила родителям из Нью-Йорка. Мама сказала, что видела это во сне, так что ей уже известно, что у меня родилась дочь, но она не знает имени. По-видимому, ей понравилось имя Кристина. После этого я звонила родителям в их дни рождения и в праздники, а также когда родилась моя вторая дочь, Бекка. Мы вежливо беседовали, но всегда ощущали при этом неловкость. Я не видела никого из своей семьи до того дня, когда мама возникла в изножье моей койки, в палате, за окном которой сиял Крайслер-билдинг.
Я спросила маму в темноте, не спит ли она.
О нет, ответила она совсем тихо. Хотя нас было только двое в больничной палате, за окном которой сиял Крайслер-билдинг, мы говорили шепотом, словно опасаясь кого-то побеспокоить.
– Как ты думаешь, почему парень, в которого влюбилась Кэти, сказал, что не может продолжать их отношения – как только она покинула мужа? Он испугался?
Помолчав с минуту, моя мать ответила:
– Не знаю. Но Кэти рассказала мне, как он признался ей, что он гомик.
– Гей? – Я села в постели и взглянула на мать, сидевшую у изножья. – Он сказал ей, что он гей?
– Кажется, так вы это теперь называете. А мы называли это «гомик». Он сказал «гомик». Или так сказала Кэти. Не знаю, кто именно сказал «гомик». Но он один из них.
– О, мама, ты меня насмешила! – Я услышала, что она тоже засмеялась, хотя и сказала:
– Уизл, не вижу тут ничего смешного.
– Меня насмешила ты. – От смеха у меня слезы потекли из глаз. – И эта история тоже. Эта ужасная история!
Все еще смеясь (ее смех был сдержанным, но таким же настойчивым, каким порой делался голос), она сказала:
– Не знаю, что тут смешного: бросить мужа ради гомика или гея, а потом вдруг все выяснить. А ведь она-то думала, что у нее настоящий мужчина!
– Ты меня уморишь, мама. – Я бессильно опустилась на подушки.
Мама задумчиво произнесла:
– Иногда я думаю: а может быть, он не был геем. Просто Кэти его напугала, бросив все ради него. Так что, возможно, он все это сочинил насчет себя.
Я обдумала эту мысль.
– Уж не знаю, станет ли мужчина сочинять про себя такое.
– О, – сказала мама. – О, я полагаю, что это правда. Честно говоря, я ничего не знаю про парня Кэти. Не знаю, где он и что с ним.
– Но они это делали?
– Не знаю, – ответила мама. Откуда мне знать? Делали что? Был ли у них секс? Откуда же мне знать?
– Наверное, у них был секс, – сказала я. Забавно было это произнести, к тому же я в это верила. – Трех дочерей и мужа не бросают ради вздохов на скамейке.
– Может быть, и бросают.
– О’кей. Может быть, бросают. А муж Кэти, мистер Найсли, – у него действительно с тех пор никого не было?
– Бывший муж. Он моментально с ней развелся. Во всяком случае, я ничего такого больше о нем не слышала. Ничто на это не указывает. Впрочем, никогда не знаешь.
Возможно, это было из-за темноты (лишь бледный луч света проникал через дверь, а в окне светилось созвездие величественного Клайслер-билдинг), но мы с мамой никогда прежде так не беседовали.
– Люди, – обронила я.
– Люди, – повторила мама.
Я была так счастлива! Я была счастлива оттого, что мы говорим с мамой вот так!
В те дни – а это, как я уже говорила, была середина 1980-х, – мы с Уильямом жили в Вест-Вилидж[11], в маленькой квартире. Этот дом у реки был без лифта, и в здании не было прачечной. Да, нелегко мне приходилось – с двумя маленькими детьми и собакой в придачу. Я засовывала младшую в рюкзачок за спиной и гуляла с собакой. Время от времени наклоняясь, чтобы подобрать ее какашки в пластиковый пакет. Ведь в объявлениях было сказано: «УБИРАЙТЕ ЗА СВОЕЙ СОБАКОЙ». И я все время кричала старшей дочери, чтобы она подождала меня и не сходила с тротуара. Подожди, подожди!
У меня было двое друзей, и в одного из них, Джереми, я была немножко влюблена. Он жил на верхнем этаже нашего дома. Джереми был чуть младше моего отца. Родился он во Франции в аристократической семье и еще в молодости уехал в Америку.
– Все, кто отличался от других, хотели тогда в Нью-Йорк, – рассказывал он мне. – Это было место, куда стоило приехать. Наверное, и сейчас стоит.
В середине своей жизни Джереми решил стать психоаналитиком. И когда мы познакомились, у него еще было несколько пациентов. Однако он не говорил со мной о том, что это такое. У него был офис, куда он ходил три раза в неделю. Когда я на улице проходила мимо Джереми – высокого, худого, темноволосого, в темном костюме, с одухотворенным лицом, – у меня всегда замирало сердце. «Джереми!» – говорила я, а он улыбался и приподнимал шляпу. Это было так учтиво, старомодно и очень по-европейски – вот так мне это виделось.
Я всего один раз видела его квартиру – это случилось, когда у меня захлопнулась дверь и пришлось ждать управляющего зданием. Джереми обнаружил меня на крыльце, в невменяемом состоянии, с собакой и двумя детьми – и пригласил к себе. Как только мы очутились в его квартире, дети притихли и очень хорошо себя вели – как будто знали, что здесь никогда не бывает детей. Я действительно ни разу не видела, чтобы дети входили в квартиру Джереми. Только один-два мужчины, а иногда женщина. В квартире было чисто и пусто. Пурпурный ирис красовался в стеклянной вазе на фоне белой стены; здесь были произведения искусства, при виде которых я поняла, какая пропасть разделяет нас с Джереми. Я говорю так, потому что не понимала это искусство. Это были темные продолговатые предметы, висевшие на стенах, какие-то абстрактные конструкции – я поняла только, что это символы утонченного мира, который никогда не могла понять. Джереми чувствовал себя не в своей тарелке оттого, что моя семья находилась у него в квартире, я это чувствовала – но он был настоящим джентльменом, и вот почему я так его любила.
Три факта насчет Джереми.
Однажды я стояла на крыльце, и, когда он вышел из здания, сказала:
– Джереми, иногда я стою здесь и не могу поверить, что в самом деле в Нью-Йорке. Стою здесь и думаю: «Кто бы мог подумать? Я! Я живу в Нью-Йорке!»
И у него на лице невольно выразилось подлинное отвращение. Тогда я еще не знала, какое глубокое отвращение нью-йоркцы питают к провинциалам.
Второй факт насчет Джереми. Мой первый рассказ опубликовали сразу же после того, как я переехала в Нью-Йорк. Прошло немного времени, и был опубликован второй. Как-то раз на крыльце Крисси сообщила об этом Джереми:
– У мамы рассказ в журнале!
Повернувшись, он посмотрел на меня. Его взгляд был пристальным, и мне пришлось отвернуться.
– Нет-нет, – сказала я. – Всего-навсего один маленький, дурацкий литературный журнал.
– Значит, вы писательница. Вы художник. Знаете, я работаю с художниками. Наверно, я всегда это в вас чувствовал.
Я покачала головой. Мне вспомнился художник из колледжа, с его решением воздерживаться от детей.
Джереми уселся рядом со мной на крыльце.
– Художники другие – они отличаются от остальных людей.
– Нет, не другие. – Я покраснела. Ведь я всегда была другой, и я больше не хотела быть другой!
– Но они другие. – Он похлопал меня по колену. – Вы должны быть безжалостной, Люси.
Крисси скакала вниз и вверх по ступеням.
– Это печальный рассказ, – сказала она. – Я не могу его читать – я умею читать некоторые слова – но это печальный рассказ.
– Можно мне его прочесть? – спросил Джереми.
Я ответила отрицательно.
Сказала, что не вынесу, если ему не понравится. Он кивнул:
– О’кей, я больше не буду просить. Но, Люси, мы с вами много говорили, и я не могу себе представить, чтобы мне не понравилось то, что вы написали.
Ясно помню, как он произнес «безжалостная». Он не казался мне безжалостным, и я не думала, что могу быть безжалостной. Я любила его. Он был мягким.
Он велел мне быть безжалостной.
И еще один факт насчет Джереми. Тогда эпидемия СПИДа была в новинку. По улицам ходили мужчины, костлявые и изможденные, и было заметно, что их поразила эта болезнь, возникшая внезапно, как библейский бич божий. И вот однажды, сидя на крыльце вместе с Джереми, я произнесла слова, удивившие меня. Я сказала, глядя вслед двум таким мужчинам, которые только что медленно прошли мимо:
– Я знаю, это ужасно, но я почти завидую им. Потому что они есть друг у друга. Они связаны, и это настоящее сообщество.
И тогда он взглянул на меня, и выражение его лица было добрым. Теперь я понимаю: он разглядел то, что не видела я сама – несмотря на то, что у меня есть семья, я одинока. Вкус одиночества был первым, что я отведала в своей жизни, и он всегда у меня на губах. Думаю, в тот день Джереми это понял. И он был добр ко мне. «Да», – вот и все, что он сказал. Он вполне мог бы возразить: «Вы с ума сошли, они же умирают!» Но он этого не сказал. Потому что понял, что я одинока. Мне хочется так думать. Я так думаю.
В одном из магазинов готового платья, которыми славится Нью-Йорк и которые слегка напоминают картинные галереи Челси, я увидела женщину, произведшую на меня сильное впечатление. Возможно, именно благодаря ей я написала все это. Это было много лет назад, моим девочкам было одиннадцать и двенадцать. Итак, я увидела эту женщину в магазине готового платья и была уверена, что она меня не заметила. У нее был надменный вид, который очень ей шел. Этой даме было около пятидесяти лет. Она выглядела привлекательно и стильно, и ее волосы – цвета, который принято называть пепельным, – были красиво уложены. Я хочу сказать, что она не сама красила волосы в пепельный цвет – этим занимался мастер в салоне. Но особенно меня притягивало ее лицо. Это лицо я видела в зеркале, пока примеряла черный пиджак. Наконец, я спросила:
– Как вы думаете, он неплох?
У нее был удивленный вид, как будто она не ожидала, что кто-нибудь спросит ее мнение об одежде.
– О, простите, я здесь не работаю, – сказала она. Я ответила, что так и поняла – просто мне хотелось узнать ее мнение. И добавила, что мне нравится, как она одета.
– О, о’кей, – отозвалась она. – В самом деле? Ну что же, спасибо. О да, он мил. – Наверно, она видела, как я дергаю за лацканы пиджака, о котором ее спросила. – Действительно мил. Вы собираетесь носить его с юбкой?
Мы обсудили юбку, а также имеется ли у меня юбка подлиннее – просто на тот случай, сказала она, если я захочу надеть каблуки.
Она была красива, и я подумала, что люблю Нью-Йорк за этот дар – бесчисленные встречи. Может быть, я заметила в ней печаль. Такое ощущение у меня возникло, когда я вернулась домой и ее лицо всплыло в памяти. Я не заметила грусти, когда была рядом, поскольку она все время улыбалась, и от этого ее лицо светилось. Она выглядела как женщина, в которую до сих пор влюбляются мужчины.
– Чем вы занимаетесь? – спросила я.
– В смысле работы?
– Да. Судя по вашему виду, вы занимаетесь чем-то интересным. Вы актриса? – Я повесила пиджак на плечики: у меня не было денег, чтобы купить такую вещь.
– О, нет-нет, – сказала она и покраснела. – Я всего лишь писательница. Вот и все. Наверно, ей не раз приходилось отвечать на этот вопрос. А может быть, она действительно так думала: «Всего лишь писательница». Я спросила, что она пишет, и она вспыхнула и, взмахнув рукой, сказала:
– О, знаете, книги – романы и все такое. Ничего особенного.
Мне пришлось спросить ее имя, и снова возникло ощущение, будто я сильно ее смутила. Она вымолвила на едином дыхании: «Сара Пейн», и я, не желая больше ее смущать, поблагодарила за совет. Казалось, она расслабилась, и мы заговорили о том, где лучше покупать обувь – на ней были лакированные туфли на высоком каблуке. Затем мы расстались, и каждая из нас сказала, что было очень приятно познакомиться.
Дома, в нашей квартире – к тому времени мы переехали в Бруклин-Хайтс[12], – дети носились с криками: «Где фен?» или «Где блузка?» (она была в стирке). Я нашла на наших книжных полках Сару Пейн. Она была не особенно похожа на фотографию на обложке. Как оказалось, я уже читала ее книги. А потом я вспомнила, как познакомилась на вечеринке с мужчиной, который ее знал. Он говорил о ее книгах. Сказал, что она хорошая писательница, но ей мешает «мягкость сострадания», которая вызывала у него отвращение и, по его мнению, делала ее произведения слабее. И все-таки мне нравились ее книги. Мне нравятся писатели, которые пытаются рассказать правдивую историю. А еще ее книги нравились мне потому, что она выросла в захудалом домишке с яблоневым садом, в маленьком городке в Нью-Гемпшире, и писала о сельских районах штата. Она писала о людях, которые занимаются тяжелым трудом и страдают, хотя иногда с ними случается что-то хорошее. А потом я осознала, что даже в своих книгах она говорит не совсем правду, всегда держится подальше от чего-то. Ведь она с трудом сказала мне свое имя! И я почувствовала, что могу понять и это.
На следующее утро в больнице (с тех пор прошло так много лет) я сказала маме, как меня беспокоит, что она не спит. А она ответила, что ни к чему беспокоиться, так как она всю жизнь спала урывками. А потом она вдруг начала говорить о своем детстве и о том, что в детстве тоже спала урывками.
– К этому привыкаешь, когда не чувствуешь себя в безопасности, – сказала она. – Всегда можно вздремнуть сидя.
Я очень мало знаю о детстве моей матери. Пожалуй, это не так уж необычно, и многие мало что знают о детстве родителей. Я имею в виду – по-настоящему. Сейчас возник большой интерес к родословной, а это означает имена, места, фотографии и официальные записи. Но как же мы можем узнать, какова была повседневная жизнь (если наступит момент, когда это будет нам небезразлично)? Благодаря пуританству моих предков беседа не была для них источником удовольствия – в отличие от того, что я наблюдала в других культурах. Но в то утро в больнице моя мать с явным удовольствием рассказывала о том, как не раз проводила лето на ферме. По какой-то причине мама в детстве почти каждое лето приезжала на ферму, принадлежавшую ее тете Селии. Эта женщина запомнилась мне как худая бледная особа, которую мы с братом и сестрой называли «тетя Тюлень»[13]. По крайней мере я считала, что она действительно «тетя Тюлень». А поскольку дети понимают все буквально, то я недоумевала, почему ее зовут так же, как океанское животное, которое я никогда не видела. Она была замужем за дядей Роем, который, насколько мне известно, был приятным человеком. Моя кузина Гарриет была их единственным ребенком, и ее имя периодически возникало на протяжении всей моей юности.
– Я думала о том, – сказала мама тихим голосом, – как однажды утром – о, мы были маленькими, мне было пять, а Гарриет три, – так вот, я думала о том, как мы решили помочь тете Селии обрывать засохшие головки с лимонных лилий, росших у амбара. Но Гарриет была совсем крошкой, и она решила, будто большие бутоны и есть засохшие головки, которые нужно обрывать. И она как раз обрывала их, когда вышла тетя Селия.
– Тетя Тюлень рассердилась?
– Нет, я ничего такого не помню. Рассердилась я, – ответила мама. – Ведь я пыталась ей растолковать, где бутон, а где засохшая головка. Глупый ребенок.
– Я не знала, что Гарриет глупая. Ты никогда не говорила, что она глупая.
– Что ж, возможно, она и не была глупой. Вероятно, не была. Но она всего боялась, она боялась молнии. Пряталась под кроватью и хныкала, – продолжала мама. – Я никогда этого не понимала. И она так боялась змей. В самом деле, глупая девчонка.
– Мама, пожалуйста, не произноси больше это слово. Пожалуйста. – Я сразу же попыталась сесть и задрать ноги. Даже теперь мне всегда хочется задрать ноги, как только я слышу это слово.
– Какое слово? «Змеи»?
– Мама!
– Ради бога, я не… Хорошо, хорошо. – Она махнула рукой и, пожав плечами, повернулась к окну. – Ты часто напоминала мне Гарриет, – сказала она. – Эти твои глупые страхи. И твоя способность жалеть первого встречного.
Я и теперь не знаю, какого это первого встречного я пожалела.
– Но я хочу послушать, – сказала я. Мне хотелось услышать мамин голос, этот изменившийся голос.
Медсестра Зубная Боль вошла в палату. Она измерила мне температуру, но при этом не смотрела в пространство, как Печенье. Зубная Боль внимательно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на градусник и сказала, что у меня по-прежнему лихорадка, как и вчера. Она спросила мою мать, не нужно ли ей чего-нибудь, и та поспешно помотала головой. С минуту Зубная Боль постояла в растерянности, с горестным видом. Затем она измерила мое давление, которое всегда было прекрасным – в то утро оно тоже было прекрасным.
– Ну что же, хорошо, – сказала Зубная Боль, и мы с мамой поблагодарили ее. Она сделала записи в моей карте и, дойдя до двери, обернулась и сказала, что скоро придет доктор.
– Доктор показался мне милым человеком, – заметила мама, обращаясь к окну. – Когда он приходил вчера вечером.
Зубная Боль оглянулась на меня, покидая палату.
Помолчав с минуту, я попросила:
– Мама, расскажи мне что-нибудь еще про Гарриет.
– Ты же знаешь, что случилось с Гарриет. – Мама вернулась в комнату, ко мне.
– Но ты же всегда любила ее, правда? – сказала я.
– О, конечно – с чего мне было не любить Гарриет? Ей очень не повезло с замужеством. Она вышла замуж за человека из другого города, с которым познакомилась на танцах – в амбаре танцевали square dance[14]. Люди за нее радовались, ведь она не была красавицей, даже в расцвете молодости.
– А что с ней было не так? – спросила я.
– Все с ней было так. Просто она всегда была капризной, даже в юности – а еще эти торчащие зубы. И она курила, так что у нее плохо пахло изо рта. Но она была милой и никогда никому не желала зла. У нее было двое детей, Абель и Дотти…
– О, я в детстве любила Абеля, – вставила я.
– Да, Абель всегда был чудесным. Иногда яблоко падает далеко от яблони. И вот однажды муж Гарриет вышел купить ей сигареты и…
– Больше никогда не вернулся, – заключила я.
– Вот именно – не вернулся. Он действительно так никогда и не вернулся. Упал мертвым на улице, и Гарриет так намучилась, пытаясь не дать государству отобрать детей. Он ничего ей не оставил, бедняжке, – конечно, он не ожидал, что вот так вдруг умрет. Тогда они жили в Рокфорде – ты знаешь, это в часе езды, – и она так и осталась там, уж не знаю почему. Но она каждое лето присылала к нам детишек на несколько недель. О, такие грустные дети! Я всегда шила Дотти новое платье перед отъездом домой.
Абель Блейн. Помнится, у него были слишком короткие штаны, выше лодыжек, и дети смеялись над ним, когда мы приходили в город. Но он всегда улыбался, как будто это было ему безразлично. У него были плохие зубы, к тому же кривые, но вообще-то он был красив. Наверно, он знал, что красив. А главное – у него было доброе сердце. Это он научил меня отыскивать еду в дампстере[15] на задах кондитерской Чатвина. Удивительно, что он делал это не таясь: стоял, отбрасывая в сторону коробки, пока не находил то, что искал, – вчерашние и позавчерашние пирожки, булочки и пирожные. С нами никогда не было моих сестры и брата – уж не знаю, где они тогда были. После нескольких визитов в Эмгаш Абель больше не вернулся. Он работал билетером в театре – там, где жил. Однажды он прислал мне письмо, в которое вложил брошюру с изображением вестибюля театра. Помню, вестибюль был красивый, облицованный множеством разноцветных изразцов.
– Абель встал на ноги, – сказала мама.
– Расскажи мне снова, – попросила я.
– Ему удалось жениться на дочери своего босса. Он живет в Чикаго, уже много лет. Его жена очень надменная и не желает знаться с бедной Дотти, муж которой с кем-то сбежал несколько лет тому назад. Он был с Востока, муж Дотти. Ты же знаешь.
– Нет.
– Ну ладно. – Мать вздохнула. – Он был откуда-то с восточного морского побережья… – Она кивнула в сторону окна, словно указывая, что муж Дотти оттуда. – Вероятно, считал, что он чуть лучше, чем она. Уизл, как ты можешь жить там, где нет неба?
– Небо есть, – возразила я, но тут же добавила, – хотя я понимаю, что ты имеешь в виду.
– Но как ты можешь жить без неба?
– Зато здесь есть люди, – ответила я. – Но расскажи мне почему.
– Что почему?
– Почему муж Дотти сбежал?
– Откуда мне знать? Нет, пожалуй, я знаю. Он познакомился с какой-то женщиной в местной больнице, когда ему удаляли желчный пузырь. Смотри-ка, почти как ты!
– Как я? Ты думаешь, я собираюсь сбежать с Печеньем или Серьезным Ребенком?
– Никогда не знаешь, что привлекает людей друг в друге, – ответила мама. – Но я не думаю, что он сбежал с какой-нибудь Зубной Болью. – Мама кивнула в сторону двери. – Он мог сбежать с Ребенком, но только не с Серьезным Ребенком – я имею в виду… – Подавшись вперед, мама прошептала: – Ну, не с такой темненькой, как наша, не с индианкой. – Она снова откинулась на спинку кресла. – Но я уверена, что она была моложе и привлекательнее Дотти. Он оставил Дотти дом, в котором они жили, и она устроила в нем пансион. Дела у нее идут хорошо, насколько мне известно. А у Абеля в Чикаго дела идут прекрасно – какое это утешение для бедной Гарриет. Думаю, она беспокоилась о Дотти. Честное слово, Гарриет беспокоилась обо всех. Правда, сейчас, наверно, уже нет. Она умерла много лет назад. Однажды ночью, во сне. Легкая смерть.
Время от времени я задремывала, слушая мамин голос.
Я думала: это все, чего я хочу.
Но как выяснилось, я хотела кое-что еще. Мне хотелось, чтобы мама спросила о моей жизни. Я хотела рассказать ей о том, как сейчас живу. И я опрометчиво выпалила:
– Мама, два моих рассказа опубликованы.
Она насмешливо на меня посмотрела, словно я сказала, что у меня вырос шестой палец на ноге. Затем она молча перевела взгляд на окно.
– Ничего особенного, – добавила я. – В крошечных журналах.
Она по-прежнему молчала. И тогда я сказала:
– Бекка не спит по ночам. Может быть, она пошла в тебя. Возможно, она тоже спит урывками.
Мама продолжала смотреть в окно.
– Но я хочу, чтобы она чувствовала себя в безопасности, – добавила я. – Мама, почему ты не чувствовала себя в безопасности?
Моя мать закрыла глаза, как будто этот вопрос мог погрузить ее в сон – но я вовсе не думала, что она собирается спать.
Через несколько минут она открыла глаза, и я сказала:
– У меня есть друг, Джереми. Раньше он жил во Франции, и он из семьи аристократов.
Мама посмотрела на меня, потом перевела взгляд на окно, и прошло много времени, прежде чем она проговорила:
– Так он говорит.
А я сказала:
– Да, так он говорит, – извиняющимся тоном, как бы давая ей понять, что мы не должны больше обсуждать ни моего друга, ни мою жизнь.
Как раз в этот момент в палату вошел доктор.
– Девочки, – начал он и кивнул. Подойдя к моей матери, он, как и накануне, пожал ей руку. – Как у нас дела сегодня? – И сразу же задернул занавески вокруг моей кровати, отделив меня от мамы. Я любила его по многим причинам, и одна из причин была именно эта: он делал эти визиты личными для нас двоих. Я слышала, как сдвинулось мамино кресло, и поняла, что она вышла из палаты. Доктор взял меня за запястье и начал считать пульс. Когда он приподнял мою больничную сорочку, чтобы проверить шов – как делал каждый день, – я посмотрела на его красивые руки с толстыми пальцами, на золотое обручальное кольцо, сверкнувшее, когда он осторожно нажал возле шва. Он заглянул мне в лицо, чтобы увидеть, не больно ли, и вопросительно поднял брови, а я покачала головой. Шов заживал хорошо.
– Хорошо заживает, – произнес он, и я ответила:
– Да, я знаю. – И мы оба улыбнулись, потому что это означало, что дело не в шве и что я никак не могу поправиться вовсе не из-за него. Эта улыбка была нашим признанием чего-то – вот что я хочу сказать. Я всегда помнила этого человека и годами посылала больнице деньги на его имя. И я думала тогда и теперь все еще думаюо фразе «рукоположение».
Грузовик. Порой он вспоминается мне с поразительной ясностью. Заляпанные грязью окна, «дворники», заскорузлая приборная доска, запах бензина, гнилых яблок и псины. Не могу сказать точно, сколько именно раз меня запирали в этом грузовике. Не помню ни первого, ни последнего раза. Но в последний раз я была совсем маленькой, не старше пяти лет – иначе я бы весь день провела в школе. Меня запирали там, потому что сестра и брат были в школе – так мне теперь кажется, – а родители работали. Иногда меня запирали в грузовике в наказание. Я помню соленые крекеры с арахисовым маслом, которые не могла есть, потому что была сильно напугана. Помню, как с криком стучала по стеклу окон. Я не думала, что умру, наверно, я ничего не думала – просто это был ужас от осознания, что никто не придет и что небо становилось все темнее, и ко мне подкрадывался холод. Я все кричала и кричала. Кричала, пока не начинала задыхаться. В Нью-Йорке я вижу детей, плачущих от усталости, а иногда просто от злости. Но изредка я вижу ребенка, плачущего от глубочайшего отчаяния, и думаю о том, что это один из самых правдивых звуков, которые может издавать ребенок. Тогда мне кажется, будто я слышу, как разбивается мое сердце – вот так иногда можно услышать на открытом воздухе, как растет кукуруза в полях моей юности. Я встречала много людей, даже со Среднего Запада, которые уверяли меня, что ухо не может уловить звуки, которые издает кукуруза, когда растет. Но они не правы. Нельзя услышать, как разбивается мое сердце, это так, но для меня они неразделимы – звук растущей кукурузы и звук моего разбитого сердца. Однажды я вышла из вагона в метро, чтобы не слышать, как плачет тот ребенок.
Во время пребывания в грузовике мне в голову приходили странные мысли. Я думала, что вижу мужчину, приближающегося ко мне, думала, что вижу чудовище, а один раз я подумала, что вижу свою сестру. Потом я себя успокаивала, говоря вслух: «Все в порядке, дорогая. Скоро придет милая женщина. А ты очень хорошая девочка, ты такая хорошая девочка, а она мамина родственница, и ей нужно, чтобы ты жила вместе с ней, потому что она одинокая и хочет, чтобы вместе с ней жила хорошая маленькая девочка». Эта фантазия была для меня очень реальна, и она успокаивала меня. Я мечтала о теплом доме, о чистых простынях, чистых полотенцах, о туалете с настоящим унитазом и сливным бачком и о солнечной кухне. Таким образом я впускала себя в рай. А потом становилось холодно, и солнце заходило, и я снова начинала плакать – сначала хныкала, потом плакала все сильнее. Наконец появлялся отец, отпирал дверь и уносил меня на руках. «Нет причин плакать», – говорил он иногда, и я помню его теплую руку у себя на затылке.
Доктор, который так красиво нес свою печаль, зашел ко мне вчера вечером.
– У меня еще пациент на другом этаже, – сказал он. – Давайте-ка поглядим, как у вас дела. – И он, как всегда, задернул занавески вокруг моей кровати. Он не стал мерить температуру градусником, а просто потрогал мой лоб. Потом он положил пальцы мне на запястье и сосчитал пульс. – О’кей. Спите крепко. – Он сжал мою руку в кулак и поцеловал его, отдернул занавески и вышел из палаты. Я много лет любила этого человека. Но я уже это говорила.
Кроме Джереми, в то время моим единственным другом в Виллидж была высокая шведка по имени Молла, по крайней мере на десять лет старше меня, но у нее тоже были маленькие дети. Однажды, проходя вместе со своими детьми мимо наших дверей по пути в парк, она вдруг заговорила со мной об очень личном. Ее мать плохо с ней обращалась, сказала Молла, и когда у нее родился первый ребенок, ей стало очень грустно. Ее психоаналитик сказал, что она грустит из-за всего, что недополучила от своей матери. Не то чтобы я ей не верила, просто ее история не заинтересовала меня. Дело было в ее стиле, в ее откровенной манере сразу же выплескивать то, о чем не принято говорить. К тому же на самом деле и я ее не интересовала, так что наше общение ни к чему не обязывало. Я ей нравилась, она была мила со мной. Молла оказалась властной натурой, и она диктовала мне, как следует обращаться с моими детьми, и советовала водить их в парк. Она тоже мне понравилась. Находясь рядом с ней, я словно смотрела иностранный фильм. Она упоминала разные фильмы, и я никогда не понимала, о чем она говорит. Наверно, она это заметила, но из вежливости не показывала виду. А быть может, просто не верила, что можно быть такой дремучей. Когда она говорила о фильмах Бергмана, или о телевизионных шоу шестидесятых, или о музыке, у меня был отсутствующий вид. Как я уже говорила, я не знала общеизвестные вещи, касающиеся культуры. В то время я едва ли сознавала эту свою особенность. Мой муж знал про это и пытался помочь, если оказывался в тот момент рядом. Он говорил: «О, моя жена не видела многие фильмы, когда росла, так что не обращайте внимания». Он не уточнял, что мое детство прошло в бедности – ведь даже у бедных людей был телевизор. Кто бы в это поверил?
– Мама, – тихо произнесла я следующей ночью.
– Да?
– Почему ты сюда приехала?
Последовала пауза. Кажется, она заерзала в кресле, а впрочем, я не уверена: моя голова была повернута к окну.
– Потому что позвонил твой муж и попросил меня приехать. Наверно, ему нужно было, чтобы при тебе была сиделка.
После долгого молчания – оно длилось минут десять, а быть может, почти час, – я наконец сказала:
– Ну что же, все равно спасибо.
Она не ответила.
Среди ночи я проснулась от кошмара, который не могла вспомнить. Раздался ее тихий голос:
– Уизл, спи. А если не можешь заснуть, просто отдыхай. Пожалуйста, отдохни, детка.
– Но ты же никогда не спишь, – возразила я, пытаясь сесть. – Как ты можешь обходиться без сна каждую ночь? Мама, ты не спишь уже две ночи!
– Не беспокойся обо мне, – попросила она. И добавила: – Мне нравится твой доктор. Он о тебе заботится. Врачи, живущие при больнице, ничего не знают – да и откуда им знать? Но он хороший, он позаботится о том, чтобы ты поправилась.
– Мне он тоже нравится. Я люблю его.
Через несколько минут она сказала:
– Мне жаль, что у нас было так мало денег, когда вы росли. Я знаю, это было унизительно.
Я почувствовала, как сильно покраснела в темноте.
– Не думаю, что это имело значение, – возразила я.
– Конечно, имело.
– Но теперь у нас все прекрасно.
– Я не так в этом уверена, – задумчиво произнесла она. – Твой брат – мужчина средних лет, который спит вместе со свиньями и читает детские книжки. А Вики – она все еще злится. Дети в школе смеялись над вами. Мы с твоим отцом не знали этого. А следовало бы знать. Вики до сих пор очень злится.
– На тебя?
– Думаю, да.
– Это глупо, – сказала я.
– Нет. Матери должны защищать своих детей.
Немного помолчав, я ответила:
– Мама, есть дети, которых матери обменивают на наркотики. Есть дети, у которых матери исчезают на много дней, просто бросают их. Есть… – Я умолкла, так как устала от этих слов, звучавших фальшиво.
Она продолжила:
– Ты была не такой, как Вики. И не такой, как твой брат. Тебе было не так уж важно, что думают люди.
– Почему ты это сказала? – спросила я.
– Посмотри, как ты теперь живешь. Ты просто шла вперед и… сделала это.
– Понятно. – Правда, мне не было понятно. Как мы можем вообще понять что-то насчет себя? – Когда я пошла в школу, я была очень маленькая. – Я вытянулась на спине на больничной койке. В окно проникал свет от зданий. – Я весь день скучала по тебе. Когда меня вызывал учитель, я не могла вымолвить ни слова, у меня ком стоял в горле. Не знаю, как долго это длилось. Но я так скучала по тебе, что иногда плакала в уборной.
– Твоего брата рвало.
Я немного подождала. Прошла не одна минута, прежде чем мама снова заговорила:
– Когда твой брат был в пятом классе, его каждый день рвало перед школой. Я так никогда и не выяснила почему.
– Мама, – спросила я, – какие детские книжки он читает?
– О маленькой девочке в прериях – это целая серия. Он любит эти книги. Но он, знаешь ли, не какой-нибудь там отсталый.
Я посмотрела в окно. Свет от Крайслер-билдинг сиял, как маяк – символ лучших надежд человечества, его величайших стремлений и жажды красоты. Вот что мне хотелось сказать моей матери об этом здании, на которое мы смотрели.
– Иногда я вспоминаю тот грузовик, – сказала я.
– Грузовик? – В мамином голосе звучало удивление. – Я ничего не знаю про грузовик. Ты имеешь в виду старый грузовик твоего отца?
Мне хотелось сказать – о, как мне хотелось сказать: «Ты даже не помнишь, как однажды там была вместе со мной такая длинная, длинная коричневая змея?» Мне хотелось спросить ее об этом, но я не могла произнести это слово и рассказать кому бы то ни было, как я испугалась, когда увидела, что заперта в грузовике с такой длинной коричневой… И она двигалась так быстро. Так быстро.
Когда я была в шестом классе, с востока прибыл новый учитель, мистер Хейли. Этот молодой человек преподавал социологию. Я помню два факта о нем. Вот первый факт. Однажды мне нужно было в туалет, а я терпеть не могла отпрашиваться, потому что это привлекало ко мне общее внимание. Он кивнул и с улыбкой дал мне пропуск. Когда я вернулась в класс и приблизилась к учителю, чтобы вернуть ему пропуск (это была большая деревяшка, которую нужно было иметь при себе в коридоре в доказательство того, что нам разрешили отлучиться с занятий), я увидела, как Кэрол Дарр, популярная в классе девочка, сделала один жест. По опыту я знала, что она насмехается надо мной, и этот взмах руки предназначен для ее друзей – чтобы они тоже могли надо мной посмеяться. Я помню, как лицо мистера Хейли покраснело и он сказал:
– Никогда не считайте, что вы лучше других, я не потерплю этого в своем классе. Здесь нет никого, кто был бы лучше других. Я только что заметил, по выражению на лицах некоторых из вас, что вы считаете себя лучше кого-то другого, и я не потерплю этого в своем классе.
Я взглянула на Кэрол Дарр. После этой суровой отповеди ей было совсем не до шуток.
Я сразу же по уши влюбилась в этого человека. Понятия не имею, где он сейчас, жив ли, – но я до сих пор люблю его.
Второй факт о мистере Хейли заключается в том, что он рассказывал нам про индейцев. До того момента я не знала, что мы обманом отобрали у них землю и это стало причиной начала войны Черного Ястреба[16]. Я не знала, что белые давали индейцам виски, что белые убивали их женщин в их собственных кукурузных полях. Я чувствовала, что люблю Черного Ястреба, как мистера Хейли, что индейцы были храбрыми и чудесными людьми. И просто не могла поверить, что Черного Ястреба возили по городам после того, как схватили. Я прочла его автобиографию, как только смогла достать. Мне запомнились его слова: «Наверно, у белых язык без костей, раз они могут выдать черное за белое, а плохое за хорошее». К сожалению, я читала его автобиографию в переводе, а он мог быть неточным. Я размышляла: «Кто такой на самом деле Черный Ястреб?» Мне казалось, что он сильный, но обманутый человек. Он с нежностью говорил о «нашем Великом Отце, Президенте», и от этого мне становилось грустно.
Все это произвело на меня очень сильное впечатление – унижения, которые мы принесли этому народу. Однажды я пришла домой из школы, где мы узнали о том, как индианки засадили поле кукурузой, а потом пришли белые мужчины и распахали это поле. Мать, сидя на корточках у входа в гараж, из которого мы недавно выехали, пыталась что-то починить. Я сказала ей:
– Мама, ты знаешь, что мы сделали индейцам? – Причем произнесла это медленно, с благоговейным страхом.
Мать вытерла тыльную сторону руки о волосы.
– Мне плевать на то, что мы сделали индейцам, – ответила она.
Мистер Хейли уехал в конце года. Насколько я помню, он вступил в армию, а это могло означать только Вьетнам – это было как раз в то время. Я потом искала его имя на Мемориале ветеранов в Вашингтоне, но его там не было. Больше я ничего про него не знаю, но после его отповеди Кэрол Дарр вела себя со мной в классе нормально. Мы все его уважали, а это настоящий подвиг для человека, у которого в классе двенадцатилетние. Но мистер Хейли его совершил.
Я долго думала о книгах, которые, по словам мамы, читал мой брат – я тоже их прочла в свое время, но они не особенно меня тронули. Как я уже говорила, мое сердце принадлежало Черному Ястребу, а не тем белым людям, которые жили в прерии. И я размышляла: что же в этих книгах такого, что нравится брату? Семья в книгах этой серии была милая. Они продвигались по прерии, порой у них возникали проблемы, но мать всегда была доброй, а отец очень их любил.
Оказалось, что моя дочь Крисси тоже любит эти книги.
Когда Крисси исполнилось восемь, я купила ей книгу про Тилли, которая так много для меня значила. Крисси любила читать. Я была счастлива, когда она сняла обертку с этой книги в свой день рождения. На нашей вечеринке присутствовала ее подруга, отец которой был музыкантом. Когда он зашел за дочерью, то остался, и мы немного поболтали. Он упомянул художника, которого я знала в колледже. Художник переехал в Нью-Йорк вскоре после меня. Я сказала, что знаю его. Музыкант заметил, что я красивее жены художника. Нет, ответил он на мой вопрос, у художника нет детей.
Через несколько дней Крисси сказала мне о книге про Тилли: «Мама, это глупая книга».
А вот книги о девочке в прерии, которые любил мой брат, Крисси тоже любит до сих пор.
Когда мама сидела в изножье моей кровати третий день, я заметила, что у нее усталое лицо. Мне не хотелось, чтобы она уехала, но она, по-видимому, не могла принять предложение сестер насчет койки, и я чувствовала, что она скоро уедет. Как это часто со мной бывало, я начала бояться заранее. Помню, как впервые начала бояться заранее в детстве – это было связано со стоматологом. Поскольку о наших зубах мало заботились в детстве и поскольку считалось, что у нас плохие зубы из-за наследственности, любой поход к стоматологу вполне естественно вызывал страх. Стоматолог лечил нас бесплатно, но уделял нам мало времени и внимания, как будто ненавидел нас за то, какими мы были. Я волновалась все время, с того самого момента, как слышала, что скоро мне придется увидеть его. И ходила к нему довольно редко. Но вот что я узнала довольно рано: нет смысла страдать дважды.
В середине следующей ночи Серьезный Ребенок пришла за мной и сказала, что из лаборатории поступил мой анализ крови и нужно срочно сделать компьютерную томографию.
– Но сейчас же середина ночи, – возразила моя мать. Серьезный Ребенок повторила, что мне нужно идти. И я согласилась:
– Тогда давайте пойдем.
Вскоре явились санитары, положили меня на каталку, и я помахала маме рукой. Они загрузили меня в большой лифт, а потом мы спускались еще на нескольких. В коридорах было темно и в лифтах тоже. Я никогда прежде не покидала свою палату ночью и не знала, что даже в больнице ночью все иначе, чем днем. После долгого путешествия меня привезли в какую-то комнату, и кто-то вложил мне в руку маленькую трубочку, а другую затолкал в горло. «Не шевелитесь», – сказали мне, и я даже не смогла кивнуть.
Прошло много времени – не знаю, сколько именно, – и раздались щелчки, а потом все замерло.
– Черт! – воскликнул голос у меня за спиной. – Машина сломалась. Но нам нужно сделать эту компьютерную томографию, или доктор нас убьет.
Я долго там лежала и сильно замерзла. Как оказалось, в больницах часто бывает холодно. Я дрожала, но никто этого не заметил. Конечно, мне бы сразу принесли одеяло. Им только нужно было, чтобы машина заработала, и я это понимала.
Наконец послышались правильные щелчки и замигали крошечные красные лампочки. Затем у меня из горла вынули трубочку и каталку повезли в коридор. Думаю, мне никогда этого не забыть: моя мать сидела в темноте, в подвальном помещении больницы, и ее плечи слегка опустились от усталости. В ее позе было выражено терпение всего мира.
– Мамочка, – прошептала я, и она махнула мне. – Как же ты меня нашла?
– Это было нелегко, – ответила она. – Но у меня же есть язык.
На следующее утро Зубная Боль принесла новость, что, несмотря на неважный анализ крови, результаты тестов о’кей. Она спросила мою мать, не хочет ли она их прочесть. Мама поспешно покачала головой, как будто ее попросили взглянуть на чьи-то интимные части тела. «Мне бы хотелось», – сказала я, протянув руку. Зубная Боль отдала мне бумаги, и я поблагодарила ее. В то утро на моей кровати лежал журнал. Позже я положила его в ящик своей тумбочки, на которой стоял телефон, – спрятала его на случай, если зайдет доктор. Итак, я была похожа на мою мать: нам не хотелось, чтобы о нас судили по тому, что мы читаем. Но если она не стала бы и читать такое, то мне лишь не хотелось, чтобы меня увидели с этим журналом. Теперь, много лет спустя, это кажется мне странным. Мы с ней находились в больнице – кажется, самое время почитать что-нибудь легкое, чтобы отвлечься. Возле кровати у меня было несколько книг из дома, но я не читала их, так как рядом была мама, – а она и не взглянула на них. Но что касается этого журнала, то я уверена, что доктор не был бы шокирован. Просто мы с мамой очень чувствительны и постоянно опасаемся чужого суждения. Как же нам избавиться от комплекса неполноценности?
Это был просто журнал о кинозвездах – один из тех, которые мы с моими девочками (когда они стали старше) просматривали, чтобы скоротать время. В этом журнале часто публиковали истории о каких-нибудь обычных людях, с которыми случилось что-то ужасное. Вынув в тот день журнал из ящика тумбочки, я увидела статью о женщине, которая однажды вечером пошла искать своего мужа в амбар в Висконсине. И ей отрубил руку – в буквальном смысле слова отрубил топором – мужчина, который сбежал из сумасшедшего дома. А муж, привязанный к столбу возле загона для лошадей, смотрел на это. Он кричал, лошади ржали, и, надо думать, женщина вопила как зарезанная – там не говорилось, что она лишилась чувств. Весь этот шум заставил сумасшедшего убежать. Женщине, которая могла истечь кровью насмерть, так как из ее артерий хлестала кровь, удалось позвать на помощь. Пришел сосед и наложил ей на руку жгут. И теперь муж, жена и сосед взяли за правило начинать каждый день с совместной молитвы. В журнале была помещена их фотография у двери амбара в Висконсине – они молились в свете утреннего солнца. Женщина крестилась единственной оставшейся рукой. Они надеялись, что у нее скоро будет протез, но все упиралось в деньги. Я сказала маме, что это дурной вкус – фотографировать молящихся людей. А она сказала, что все вместе взятое дурной вкус.
– Правда, этому мужу еще повезло, – заметила мама. – Я видела в новостях мужчину, которому пришлось наблюдать, как насилуют его жену.
Я положила журнал и взглянула на мою мать в изножье кровати – я не видела эту женщину много лет.
– Серьезно? – спросила я.
– Что серьезно?
– Мужчина наблюдал, как насилуют его жену? Что же такое ты смотрела, мама? – Я воздержалась от вопроса, который мне особенно хотелось задать: – И где вы, ребята, взяли телевизор?
– Я видела это по телевизору, я же только что тебе сказала.
– В новостях или в шоу про копов?
Она обдумала мой вопрос и ответила:
– В новостях, как-то раз в доме у Вики. Это случилось в одной из этих ужасных стран. – Ее глаза закрылись.
Я снова взяла в руки журнал и зашуршала страницами.
– Посмотри-ка, – обратилась я к маме, – у этой женщины хорошенькое платье. – Но она не ответила и не открыла глаза.
В эту минуту в палату вошел доктор.
– Девочки, – сказал он и умолк, увидев, что у моей матери закрыты глаза.
Он остался стоять на пороге, и мы с ним с минуту понаблюдали, действительно ли она спит. И тут мне вспомнилось, как в юности, когда мы приезжали в город, мне иногда отчаянно хотелось подбежать к какому-нибудь незнакомцу и сказать: «Вы должны мне помочь, пожалуйста, пожалуйста, вы же можете забрать меня оттуда, там плохо…» Но, конечно, я никогда этого не делала. Интуитивно я сознавала, что никакой незнакомец не осмелится это сделать и что в конечном счете такое предательство только ухудшит положение дел. И теперь я перевела взгляд с моей матери на доктора, так как в сущности он и был тем незнакомцем, на которого я возлагала надежды. Он повернулся, и, наверно, у меня было такое выражение лица, что в его глазах что-то промелькнуло. Он поднял руку, показывая, что еще вернется. Когда он вышел за дверь, я ощутила, как падаю в какую-то темную пропасть, знакомую с давних пор. Глаза мамы еще долго были закрыты. По сей день я понятия не имею, спала ли она или просто отгородилась от меня. Мне тогда ужасно хотелось справиться о моих маленьких детях, но я не хотела будить ее телефонным разговором. К тому же девочки были в школе.
Весь день мне так хотелось поговорить с моими девочками, что я не могла это вынести. В конце концов я выбралась вместе со своей капельницей в коридор и спросила медсестер, можно ли позвонить с их поста. Они придвинули мне телефон, и я позвонила мужу. Я изо всех сил крепилась, чтобы у меня не потекли слезы. Он был на работе, а когда услышал, как я скучаю по нему и девочкам, ему стало меня жаль.
– Я позвоню няне и попрошу позвонить тебе, как только они вернутся домой. Крисси сегодня пошла играть к подруге.
Итак, жизнь продолжается, подумала я.
(А теперь я думаю: она продолжается, пока не закончится.)
Я сидела на стуле у сестринского поста, стараясь не заплакать. Зубная Боль обняла меня за плечи, и я до сих пор люблю ее за это. Мне иногда становилось грустно от той реплики, которую Теннесси Уильямс вложил в уста Бланш Дюбуа: «Я всю жизнь зависела от доброты первого встречного»[17]. Многих из нас часто спасала доброта незнакомцев – но через какое-то время это начинает звучать банально. И вот отчего мне грустно: прекрасная и правдивая фраза используется так часто, что становится избитой.
Я вытерла слезы рукой, когда появилась мама, которая искала меня. И все мы – Зубная Боль, я, остальные сестры – помахали ей.
– Я думала, ты дремлешь, – сказала я, когда мы с ней возвращались в мою палату. Она ответила, что не спала. – Наверно, скоро позвонит няня. – И я рассказала, что Крисси пошла поиграть.
– Как это – пошла поиграть? – спросила мама.
Я порадовалась, что мы одни.
– Это просто означает, что она отправляется к кому-нибудь домой после школы.
– И с кем она будет играть? – поинтересовалась мама. Я почувствовала, что она старается сделать мне приятное, поскольку заметила в моем лице печаль.
Когда мы шли по больничному коридору, я рассказала ей о подруге Крисси. О том, что ее мать преподает в пятом классе, а отец – музыкант, но при этом никчемная личность, и они несчастливы в браке. А девочки очень любят друг друга. Мама кивала на протяжении моего рассказа. Вернувшись в палату, мы увидели там доктора. С деловым видом он задернул занавески и нажал на мой шов. Он сказал:
– Насчет паники вчера ночью: анализ крови показал воспаление, и нам нужно было сделать компьютерную томографию. Как только у вас прекратится лихорадка и вы сможете удерживать в желудке твердую пищу, мы отпустим вас домой.
Голос у него был необычно резкий.
– Да, сэр, – ответила я, не глядя на него. И вот что я тогда узнала: человек устает. Душа – или как там мы называем то, что не есть тело, – устает, и это сама природа нам помогает. Я устала. Хотя я и не знаю это наверняка, но думаю, что он тоже устал.
Няня позвонила. Она все время твердила, что у детей все прекрасно, и поднесла трубку к уху Бекки. Я сказала:
– Мамочка скоро вернется домой. – Я повторяла это снова и снова, и Бекки не плакала, а я была счастлива.
– Когда? – спросила она, и я заверила, что скоро и что я люблю ее.
– Я люблю тебя и скучаю по тебе. И я здесь, а не с тобой, чтобы поправиться, и я поправлюсь, и очень скоро тебя увижу, да, ангелочек?
– Да, мамочка, – ответила она.
В музее Метрополитен на Пятой авеню, на первом этаже, есть раздел, который называют садом скульптур. Должно быть, я много раз проходила мимо этой скульптуры вместе с мужем и с девочками – когда они стали старше. Но я думала только о том, чем накормить детей, и никогда на самом деле не представляла себе, что делать человеку в подобном музее, где всего так много. И только недавно, когда эту статую вдруг омыл великолепный свет, я остановилась, взглянула на нее и сказала: «О!»
Это мраморная статуя мужчины с его детьми[18]. У него на лице написано отчаяние. Дети прижимаются к отцу и о чем-то просят, а его взгляд, полный муки, обращен к миру, и руки прижаты ко рту. Но дети смотрят только на него, и когда я наконец это увидела, то произнесла: «О!»
Я прочитала надпись и текст на табличке, из которого узнала, что эти дети предлагают себя отцу в качестве пищи. Он умирает от голода в тюрьме, и дети хотят лишь одного: чтобы мучения отца прекратились. Они позволят ему – о, с такой радостью! – съесть себя.
И я подумала: этот парень, скульптор, знал. Он знал.
И тот поэт, который пояснил, что означает эта скульптура, тоже знал. Он знал.
Несколько раз я приходила в музей специально для того, чтобы увидеть умирающего от голода отца с детьми, один из которых уцепился за его ногу. А когда я туда приходила, то не знала, что делать. Он был таким же, каким запомнился мне, и я стояла в растерянности. Позже я поняла, что получала все, что мне нужно, когда смотрела на него украдкой. Например, когда я бывала в музее с кем-нибудь, то говорила, что мне нужно в туалет – просто чтобы уйти и посмотреть на статую одной. Но все было иначе, когда я специально приходила сюда, чтобы увидеть этого несчастного отца. И он всегда был на месте – за исключением одного раза. Смотрительница сказала, что он наверху, на специальной выставке. И я почувствовала себя оскорбленной оттого, что другие так хотят его увидеть!
Сжалься над нами.
Эти слова пришли ко мне позже, когда я размышляла над своей реакцией на слова смотрительницы, сказавшей, что статуя наверху. Сжалься над нами, подумала я. Потому что мы такие маленькие. Сжалься над нами – часто звучит у меня в голове. Сжалься над всеми нами.
– Кто эти люди? – спросила моя мать.
Я лежала на спине, лицом к окну. Был вечер, и зажигались огни города. Я спросила маму, что она имеет в виду. Она ответила:
– Эти глупые люди в глупом журнале – я не знаю имени ни одного из них. По-видимому, всем им нравится фотографироваться, когда они пьют кофе или делают покупки, или…
Я перестала слушать. Мне нужен был только мамин голос, и не имело значения, что она говорит. И я слушала звук ее голоса. Я так давно его не слышала, и он изменился. Раньше звук ее голоса действовал мне на нервы, а теперь он стал совсем другим.
– Взгляни-ка на это, – сказала мама. – Уизл, ты только посмотри. Боже мой! – воскликнула она.
И я села.
Она передала мне журнал.
– Ты это видела?
Я взяла журнал.
– Нет, – ответила я. – Я хочу сказать, что видела, но не обратила внимания.
– О господи, а вот я обратила. Ее отец когда-то был другом твоего отца. Элджин Эплби. Смотри, вот здесь написано: «Ее родители, Нора и Элджин Эплби». О, он был забавным. Мог рассмешить самого дьявола.
– Ну, дьявола легко рассмешить, – возразила я, и мама взглянула на меня. – А откуда его знал папа?
Это был единственный раз за все пребывание мамы в больнице, когда я рассердилась на нее – за то, что она упомянула об отце вскользь. А до этого она вообще о нем не говорила, разве что вспомнила о его грузовике.
– Они тогда были молодыми, – ответила она. – Элджин переехал в Мейн – кто его знает почему. Но посмотри-ка на их дочь, Энни Эплби. – Мама указала на журнал, который передала мне. – Пожалуй, она выглядит – ну, не знаю… – Она откинулась на спинку кресла. – Как же она выглядит?
– Мило? – Правда, я не думала, что она выглядит мило.
– Нет, – возразила мама. – У нее какой-то такой вид…
Я снова посмотрела на фотографию. Энни стояла рядом со своим новым бойфрендом. Это был актер, снимавшийся в телевизионном сериале, который мой муж иногда смотрел по вечерам. – У нее такой вид, как будто она много повидала в жизни, – наконец сказала я.
– Вот именно, – кивнула мама. – Ты права, Уизл. Я тоже так подумала.
Статья была длинной, и в ней больше говорилось об Энни Эплби, чем о парне, с которым она была. Там было сказано, что она выросла на картофельной ферме в Сент-Джон-Вэлли, в округе Арустук в Мейне. Не закончив среднюю школу, она уехала, чтобы вступить в театральную труппу. А еще говорилось, что она скучает по дому. «Конечно, скучаю, – сказала Энни Эплби, – я каждый день скучаю по этой красоте». Когда ее спросили, не хочет ли она сниматься в кино вместо того, чтобы играть на сцене, она ответила: «Ничуть. Я люблю, когда публика прямо передо мной, хотя и не думаю о ней, когда нахожусь на сцене. Я просто знаю, что нужно зрителям – чтобы я хорошо выполняла свою работу, играя для них».
Я отложила журнал.
– Она хорошенькая, – заметила я.
– Я не считала ее хорошенькой, – сказала мама. Немного помолчав, она добавила: – Думаю, она не хорошенькая, а красивая. Интересно, каково это для нее – быть знаменитой. – И мама задумалась.
Может быть, оттого, что она впервые упомянула моего отца, а не только его грузовик, или потому, что она назвала чью-то дочь красивой, я произнесла саркастически:
– Не знала, что тебя когда-нибудь интересовало, что значит быть знаменитым. – И я сразу же пожалела об этом: ведь моя мама нашла ночью дорогу в подвальное помещение этой ужасной большой больницы, она хотела убедиться, что с ее дочерью все в порядке. Поэтому я продолжила: – Но я иногда думала об этом. Потому что однажды видела ее – тут я назвала имя одной знаменитой актрисы, – в Центральном парке. Она гуляла одна, и я подумала: «Каково это?» – Я сказала все это, чтобы загладить свои слова.
Мама слегка кивнула, глядя в окно.
– Ладно, – сказала она. Через несколько минут ее глаза закрылись.
И только много лет спустя я подумала, что она, возможно, не знала знаменитую актрису, которую я упомянула. Мой брат сказал однажды, что, насколько ему известно, мама никогда не была в кино. Мой брат тоже никогда не был в кино. Насчет Вики не знаю.
Я увидела художника, которого знала в колледже, через несколько лет после того, как лежала в больнице. Мы встретились на открытии выставки другого художника. Мой брак тогда трещал по швам. Произошли вещи, унизительные для меня: мой муж сблизился с женщиной, которая приводила моих девочек в больницу. У нее не было собственных детей. Я попросила, чтобы она больше не приходила в наш дом, и он согласился. Но я совершенно уверена, что у нас с мужем была ссора в тот вечер, когда мы пошли на открытие выставки. И я помню, что не переодела топ. Это был пурпурный вязаный топ; на мне была юбка, и в последнюю минуту я надела длинное синее пальто мужа. Наверно, муж был в кожаной куртке. Помню, как удивилась, увидев там художника. Казалось, он занервничал, увидев там меня, и его взгляд задержался на моем пурпурном вязаном топе и темно-синей юбке. Они плохо сидели, и цвета не сочетались. Я увидела это только дома, взглянув в зеркало. Значит, он увидел меня такой. Это не имело значения. Значение имел только мой брак. Но встреча с художником в тот вечер все-таки не прошла бесследно, если спустя много лет я все еще вижу это длинное синее пальто и безвкусный пурпурный топ. Художник по-прежнему был единственным человеком, который умел заставить меня смутиться из-за моего внешнего вида, и это было любопытно для меня.
Я уже говорила прежде: меня интересует, как мы ухитряемся чувствовать свое превосходство над другим человеком, другой группой людей. Это происходит повсюду, все время. Как бы это ни называлось, я считаю, что это в нас самое низкое – потребность найти того, кого можно унизить.
Писательница Сара Пейн, с которой я познакомилась в магазине готового платья, должна была выступать в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Я прочитала об этом в газете через несколько месяцев после нашего короткого разговора и удивилась: она редко появлялась на публике. Мне казалось, что она живет затворницей. Когда я высказала эту мысль вслух при одном человеке, который, по его словам, был с ней знаком, он сказал: «Не такая уж она затворница, просто Нью-Йорк ее не любит». Мне сразу вспомнилось высказывание другого мужчины, который сказал, что Сара была бы хорошей писательницей, если бы не ее склонность сострадать. Я отправилась в библиотеку послушать ее выступление. Уильям не пошел со мной, он сказал, что предпочитает остаться дома с детьми. Это было летом, и народу пришло гораздо меньше, чем я предполагала. Человек, который критиковал сострадание в ее книгах, сидел в заднем ряду один. Темой встречи была художественная литература: что это такое, и все в этом роде. Героиня одной из книг Сары Пейн называет бывшего американского президента «дряхлым стариком, жена которого правит страной с помощью своих астрологических таблиц». Сара уже получала неодобрительные письма: люди писали, что им нравилась ее книга, пока они не дошли до того места, где этот персонаж говорит такое об одном из наших президентов. Сотрудник публичной библиотеки, который вел это заседание, казалось, удивился, услышав это.
– В самом деле? – уточнил он.
И она подтвердила:
– В самом деле.
– И вы отвечаете на такие письма? – поинтересовался библиотекарь, и его пальцы коснулись стоявшего перед ним микрофона.
Сара сказала, что не отвечает на них. При этом ее лицо утратило сияние, которое я заметила, столкнувшись с ней в магазине готового платья.
– В мои задачи не входит пояснять читателям, где голос персонажа, а где личная точка зрения автора.
И уже одна эта фраза заставила меня порадоваться, что я сюда пришла. До библиотекаря, по-видимому, не дошел смысл сказанного Сарой.
– Что вы имеете в виду? – спросил он, и она повторила.
– А какие задачи, по-вашему, стоят перед писателем? – осведомился он.
И она сказала, что ее задача как писателя – раскрыть состояние человеческой души, рассказать нам, кто мы такие, что думаем и что делаем.
Одна женщина в зале подняла руку и спросила:
– Но вы действительно так думаете о бывшем президенте?
Сара Пейн, помолчав с минуту, ответила:
– Я отвечу на этот вопрос. Если та женщина, которую я вывела в своем романе, называет этого человека старым и дряхлым и утверждает, что его жена правит страной с помощью своих астрологических таблиц, то я, – она сделала паузу, – я, Сара Пейн, гражданка этой страны, я бы сказала, что президенту еще мало досталось от женщины, которую я придумала.
Нью-йоркская публика может быть быстрой на расправу, но они поняли, что она имеет в виду. Головы закивали, и слушатели начали перешептываться. Я оглянулась на человека в заднем ряду, но он не проявлял никаких эмоций. В конце вечера я услышала, как он сказал одной женщине, подошедшей с ним побеседовать:
– Она всегда хорошо держалась на сцене.
Мне не понравилось, как он это сказал.
Я поехала домой на метро одна. В тот вечер я не любила город, в котором так долго жила. Но все же не могла бы выразить точно, отчего это. Нет, пожалуй, могла бы сказать – но не точно.
В тот вечер я начала записывать эту историю. Ее фрагменты.
Я начала делать попытки.
В ту ночь в больнице, когда я почувствовала, что нехорошо обошлась с мамой (сказав, что не думаю, будто ее когда-нибудь интересовало, что значит быть знаменитым), я не могла заснуть. Так разволновалась, что мне хотелось плакать. Когда мои дети плакали, я просто сходила с ума, принималась их целовать и выяснять, в чем дело. Возможно, перебарщивала. А когда я ссорилась с Уильямом, то иногда сама плакала. Я рано узнала, что он не из тех мужчин, которые не выносят женских слез – их не выносят многие мужчины. Но он оттаивал от моих слез и почти всегда меня обнимал, если я плакала очень сильно. Он твердил: «Все хорошо, Пуговка, мы во всем разберемся». Но я не осмеливалась плакать при моей матери. Оба моих родителя терпеть не могли слезы, а плачущему ребенку трудно остановиться, когда он знает – если не прекратит плакать, будет еще хуже. Это нелегко для ребенка. А мама в тот вечер в больничной палате была такой же, как всю мою жизнь – не важно, что она казалась совсем другой, с этим ее тихим настойчивым голосом и более мягким выражением лица. Поэтому я старалась не заплакать. Чувствовала в темноте, что она не спит.
А потом она стиснула мою ногу сквозь простыню.
– Мамочка! – воскликнула я, подскочив.
– Я никуда не ухожу, Уизл, – сказала она. – Я же здесь. Ты поправишься. У тебя будет в жизни еще много разного, но так уж суждено людям. Я кое-что видела про тебя – я имею в виду, что у меня были видения, но с тобой…
Я крепко зажмурилась («Не реви, твою мать, ты, маленькая идиотка!») и так ущипнула себя за ногу, что чуть не вскрикнула от боли. А потом все прекратилось. Я повернулась на бок.
– Что именно со мной? – Теперь я смогла произнести это спокойно.
– С тобой я никогда не уверена, насколько верны эти видения. Обычно они были верными насчет тебя.
– Как, например, когда ты узнала про Крисси, – сказала я.
– Да. Но я не…
– …знала ее имени, – закончили мы вместе, и мне показалось в темноте, что мы обе улыбнулись.
– Спи, Уизл, – сказала мама. – Тебе нужно спать. А если не можешь заснуть, просто отдыхай.
Утром пришел доктор и задернул занавески вокруг кровати. А когда он увидел синяк у меня на бедре, то не стал до него дотрагиваться. Но он посмотрел на него, а потом перевел взгляд на меня. Он поднял брови, и, к моему ужасу, у меня выкатились слезинки из уголков глаз. Доктор кивнул, и лицо у него было такое доброе. Затем положил руку мне на лоб, словно проверяя, нет ли температуры, и так и оставил ее там. А у меня из глаз текли слезы. Он шевельнул большим пальцем, как будто хотел вытереть слезинку. Боже мой, каким он был добрым! Это был добрый, добрый человек. Я слабо улыбнулась в знак благодарности, как бы извиняясь.
Он кивнул:
– Вы скоро увидите своих детей. Мы отправим вас домой с вашим мужем. Вы не умрете в мое дежурство, это я вам обещаю. – А потом он сжал мою руку в кулак и поцеловал его.
Сара Пейн проводила недельный семинар в Аризоне, и я удивилась, когда Уильям предложил оплатить мою поездку. Это было через несколько месяцев после того, как я видела ее в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Я не была уверена, что хочу так надолго уезжать от детей, но Уильям успокоил меня. Семинар назывался «Мастерская» – мне почему-то никогда не нравилось это слово. Я поехала, потому что эти занятия вела Сара Пейн. Увидев ее в классе, я радостно улыбнулась, полагая, что она вспомнит нашу встречу в магазине готового платья. Но она лишь кивнула в ответ, и стало очевидно, что она меня не помнит. Может быть, мы действительно жаждем какого-то крошечного знака от знаменитости, подтверждающего, что она не забыла нас.
Наши занятия проходили в старом здании на вершине холма. Было тепло, и окна были открыты. Я заметила, что Сара Пейн почти сразу же устала. К концу первого часа ее лицо от изнеможения уподобилось белой глине, которая становится бесформенной в тепле – да, вот такой образ. А после трех часов ее белое «глиняное» лицо совсем осунулось от усталости. Эти занятия вытянули из нее все силы – вот что я хочу сказать. Каждый день она начинала занятия с вдохновением, но через несколько минут сказывалось утомление. Думаю, что ни до, ни после мне не приходилось видеть лицо, на котором бы так ясно выражалась усталость.
В классе был один мужчина, у которого недавно жена умерла от рака, и Сара была добра к нему, я это видела. По-видимому, все мы это заметили. Этот мужчина влюбился в одну слушательницу, которая была подругой Сары. Это было прекрасно. Подруга не ответила ему взаимностью, но вела себя с ним порядочно. Было что-то достойное в том, как эта женщина и Сара обращались с мужчиной, который страдал из-за смерти жены. Там также была одна женщина, которая преподавала английский. А еще был канадец с розовыми щеками и очень приятными манерами. Соученики поддразнивали его из-за того, что он такой типично канадский, и он относился к этому с юмором. Была на семинаре и дама-психоаналитик из Калифорнии.
И я хочу рассказать здесь о том, что случилось в один прекрасный день. В открытое окно вдруг влетел кот и приземлился прямо на большой стол. Кот был огромный и длинный – настоящий маленький тигр. Я в ужасе подскочила, и Сара тоже. Она была сильно напугана. А кот выбежал из класса через дверь. Дама-психоаналитик из Калифорнии, которая обычно очень мало говорила, обратилась к Саре, и ее голос показался мне каким-то фальшивым:
– Как давно вы страдаете от посттравматического стресса?
Мне запомнилось выражение лица Сары. Она возненавидела эту женщину за ее слова. Да, она ее ненавидела. Последовало долгое молчание, так что люди успели заметить выражение лица Сары. А потом человек, потерявший жену, сказал:
– Ну и здоровенный же был кот!
После этого Сара много рассуждала о людях, которые судят других, и о том, что садиться писать следует с открытой душой.
Нам обещали на семинаре личное собеседование, и я уверена, что Сару измотали эти личные собеседования. Люди стремятся на такие занятия в надежде, что их откроют и опубликуют. Я привезла в «Мастерскую» фрагменты романа, который писала. Но когда у меня было собеседование с Сарой, я принесла вместо этого наброски сценок разговора с моей матерью, приехавшей навестить меня в больнице. Я начала их писать после того, как слушала Сару в библиотеке. Накануне я сунула копию этих набросков в ее почтовый ящик. Главным образом мне запомнилось, что она разговаривала со мной так, будто мы давно знали друг друга – хотя она ни разу не упомянула о нашей встрече в магазине готового платья.
– Простите, что я такая усталая, – сказала она. – О господи, у меня начинает кружиться голова. – Она подалась вперед и, легко коснувшись моего колена, снова откинулась на спинку кресла. – Честно, говоря, – тихо произнесла она, – когда я сидела с той последней особой, то думала, что меня вырвет. Я просто не создана для этого. – Потом она добавила: – Послушайте меня, и послушайте внимательно. То, что вы пишете, то, что вы хотите написать, – она снова подалась вперед и постукала пальцем по листу бумаги, – это очень хорошо, и это будет опубликовано. А теперь послушайте. Люди будут нападать на вас за то, что у вас бедность сочетается с унижением. Такое глупое слово – «унижение» – такое традиционное и глупое слово, но люди скажут, что существует бедность, которая не унизительна. Но вы ничего не отвечайте. Никогда не защищайте свои произведения. Это история о любви, вы это знаете. Это история о мужчине, который терзался каждый день своей жизни из-за того, что сделал на войне. Это история о жене, которая оставалась с ним, потому что большинство жен того поколения так поступали. Она приходит в больничную палату к своей дочери и настойчиво рассказывает о неудачных браках всех знакомых. Она даже не сознает это, не сознает того, что делает. Это история о матери, которая любит свою дочь. Недостаточно любит. Потому что все мы любим недостаточно. Но если вы обнаружите, что кого-то защищаете, когда пишете эту вещь, вспомните следующее: это неправильно. – Она откинулась на спинку кресла и записала названия книг, которые мне следует прочесть, в основном классику. А когда она встала, и я тоже поднялась, чтобы распрощаться, она вдруг сказала: – Подождите. – И обняла меня. Она поднесла пальцы к губам, посылая мне воздушный поцелуй (это напомнило мне доброго доктора).
Я сказала:
– Мне жаль, что та женщина в классе спросила о посттравматическом стрессе. Ведь я тоже подпрыгнула от страха.
Сара ответила:
– Я знаю, я это видела. А тот, кто использует свои профессиональные знания для того, чтобы унижать других, ну что же, такая особа просто кусок дерьма. – Она подмигнула мне и повернулась к дверям. Ее лицо осунулось от усталости.
Больше я ее никогда не видела.
– Скажи-ка, – обратилась ко мне мама. Шел четвертый день маминого бдения в изножье моей кровати. – Ты помнишь ту девочку, Мэрилин – как там ее фамилия? Кажется, Мэрилин Метьюз. Помнишь ее?
– Да, помню, – ответила я. – Конечно.
– Как ее фамилия? – спросила мама.
– Мэрилин как-то-там.
– Она вышла замуж за Чарли Маколея. Ты его помнишь? Конечно, помнишь. Нет? Он был из Карлисла, и – да, пожалуй, – он был скорее ровесником твоего брата. В средней школе они еще не начали встречаться, он и Мэрилин. Но потом они поженились, и оба поступили в колледж – кажется, в Висконсине, в Мэдисоне – и…
Я сказала:
– Чарли Маколей. Погоди-ка… Он был высокий. Они учились в старших классах средней школы, когда я еще была в промежуточной[19]. Мэрилин ходила в нашу церковь, и она помогала своей матери подавать еду на обедах в День благодарения.
– О, конечно. Правильно. – Мама кивнула. – Ты права. Мэрилин была очень милой. И, как я уже сказала, она была одних лет с твоим братом.
Я вдруг ясно вспомнила, как однажды Мэрилин мне улыбнулась, проходя мимо в пустом вестибюле школы. Это была милая улыбка, как будто ей было меня жаль. Но я чувствовала, что ей не хочется, чтобы ее улыбка показалась снисходительной. Вот почему я навсегда запомнила Мэрилин.
– Почему же ты ее помнишь? – удивилась мама. – Ведь она была старше. Из-за обедов в День благодарения?
– А почему ты ее помнишь? – спросила я, в свою очередь. – Что с ней случилось? И откуда ты знаешь?
– О! – Мама испустила глубокий вздох и покачала головой. – На днях в библиотеку зашла одна женщина – я теперь иногда хожу в библиотеку в Хэнстоне, – и эта женщина была похожа на нее, на Мэрилин. Я сказала: «Вы похожи на одну мою знакомую, которая была примерно одного возраста с моими детьми». А она не ответила, и, знаешь, это очень меня рассердило.
Да, я знала. Я прожила всю свою жизнь с этим чувством – что люди не хотят признавать нас, дружить с нами.
– О, мама, – устало произнесла я. – Положи на них.
– Положить на них?
– Ты знаешь, что я хочу сказать.
– Я вижу, ты многому научилась, живя в большом городе.
Я улыбнулась, глядя в потолок. Пожалуй, ни один человек в мире не поверил бы этому разговору, и тем не менее это была правда.
– Мама, мне не обязательно было переезжать в большой город, чтобы узнать другое значение слова «положить».
Последовало молчание, как будто мама размышляла над этим. Наконец она сказала:
– Нет, вероятно, тебе нужно было только дойти до амбара Педерсонов и послушать их наемных рабочих.
– Наемные рабочие еще много чего говорили и кроме слова «положить».
– Да уж, надо думать, – согласилась мама.
Записывая это, я снова думаю: почему я не спросила ее тогда? Почему не сказала: «Мама, я узнала все слова, которые требовались, в том гребаном гараже, который мы называли домом»? Наверно, я ничего не сказала, потому что, как всегда, заглаживала оплошность других, которую те не замечали. Вероятно, я делаю это всю жизнь, потому что сама могла бы оказаться на их месте. Даже сейчас я смутно сознаю, что совершила оплошность – это идет от детства, когда пропали огромные куски информации, которые не восполнить. Я делаю для других то, что другие делают для меня. И в тот раз я сделала это для своей матери. Кто бы на моем месте не сказал: «Мама, ты помнишь?»
Я спрашивала специалистов. Добрых, как мой добрый доктор, – не таких, как та женщина, которая так подло обошлась с Сарой Пейн, когда та подпрыгнула при виде кошки. Их ответы были глубокомысленными, но все они сводились к одному: «Я не знаю, что помнит ваша мать». Мне нравятся эти специалисты, потому что они кажутся приличными людьми и потому что теперь я умею различать правду. Они действительно не знают, что помнит моя мать.
И я тоже не знаю, что помнит моя мать.
– Но это навело меня на мысли о Мэрилин, – продолжала мама, – и позже, на той же неделе, я спросила ту особу из – ну, ты знаешь, Уизл, то место…
– Из кондитерской Чатвина.
– Да. Так вот, женщина, которая по-прежнему там работает, – она знает все.
– Эвелин.
– Эвелин. Я присела и заказала кусок пирога и чашку кофе, а потом сказала ей: «Вы знаете, на днях мне показалось, будто я увидела Мэрилин как-ее-там». А эта Эвелин – она мне всегда нравилась…
– Я ее любила, – перебила я. Не стала уточнять, что люблю Эвелин, потому что она была добра к моему двоюродному брату Авелю, добра ко мне, что она никогда и слова не сказала, когда видела, как мы роемся в дампстере. А мама не спросила, почему я люблю Эвелин.
Она продолжала:
– Так вот, она перестала вытирать прилавок и сказала: «Бедная Мэрилин вышла замуж за Чарли Маколея из Карлисла. Думаю, она и сейчас живет поблизости. Она вышла за него, когда они учились в колледже, и он был умный парень. Конечно, они сразу же забирают умных парней».
– Кто их забирает? – спросила я.
– Конечно, наше грязное гнилое правительство, – ответила моя мать.
Я ничего не сказала, просто посмотрела на потолок. Всю жизнь я видела, как люди, которым так много дало правительство – образование, еду, субсидии на жилье, – особенно склонны винить во всем правительство. И я их в чем-то понимаю.
– И куда они забрали умного мужа Мэрилин?
– Ну, они, конечно, сделали его офицером. Во время той Вьетнамской войны. Как я понимаю, ему пришлось делать ужасные вещи, и судя по тому что рассказывала Эвелин, он уже никогда не стал прежним. Это случилось в самом начале их брака, такая жалость. Очень, очень жаль, – сказала мама.
Я долго ждала, очень долго, и сердце у меня сильно билось, я даже теперь помню, как сильно оно билось. Я думала о том, что всегда называла про себя Жуть, – о самом большом ужасе моего детства. Я очень боялась, что мама упомянет об этом спустя столько лет – она никогда не говорила об этом. Наконец я сказала:
– Но что же он делает – в результате своего военного прошлого? Плохо обращается с Мэрилин?
– Не знаю, – сказала мама, и голос у нее вдруг сделался усталым. – Не знаю, что именно он делает. Может быть, в наши дни ему могут помочь. По крайней мере, есть название для подобного состояния. Ведь они не первые, кто травмирован войной.
Насколько я помню, именно я поспешно увела нас от темы, к которой – осознанно или нет – приближалась моя мать.
– Не могу вынести мысли, что кто-то плохо обращается с Мэрилин, – сказала я. Затем добавила, что доктор еще не заходил ко мне сегодня.
– Сегодня же суббота, – заметила мама.
– Он придет в любом случае. Он всегда приходит.
– Он не станет работать в субботу, – возразила мама. – Вчера он пожелал тебе хорошего уик-энда. По-моему, это значит, что он не собирался работать в субботу.
И тут я испугалась. Испугалась, что она права.
– О, мамочка, – сказала я, – я так устала. Я хочу поправиться.
– Ты поправишься, – заверила она. – Я это ясно видела. Ты поправишься, и у тебя в жизни будут проблемы. Но главное – ты поправишься.
– Ты уверена?
– Уверена.
– А какие проблемы? – спросила я шутливым тоном, как будто мне и дела нет до каких-то там проблем.
– Проблемы? – Мама немного помолчала. – Как у большинства людей – по крайней мере, у некоторых. Проблемы с браком. С твоими детьми все будет хорошо.
– Откуда ты знаешь?
– Откуда я знаю? Понятия не имею, откуда. Никогда не понимала, откуда я знаю.
– Я знаю, – сказала я.
– Отдохни, Люси.
Было начало июня, и дни были очень длинные. И только когда в сумраке за окном начали зажигаться огни и открылся великолепный вид на город, я услышала голос у своей двери.
– Девочки, – сказал он.
Мы жили в Вест-Виллидж уже несколько лет, когда я впервые увидела гей-парад. А когда живешь в Виллидж, этот парад – большое событие. Это было естественно. Сначала Стоунволл[20], а потом этот ужасный СПИД, и многие люди вышли на улицы, чтобы поддержать, а также скорбеть о тех, кто умер. Я держала Крисси за руку, а Бекка сидела на плечах у Уильяма. Мы стояли, наблюдая, как проходят мужчины на высоких пурпурных каблуках, в париках, некоторые – в женских платьях. Еще там были матери, присоединившиеся к маршу, и много такого, что видишь во время подобного события в Нью-Йорке.
Уильям повернулся ко мне и, увидев выражение моего лица, сказал:
– Люси, о господи, пошли.
И я покачала головой и направилась домой, а он шел рядом.
– О, Пуговка, теперь я вспомнил.
Он был единственным, кому я рассказала.
Кажется, мой брат учился тогда первый год в средней школе. Возможно, ему было годом больше или годом меньше. Мы еще жили в гараже, так что мне было около десяти. Поскольку моя мать брала заказы на шитье, у нее были разные пары туфель на высоком каблуке в корзине, в углу гаража. Эта корзина заменяла маме стенной шкаф. В ней были бюстгальтеры и пояса с резинками. Наверно, она держала все это для женщин, которым нужно было что-нибудь переделать и которые приходили не в том белье. Даже когда все женщины носили подобные вещи, моя мать надевала их только в тех случаях, когда должна была прийти заказчица.
В тот день Вики с криком прибежала за мной на школьный двор. Я не знаю даже, проводились ли в тот день занятия в школе и почему она была не со мной. Помню только, как она кричала и как собралась толпа и люди начали смеяться. Мой отец ехал в нашем грузовике по главной улице города и орал на моего брата, который шел на высоких каблуках (я узнала туфли из корзины), в бюстгальтере поверх футболки, с ниткой искусственного жемчуга на шее. По лицу брата текли слезы. Отец ехал рядом в грузовике и орал, что брат – гребаный педик, и пусть все это знают. Я глазам своим не поверила. Взяв Вики за руку – хотя я была самой младшей, – я так и вела ее всю дорогу домой. Мать, которая была дома, сказала, что нашего брата застукали в ее одежде, и это было отвратительно. Отец дает ему урок, а Вики пусть заткнется. И я увела Вики в поля, и мы там гуляли, пока не стемнело – тогда мы больше боялись темноты, чем нашего дома. Я не уверена, что все было именно так, но я знаю. Я имею в виду: это правда. Спросите любого, кто нас знал.
В тот день, когда в Виллидж был гей-парад, мы с Уильямом, кажется, поссорились. Потому что я помню его слова: «Пуговка, ты просто не догоняешь, не так ли?» Он имел в виду, что я не понимаю, что меня можно любить. Он очень часто это говорил, когда мы ссорились. Он единственный звал меня «Пуговка». Но он был не последний, кто говорил эту фразу: «Ты просто не догоняешь, не так ли?»
В тот день, когда Сара Пейн сказала, что садиться писать следует с открытой душой, она напомнила, что мы никогда не узнаем, что это такое – понимать другого до конца. Это кажется простой мыслью, но, становясь старше, я все больше проникаю в смысл того, что именно она хотела сказать. Мы думаем, мы всегда думаем: что в этом человеке такого, что заставляет нас его презирать, заставляет чувствовать свое превосходство над ним? В ту ночь – я помню это лучше, чем все, что сейчас описала, – отец лег рядом с моим братом в темноте и обнял его, как будто тот был малышом, и укачивал его. И я не могла разобрать, где чьи слезы и где чей шепот.
– Элвис, – сказала моя мать. Это было ночью, и в комнате было бы совсем темно, если бы не огни города в окне.
– Элвис Пресли?
– А ты знаешь какого-нибудь другого Элвиса? – спросила мама.
– Нет. Ты сказала «Элвис». – Немного подождав, я осведомилась: – Почему ты сказала «Элвис», мама?
– Он был знаменитым.
– Да. Он был таким знаменитым, что умер от этого.
– Он умер от наркотиков, Люси.
– Но все дело было в одиночестве, мама. Из-за того, что он был таким знаменитым. Подумай об этом: он же не мог никуда пойти.
Мама долгое время молчала. Наверно, она действительно размышляла об этом. Наконец она сказала:
– Мне нравились его ранние выступления. Твой отец считал, что он сам дьявол – ну, из-за дурацкой одежды, которую он надевал под конец. Но если бы ты только слышала его голос, Люси…
– Мама, я слышала его голос. Я не думала, что ты что-то знаешь об Элвисе. Мама, когда ты слушала Элвиса?
Снова последовала долгая пауза, потом мама сказала:
– Э-э… Он был просто мальчиком из Тупело. Бедный мальчик из Тупело, Миссисипи, который любил свою маму. Он нравится дешевым людям. Те, кто его любит – дешевка. – Сделав паузу, она впервые за это время заговорила голосом из моего детства: – Твой отец был прав. Он просто отбросы.
Отбросы.
– Да, настоящие отбросы, – сказала я.
– Ну конечно. Наркотики.
И, наконец, я сказала:
– Мы были отбросами. Да, были.
Мама произнесла голосом из моего детства:
– Люси-Сукина-Дочь-Бартон, я не для того летела через всю страну, чтобы ты говорила мне, что мы отбросы. Мои предки и предки твоего отца одними из первых прибыли в эту страну, Люси Бартон. И я не для того летела через всю страну, чтобы услышать от тебя, что мы отбросы. Они были хорошими, порядочными людьми. Они высадились в Провинстаун, Массачусетс, и они были рыболовами, они были поселенцами. Мы осваивали эту страну, а храбрецы позже двинулись на Средний Запад. Вот кто мы такие, и вот кто ты. И никогда не забывай об этом.
Прошло несколько минут, прежде чем я ответила.
– Я не забуду. – А потом я сказала: – Прости меня, мама. Прости.
Она молчала, и, казалось, я ощущаю ее ярость. Я чувствовала, что из-за этих ее слов дольше пробуду в больнице, чувствовала всем своим существом. Мне хотелось сказать: «Уезжай домой». Уезжай домой и расскажи людям, что мы не отбросы, расскажи им, как твои предки прибыли сюда и убили всех индейцев, мама! Уезжай домой и расскажи им все.
Может быть, мне и не хотелось говорить ей такое. Может быть, я думаю так сейчас, когда пишу это.
Бедный мальчик из Тупело, который любил свою маму. Бедная девочка из Эмгаша, которая тоже любила свою маму.
Я употребила слово «отбросы», как это сделала моя мама в тот день в больнице, назвав так Элвиса Пресли. Я употребила его в беседе с моей подругой, с которой познакомилась вскоре после того, как покинула больницу. Она моя лучшая подруга. И она рассказала мне – после того, как моя мать приезжала ко мне в больницу, – что подралась со своей матерью. Я сказала ей:
– Так поступают только отбросы.
А моя подруга ответила:
– Значит, мы были отбросами.
Помню, ее голос был сердитым, но в нем слышались виноватые нотки. Я так никогда и не сказала ей, что с моей стороны было неправильно говорить такое. Моя подруга старше меня, она знает больше, чем я, и ее воспитали конгрегационалисткой[21]. А быть может, она забыла. Впрочем, не думаю.
И вот еще что.
Сразу после того, как я узнала, что меня приняли в колледж, я показала своему учителю английского в средней школе рассказ, который написала. Я мало что помню, но вот что осталось в памяти: он обвел кружочком слово «дешевый». Предложение звучало примерно так: «На женщине было дешевое платье». Не употребляй это слово, сказал он, оно неприятное и неточное. Может быть, он выразился иначе – но он обвел слово кружочком и мягко сказал что-то насчет того, что оно неприятное и нехорошее. Я запомнила это навсегда.
– Послушай-ка, Уизл, – сказала моя мать.
Было раннее утро. Печенье уже заходила, она измерила мне температуру и спросила, не хочу ли я сок. Я ответила, что попробую выпить сок, и она вышла. Несмотря на злость, я поспала. Но у мамы был изнуренный вид. По-видимому, она больше не сердилась – просто устала.
– Ты помнишь, мы говорили о Мэри «Миссисипи»?
– Нет. Да. Погоди-ка… Это Мэри Мамфорд со всеми своими девочками Мамфорд?
– О да, правильно! Она вышла замуж за того парня, Мамфорда. Да, и все эти девочки. Эвелин в кондитерской Чатвина постоянно о ней говорила, они состояли в родстве. Муж Эвелин был двоюродным братом – уж не помню чьим. Но Мэри «Миссисипи» – так ее называла Эвелин, – была бедна как церковная мышь. Я вспомнила о ней после того, как мы заговорили об Элвисе. Она тоже была из Тупело. Но ее отец перевез семью в Иллинойс, Карлисл, – там она и выросла. Не знаю, почему они переехали в Иллинойс, но ее отец работал там на заправке. У нее не было южного акцента. Бедная Мэри. Но она была прехорошенькая, и она возглавляла группу поддержки и вышла за капитана футбольной команды, Мамфорда – а вот у него были деньги.
Голос мамы снова сделался торопливым.
– Мама…
Она махнула на меня рукой.
– Послушай, Уизл, если тебе нужна хорошая история, то послушай. Запиши эту. Итак, Эвелин сказала мне, когда я заговорила в кондитерской о…
– Мэрилин как-ее-там. – Мы сказали это хором, и мама улыбнулась, сделав паузу. О, я так ее любила, мою маму!
– Слушай. Итак, Мэри «Миссисипи» вышла замуж за богатого парня и родила – ну, не знаю, не то пять, не то шесть девочек – кажется, только девочек. Она была милой, и они жили в большом доме, где ее муж занимался своим бизнесом – не знаю, что за бизнес. Так вот, ее муж ездил в командировки в связи со своим бизнесом, а потом выяснилось, что у него тринадцать лет длился роман с его секретаршей. Эта секретарша была толстухой – толстая как бочка! А Мэри в конце концов узнала, и у нее был сердечный приступ.
– Она умерла?
– Нет. Нет, не думаю. – Мама откинулась на спинку кресла, она выглядела изможденной.
– Мама, это печально.
– Конечно, это печально!
Мы немного помолчали. Потом мама сказала:
– Я вспомнила ее потому, что она – все это со слов ее кузины Эвелин из кондитерской Чатвина – она любила Элвиса, родившегося на той же помойке, что и она.
– Мама!
– Что, Люси? – Она повернулась и взглянула на меня.
– Я рада, что ты здесь.
Мама кивнула и снова перевела взгляд на окно.
– Я подумала: как это странно. И Элвис, и Мэри «Миссисипи» были такими бедными, а стали очень богатыми. И это не принесло им счастья.
– Конечно нет, – согласилась я.
Я побывала в этом городе в разных местах, где живут очень богатые люди. Одно из них – офис доктора. Женщины и несколько мужчин сидят в его приемной, ожидая, что он поможет им выглядеть моложе, уберет морщины и сделает непохожими на их маму. Несколько лет назад я пошла туда, чтобы не выглядеть, как моя мать. Доктор сказал, что почти все, кто приходит в первый раз, говорят, что похожи на свою мать, но не хотят так выглядеть. Я видела в своем лице еще и отцовские черты, и женщина-доктор заверила, что может помочь и с этим. Обычно люди не хотят походить на мать или отца, а зачастую на обоих, сказала она. Но главным образом на мать. Она воткнула тонкие иголочки в морщины у моего рта. Теперь вы красивы, сказала она. Вы похожи на саму себя. Возвращайтесь через три дня, и я взгляну.
Через три дня в приемной сидела ужасно старая женщина, сильно сгорбленная. На омоложенном лице была улыбка. Я подумала, что она храбрая. Рядом со мной сидели мальчик – возможно, ученик средней школы, – и его старшая сестра. Наверное, они ждали свою мать. Они были богатыми – это сразу чувствуется. Я наблюдала за мальчиком и его сестрой. Они говорили о том, чтобы позвонить Пипсу, и девушка сказала: «Я могу набирать на этом телефоне только американские номера, а не международные». Мальчик был милый, он предложил послать Пипсу электронное письмо, чтобы тот им позвонил. Потом я заметила, что мальчик наблюдает за очень старой леди. Он наблюдал с интересом, и она явно была для него существом иной породы. Я видела, какой древней она ему казалась. Мне понравились мальчик и его сестра. Они были здоровыми, красивыми и хорошими. А очень старая леди медленно пошла к выходу. К ее трости была привязана ярко-розовая ленточка.
Мальчик вдруг поднялся и отворил перед ней дверь.
Вот такой это город. Но я уже говорила об этом.
В ту ночь в больнице – последнюю ночь, которую мама провела со мной (она пробыла пять дней), – я подумала о моем брате. И тогда я вспомнила, как наткнулась на группу мальчиков в поле возле школы. Должно быть, тогда мне было лет шесть. Я увидела, что они дерутся и одного мальчика бьют остальные. Мальчик, которого били, был моим братом. Его как будто парализовало от страха, он не шевелился – только скорчился, а мальчишки его избивали. Я увидела это мельком, потому что повернулась и убежала. Я еще подумала в ту ночь в больнице о том, что моему брату не пришлось отправиться на войну во Вьетнам, потому что он вытянул счастливый номер в лотерее. До того, как он это обнаружил, родители беседовали ночью, и я слышала, как папа сказал: «Армия его убьет, мы не можем этого допустить, армия будет для него адом». А вскоре мы узнали, что у брата счастливый номер. Но мой отец любил его! Я поняла это в ту ночь.
А потом мне припомнилось еще кое-что. Был День труда[22], и отец взял меня с собой одну (уж не знаю, где были брат с сестрой) в Молин, который находился примерно в сорока милях[23]. Может быть, у него там были дела – хотя трудно вообразить, что за дела у него могли быть где бы то ни было, а тем более в Молине. Но я помню, как была там с ним на Фестивале Черного Ястреба и мы смотрели, как танцуют индейцы. Индианки взяли мужчин в круг, и женщины только делали мелкие шажки, тогда как мужчины танцевали очень энергично. Моего отца, судя по всему, очень заинтересовали эти танцы. Там продавались засахаренные яблоки, и мне ужасно их захотелось. Я никогда не ела засахаренные яблоки. Отец купил мне одно. Удивительно, что он это сделал. Помню, я не могла есть это яблоко, потому что мне не удавалось вонзиться маленьким зубками в красную кожуру, и я была в отчаянии. Отец взял у меня яблоко и съел его. Но он нахмурился, и я поняла, что досадила ему. Помню, после этого я не следила за танцами, а смотрела только на лицо отца, возвышавшегося надо мной. Его губы стали красноватыми от засахаренного яблока, которое ему пришлось съесть. Я люблю его за это: он не накричал на меня, а просто взял у меня яблоко и съел сам, не получив от этого никакого удовольствия.
И еще мне запомнилось, что его заинтересовало то, что он видел на фестивале. Это заинтересовало его. Что он думал об индейцах, которые танцевали?
Когда в городе начали зажигаться огни, я вдруг спросила:
– Мама, ты меня любишь?
Моя мать покачала головой, глядя на огни.
– Уизл, прекрати.
– Ну же, мама, скажи мне. – Я рассмеялась, и она тоже начала смеяться.
– Уизл, ради бога.
Я села и захлопала в ладоши, как ребенок.
– Мама! Ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь?
Она махнула на меня рукой, не отрывая взгляда от окна.
– Глупая девчонка, – сказала она, покачав головой. – Ты глупая, глупая девчонка.
Я опустилась на подушки и закрыла глаза.
– Мама, у меня закрыты глаза.
– Люси, немедленно прекрати. – Я услышала смех в ее голосе.
– Ну же, мама. У меня закрыты глаза.
Последовала пауза. Я была счастлива.
– Мама? – сказала я.
– Когда твои глаза закрыты, – сказала она.
– Ты любишь меня, когда мои глаза закрыты?
– Когда твои глаза закрыты, – сказала она. И мы прекратили эту игру, но я была счастлива…
Если в вашем рассказе есть слабое место, сказала Сара Пейн, идите вперед, возьмите рассказ в зубы и идите вперед, пока читатель не заметил. Она сказала это во время того семинара, когда ее лицо осунулось от усталости. Люди могут не понять, что моя мать никогда не могла выговорить слова: «Я люблю тебя». Да, я чувствую, что это может быть непонятно.
На следующий день, в понедельник, Печенье сказала, что мне нужно сделать еще один рентгеновский снимок. Это будет просто, заверила она, они сделают все быстро. Через час я уже снова была в палате. Мама помахала мне, а я ей – как только вернулась в постель.
– Просто пальчики оближешь, – сказала я.
– Ты храбрая девочка, Уизл. – Она взглянула в окно, и я тоже туда посмотрела.
Вероятно, мы говорили что-то еще, я уверена, что говорили. Но потом торопливой походкой вошел мой доктор и сказал:
– Наверно, нам придется взять вас в операционную. Мне не нравится то, что я увидел.
– Я не могу, – возразила я, садясь в кровати. – Я умру, если мне будут делать операцию. Посмотрите, какой тощей я стала!
Мой доктор ответил:
– За исключением того, что вас тошнит, вы здоровы, и вы молоды.
Моя мать поднялась.
– Мне пора возвращаться домой, – заявила она.
– Мамочка, нет, ну пожалуйста! – воскликнула я.
– Нет, я пробыла здесь достаточно долго, и мне пора домой.
У доктора не нашлось ответа на заявление моей матери. Помню только, что он был исполнен решимости сделать еще один тест, чтобы определить, нужна ли мне операция. И пока я оставалась в больнице еще почти пять недель, он ни разу не спросил меня о моей матери. Не осведомился, скучаю ли я по ней, ни разу не сказал, что было приятно видеть ее здесь – вообще ни разу не упомянул о ней. И поэтому я не сказала этому доброму доктору, что ужасно по ней скучаю и что ее приезд был – я не могла выразить, чем он был для меня. И я так ничего и не сказала о ней.
Итак, моя мать отбыла в тот день. Она волновалась насчет того, как ей поймать такси. Я попросила одну из медсестер помочь ей, однако я знала, что, как только мама доберется до Пятой авеню, ей не сможет помочь ни одна медсестра. В моей палате уже появились два санитара с каталкой. Я наставляла маму, что она должна поднять руку и сказать: «Ла Гуардиа». Но я видела, что она в ужасе, и я тоже была в ужасе. Понятия не имею, поцеловала ли она меня на прощанье – вряд ли она это сделала. Не помню, чтобы моя мать когда-нибудь меня целовала. Впрочем, возможно, она меня поцеловала; возможно, я ошибаюсь.
Я уже говорила, что в то время, о котором я пишу, СПИД наводил ужас. Он по-прежнему ужасен, но теперь люди к нему привыкли. И это нехорошо. Но когда я лежала в больнице, эта болезнь была в новинку, и никто не понимал, что тут нужна деликатность. Поэтому на дверь больничной палаты, в которой находился больной СПИДом, наклеивали желтый стикер. Я до сих пор их помню, эти желтые стикеры с черными полосками. Когда спустя какое-то время мы с Уильямом поехали в Германию, мне вспомнились желтые стикеры в больнице. На них не было написано: «ACHTUNG!»[24], но от этого было не легче. И я подумала о желтых звездах, которые заставляли носить евреев нацисты.
Мать уехала так поспешно и меня увезли на каталке так быстро, что, когда меня выкатили из большого лифта и оставили у стены в коридоре другого этажа, я удивилась – почему меня бросили там надолго? Но дальше произошло следующее. Меня оставили там, откуда была видна палата с ужасным желтым стикером на двери. Дверь была приоткрыта, и я увидела мужчину с темными глазами и темными волосами, который, как мне казалось, не сводил с меня глаз. У меня возникло ужасное чувство, что он умирает, и я знала, что больные СПИДом умирают ужасной смертью. Он должен был знать, что они бы не оставили вот так пациента в коридоре, если бы у него был СПИД. Я чувствовала, что этот человек о чем-то молит меня взглядом. Я пыталась отвести глаза, не вторгаться в его личное пространство – но каждый раз, как я снова смотрела на него, его взгляд был по-прежнему прикован ко мне. Иногда я все еще думаю об этих темных глазах человека, лежавшего на той койке, которые смотрели на меня с отчаянием и мольбой. С тех пор мне приходилось бывать у постели умирающих – это естественно, ведь мы становимся старше. Я видела, как в их глазах гаснет последний свет. Тот человек некоторым образом помог мне тогда. Его глаза говорили: «Я ни за что не отведу взгляд». И я боялась его, боялась смерти, боялась, что мать покинет меня. А он ни разу не отвел глаза.
Мне не сделали операцию. Мой доктор снова извинился за то, что напугал меня, но я только покачала головой, как бы давая ему понять, что я знаю: он любит меня по-своему и всего-навсего старался спасти. Каждую пятницу он говорил слова, которые как-то раз процитировала мать: «Желаю хорошо провести уик-энд, по возможности». И каждую субботу и каждое воскресенье он появлялся и говорил, что ему нужно было проверить одного пациента и поэтому он заодно заглянул и ко мне. Он не пришел только в День отца[25]. Я так ревновала его к детям! День отца! Конечно, я никогда не встречала его детей. Я слышала, что его сын стал доктором. Несколько лет спустя, когда я была у него в офисе, зашла речь о том, как меня беспокоит, что у одной из моих девочек мало друзей, и он дал мне дельный совет. Он привел в пример одну свою дочь, у которой теперь больше друзей, чем у остальных его детей. Позже так произошло и с моей дочерью, о которой я беспокоилась. Когда у меня возникли проблемы с браком и я кратко упомянула об этом, добрый доктор испугался за меня. Я помню, что заметила это и что он не мог дать мне совет. Но в те давние девять недель, весной и летом (девять недель минус один день, День отца), этот человек, этот красивый доктор-отец, заходил ко мне каждый день, иногда дважды в день. Когда я покинула больницу и пришел счет, оказалось, что он взял с меня плату всего за пять визитов в больнице. Мне хочется написать здесь и об этом тоже.
Я беспокоилась о матери. Она не позвонила мне, чтобы сообщить, что добралась до дома, а с телефона у кровати я могла делать только местные звонки. Или же можно было заказать междугородный разговор за счет вызываемого лица – а это означало, что кто бы ни подошел к телефону в доме моего детства, его спросят, согласен ли он оплатить разговор. Телефонистка спросит: «Вы оплатите разговор с Люси Бартон?» Однажды я позвонила им таким образом – я была тогда беременна вторым ребенком, и мы с Уильямом поссорились, не помню, из-за чего. Но я соскучилась по маме, соскучилась по отцу, вдруг ощутила, что скучаю по тому большому дереву в кукурузном поле моей юности. Я так ужасно соскучилась, что затолкала коляску с Крисси в телефонную будку возле Вашингтон-сквер и позвонила своим родителям домой. К телефону подошла мама, и телефонистка сказала, что на линии Люси Бартон, которая звонит из Нью-Йорка. Она спросила, согласна ли моя мать оплатить счет за разговор. И та ответила: «Нет. Скажите этой девушке, что теперь у нее есть деньги и она может сама за себя заплатить». Я повесила трубку, прежде чем телефонистка успела повторить мне слова мамы. Поэтому в тот вечер в больнице я не стала звонить родителям, чтобы узнать, добралась ли мама домой. Но Уильям по моей просьбе позвонил им из нашей квартиры в Виллидже и сообщил мне, что она благополучно прибыла домой.
– Она сказала что-нибудь еще? – спросила я. Мне было ужасно грустно. Мне действительно было грустно, как ребенку, – а дети могут очень сильно грустить.
– О, Пуговка, – ответил мой муж. – Нет, Пуговка.
На следующей неделе меня навестила подруга Молла. Усевшись у изголовья моей кровати, она сказала: «Как хорошо, что рядом с тобой была твоя мама». И я ответила: «Да». А она сказала, что ужасно ненавидит свою мать, и повторила всю историю, как будто не рассказывала мне ее прежде – о том, как ненавидит свою мать. Когда у нее родились дети, ей пришлось обратиться к психиатру, потому что она грустила из-за всего, что недодала ей мать. Молла рассказала мне все это в тот день, и, записывая это сейчас, я думаю о том, что сказала Сара Пейн на семинаре в Аризоне. «У вас будет всего одна история, – сказала она. – Вы будете писать вашу единственную историю много раз, по-разному. Никогда не беспокойтесь об истории. Она у вас всего одна».
Слушая Моллу, я улыбалась, я была очень рада ее видеть. Наконец я спросила о своих детях: очень ли сильно они расстраиваются из-за того, что меня нет рядом? Она сказала, что, как ей кажется, Крисси способна понимать больше – она старшая, так что это естественно. Крисси долго беседовала с Моллой на крыльце. А потом Молла слышала, как Крисси сказала, что мамочка больна, но уже поправляется. «Это ты сказала ей, что я поправляюсь, не так ли?» – осведомилась я, пытаясь сесть. И Молла ответила утвердительно. Я любила Моллу за это – за заботу о моей дорогой Крисси. Я спросила ее, как Джереми.
И она сказала, что не видела его – наверно, он в отъезде. То же самое я слышала от моего мужа.
Затем Молла принялась болтать о других мамочках, с которыми познакомилась в парке: одна из них переехала в пригород, другая – в северную часть города.
Под конец я почувствовала, что сильно утомилась. Но я рада была ее видеть и поблагодарила ее за визит. Молла в ответ наклонилась и поцеловала меня в голову.
Муж навестил меня – думаю, это был уик-энд. Он казался очень усталым и мало говорил. Уильям был крупным мужчиной, но он улегся рядом со мной на узкую койку. Затем провел рукой по своим белокурым волосам и включил телевизор, висевший над кроватью. Он платил за то, чтобы у меня был телевизор в палате, но поскольку я росла без телевизора, то не привыкла к нему и в больнице редко его включала. Когда я прогуливалась по коридорам, толкая перед собой маленькую капельницу, то видела, как большинство пациентов смотрят телевизор, и от этого мне становилось очень грустно. Но мой муж включил его, лежа рядом со мной на кровати. Мне хотелось поговорить, но он устал. Мы тихо лежали рядом.
Мой доктор, вероятно, удивился, увидев его. А может быть, вовсе и не удивился, просто мне так показалось. И он что-то сказал о том, как это хорошо, что мы можем побыть вместе, но меня почему-то кольнуло. Не знаю почему – об этом узнаешь позже.
Муж навещал меня не один раз, но я помню именно тот день и поэтому записываю. Это не история моего брака. Я не могу рассказать эту историю: не могу ухватить главное или выставить ее на всеобщее обозрение – все эти кочки и ухабы, болота и травы. Но вот что я могу вам сказать: мать была права. У меня действительно были проблемы с браком. А когда моим девочкам было девятнадцать и двадцать, я ушла от их отца, и мы оба вступили в новый брак. Бывают дни, когда я чувствую, что люблю его сильнее, чем когда была за ним замужем. Но об этом легко думается: мы свободны друг от друга, и все же не свободны, и никогда не будем. Бывают дни, когда я так ясно вижу, как он сидит в своем кабинете за письменным столом, а девочки играют в своей комнате. И мне хочется закричать: «Мы были семьей!» Сейчас я подумала о сотовых телефонах: как быстро можно связаться друг с другом. Помнится, когда девочки были маленькими, я сказала Уильяму, что хотела бы, чтобы все мы что-нибудь носили на запястьях, что-то вроде телефона. Тогда могли бы поговорить друг с другом и узнать, кто где находится.
Но в тот день, когда он пришел навестить меня в больнице, мы почти не разговаривали. Наверно, именно тогда он узнал, что отец оставил ему деньги. Его дед нажился на войне и положил приличную сумму на счет в швейцарском банке, и теперь, когда Уильяму исполнилось тридцать пять, эти деньги вдруг стали его. Я узнала об этом позже, уже вернувшись домой. Вероятно, Уильям чувствовал себя как-то странно. Размышлял о том, что такое деньги и что они значат, – а он был не из тех, кому легко говорить о своих чувствах. Вот он и лежал молча на кровати рядом со мной – со мной, которая, как мы часто шутили (возможно, шутила только я), «возникла из ничего».
Когда я впервые встретилась со свекровью, она сильно меня удивила. Ее дом казался огромным и хорошо обустроенным, но с годами я увидела, что это не так. Это был просто приятный дом – приятный дом среднего класса. Поскольку она была женой фермера в Мейне (я полагала, что фермы в Мейне меньше, чем фермы на Среднем Западе, которые я знала), я ожидала, что она похожа на жен наемных работников. Но мать Уильяма выглядела совсем иначе. Это была приятная женщина пятидесяти пяти лет, которая легко передвигалась по своему красивому дому, женщина, которая прежде была замужем за инженером-строителем. Когда мы познакомились, она сразу же сказала: «Люси, давайте пройдемся по магазинам и купим вам что-нибудь из одежды». Я не обиделась, только слегка удивилась: никогда в жизни никто не говорил мне ничего подобного. Я прошлась вместе с ней по магазинам, и она купила мне кое-что из одежды.
На нашем маленьком свадебном приеме она сказала своей подруге: «Это Люси. – И добавила игривым тоном: – Люси возникла из ничего». Я не обиделась – и сейчас тоже не ощущаю обиды. Но я думаю: никто в этом мире не возникает из ничего.
После того как я выписалась из больницы, у меня были навязчивые сны. Мне снилось, что меня и моих детей собираются убить нацисты. Даже теперь, столько лет спустя, я помню эти сны. Мы с моими двумя девочками находились в каком-то помещении, похожем на раздевалку. Дочери были еще маленькие. Во сне я понимала – все мы понимали, ведь в раздевалке были и другие, – что нас сейчас убьют. Сначала мы думали, что это газовая камера, но потом поняли, что сейчас появятся нацисты и отведут нас в другое помещение, и оно-то и будет газовой камерой. Я пела своим детям и обнимала их, и они не боялись. Я забралась с ними в уголок, подальше от других. Ситуация была такова: я принимала свою смерть, но не хотела, чтобы мои дети боялись. Я ужасно боялась, что их заберут от меня. Может быть, их удочерят немцы, ведь девочки похожи на маленьких арийских детей – да они и были арийцами. Я не могла вынести мысли, что с ними будут плохо обращаться, – а во сне у меня было ощущение, что с ними будут плохо обращаться. На этом сон обрывался. Это был кошмарный сон. Не знаю, как долго мне снился этот кошмар. Во всяком случае, он снился мне довольно часто, когда я жила в Нью-Йорке и мои дети росли вполне здоровыми. Я никогда не рассказывала мужу про этот сон.
Я написала письмо матери. Написала, что люблю ее, и поблагодарила за то, что она приехала ко мне в больницу. Написала, что никогда это не забуду. Она ответила мне открыткой с изображением Крайслер-билдинг ночью. Понятия не имею, где она раздобыла эту открытку в Эмгаше, Иллинойс, но она прислала мне ее и написала: «Я тоже никогда не забуду». Она подписалась: «М». Я положила открытку на столик у кровати, возле телефона, и часто смотрела на нее. Брала ее в руки и держала, изучая изменившийся мамин почерк. У меня до сих пор хранится эта открытка с Крайслер-билдинг ночью, которую она мне прислала.
Когда я смогла покинуть больницу, с меня спадали туфли. Я не думала, что похудеть означает потерять вес во всех местах – но, конечно, так и было, и туфли стали мне велики. Я положила открытку на дно пластиковой сумки, которую мне дали для моих вещей. Мы с мужем поехали домой на такси. Я помню, что мир за больничными стенами показался очень ярким – тревожно ярким, – и это меня напугало. Дети хотели спать со мной в мою первую ночь дома, но Уильям сказал «нет». Однако они все равно улеглись со мной на кровать, две мои девочки. О господи, я была так счастлива, что вижу своих детей! Они очень выросли. У Бекки была ужасная стрижка. Она залепила волосы жевательной резинкой, и подруга семьи, у которой не было своих детей и которая приводила девочек ко мне в больницу, подстригла ее.
Джереми.
Я не знала, что он гей. Не знала, что он болен. Нет, сказал мой муж, он никогда не выглядел больным, как те, у кого СПИД. А теперь его нет – он умер, пока я лежала в больнице. Я плакала непрерывно и тихо. Сидела на крыльце, и Бекка гладила меня по голове, а Крисси время от времени присаживалась рядом и обнимала своими маленькими ручками. А потом девочки принимались прыгать вверх и вниз по ступенькам. Мимо прошла Молла.
– О господи, ты уже слышала о Джереми! – воскликнула она. И сказала, что ужасно, когда такое случается с мужчинами. И с женщинами, добавила она. Молла посидела со мной, пока я плакала.
Я так часто думала – так часто – о том мужчине в больнице, на двери которого был желтый стикер. Я видела его в тот день, когда мать уехала, а меня оставили в коридоре напротив его палаты. Вспоминала, как он смотрел на меня горящими темными глазами, с мольбой и отчаянием, не давая мне отвести взгляд. На его месте мог быть Джереми. Много раз я думала: я узнаю, где и когда он умер – это должно быть зафиксировано в официальных документах. Но я так никогда и не узнала.
Когда я вернулась домой, было лето, и я носила платья без рукавов, не сознавая, какая я тощая. Но я замечала, что, когда я шла по улице, чтобы купить продукты для детей, люди смотрят на меня со страхом. Я приходила в ярость от того, что они смотрели на меня с опаской. Вот так же смотрели на меня дети в школьном автобусе, опасаясь, как бы я не села рядом с ними.
Костлявые и изможденные мужчины продолжали проходить мимо.
Когда я была ребенком, наша семья посещала конгрегациональную церковь. Мы были там изгоями, как и всюду. Даже учитель воскресной школы игнорировал нас. Однажды я опоздала в класс, и все стулья были заняты. Учитель сказал: «Просто сядь на пол, Люси». В День благодарения мы приходили в особый зал в церкви, и нас угощали обедом. В этот день люди относились к нам лучше. Мэрилин, которую мама упомянула в больнице, иногда приходила вместе со своей матерью. Она подавала нам фасоль и подливку и клала на стол булочки и маленькие пластиковые контейнеры с маслом. Люди сидели за столом вместе с нами, и я не помню, чтобы на этих обедах в День благодарения на нас смотрели с презрением. Много лет мы с Уильямом ходили в приюты Нью-Йорка в День благодарения и раздавали угощение, которое приносили. Но всегда казалось, что индейки и ветчины слишком мало – даже если приюты были не очень большими. В Нью-Йорке мы угощали не только конгрегационалистов – часто попадались цветные, а порой душевнобольные. Однажды Уильям сказал: «Я больше не могу этим заниматься», и я ответила «о’кей» и тоже перестала это делать.
А люди, которые мерзнут! Я не могу это вынести! Я читала статью в газете о пожилой паре в Бронксе, которая не могла оплачивать счета за отопление. Они сидели в кухне с открытой духовкой. Каждый год я давала деньги, чтобы такие люди не мерзли. Но я чувствую себя неловко оттого, что сейчас пишу об этом. Моя мать сказала бы: «Прекрати хвастаться, Люси-Сукина-Дочь-Бартон»…
Добрый доктор сказал, что может пройти много времени, прежде чем я наберу свой прежний вес. И он оказался прав – хотя я и не помню, сколько именно времени потребовалось. Я ходила к нему на осмотр – сначала раз в две недели, потом раз в месяц. В этих случаях я старалась принарядиться. Помню, как примеряла разные наряды перед зеркалом, пытаясь увидеть себя его глазами. В офисе доктора люди были в приемной, в комнате для осмотра и в его кабинете – что-то вроде ленты конвейера с разным человеческим материалом. Я думала о том, как много задов он видел и какие они, должно быть, разные. Рядом с моим доктором я всегда чувствовала себя в безопасности, чувствовала, что его заботят мой вес и мое состояние. Однажды я ждала своей очереди возле его кабинета, прислонившись к стене. На мне было синее платье и черные колготки. Он беседовал с очень старой женщиной, очень тщательно одетой. Это роднило меня с ней: стремление выглядеть перед нашим доктором опрятными. Она сказала:
– У меня метеоризм. От этого становится так неловко. Что мне делать?
Он покачал головой и посочувствовал:
– Да, хоть вешайся.
Мои девочки повторяли: «Да, хоть вешайся», когда попадали в трудную ситуацию: я часто рассказывала при них эту историю.
Не знаю, когда я видела этого доктора в последний раз. За те годы, что прошли после моего пребывания в больнице, я ходила к нему несколько раз. Однажды я пришла в назначенный день, и мне сказали, что он ушел на пенсию и я могу показаться его коллеге. Я могла бы написать ему письмо, чтобы сказать, как много он для меня значит, но в моей жизни были проблемы, и я не могла сосредоточиться. Так я ему и не написала. И никогда больше не видела. Он просто исчез – этот славный, чудесный человек, который был моим задушевным другом в больнице так много лет назад. И это тоже нью-йоркская история.
Когда я была на занятиях у Сары Пейн, в класс зашла слушательница из другой группы повидать ее. Это было в конце занятий, и люди иногда задерживались, чтобы поговорить с Сарой. Эта студентка из другой группы вошла и сказала:
– Мне в самом деле нравятся ваши произведения.
Сара поблагодарила ее и начала собирать вещи.
– Мне нравится книга о Нью-Гемпшире, – продолжала слушательница, и Сара слабо улыбнулась и кивнула. Направляясь к двери, слушательница сказала: – Когда-то я знала одного человека из Нью-Гемпшира.
У Сары был смущенный вид.
– В самом деле? – спросила она.
– Да, Джейни Темплтон. Вы не знакомы с Джейни Темплтон, не так ли?
– Нет.
– Ее отец был летчиком. Работал на авиалиниях. «ПанАмерикен» или что-то в этом роде, – продолжала слушательница. Эта женщина была немолода. – И у него был нервный срыв. Он начал разгуливать по их дому, мастурбируя. Кто-то рассказал мне позже, что Джейни это видела. Возможно, она тогда училась в средней школе, не знаю. И вот ее отец начал разгуливать по дому, мастурбируя.
Я вдруг так замерзла в жаркой Аризоне, что даже покрылась гусиной кожей.
Сара Пейн поднялась.
– Надеюсь, он не очень много летал на самолете – тогда о’кей. – Увидев меня, она кивнула. – До завтра, – сказала она.
Я никогда не слышала ни до, ни после, чтобы «Жуть» – как я называла это про себя – случалась где-то еще, кроме нашего дома.
Кажется, на следующий день Сара Пейн говорила нам о том, что садиться писать надо с открытой душой – открытой, как сердце Бога.
Позже, после того, как была опубликована моя первая книга, я пошла к доктору. Это была добрейшая женщина. Я написала на листе бумаги то, что рассказала слушательница о Джейни Темплтон из Нью-Гемпшира. И еще я записала то, что случалось в доме моего детства. Записала вещи, которые я выяснила о своем браке. Записала то, что не могла сказать. Она прочитала все это и сказала:
– Благодарю вас, Люси. Все будет о’кей.
Я видела мою мать всего один раз после того, как она навестила меня в больнице. Это было почти девять лет спустя. Почему я не приезжала повидаться с ней? Повидаться с отцом, увидеть брата и сестру? Повидаться с племянницами и племянниками, которых никогда не видела? Я думаю, просто легче было не приезжать. Муж не поехал бы со мной, и я не винила его. И – да, знаю, это попытка оправдаться, – мои родители, сестра и брат никогда мне не писали и не звонили, а когда я им звонила, это было тяжело. Я слышала в их голосе гнев и привычную обиду, словно они хотели сказать: «Ты не одна из нас». Как будто я предала их, уехав. Наверно, предала. Мои дети росли, и им все время было что-нибудь нужно. Те два-три часа, когда я могла писать, были ужасно важны для меня. А потом я готовила к публикации свою первую книгу.
Но моя мать заболела, и тогда я приехала к ней, в больничную палату в Чикаго, чтобы сидеть в изножье ее кровати. Я хотела дать ей то, что когда-то дала мне она: непрерывное бдение тех дней, которые она провела со мной в больнице.
Отец поздоровался со мной, когда я вышла из больничного лифта. Я бы не узнала его, если бы не благодарность в глазах этого незнакомца – благодарность за то, что я приехала ему помочь. Я не думала, что он когда-нибудь будет выглядеть таким старым. Гнев, который я когда-либо ощущала – или который ощущал он, – больше не имел к нам отношения. Отвращение, которое я питала к нему почти всю жизнь, исчезло. Это был старик в больнице, у которого умирала жена. «Папа», – сказала я, пристально глядя на него. На нем были измятая рубашка и джинсы. Думаю, он постеснялся обнять меня, так что я сама его обняла. И мне вспомнилось тепло его руки у меня на затылке. Но в тот день в больнице он не положил руку мне на затылок, и что-то во мне – в самой глубине – прошептало: «Ушло».
Мать сильно мучилась. Она умирала. Я не способна была в это поверить. Мои дети были тогда тинейджерами, и особенно меня беспокоила Крисси: не слишком ли много она курит сигарет с марихуаной. Поэтому я часто звонила им. На второй вечер, когда я сидела возле мамы, она спокойно сказала:
– Люси, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала.
Я встала и подошла к ней.
– Да, – ответила я. – Скажи, что нужно сделать.
– Мне нужно, чтобы ты уехала. – Она сказала это спокойно, и в ее голосе слышалась решимость. Но, честно говоря, я запаниковала.
Мне хотелось сказать: если я уеду, то никогда больше тебя не увижу. У нас были свои сложности, но не заставляй меня уезжать! Я не вынесу, если никогда больше тебя не увижу!
Я сказала:
– О’кей, мама. О’кей. До завтра?
Она посмотрела на меня. В ее глазах стояли слезы, губы подергивались. Она прошептала:
– Пожалуйста, сейчас. Детка, пожалуйста.
– О, мамочка…
– Уизл, пожалуйста, – прошептала мама.
– Я буду скучать по тебе, – сказала я и заплакала. Я знала, что мама не выносит слез. Она сказала:
– Да, будешь.
Я наклонилась и поцеловала ее в волосы, свалявшиеся от болезни и долгого лежания в постели. А потом я повернулась и, взяв свои вещи, пошла не оглядываясь. Но когда я переступила через порог, то не смогла идти. Я крикнула, не оборачиваясь.
– Мамочка, я тебя люблю!
Я стояла лицом к коридору, но ее кровать была ближайшая ко мне, и я уверена, что мама меня услышала. Она не ответила, но я говорю себе, что она меня услышала. Я говорила это себе много раз.
Я сразу же пошла на сестринский пост и стала их умолять, чтобы они не давали ей страдать. И они ответили, что не дадут ей страдать. Но я им не верила. Когда мне удаляли аппендикс, в моей палате умирала женщина, и она страдала. Пожалуйста, умоляла я сестер – и видела в их глазах непомерную усталость людей, которые ничего больше не могут сделать.
В коридоре был отец. Увидев, что я плачу, он покачал головой. Я села рядом с ним и шепотом передала то, что сказала мама: она хочет, чтобы я уехала.
– Когда будет церковная служба? – спросила я. – О, пожалуйста, сообщи мне, папа, когда она будет. Я сразу же приеду.
Он ответил, что службы не будет.
Я понимала – чувствовала, что понимаю.
– Но ведь придут люди, – сказала я. – У нее же были заказчицы, которым она шила, и люди придут.
Отец покачал головой.
– Никакой службы, – повторил он.
И после маминой смерти не было церковной службы.
Не было службы и в следующем году, когда умер от пневмонии отец. Он не разрешил брату показать его доктору. Я прилетела всего за несколько дней до его смерти и остановилась в доме, который не видела так много лет. Он напугал меня, этот дом, своими запахами и теснотой. Напугал тем, что отец так болен, а матери больше нет. Больше нет!
– Папочка, – сказала я, присев возле него на кровать. – О, папочка, прости меня. Прости, папочка.
Отец сжал мою руку, и его глаза были полны слез, а кожа была такая тонкая. Он сказал:
– Люси, ты всегда была хорошей девочкой. Какой же хорошей девочкой ты всегда была!
Я совершенно уверена, что он сказал мне это. Кажется, моя сестра после этих слов вышла из комнаты. Отец умер в ту ночь – точнее, очень рано утром, в три часа. Я была с ним одна. Когда вдруг стало очень тихо, я взглянула на него и сказала:
– Папочка, перестань! Перестань, папочка!
Когда я вернулась в Нью-Йорк после того, как в последний раз видела отца – а годом раньше мать, – мир стал для меня другим. Муж казался незнакомцем, дети, у которых была пора юности, казались равнодушными к моему миру. Я в самом деле чувствовала себя потерянной. Меня охватила паника, как будто семья Бартон, мы пятеро – несмотря на все нелады, – была чем-то вроде домика улитки надо мной. Я его не замечала, пока он не исчез. Я постоянно думала о моих брате и сестре, о том, какими растерянными были их лица, когда умер отец. Мы пятеро были нездоровой семьей, но теперь я осознала, как крепко оплелись наши корни вокруг сердца каждого из нас. Мой муж сказал:
– Но ты же даже не любила их. – И после этого меня еще сильнее охватил страх.
Моя книга получила хорошие отзывы в прессе, и мне неожиданно пришлось путешествовать. Люди говорили: надо же – проснуться наутро знаменитой! Я выступала в шоу утренних новостей на государственном канале, и ведущая сказала: «Вы должны выглядеть счастливой. Вы такая, какой хотят стать все эти женщины, которые сейчас одеваются, собираясь на работу. Так что сделайте счастливое лицо». Мне всегда нравилась эта ведущая. Шоу новостей было в Нью-Йорке, и, вопреки ожиданиям людей, я не оробела. Страх – это занятная вещь. Я сидела в кресле, и к моему лацкану был прикреплен микрофон. Я смотрела в окно, видела желтое такси и думала: «Я в Нью-Йорке, я люблю Нью-Йорк, я дома». Но когда я ездила в другие города – что мне порой приходилось делать, – то постоянно пребывала в страхе. В номере отеля так одиноко. О господи, как там одиноко.
Это было как раз перед тем, как электронные письма стали обычной формой переписки. И когда вышла моя книга, я получала много весточек от людей, которые рассказывали мне, что значит для них эта книга. Я получила письмо от художника из моей юности. Он написал, что ему очень понравилась моя книга. Я отвечала на каждое полученное письмо, но на его письмо не ответила.
Когда Крисси уехала в колледж, а на следующий год – и Бекка, я подумала – и это не просто слова, я говорю правду, – подумала, что умру. Ничто не подготовило меня к такому. И я обнаружила, что это действительно так: у некоторых женщин как будто сердце вырывают из груди, а другие обретают свободу, когда их дети уезжают. Доктор, которая делает меня непохожей на мою мать, спросила, что я почувствовала, когда мои дочери уехали в колледж. Я ответила:
– Мой брак закончился. – И поспешно добавила: – Но ваш не закончится.
– Возможно, закончится. Возможно.
Когда я ушла от Уильяма, то не взяла деньги, которые он мне предложил, а также деньги, полагавшиеся мне по закону. По правде говоря, я не считала, что заслужила их. Мне только хотелось, чтобы у моих дочерей было достаточно, и этот вопрос был сразу же решен. А еще мне становилось неуютно при мысли о происхождении этих денег. В мозгу у меня все время звучало одно слово: нацисты. А для себя мне были не нужны эти деньги. К тому же я делала деньги… Какой же писатель делает деньги? Но я делала деньги и продолжала зарабатывать еще, и я считала, что не должна брать деньги Уильяма. Но когда я говорю: «А для себя мне не нужны эти деньги», то имею в виду следующее: когда я росла, то обходилась малым. Я могла назвать своим только содержимое собственной головы. Поэтому мне не нужно было много. Кто-то, выросший в таких же условиях, как я, мог бы хотеть больше – а я нет. Однако так вышло, что я зарабатывала деньги, так как мне посчастливилось с книгами. Я вспоминаю, как мама сказала тогда в больнице, что деньги не помогли ни Элвису, ни Мэри «Миссисипи». Но я знаю, что деньги имеют большое значение в браке, в жизни. Деньги – это сила, я это знаю. Что бы я ни говорила и что бы ни говорил кто угодно, деньги – это сила.
Это не история моего брака. Я уже говорила, что не могу написать эту историю. Но порой я думаю о том, что знают о нас первые мужья. Я вышла замуж за Уильяма, когда мне было двадцать лет. Мне хотелось стряпать для него. Я купила журнал, в котором были замысловатые кулинарные рецепты, и приобрела все необходимые ингредиенты. Однажды вечером Уильям, проходя через кухню, взглянул на сковородку, стоявшую на плите, а затем вернулся на кухню.
«Пуговка, – спросил он, – что это?» Я ответила, что это чеснок. И сказала, что, согласно рецепту, нужно поджарить зубчик чеснока в оливковом масле. Он мягко объяснил, что это головка чеснока и ее нужно очистить и разделить на зубчики. Я и сейчас так ясно вижу большую неочищенную головку чеснока в центре сковородки с оливковым маслом.
Я перестала стряпать, когда родились девочки. Могла приготовить цыпленка, сварить им овощи, но, честно говоря, еда никогда особенно меня не интересовала, как интересует многих в этом городе. Жена моего мужа любит готовить. Я имею в виду, моего бывшего мужа. Его жена любит готовить.
Мой нынешний муж вырос в пригороде Чикаго. Он рос в большой бедности; порой в их доме было так холодно, что они ходили в пальто. Его мать периодически попадала в психиатрическую лечебницу. «Она была безумна, – рассказывает мне муж. – Не думаю, что она любила кого-нибудь из нас. Не думаю, что она вообще могла любить». В четвертом классе он играл на виолончели друга, и с тех пор играет, причем блестяще. Всю свою взрослую жизнь мой муж профессионально играет на виолончели, он работает в филармонии нашего города. У него громкий, раскатистый смех.
Он доволен всем, что бы я ни приготовила.
Но мне бы хотелось сказать еще одну вещь об Уильяме. В ранние годы нашего брака он брал меня на матчи на «Янки-стэдиум». Конечно, это был старый стадион. Он брал меня туда – пару раз вместе с детьми. Меня удивляла легкость, с которой он тратил деньги на билеты. Я удивлялась, когда он предлагал мне хот-дог и пиво.
Вообще-то мне не следовало удивляться: Уильям был щедрым. По-видимому, мое удивление как-то связано с тем случаем, когда отец купил мне засахаренное яблоко. Я с благоговением наблюдала за играми с участием «Янкиз»[26]. Впрочем, я ничего не знала о бейсболе. «Уайт Сокс»[27] мало что для меня значили, хотя я и чувствовала что-то вроде преданности им. Но после тех игр я любила только команду «Янкиз».
Помню, как наблюдала за игроками, которые бегали по полю и били. Особенно мне запомнилось солнце, садившееся за здания Бронкса. Оно заходило, а потом начинали зажигаться городские огни. Это было так красиво. Я чувствовала, что мне открывается мир – вот что я хочу сказать.
Много лет спустя, после того, как я ушла от мужа, я ходила по Семьдесят второй улице к Ист-Ривер – туда, где можно выйти прямо к реке. Я смотрела на реку и думала о бейсбольных матчах, на которые мы когда-то ходили, и у меня возникало ощущение счастья, которого не вызывали другие воспоминания о моем браке. Счастливые воспоминания делают мне больно, вот что я хочу сказать. Но воспоминания об играх на стадионе «Янкиз» были не такими: они наполняли мое сердце любовью к бывшему мужу и Нью-Йорку. Я и по сей день фанат «Янкиз», хотя никогда больше не пойду на матч, я это знаю. Это было в другой жизни.
Джереми сказал, что я должна быть безжалостной, чтобы стать писателем. И я думаю о том, как не навещала брата и сестру, и родителей, потому что всегда работала над какой-нибудь книгой и всегда не хватало времени. (Но я и не хотела туда ехать.) Времени всегда не хватало. А позже я поняла, что если не расторгну этот брак, то не напишу другую книгу – не напишу так, как мне хочется.
На самом деле безжалостность, как мне кажется, начинается с того, что хватаешь себя за шиворот и говоришь: это я, и я не поеду туда, куда не хочется – в Эмгаш, Иллинойс. И я не стану продолжать этот брак, раз мне этого не хочется. Я схвачу себя за шиворот и заставлю идти вперед по жизни – слепая, как летучая мышь, – но только вперед! Думаю, это и есть безжалостность.
Мать сказала в тот день в больнице, что я не такая, как мои брат и сестра: «Посмотри, как ты теперь живешь. Ты просто шла вперед… и сделала это». Может быть, она имела в виду, что я уже стала безжалостной. Возможно, именно это она имела в виду. А впрочем, не знаю, что именно имела в виду моя мать.
Мы с братом разговариваем каждую неделю по телефону. Он живет в доме, в котором мы выросли. Как и отец, брат работает с сельскохозяйственными машинами, но он не унаследовал отцовский характер, и его не увольняют. Я никогда не упоминала в разговоре с братом о том, что он спит вместе со свиньями перед тем, как их должны убить. Я никогда не спрашивала его, читает ли он по-прежнему детские книги о людях в прерии. Я не знаю, есть ли у него девушка или бойфренд. Я почти ничего о нем не знаю. Но он вежливо со мной беседует, хотя ни разу не спросил о моих детях. Я спрашивала, что он знает о детстве нашей матери, о том, чувствовала ли она себя в опасности. Он говорит, что не знает. Я рассказала ему, как она спала урывками в больнице. И он снова сказал, что не знает.
Когда я говорю по телефону с сестрой, она всегда сердита и жалуется на своего мужа. Он не помогает с уборкой, стряпней и с детьми. Он оставляет сиденье унитаза поднятым. Она упоминает об этом каждый раз. Он эгоистичен, говорит она. У нее не хватает денег. Я даю ей деньги, и каждые несколько месяцев она присылает мне список того, что нужно для ее детей – хотя все трое уже не живут вместе с ней. Последний раз она включила в список «уроки йоги». Меня удивило, что в таком крошечном городке, где она живет, дают уроки йоги и что сестра – а может быть, ее дочь, – собирается заниматься йогой. Но я даю ей деньги каждый раз, как она присылает список. Правда, уроки йоги вызвали у меня раздражение. Но, вероятно, сестра считает, что я в долгу перед ней – и, пожалуй, она права. Интересно, думаю я порой, каков этот мужчина, за которого она вышла? Почему он никогда не опускает сиденье унитаза? Злость, говорит моя добрейшая женщина-доктор. И пожимает плечами.
У моей соседки по комнате в колледже была мать, которая неважно к ней относилась. Моя соседка не особенно ее любила. Но однажды осенью мать прислала ей сыр. Ни одна из нас не любила сыр, но моя соседка не могла его выбросить и даже просто отдать. «Ты не возражаешь, – спросила она, – если мы оставим его здесь? Все-таки его прислала моя мать». И я ответила, что понимаю. Она положила сыр за окно, и так он там и лежал. Иногда его заносило снегом, и мы обе забыли об этом сыре. Но весной он был все там же, на подоконнике. В конце концов, мы условились, что я избавлюсь от сыра, когда она будет на занятиях, и так я и сделала.
А теперь я расскажу о «Блумингдейл». Иногда я думаю о художнике, потому что он гордился купленной там рубашкой, и вспоминаю, как сочла его из-за этого неглубоким. Но мы с дочерьми ходили в этот универмаг годами. У нас есть любимое место у стойки на седьмом этаже. Сначала мы с девочками идем к стойке и заказываем замороженный йогурт, а потом смеемся над тем, как сильно у нас разболелись животы. Затем мы отправляемся в отдел обуви и в отдел для молодых женщин. Я почти всегда покупаю им то, что они хотят, но они хорошие и внимательные и не пользуются ситуацией – чудесные девочки. Бывали времена, когда они не хотели ходить со мной, так как сердились. Я никогда не ходила в «Блумингдейл» без них. Прошло время, и теперь мы снова туда ходим, если они в городе. Когда я вспоминаю художника, то думаю о нем с нежностью. Надеюсь, у него удачно сложилась жизнь.
Но «Блумингдейл» для нас дом – в каком-то смысле дом для моих девочек и меня.
Вот по какой причине «Блумингдейл» для нас дом: в каждой квартире, где я жила, уйдя из дома, в котором выросли мои дети, я всегда заботилась о том, чтобы там была лишняя спальня и они могли бы прийти и остаться. Но ни одна из них не приходит и не остается. Возможно, то же самое делала Кэти Найсли, но я никогда этого не узнаю. Зато я знала других женщин, чьи дети не навещали их. Я никогда не винила этих детей и не виню своих дочерей, хотя это разбивает мне сердце. Я слышу, как мои дочери говорят: «Моя мачеха», тогда как достаточно было бы сказать: «Жена моего отца». Но они всегда говорят «моя мачеха». И мне хочется сказать: «Она же никогда не умывала ваши маленькие личики, когда я лежала в больнице, никогда не расчесывала ваши волосы, и вы, бедные малышки, выглядели, как уличные оборвыши, когда приходили ко мне в больницу, и у меня сердце кровью обливалось оттого, что никто о вас не заботится!» Но я это не говорю, и мне не следует это говорить. Потому что это я ушла от их отца, даже если думала в то время, что бросаю только его. Но это было не так, потому что я бросала также и моих девочек, бросала их дом. Мои мысли стали моей собственностью, и порой я делила их с другими – но не с мужем. Я была расстроена, я обезумела.
О ярость моих девочек в те годы! Бывают минуты, когда я стараюсь забыть – но я никогда не забуду. Меня тревожат мысли о том, что именно они никогда не забудут.
Моя более мягкосердечная дочь Бекка сказала:
– Мама, когда ты пишешь роман, то можешь его переписать, но когда ты живешь с кем-то двадцать лет, это и есть роман, и ты никогда не сможешь переписать этот роман с кем-нибудь другим!
Откуда она это знает, мое дорогое, дорогое дитя? Знает в столь раннем возрасте. Когда она сказала мне это, я взглянула на нее и ответила:
– Ты права.
Как-то раз, в сентябре, я была в квартире их отца. Он был на работе, и я пришла повидаться с Беккой, которая, как всегда, остановилась у него. Он еще не был женат на женщине, которая приводила девочек ко мне в больницу и у которой не было собственных детей. Я зашла в магазин на углу – было раннее утро – и увидела на экране маленького телевизора над прилавком, как самолет врезается во Всемирный торговый центр. Я поспешила вернуться в квартиру и включила телевизор. Бекка уселась смотреть, а я пошла на кухню, чтобы положить купленные продукты. И вдруг я услышала крик Бекки: «Мамочка!» Второй самолет врезался во вторую башню, и когда я прибежала, у нее был потрясенный вид. Я всегда думаю о том, что в эту минуту закончилось ее детство. Смерть, дым, страх в городе и во всей стране, ужасные события, которые произошли с тех пор в мире. Но лично я думаю только о моей дочери в тот день. Никогда – ни до, ни после, – она так не кричала. Мамочка.
А порой я думаю о Саре Пейн, о том, как она едва смогла выговорить свое имя в тот день, когда я встретила ее в магазине готового платья. Я понятия не имею, живет ли она еще в Нью-Йорке. Она не написала никаких новых книг. Я вообще ничего не знаю о ее жизни. Но я вспоминаю, как она уставала, когда вела занятия. И мне вспоминается, как она говорила о том, что у каждого из нас есть всего одна история. Я не знаю, какая история была или есть у нее. Мне нравятся книги, которые она написала. Но я не могу избавиться от ощущения, что она старается держаться от чего-то подальше.
Когда я одна в квартире, то порой тихонько произношу вслух: «Мамочка!» Я не знаю, что это такое – зову ли я собственную мать, или просто слышу крик Бекки в тот день, когда она увидела, как второй самолет врезается во вторую башню. Наверно, это и то, и другое.
Но это моя история.
И в то же время это история многих. Это история Моллы, история моей соседки по комнате в колледже, а быть может, история Миленьких Девочек Найсли. Мамочка. Мама!
Но эта история и моя. Меня зовут Люси Бартон.
Недавно Крисси сказала о моем нынешнем муже:
– Я люблю его, мама, но надеюсь, что он скончается во сне, а потом моя мачеха тоже умрет, и вы с папой снова будете вместе.
Я поцеловала ее в макушку и подумала: «Это я сотворила такое с моим ребенком».
Понимаю ли я боль, которую чувствуют мои дети? Наверно, понимаю, хотя они, возможно, стали бы утверждать обратное. Но я думаю, что очень хорошо знаю эту боль, которую мы, дети, прижимаем к груди; знаю, как она длится всю нашу жизнь; знаю эту тоску, такую невыносимую, что мы даже не можем плакать. Мы крепко держим ее, и каждое биение сердца твердит: «Это мое, это мое, это мое».
Порой я думаю о том, как солнце садится осенью за нашим маленьким домом. Ты видишь горизонт, весь его круг, и солнце садится у тебя за спиной, небо впереди розовеет, а потом снова приобретает голубоватый оттенок, и эта красота все длится и длится; а потом земля темнеет, становится почти черной на фоне оранжевой линии горизонта; но если повернешься, земля все еще видна глазу, и она такая мягкая; несколько деревьев, тихие поля, уже вспаханные, а небо все медлит, медлит – и, наконец, темнеет.
В такие минуты кажется, что душа способна обрести покой.
Благодарности
Автор благодарит всех, кто помогал ему при написании этой книги: Джима Тирни, Зарину Шей, Минну Фьер, Сюзан Кэмил, Молли Фридрих, Люси Кэрсон, Фонд Больяско и Бенджамина Дрейера.
Примечания
1
Небоскреб в Нью-Йорке. Здесь и далее если не указано иное, примеч. перев.
(обратно)2
Игра слов – weed (англ. сорняк) в разговорной речи стало wizzle. Прим. ред.
(обратно)3
Судоходный пролив в городе Нью-Йорке между заливом Аппер-Нью-Йорк-Бей и проливом Лонг-Айленд-Саунд, отделяющий нью-йоркские районы Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Куинса. Связан с реками Гудзон и Гарлем. Прим. ред.
(обратно)4
Фамилия Найсли говорящая (Nicely – мило, англ.).
(обратно)5
В США каждая средняя школа имеет группу поддержки – отряд болельщиц, который подбадривает команду своей школы на спортивных соревнованиях.
(обратно)6
Консультант в средней школе оказывает ученикам помощь в выборе будущей профессии и в решении личных проблем.
(обратно)7
Официальный праздник в США в память первых колонистов Массачусетса.
(обратно)8
Комиссионные магазины, торгующие по умеренным ценам одеждой и вещами, бывшими в употреблении (эти магазины обычно принадлежат благотворительным организациям).
(обратно)9
Большой универмаг в Нью-Йорке, который особенно знаменит отделом дорогой одежды.
(обратно)10
Серия ожесточенных боев между американскими и фашистскими войсками с сентября по декабрь 1944 года.
(обратно)11
Западная часть района Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Излюбленный многими, шикарный и шумный район, которому удается сохранять укромную атмосферу в Нью-Йорке. Прим. ред.
(обратно)12
Престижный жилой микрорайон в Бруклине.
(обратно)13
Ошибка возникла из-за сходного звучания имени Селия (Celia) и слова тюлень (seal).
(обратно)14
Сельский танец, который ассоциируется с Западом США, разновидность кадрили.
(обратно)15
Фирменное название большого металлического мусоросборника.
(обратно)16
Вооруженный конфликт между США и индейскими племенами, произошедший в 1832 году. Прим. ред.
(обратно)17
Теннесси Уильямс. «Трамвай Желание», картина 11. Прим. ред.
(обратно)18
Скульптурная группа известного французского мастера Жана Батиста Карпо «Уголино и его дети» (1865–1867). Свергнутый правитель Пизы Уголино делла Герардеска (ок. 1220 – март 1289) – один из самых трагических персонажей «Божественной комедии» («Ад» 32:124 – 33:90), пребывающий в девятом круге Ада среди предателей. Его заклятым врагом был архиепископ Руджери дельи Убальдини, ставший причиной ужасной гибели: подняв против Уголино мятеж, архиепископ обманом заманил его вместе с его сыновьями в башню и наглухо замуровал, обрекая на голодную смерть. Прим. ред.
(обратно)19
Промежуточная стадия между начальной и средней школой в США и Канаде для детей 12–15 лет (Junior high school, англ.).
(обратно)20
Стоунволлские бунты – спонтанные демонстрации геев в знак протеста против полицейских рейдов в гей-баре «Стоунволл», которые начались в ночь на 28 июня 1969 года.
(обратно)21
Конгрегационализм (от congregatio – объединение, лат.) – одна из распространенных в Англии и США протестантских религий, радикальная разновидность кальвинизма. Прим. ред.
(обратно)22
Национальный праздник, который отмечается в США и Канаде в первый понедельник сентября.
(обратно)23
Около 64,37 км.
(обратно)24
Внимание! (нем.)
(обратно)25
День отца приходится на третье воскресенье июня; в этот день отцы получают подарки и поздравительные открытки.
(обратно)26
«Нью-Йорк Янкиз» – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Прим. ред.
(обратно)27
«Чикаго Уайт Сокс» – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Клуб базируется в городе Чикаго, Иллинойс. Прим. ред.
(обратно)





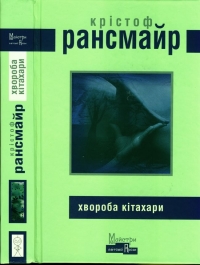




Комментарии к книге «Меня зовут Люси Бартон», Элизабет Страут
Всего 0 комментариев