Паоло Джордано Черное и серебро
Paolo Giordano
IL NERO E L’ARGENTO
© Paolo Giordano, 2014
All rights reserved
© Mirjan van der Meer, front cover photo
© А. Ямпольская, перевод на русский язык, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Издательство CORPUS ®
* * *
Моей девушке
Что значит любить кого-то? Это значит – всегда схватывать его в массе, извлекать его из пусть даже небольшой группы, коей он причастен, будь то только семья или что-то иное; а затем искать его собственные стаи, множества, которые он таит в себе и которые, возможно, совершенно иной природы.
Ж. Делез и Ф. Гваттари. Тысяча плато[1]Синьора А
В день, когда мне исполнилось тридцать пять, у синьоры А. внезапно иссякло упорство, которое я считал ее главным качеством, и, покоясь в слишком просторной для ее тела постели, она покинула наш мир.
Тем утром я поехал в аэропорт за Норой, возвращавшейся из короткой рабочей поездки. Хотя стоял поздний декабрь, зима не торопилась приходить: однообразные равнины, расстилавшиеся по обе стороны автострады, белели под тонкой пеленой тумана, который притворялся, будто он вовсе не туман, а не осмеливавшийся выпасть снег. Нора ответила на телефонный звонок: сама почти не говорила, в основном слушала. «Ясно, – сказала она, – хорошо, значит, во вторник, – а потом добавила одну из тех фраз, которые дарит нам опыт, когда слов не хватает, – наверное, так оно и лучше».
На первой же заправке я свернул, чтобы Нора смогла выйти из машины и в одиночестве брести по парковке куда глаза глядят. Она тихо плакала, прикрывая правой ладошкой рот и нос. Среди бесчисленного множества вещей, которые я узнал о своей жене за десять лет брака, есть одна: в минуты горя ей нужно побыть одной. Внезапно она становится недоступной, не позволяет себя утешать, и я, бессильный свидетель ее страданий, вынужден стоять в стороне; прежде я принимал ее желание спрятать горе за равнодушие.
Оставшуюся часть пути я ехал медленнее: это казалось мне оправданным проявлением уважения. Мы говорили о синьоре А., вспоминали смешные случаи из прошлого, хотя на самом деле смешных случаев было мало, – ничего смешного с ней не происходило, скорее, у нее имелись привычки – привычки, до такой степени вошедшие в нашу семейную жизнь, что стали притчей во языцех: и то, как она каждое утро пересказывала нам гороскоп, который слушала по радио, пока мы еще спали; и то, как устанавливала свою власть в разных частях нашего дома, особенно на кухне, и нам невольно хотелось спросить ее разрешения, прежде чем открыть собственный холодильник; и те мудрые советы, которыми она пресекала все, что казалось ей проявлением способности у нас, молодежи, усложнять себе жизнь; и ее героическое, мужественное прошлое, неискоренимое крохоборство – помнишь, как мы однажды забыли оставить ей деньги на продукты? Она открыла копилку и выгребла всю мелочь, до последнего цента.
Помолчав несколько минут, Нора прибавила:
– И все-таки, какая женщина! Наша Бабетта. Всегда на посту. Даже на этот раз дождалась моего возвращения.
Я не стал говорить, что на картине, нарисованной ею, для меня не нашлось места, и я не решился признаться в том, о чем сам думал в эту минуту: синьора А. дождалась дня моего рождения и ушла. Каждый из нас сейчас придумывал себе мелкое личное утешение. Что нам еще остается, сталкиваясь со смертью, как не выискивать смягчающие обстоятельства, приписывать покойному последнее проявление заботы, обращенной лично к нам, видеть за совпадениями осмысленный план. Однако, рассуждая бесстрастно, с течением времени мне с трудом верится, что все было именно так. Страдание увело синьору А. далеко и от нас, и вообще от всех задолго до того декабрьского вечера, страдание вынудило ее забиться в дальний угол собственного мира – как Нора ушла от меня на парковке, – и там синьора А., отвернувшись от нас, замерла.
Мы так и звали ее – Бабеттой, прозвище нравилось нам, потому что намекало: синьора А. принадлежит нам одним, и нравилось ей, потому что ни у кого такого прозвища не было, да и звучало оно очень по-французски и очень ласково. Эмануэле, наверное, так и не понял, что оно значит; возможно, однажды он наткнется на него в рассказе Карен Бликсен или, что вероятнее, увидит фильм и тогда свяжет одно с другим. Впрочем, он охотно согласился с тем, что в один прекрасный день синьора А. стала Бабеттой, его Бабеттой; подозреваю, что для него это имя было созвучно «бабучче» – так назывались шлепанцы, которые его няня надевала, входя в наш дом, а вечером, уходя, аккуратно ставила у скамейки, в прихожей. Когда Нора обнаружила, что подошвы у тапочек стерлись, она подарила ей новые, но синьора А. отнесла их в кладовку и ни разу не надевала. Она всегда так поступала, никогда ничего не меняла, – наоборот, сопротивлялась переменам душой и телом, и, хотя ее упрямство казалось смешным, а порой даже глупым, не стану отрицать – нам оно нравилось. В нашей жизни, в моей жизни, в жизни Норы и Эмануэле, который в то время с каждым днем менялся до неузнаваемости и колыхался на ветру, как молодое деревце, вызывая у нас тревогу, синьора А. была чем-то постоянным, надежным убежищем, старым деревом с таким толстым стволом, что его и втроем не обнять.
В Бабетту она превратилась в одну апрельскую субботу. Эмануэле уже научился говорить, но за столом еще сидел в детском стульчике, значит, это произошло лет пять или шесть тому назад. Синьора А. не один месяц зазывала нас в гости: хоть разок, на обед. Мы с Норой, ловко отклонявшие все предложения, от которых даже отдаленно попахивало семейными встречами, долго увиливали, но синьора А. не отступала и каждый понедельник вновь и вновь приглашала нас в гости на выходные. И мы сдались. До Рубианы мы ехали странно сосредоточенные, словно нам предстояло совершить не что-то естественное, а поступок, требующий огромного напряжения. Мы не привыкли сидеть за одним столом с синьорой А., тогда еще не привыкли; несмотря на тесное общение, между нами негласно установилась некоторая дистанция, и, пока мы ели и обсуждали наши дела, она хлопотала, не присаживаясь ни на минуту. Наверное, в то время мы еще не перешли на «ты».
– Рубиана, – сказала Нора, растерянно глядя на поросший густым лесом холм, – ты только представь себе – прожить здесь всю жизнь.
Расточая преувеличенные похвалы, мы осмотрели трехкомнатную квартиру, в которой жила эта одинокая вдова, синьора А. О ее прошлом нам почти ничего не было известно – Нора знала чуть больше меня, и мы не могли понять, какие чувства охватили нас при виде того, что скрывалось в квартире синьоры А.: нам запомнились чрезмерная помпезность, привкус китча и исключительная чистота. Синьора А. накрыла круглый стол в гостиной так изящно, что не к чему было придраться: серебряные приборы лежали в идеальном порядке на скатерти с цветочным узором, рядом стояли тяжелые бокалы с золотым ободком. Мне подумалось, что обед – не более чем предлог, оправдывающий существование сервиза, которым не пользовались годами.
Она покорила нас разнообразием блюд – на столе было все, что мы любим: похлебка из полбы и чечевицы, шницель под маринадом, фенхель, запеченный в легчайшем соусе бешамель, а еще салат из листьев подсолнечника, которые она собрала своими руками, мелко порубила и приправила горчицей и уксусом. Я до сих пор помню каждое блюдо и физическое ощущение: скованность постепенно уходит, и я отдаюсь кулинарным наслаждениям.
– Совсем как Бабетта! – воскликнула Нора.
– Как кто?
Мы пересказали ей историю Бабетты, и синьора А. растрогалась, представив себя на месте поварихи, которая уходит из «Кафе Англе» прислуживать двум старым девам, а потом тратит все свои сбережения, чтобы устроить им настоящий пир. Она вытерла глаза краем передника и быстро отвернулась, словно ей срочно понадобилось что-то поправить.
Прошли годы, прежде чем я вновь увидел на ее лице слезы – на этот раз не радости, а ужаса. К тому времени мы уже были достаточно близкими людьми, чтобы я мог без стеснения взять ее за руку и сказать: «Ты справишься. Многие сдаются, но ты знакома с этой болезнью, потому что однажды ты с ней уже сталкивалась. У тебя хватит сил».
Я и правда так думал. А потом она так быстро сгорела, что я даже не успел проститься с ней как полагается, не успел подобрать слова, чтобы сказать ей, кем она для нас была.
Райская птица (I)
Конец наступил скоро, но прежде настало предвестие конца – по крайней мере, синьоре А. хотелось так думать в последние месяцы, словно предвестие придавало смысл тому, что было простым несчастьем.
За полтора года до того, как ее похоронили, в последние летние деньки она работала в огороде, за домом. Вырывала с корнем уже ненужную фасоль, чтобы освободить место для савойской капусты, как вдруг в нескольких шагах от нее, на один из камней, обозначающий границы ее участка, села птица.
Синьора А., согнувшаяся под бременем своих шестидесяти восьми лет, замирает, чтобы не испугать пристально глядящую на нее птицу. Таких птиц она никогда не видела. Размером похожа на сороку, но совсем другой расцветки: вокруг шеи, до самой грудки, лимонно-желтые перышки, которые растворяются в голубизне спинки и крыльев, длинный белый хвост, а на конце – загнутые, похожие на рыболовные крючки, перья. Присутствие человека птицу ничуть не пугает – наоборот, синьоре А. кажется, будто птица специально села поблизости, чтобы ею любовались. Сердце синьоры А. бьется сильнее, почему – она и сама не знает, колени подгибаются. Она гадает, не принадлежит ли птица к редкому и ценному тропическому виду, не сбежала ли она из клетки коллекционера: в Рубиане таких птиц никогда не водилось. Да и коллекционеров, насколько известно синьоре А., в Рубиане нет.
Птица резко опускает головку и принимается пощипывать клювом крыло. В ее движениях есть что-то лукавое… Нет, не лукавое, не совсем так, а, как бы это сказать… заносчивое. Почистив крыло, птица вновь глядит своими черными глазками прямо в глаза синьоре А. Трепещут прижатые к телу крылья, два медленных вдоха вздымают грудку. Наконец, беззвучно оторвавшись от камня, птица взлетает. Синьора А. следит за ней взглядом, рукой прикрыв глаза от солнца. Ей хочется получше разглядеть птицу, но та быстро исчезает среди растущих неподалеку каменных дубов.
Она снова увидела эту похожую на попугая птицу – на этот раз во сне. Когда она рассказала мне об этом, она уже тяжело болела, – трудно было различить, что произошло на самом деле, что ей почудилось, а что было самовнушением. Но все-таки я склонен верить тому, что на следующее утро синьора А. решила поискать изображение птицы в книжке о фауне долины Сузы, которая была у нее дома – она мне эту книгу показывала. Верю и тому, что, не обнаружив там своей птицы, она отправилась к приятелю – художнику, страстному любителю птиц, – об этом визите она рассказала во всех подробностях.
Я так и не понял, какие отношения связывали ее с художником. Говорить об этом она не любила – возможно, из скромности, потому что художник был знаменитым – самым знаменитым из тех, с кем она общалась после смерти Ренато, или она просто его ревновала. Я знаю, что иногда она готовила для него, выполняла его поручения, по сути, была кем-то вроде компаньонки, другом, с которым он коротал время. Думаю, они виделись чаще, чем давала понять синьора А. Каждое воскресенье после мессы она заходила к нему и оставалась до обеда. Вилла художника с ярко-красным фасадом, спрятанная за высокими буками, находилась в трех минутах езды или пяти минутах ходьбы от дома синьоры А., у асфальтированной дороги, описывающей полукруг.
Художник был карликом: она не стеснялась так его называть и произносила это слово не без ехидства. Много лет спустя она призналась, что всю жизнь, думая о нем, задавала себе глупые вопросы, например, каково это – сидеть, не доставая ногами до пола. А еще она не могла оторвать глаз от его рук – от толстых, немного смешных пальцев, умевших творить чудеса. Художник был единственным мужчиной, на которого синьора А. – ростом чуть выше метра шестидесяти – смотрела сверху вниз, однако он был наделен таким могучим, непобедимым очарованием, что ей казалось, будто не она, а он возвышается над ней. Заходя к художнику в гости, она располагалась в гостиной, превращенной в мастерскую, и там, среди картин и рам, словно возвращалась в то прошлое, когда Ренато брал ее с собой осматривать подвалы и чердаки в поисках редких забытых вещей.
– Наверное, это удод, – предположил художник тем поздним августовским утром.
Художник был брюзгой, причем в последнее время он брюзжал еще больше, чем прежде, но синьора А. привыкла не обращать на это внимания. Раньше, объяснила она, на вилле было полно галеристов, приятелей и позировавших художнику раздетых девиц. Теперь к художнику приходили всего четыре женщины, приезжие, – они работали по очереди, ухаживали за ним, правда, ни одна из них не была настолько красива, чтобы ее стоило увековечить на холсте. Синьора А. знала, что художник целыми днями думает о прошлом, что он больше почти не пишет картин, что он одинок. Совсем как она.
– Мне прекрасно известно, как выглядит удод. Никакой это не удод, – сухо возразила синьора А.
Художник спрыгнул с кресла и исчез в соседней комнате. Синьора А. принялась разглядывать гостиную так, будто не знала ее как свои пять пальцев. Ее любимая картина стояла на полу – незаконченная. На ней была изображена обнаженная женщина, сидящая у столика: красивые, чуть расходящиеся в стороны груди, широкие соски – их розовый цвет был намного глубже, чем розоватый оттенок кожи. Перед женщиной лежали нож и четыре алых персика, – вероятно, она собиралась их очистить. Но не очистила. Женщина навеки замерла, словно ожидая подходящего момента.
– Это была лучшая его картина. И знаешь, в тот день он дописал ее у меня на глазах, за полчаса. Потом спросил: «Ты на своем драндулете прикатила? Тогда забирай». Он поступил так, потому что ему было жалко меня. Почему же еще. Попроси я у него картину, он бы мне ее не отдал. Но он все понял. Раньше других, раньше врачей. Понял, потому что я рассказала ему о птице. Он вернулся в гостиную с кожаной папкой и положил ее мне на колени. «Эта?» – спросил он. Я сразу ее узнала, по загнутым белым перьям на хвосте. Он не встречал таких птиц уже много лет, по крайней мере, с 1971 года. Думал, вымерли. А вышло так, что райская птица прилетела ко мне. Ее так называют – райская птица, хотя она приносит несчастье. Я сказала ему: «Мы с тобой уже старые. Какие у нас могут быть несчастья?» Только подумать: за несколько дней до этого я разбила зеркало. А художник как взовьется. «Какое еще зеркало! – закричал он. – Эта птица приносит смерть!»
Однажды я спросил у Норы, верит ли она в историю с птицей – предвестницей смерти. Она ответила вопросом на вопрос:
– А ты?
– Конечно нет.
– А я – конечно да. В этом мы с тобой никогда не сойдемся.
Был уже поздний вечер. Эмануэле спал, мы, не спеша, убирались на кухне. На столе мы оставили открытой недопитую бутылку вина.
– В чем тебе ее сильнее всего не хватает? – спросил я.
Нора ответила, не раздумывая, словно ответ уже был готов:
– Мне не хватает того, как она заражала нас смелостью. Люди не любят делиться смелостью. Им только хочется убедиться в том, что у тебя смелости еще меньше.
Нора надолго замолчала, повисла пауза. Я так и не научился понимать, естественны ли ее паузы или она тщательно отмеривает их, как актриса.
– А она – нет, – прибавила Нора. – Она всегда за нас болела.
– Ты мне так и не рассказала, о чем вы говорили все время, которое ты пролежала в постели.
– Мы много разговаривали?
– А то.
Нора глотнула вина из бутылки. Только вечером, когда мы остаемся одни, она позволяет себе подобную бесцеремонность, словно усталость и наша близость отменяют все запреты. Вокруг губ остался красноватый след.
– Она говорила, – сказала Нора, – а я слушала. Рассказывала мне про Ренато, он возникал, о чем бы ни заходила речь, словно он еще жив. Я уверена, что дома, одна, она разговаривала с ним вслух. Она призналась, что по-прежнему накрывает для него на стол, хотя прошло столько лет. По-моему, это очень романтично. Романтично и немного смешно. Но в романтичном всегда есть что-то смешное, нет?
Каждый вечер, особенно в первые месяцы после смерти синьоры А., мы с Норой вели подобные разговоры. Это помогало нам не поддаваться растерянности: мы вновь и вновь все проговаривали, растворяли растерянность в словах, пока нам не начинало казаться, будто наши слова – прозрачная вода. Синьора А. была единственным свидетелем наших каждодневных усилий, единственным свидетелем, знавшим, что нас связывает; говоря о Ренато, она словно пыталась что-то нам подсказать, передать то, что осталось от их истории любви – прекрасной и незамутненной и при этом недолгой и несчастливой. Вообще-то всякой любви нужно, чтобы кто-то ее увидел, узнал, подтвердил, иначе любовь можно принять за мираж. Теперь, когда взгляд синьоры А. не был обращен на нас, мы чувствовали себя в опасности.
И все-таки на похороны мы опоздали. Собрались мы вовремя, но потом занялись какой-то ерундой, словно то, что нам предстояло, было одним из множества дел. Эмануэле вел себя особенно беспокойно, капризничал, все спрашивал, что это такое «отправиться на небеса», как так может быть, что человек уходит и больше не возвращается. Он знал ответы на эти вопросы, для него они были просто предлогом, чтобы выплеснуть возбуждение (для ребенка первые похороны – разве это не нечто удивительное?), но мы не были склонны потворствовать ему. Мы просто не обращали на него внимания.
По дороге в церковь семейное единство рухнуло окончательно. Нора ругала меня за то, что я поехал самым длинным путем, я принялся перечислять все бесполезные дела, которые она переделала, прежде чем выйти из дома, – например, накрасилась, будто на похороны принято приходить в макияже. Будь с нами синьора А., она бы сразу отыскала в своей коллекции нужную фразу, чтобы заставить нас замолчать, но, защищенная от всего мира сосновыми досками, она спокойно ждала нас на отпевании.
Растерянные, мы вошли в церковь, где собралось куда больше народа, чем мы ожидали. Службу я почти не слушал – тревожился за машину, которую в спешке припарковал на обочине узкой дороги. Я воображал, как автобус, один из тех, что обслуживают загородные маршруты, стоит и ждет меня, а пассажиры высыпали из него и гадают, из-за какого идиота они застряли здесь; но я так и не решился выйти из церкви и посмотреть. В конце похорон нам не пришлось никого обнимать – нам некого было утешать своим присутствием, наверное, мы сами ждали утешений.
Эмануэле хотел проводить гроб до самого конца. Мы подумали, что это каприз, глупое любопытство, и не разрешили. Похороны – не детское дело, а эти похороны вообще не были нашим делом. Это дело семьи, близких друзей, а кем были мы для синьоры А.? Работодателями, ну или чуть больше. Смерть перераспределяет роли формально, по степени важности, мгновенно отменяет отступления от правил, которые человек позволяет себе при жизни: не важно, что Эмануэле был для синьоры А. как внук, что мы с Норой считали себя ее приемными детьми. На самом деле мы ими не были.
Сироты
Призвание заботиться о других, носившее почти религиозный характер (или ставшее следствием печальных обстоятельств), и привело ее к нам. Когда стало ясно, что беременность Норы совсем не похожа на чудесную картину, которую мы себе рисовали, и что плод энергично зашевелился, решив появиться на свет на двадцать четвертой неделе, мы обратились за помощью к ней – мы узнали, что она не занята, как только мой тесть понял, что обойдется без домработницы. Поскольку жена была прикована к постели, мне пришлось самому показывать дом синьоре А., исхитряясь объяснять подробности, в которых я разбирался плохо: куда наливать ополаскиватель, а куда жидкий стиральный порошок, как менять мешки в пылесосе, как часто поливать растения на балконе. Не успели мы пройти наш туристический маршрут до середины, как синьора А. прервала меня: «Ладно, идите! Идите и ни о чем не волнуйтесь».
Вечером, вернувшись с работы, я увидел, что она сидит у изголовья Нориной постели, словно навострившая уши сторожевая собака. Они продолжали беседовать, но синьора А. уже надела кольца и закрепила кардиган на груди брошкой, пальто было накинуто на плечи. Увидев меня, она поднялась с энергией человека, который ничуть не устал, потом проводила меня на кухню – дать инструкции насчет блюд, которые она приготовила на ужин, а также о том, как разогреть еду, чтобы не пересушить ее, и где потом оставить кастрюли. «Не мойте, я сама завтра все сделаю», – непременно прибавляла она. Поначалу я не слушался, но, когда заметил, что утром она заново перемывает вымытую мною посуду, сдался и признал ее власть.
Порой подобная непогрешимость раздражала, порой было трудно выносить синьору А. с ее самоуверенностью и основанными на здравом смысле, но не слишком оригинальными жизненными правилами. Нередко Нора, проведя с синьорой А. большую часть дня, переносила на нее вину за то, что ей не одну неделю придется проваляться в постели: «Она тяжелый человек! – жаловалась Нора. – Тяжелый, а главное, помешанный на порядке!»
Как только мы препоручили себя заботе чужого человека (тогда нам не верилось, что мы будем окружены заботой и что мы того заслуживаем), мы сразу же начали изобретать разные уловки, чтобы от нее увильнуть.
Мы с Норой иногда ходили в ресторан – вообще-то не в настоящий ресторан, а в рыбный магазин, перед которым вечером расставляли узкие столики, накрывали их полиэтиленовыми скатертями, раскладывали на них одноразовые приборы и подавали жареную рыбу в алюминиевых контейнерах. Мы наткнулись на этот ресторанчик вскоре после свадьбы, и с тех пор он стал нашим. До того как мы с женой рискнули забраться в эту дыру на окраине, ракообразные и моллюски мне совсем не нравились (до встречи с Норой мне многое не нравилось), но я обожал смотреть, как она ест, как сосредоточенно чистит креветки, а потом передает половину мне и настаивает, чтобы я их съел, обожал смотреть, как она вытаскивает из раковин морских улиток и как облизывает влажные пальцы в перерыве между блюдами. Пока тот рыбный не закрылся и у нас не пропала второстепенная, но очень важная точка опоры, мы могли предаваться в нем одному из ритуалов, недоступному посторонним и известному только членам нашего племени. Все судьбоносные разговоры, драматические признания, празднование дат, значение которых было понятно нам одним, – все происходило в этом ресторанчике. Когда мы уходили, волосы Норы и наша одежда были пропитаны маслом, и мы несли этот запах с собой в дом, как печать, скрепляющую принятые решения, истину, которую удалось отыскать.
Синьора А. заявила, что Норе в ее положении нельзя брать в рот ни кусочка «этой гадости», как выразилась она, изучив с видом сурового таможенника содержание контейнеров, которые я привез на ужин из рыбного.
– И вам тоже, – прибавила она, указывая на меня пальцем. – Я приготовила мясной рулет.
Она завернула жареную рыбу, за которую я отдал сорок евро, обратно в бумагу и лично удостоверилась, что рыба оказалась в мусорном баке на улице.
Мы научились ее обманывать. Когда Норе отчаянно хотелось поесть кольца кальмаров и каракатиц в кляре, я тайком отправлялся в наш ресторан, но сверток не доставал из машины, пока не уходила синьора А. Потом, чтобы не вызывать подозрений, мы выкидывали на помойку большую часть приготовленного ею ужина.
– А вдруг она почувствует запах жареной рыбы? – тревожилась Нора, и тогда я обходил дом с аэрозолем в руках, разбрызгивая жидкость с запахом цитрусовых – Нора умоляла не смешить ее, а то, не дай бог, начнутся схватки.
– Дай-ка я посмотрю, не застряли ли у тебя между зубов кусочки креветок! – требовал я.
– Она же не станет заглядывать мне в рот!
– От нее ничего не укроется.
Потом я целовал ее в губы и просовывал руку за шиворот ночной рубашки, чтобы почувствовать ее тепло. Мы искали тенистые места, надеясь спрятаться от вездесущего взгляда Бабетты, проникавшего всюду, словно солнце в зените.
Когда родился Эмануэле, мы уже были слишком избалованы, чтобы отказаться от ее помощи. Из Нориной сиделки синьора А. превратилась в няню нашего сына, словно одно занятие естественно перетекало в другое, и, хотя прежде она никогда не ухаживала за новорожденными, сразу стало понятно, что она ясно представляла себе, что и как делать, – намного яснее, чем мы.
Ее зарплата легла бременем на наш семейный бюджет, но все же не слишком тяжким: она ведь не считала, сколько часов посвящала нам, и, насколько я помню, мы с ней не обсуждали почасовую оплату. В пятницу она без возражений принимала ту сумму, которая, по нашему мнению, ей полагалась и которую Нора рассчитывала согласно известным ей одной загадочным и весьма гибким тарифам. Синьора А. более восьми лет каждое утро, по будням появлялась у дверей нашего дома в назначенный час и, чтобы не застать нас врасплох, звонила, прежде чем отпереть дверь своими ключами. Приходя с покупками, она сразу же протягивала чек и замирала в ожидании того, что мы выдадим ей соответствующую сумму.
Когда Эмануэле пошел в детский сад, его сопровождали мы с Норой и синьора А. Но, когда он пошел в первый класс, провожать каждого ребенка разрешалось лишь двум взрослым – и мне пришлось уступить. Если кто-нибудь по ошибке называл его Бабетту «бабушкой», Эмануэле не поправлял. Синьора А. чувствовала, что у нее в руках не больше и не меньше, как нежное сердце ее малыша, так оно и было на самом деле.
Легко представить себе, насколько мы были разочарованы и огорчены, когда в первые дни сентября 2011 года, в самом начале учебного года, синьора А., чья помощь была нам очень нужна, твердо заявила, что больше к нам не придет.
– Можно узнать, почему? – спросила Нора, не столько опечаленная, сколько раздраженная. Когда речь идет о работе, существуют строгие правила: полагается предупредить заранее, отправить по почте письмо с заявлением об уходе и держать данное слово.
– Потому что я устала, – ответила синьора А., в ее голосе сквозила обида.
Разговор быстро закончился: невнятные ссылки на усталость перечеркнули восемь лет сотрудничества, почти восемь лет совместной жизни.
Она и правда больше к нам не приходила. Из нас троих только Эмануэле тогда еще не успел понять, что человеческие отношения не длятся вечно. Только он не знал, что это не всегда плохо. Но когда настало время сообщить ему, что его няня больше не будет приходить, трудно было найти плюсы в сложившейся ситуации, и мы с Норой решили выждать. Прошла неделя, и он сам спросил:
– Когда придет Бабетта?
– Пока что она не сможет приходить к нам. А теперь пойди-ка надень пижаму.
Однако и мы, обиженные и напуганные внезапно свалившейся на нас горой домашних забот, спрашиваем себя, что же на самом деле произошло, чем мы провинились. Мы вновь и вновь говорим об этом, словно сироты. Наконец мы решаем, что угадали наиболее вероятную причину молчания синьоры А. Дней за десять до ее ухода у дверей нашего дома появилось объявление, написанное от руки печатными буквами. Женщина, снимающая гараж рядом с нами, взывала к совести разбойника, который основательно разбил ей дверь багажника, – она предлагала ему набраться смелости и признаться. На ее призыв так никто и не откликнулся, бумажка долго колыхалась на ветру. Нора поклялась мне, что не имеет к этой истории никакого отношения: ей было прекрасно известно, что в списке подозреваемых ее имя стоит на первом месте не только из-за расположения боксов, но и из-за ее небрежной и неловкой манеры вождения. Кроме нас, гаражом пользовалась только синьора А. Чтобы не скармливать каждый день паркомату горы монет, она занимала то пространство, которое я освобождал утром. Я спросил ее, не ударялась ли она о багажник соседкиной машины, всякое бывает, ничего страшного, я бы сам все уладил. Она едва обернулась ко мне: «Да ты что, я тут ни при чем. Небось сама и разбила. У нее не машина, а грузовик».
– Точно! – говорит Нора, убеждая себя и меня в справедливости только что придуманной версии. Одиннадцать вечера, мы лежим в постели. – Так все и было. Ты же знаешь, какая она обидчивая.
– Значит, багажник разбила она.
Нора перебивает меня:
– Какое нам дело до багажника? Надо ей позвонить.
Так, на следующее утро, во время перерыва в семинаре по теории групп, которую я, судя по потерянным взглядам ребят, излагаю еще путанее, чем обычно, я звоню синьоре А. Извиняюсь перед ней за резкие слова и говорю, что, если она из-за этого не хочет больше работать у нас, я ее понимаю, но мы готовы все исправить. Ради пущей убедительности я рассказываю об Эмануэле, как он без нее скучает.
– История с гаражом ни при чем, – коротко отвечает синьора А. – Я же вам сказала: у меня нет сил.
Разговор на этом заканчивается, мы собираемся холодно попрощаться, и я впервые слышу, что она кашляет. Не так, как кашляют в сырую погоду. Кашляет резко, задыхаясь, словно кто-то забавляется, щелкая пальцами у нее в трахее.
– Что с тобой? – спрашиваю я.
– Кашель. Никак не проходит.
– К врачу ходила?
– Нет, но пойду. Пойду.
Бессонница
У нас дома сразу стало заметно, что синьора А. дезертировала: ее отсутствие выдавали многочисленные признаки запущенности, которые особенно бросались в глаза на письменном столе Норы. Горы бумаг – они и прежде могли поспорить по высоте со средневековыми башнями – теперь достигают пугающих размеров, а потом они обрушиваются, образуя гигантский бумажный курган. Среди ненужных бумаг наверняка прячутся нужные: неоплаченные счета, объявления, принесенные Эмануэле из школы, телефонные номера, которые Нора упорно записывает на клейких листочках, и дизайн-проекты: когда заказчики потребуют их представить, Нора наверняка испытает стресс. Не то чтобы синьора А. прикасалась к документам – она делала вид, что этого не было, но часто после того, как она, убираясь на столе, складывала бумаги ровными кучками, конверт, который моя жена безуспешно искала несколько дней, находился, как по волшебству: синьора А. поместила его сверху, словно он попался ей совершенно случайно.
– Мне предложили отреставрировать шале в Шамуа, – объявляет Нора однажды утром, в воскресенье. Нора говорит громко, чтобы перекричать гул пылесоса: она яростно пылесосит совершенно чистый пол. – Отличный проект. Мог быть отличный проект. Жаль, что придется отказаться.
– Отказаться? А почему?
– Ты что, не видишь, в каком я состоянии! Мне даже передохнуть некогда, разве я могу заниматься проектом в Валле-д’Аоста? Видишь журналы на диване? Они валяются там с утра, я собиралась их полистать, но вряд ли получится. – Она тянет пылесос слишком сильно, и вилка со щелчком выскакивает из розетки. Внезапная тишина словно сбивает ее с толку. Она опять глядит на журналы.
– А ведь там есть нужные мне статьи, – говорит Нора. – Правда, нужные.
Мы обращаемся за помощью к Нориной маме. Нехотя она приходит к нам несколько раз. Войдя в квартиру, приступает к кофейному ритуалу – для удачи: варит кофе и не спеша пьет, стоя на пороге между балконом и кухней, курит и ожидает, что кто-то будет ее развлекать; потом убирает волосы, надевает перчатки и чистый передник и, останавливаясь перед зеркалом, внимательно следит за происходящими изменениями. Превратившись в домработницу с картинки, она спрашивает дочь:
– Ну, что надо сделать?
К тому времени терпение Норы иссякает:
– Все надо, ты что, не видишь?
Они так ругаются, что Норина мама с обиженным видом отправляется домой. Не проходит и месяца, как мы перестаем ее звать, а она не предлагает свои услуги.
Короткая история с девушкой, которая соглашается помогать нам с Эмануэле в обмен на проживание, оказывается не лучше. Нора считает ее ленивой и апатичной, жалуется, что та плохо знает итальянский, не понимает ее указаний и не любит порядок.
– А еще она так на тебя смотрит…
– Смотрит на меня?
– Ясное дело, она положила на тебя глаз.
– Да ты с ума сошла!
– Поэтому она делает мне гадости, вот, разбила сервиз. Она знала, что я им дорожу. Не то чтобы она разбила его нарочно. Нет. Она бессознательно хотела мне досадить.
Я настаиваю: в конце концов мы кого-нибудь найдем, надо только продолжать поиски, но Нора меня почти не слушает.
– Нет. Никого мы не найдем, – бормочет она, – никого подходящего. Никого, кто может сравниться с ней.
Пока жена выплескивает свою растерянность днем, становясь все более раздражительной и капризной, я терплю, пока не настанет ночь – еще одно различие между нами (с самого начала нашего знакомства ее отдых был священным). Я так не мучился от бессонницы со времен аспирантуры, когда пришлось смириться с тем, что между обычной жизнью целого города и моей разница во времени составляет четыре-пять часов, словно я живу один на острове, где-то в центре Атлантического океана, или работаю в ночную смену. В последние годы бессонница почти не напоминала о себе, разве что я хуже спал осенью и весной. Теперь она снова вернулась, меня это беспокоит: каждую ночь я просыпаюсь ровно в три и долго лежу, разглядывая слабые отблески света в окнах, иногда так и не засыпаю до рассвета. Если в годы аспирантуры я мог хоть немного поспать днем, сейчас, когда у меня Эмануэле и студенты, стрелка будильника неумолимо указывает на половину восьмого, а недостаток сна и отдыха отзывается все острее.
Чтобы унять свое беспокойство, я пытаюсь продолжить в уме расчеты, которыми занимался днем. Хочется встать, взять листок бумаги и карандаш, чтобы все записать, но я не решаюсь. Нора запретила мне работать по ночам, после того как я признался ей, что, если я работаю ночью, цифры, буквы и функции стоят у меня перед глазами много часов, и я вообще не могу уснуть. Сейчас, во время вынужденного бдения, я поглаживаю женин бок в надежде, что она приоткроет глаза. Иногда я думаю о синьоре А., и меня охватывает грусть, чувство потери.
Когда я был маленьким, у меня тоже была няня. Ее звали Тереза, для нас – Терезина, она жила на другом берегу реки. Я плохо ее помню, например, не помню, дотрагивался ли я до нее, обнимал ли, не помню, чем от нее пахло. Обычно у людей остаются воспоминания, связанные с органами чувств, – успокаивающие, теплые, к ним хочется вновь и вновь возвращаться. Со мной не так: из моей памяти легко стирается все, что не относится к области визуального. От Терезы у меня остались разрозненные картинки – например, как она для жарки режет картошку ломтиками, не снимая кожуру. Еще я помню ее колготы, бежевые, матовые, одной и той же плотности, независимо от времени года. А еще она дарила мне деньги, это я тоже хорошо помню. Но самый яркий эпизод, который вытеснил все остальное, относится к нашей последней встрече. Я уже был старшеклассником, когда мама решила, что я должен пожертвовать свободным днем и навестить няню. Мы отправились в бедный район – я бывал там много лет назад, и нянина квартира запомнилась мне как нечто сказочное, зато теперь, став подростком, я видел все в черно-белом цвете, и эта квартира показалась мне убогой, там просто нечем было дышать. Терезина жила в четырехкомнатной квартире вместе с сыном и его семьей. Целыми днями она сидела в кресле, присматривая за гиперактивной внучкой, которая скакала вокруг, а иногда запрыгивала на нее, как обезьянка. Значит, родители доверили присматривать за мной женщине из бедноты: не знаю почему, но тогда это открытие меня возмутило. Сказав все подобающие слова, мы немного посидели, слушая шумное дыхание няни. Когда мы собрались уходить, Терезина достала из кошелька банкноту и настояла на том, чтобы я ее взял, словно повинуясь давней привычке. Я был в ужасе, но прочел мамин взгляд и взял деньги.
Кто знает, какой багаж воспоминаний о синьоре А. останется у моего сына, когда он вырастет. Наверное, багаж этот будет куда скромнее, чем представляется мне. В любом случае – решаю я, снова сдвигая одеяло и выбирая компромиссный вариант (одна нога на одеяле, вторая – под ним), я не предложу Эмануэле навестить ее. Когда отношения разрываются, лучше, чтобы они разорвались резко, раз и навсегда, даже если это отношения между пожилой няней и ее воспитанником.
Нора считает, что сейчас моя бессонница вызвана работой, и ничем другим. Через год с небольшим истекает мой контракт с университетом, но пока о продлении контракта и речи не идет. Когда я спросил научного руководителя о внутреннем конкурсе на факультете, который грозятся провести уже многие годы, он лишь руками развел: «Что я могу тебе сказать? Подождем, пока умрет кто-нибудь из стариков. Но они крепкие, их ничего не берет».
Он не стал развивать свою мысль и в свои шестьдесят шесть лет не причислил себя к «крепким» старикам. Он не любит беседовать со мной о карьерном росте, ему больше нравится обсуждать интриги на факультете, постепенно переходя к общим рассуждениям о политике. Он может проговорить об этом до девяти-десяти вечера, когда пустеют коридоры, а охранники запирают двери – все, кроме маленькой боковой дверцы, которую открывает магнитная карточка (если ты случайно ее забыл – дело плохо). Я в основном киваю головой и что-то калякаю на странице с расчетами. Я – его личный зритель, выбора у меня нет. Наверное, он тоже не рад проводить столько времени со мной – уходит он всегда раздраженный, но ему нравится ощущать свою власть и держать меня у себя в кабинете, и потом, это лучше, чем то, что ждет его дома. Он никогда и ничего мне не объясняет, но, говоря о браке, становится язвительнее. Когда я объявил ему, что собираюсь жениться, его комментарий по ехидству уступал только тому совету, который получила Нора от своего отца («Главное – сохраните раздельные счета. Любовь любовью, а деньги деньгами»). Мой научный руководитель заявил: «У тебя еще есть несколько месяцев, успеешь передумать». На свадьбу он пришел один, встал у стола с угощениями, чтобы не пропустить ни одного блюда, а ушел одним из последних, сильно подвыпившим. Мне рассказывали, что на следующее утро он и слова не сказал о церемонии, зато жаловался, что съел что-то не то и что ему было плохо.
Ироничная фраза о пожилых коллегах – все, что должно избавить меня на несколько месяцев от страха остаться без работы. Тем не менее, для себя я отметил, что появилась надежда на продолжение моей университетской карьеры: на десятые доли процента выросла вероятность переезда в другой город, в другую страну или вероятность достойно сдаться и выбрать не столь благородный жизненный путь.
Мысль о переезде за границу мгновенно нарушает семейный покой. Всякий раз, когда я завожу с Норой разговор об исследовательском центре, где команда молодых ученых занимается чем-то близким моим научным интересам и получает «интересные, очень любопытные результаты»; всякий раз, когда я объясняю ей, что работа с моим научным руководителем что-то во мне убивает и мне лучше избавиться от его влияния (я уверен, что снова стану хорошо спать по ночам), Нора мрачнеет. Она что-то рассеянно бормочет в знак согласия, а потом умолкает, словно умоляя не продолжать.
Когда мы узнали, что она беременна, переезд в Цюрих, где я выиграл четырехлетнюю стипендию, казался делом решенным. Я собирался уехать на несколько месяцев раньше, чтобы Нора родила в Италии, а как только будут оформлены документы на ребенка, мы втроем переедем в самый незнакомый кантон незнакомой Швейцарии. Мы вместе отправились туда подыскивать жилье. Посмотрели три квартиры в районе, где селятся почти все физики, потому что там скорее можно достичь компромисса между новой зарплатой и стоимостью аренды, а еще потому, что там есть кинотеатр. Нора, правда, в квартиры почти не заглядывала. Слушая агента по недвижимости, она механически кивала и поглаживала еще не заметный живот.
Попавшись в ловушку ее странной апатии и собственной неуверенности, закончив осмотр, я стал торопить Нору. Ну что, какая из квартир тебе понравилась больше? Может, лучше пожертвовать квадратными метрами ради дворика, чтобы ребенку было где погулять? Я перечислил все «за» и «против» каждого варианта. Нора слушала и не отвечала. Потом очень спокойно сказала: «Я не могу жить там, где на лестнице пахнет индийской едой. Не могу жить с таким паласом, с таким полом под мрамор. И не хочу гулять с ребенком по этим улицам. Одна».
У нее заблестели глаза, но она не заплакала: «Я знаю, я избалованная девчонка. Мне очень жаль».
Несколько недель мы еще обсуждали возможность переезда, даже когда Нора оказалась прикованной к постели и в нашем доме вовсю хлопотала синьора А., деликатно устанавливая в комнатах и в нашей жизни свой порядок. «Кто знает, какой дрянью там питаются», – говорила она, когда я заводил речь о Цюрихе (в своих рассуждениях синьора А. часто отталкивалась от еды или заканчивала едой, еда была главным событием дня). Я не сомневаюсь, что они с Норой подробно обсудили переезд и отмели эту возможность, но меня они подводили к этой мысли со всей своей женской хитростью. Когда речь идет о нас, Нора часто так поступает, она сопротивляется решительно и одновременно мягко, навязывая свою волю шаг за шагом. Она обставила мою жизнь, которая до ее появления была простой и безыскусной, как обставляет чужие дома.
Обе они дождались того, что я внутренне соглашусь с их решением, даровав мне право объявить о нем официально. Однажды утром я написал по электронной почте письмо: несколько строк, в котором объяснял, что беременность жены протекает с осложнениями и я вынужден отказаться от стипендии. Моего научного руководителя подобная мягкотелость возмутила. «Научные открытия плохо сочетаются с удобной жизнью, а еще меньше – с неудобной женой», – заявил он. На самом деле он радовался моему отказу: было бы сложно быстро найти помощника, на которого он свалит всю работу, которую я выполнял (подготовить несколько десятков диаграмм Фейнмана, прочесть за него курс теории групп, начисто переписать его заметки, а еще числовые симуляции, которые я запускал вечером и проверял ночью… благодаря всему этому он большую часть времени плавал в интернете, лишь изредка подходя к доске у себя в кабинете, чтобы показать мне, как сама алгебра во всей своей беззастенчивой красе струится из-под мела в его руке).
Впрочем, тем вечером, спускаясь по лестнице нового крыла института, я тоже неожиданно почувствовал облегчение и даже ощутил себя героем, пожертвовавшим собственными амбициями ради спокойствия Норы. Перед коллегами-эмигрантами откроется путь к научной славе, их ждут светлые здания из стекла и металла, но им предстоит жить далеко не только отсюда, но и от всех родных мест. Они познакомятся с иностранками, женятся на них – «удобных женах», в основном северянках, с которыми они будут общаться на языке-посреднике, французском или английском, как дипломаты. А у меня? У меня была Нора, понимавшая тончайшие оттенки фраз, которые я произносил, и последствия тех, которые я предпочитал не произносить. Чего еще я мог желать? Рискнуть потерять это, пусть даже ради самой престижной стипендии? Все достижения физики от ее возникновения и до сегодняшнего дня – гелиоцентризм и закон всемирного тяготения, поразительно емкие уравнения Максвелла, постоянная Планка, частная и общая теория относительности и самые дальние пульсары – сделай я один все эти открытия, заслуженная слава не подарила бы мне такой жизненной полноты. Я понимал, что накал страсти не длится вечно (в отличие от вечной постоянной Планка – она-то точно не изменится), накопленный опыт личной жизни подсказывал, что стремительно развивающиеся отношения способны столь же стремительно обернуться своей полной противоположностью, однако, по крайней мере тем вечером, мне было за что держаться. Возвращаясь домой, я пошел не кратчайшим путем, а заглянул в наш ресторан и купил жареной рыбы и морепродуктов, которых хватило бы на семью из четырех человек. О Цюрихе мы больше не говорили.
Сейчас мы вернулись в исходную точку. Я опять принимаюсь рассуждать о европейских городах, которые способны примирить мои профессиональные интересы с ожиданиями Норы и в которых есть хотя бы начальная итальянская школа для Эмануэле. Дарем, Майнц, Уппсала, Фрайбург – ни один не удовлетворяет всем требованиям, я вычеркиваю все. Когда список исчерпывается, перехожу к следующему: выписываю имена коллег, которые станут моими соперниками в борьбе за следующий грант. Я просматриваю в интернете последние публикации каждого, индекс цитирования, ввожу данные в программу и подсчитываю их баллы, чтобы сравнить со своими. У меня есть веские основания (я на несколько баллов опережаю других, если мои оценки правильны и если не брать в расчёт факультетские интриги) надеяться, что и на этот раз все получится.
Даже если все так и случится, через несколько лет я опять столкнусь с неизвестностью, и так будет происходить снова и снова, пока мне вдруг не повезет (на шестом этаже физического ловко сложится цепочка событий и несколько человек, один за другим, сломают бедренную кость) или пока, что более вероятно, я не решусь отказаться от романтической мечты и не вернусь к реальной жизни. Можно найти работу в сфере финансов, софта, консалтинга: физики умеют оперировать большими массивами информации, отличаются гибкостью мышления, а главное – не ноют, по крайней мере, так считается.
На встрече с психотерапевтом я еще отчаяннее жалею себя, говорю, что силы мои иссякли или скоро совсем иссякнут. Психотерапевт характеризует мою депрессию как «философскую – в худшем случае» и советует, если совсем не удается уснуть, принимать обыкновенный Лексотан.
Итак, каждый из нас поглощен собой и совершенно не замечает остальных: Нора скоро рухнет под грузом растущих обязанностей, Эмануэле пытается подавить тоску, а я рисую себе картины собственных психических отклонений. Наша молодая семья сталкивается с новой угрозой: семья похожа на туманность, которая заражена эгоцентризмом и которая, того гляди, взорвется.
Всего этого достаточно, чтобы я забыл о кашле синьоры А., который тем временем настолько усилился, что она не смыкает глаз. Она тоже мучается от бессонницы, и не потому, что в ее комнате поселились призраки (ее призраки давно стали ей лучшими друзьями), а потому, что всякий раз, когда она ложится, ее начинает трясти, пока она снова не сядет и не отхлебнет воды или сладковатого сиропа.
Она даже перестала ходить в церковь, чтобы не мешать другим: она заметила, что люди смотрят на нее осуждающе, нетерпеливо пожимают плечами. В последний раз ей пришлось уйти прямо перед евхаристией, причем, пробираясь к краю скамьи, она наступила на ногу соседке. Кашель эхом отзывался под высокими сводами, которые усиливали его, и становился просто невыносимым.
Возвращаясь домой короткой дорогой, по тропинке среди берез, разгневанная синьора А. даже не подозревала, что совершает нечто кощунственное, ставя под сомнение ценность причастия, она спрашивала себя: вдруг вся эта история с причастием («история» – вспоминая ее, я сразу слышу это слово, она его очень любила: «Ну и история!», «Что за история здесь приключилась?», «Пора поставить точку в истории с носками» – для нее все было историей), так вот, по дороге домой тем утром, она подумала, а что, если особенная атмосфера, окружающая все, что связано с причастием, – просто мыльный пузырь, что все дело в песнопениях, в словах, которые шепчет священник, в том, как люди выстраиваются в очередь, сложив руки и опустив головы. С этой мысли начался медленный отход синьоры А. от ее веры, которая прежде не знала кризисов и которая теперь была ей нужна как никогда. Больше она не исповедовалась, даже перед самым концом. Полагаю, отныне и впредь она считала, что Господь должен просить у нее прощения.
Одно из немногих разногласий между нами как раз касалось религии. Одно время она втемяшила себе в голову, что нужно научить Эмануэле молитвам, невзирая на то, что думаем об этом мы с Норой. Не то чтобы мы были решительно против, но мы заключили брак в мэрии и вообще ни разу вместе не бывали в церкви, разве что на чужих церемониях или как туристы. Чтобы быть как все, я крестился в двенадцать лет, приняв одновременно первое причастие и пройдя конфирмацию, – так в магазине покупаешь «три по цене одного» (отец, отнюдь не одобрявший мой поступок, явился к священнику и, протянув ему напряженную руку, принялся что-то бормотать о Галилее, клятвенном отречении от веры и о костре, отчего священник побледнел). Внезапно проснувшаяся во мне религиозность столь же внезапно угасла.
Нора всегда относилась к вере прохладно: насколько я знаю, она не молится и все годы, что мы знакомы, носит на шее четки из черного дерева – не из-за их символического смысла, а потому что они ей идут. «А что в этом плохого?» – спросила она, когда я удивился ее легкомыслию.
Казалось, Эмануэле без слов понял наше двоякое отношение к религии. Иногда за столом он начинал читать молитвы синьоры А., с вызовом глядя на нас. Мы продолжали есть как ни в чем не бывало. Если он не прекращал, Нора спокойно, но твердо говорила ему, что сейчас неподходящее время для молитв, что лучше их прочитать, когда он ляжет в постель и останется один.
Не знаю, укоренился бы росток веры в нашем сыне, будь у синьоры А. больше времени. Может, для Эмануэле так было бы лучше: любая вера, осознанная или нет, сложная, простая или подходящая к случаю, все-таки лучше отсутствия веры. Порой мне кажется, что нам, воспитанным в царстве жесткой логики, в строгих границах науки, труднее, чем остальным: мы можем отчетливо видеть бесконечное распространение ошибок везде и повсюду, среди людей, событий и поколений, но видеть отнюдь не означает их исправлять. Может, синьора А. права, отчасти объясняя свое настроение Божьей волей и гороскопом, который читают по радио в семь утра. А может, права Нора, беспечно носящая четки на шее.
Через несколько месяцев католические настроения Эмануэле улетучились.
Я наблюдал за ним на похоронах синьоры А.: он не сумел прочесть даже «Отче наш», забывал слова, с трудом выхватывал обрывки фраз, внимательно прислушиваясь к окружающим. Пока что житие Иисуса остается для него одной из великого множества историй, которые ему рассказывали.
О том, что синьоре А. стало хуже, мы узнаем по телефону. Однажды вечером ей звонит Нора. За все эти годы Бабетта ни разу не набрала наш домашний номер, – подозреваю, что в ее квитанциях всегда стояла только плата за пользование телефонной линией и ни цента больше. Нора с трудом разбирает слова: из-за кашля синьора А. еле может говорить. Сначала она пошла к терапевту, он назначил ей ингаляции с кортизоном, от которых не было никакого толку. Так она впустую потратила целых две недели. Потом снова пошла к врачу: на этот раз ее срочно направили на консультацию к пульмонологу, а тот послал ее на рентген, после чего, взглянув на снимки, назначил компьютерную томографию с контрастным веществом.
– Томографию? – с тревогой переспрашивает Нора, привлекая тем самым мое внимание.
Да, томографию, но заключение еще не готово. Тем временем с рентгеном в руках она проделала обратный путь: от пульмонолога, который указал ей на уплотнение справа – «это может быть очаг воспаления, начало бронхопневмонии или кровоизлияние, пока что назовем это затемнением», – она вернулась к терапевту, единственному, кто умеет ясно все объяснить, – так случилось и на этот раз. Подойдя к окну, доктор долго разглядывал снимок. Потом отдал его синьоре А., потер ладонями глаза и произнес одно слово: «Удачи!»
Рассказав все, синьора А. начинает рыдать. И без томографии ей все понятно. Пока Нора с расширенными, блестящими от слез глазами рисует в воздухе пальцем «Р» – первую букву слова «рак», беззвучно произнося «а» и «к», а потом указывает пальцем на грудную клетку, синьора А., захлебываясь от кашля и от рыданий, судорожно рассказывает ей о прилетавшей к ней птице, той самой птице, которая в конце лета принесла печальную весть.
Трактирщица
Диагноз поставили быстро. Он не стал сюрпризом ни для синьоры А., ни для нас, но все равно мы ошеломлены. Среди всех видов рака рак легких чаще всего объясняют неправильным образом жизни и вредными привычками, в чем виноват сам пациент. Синьора А. за свою жизнь не выкурила ни одной сигареты, даже когда совсем юной помогала отцу в табачной лавке: если самые нетерпеливые посетители закуривали прямо в магазине, она распахивала заднюю дверь, чтобы выветрился дым; у ее родственников опухоли почти не случались (у двоюродной бабушки – опухоль горла, у двоюродного племянника – опухоль поджелудочной железы), в анамнезе самой синьоры А. имелись лишь артроз и обычные экзантемные заболевания. Она придерживалась здорового питания, по возможности ела овощи со своего огорода, дышала свежим воздухом и никогда и ни в чем не давала слабины. И тем не менее…
Я пересказываю знакомому врачу все, что сумел понять из результатов гистологии, которые синьора А. зачитывает мне, перевирая все термины (она будет перевирать их до самого конца, темный язык научных описаний кажется ей издевательством, хотя в последние месяцы у нее появится высокомерие человека, который покорил загадочную территорию внутренних болезней, будучи с ними близко знаком). Мне удается разобрать «карцинома», «не маленькие клетки» и «четвертая стадия» – моему приятелю этого достаточно, чтобы тяжело вздохнуть, а потом объявить: «Все случится быстро. Такие опухоли не оставляют много времени».
В вихре последовавших за этим телефонных звонков (теперь мы звоним ей каждый вечер – узнать, как дела) чаще всего звучит одна фраза: «Я не понимаю». Меня так и подмывает ответить ей, что здесь нечего понимать, надо принять все как есть, ее опухоль попадает в статистику, возможно, в самый хвостик нормального распределения и, тем не менее, это не что-то из ряда вон выходящее, но я оставляю свои трезвые рассуждения при себе, разве что позволяю себе поделиться ими с Норой, которая, как и синьора А., мучительно ищет ответ на вопрос «Почему?». Нора считает, что мой трезвый взгляд – не более, чем замаскированный цинизм, одно из качеств, которые сильнее всего ее раздражают во мне, следы подростковой жестокости, которые Норе пока что не удается искоренить. Больше мы об этом не говорим.
Тем не менее, вероятное объяснение, которого все искали, не заставляет себя долго ждать: оно является в облике газетной вырезки, которую соседка синьоры А., Джульетта, острее всех отреагировавшая на известие о болезни, приносит ей однажды в прозрачной папке. Не вполне заслуживающие доверия научные исследования обнаружили аномально высокий процент опухолевых заболеваний в долине Сузы. Возможные причины: телефонный ретранслятор в Кьянокко (жители долины давно говорят о том, что он вреден), а также стоящие на Роне атомные электростанции.
– Возможно, – говорю я по телефону, – да, вполне возможно, – и в то же время я невольно отмечаю, что синьора А. в зависимости от обстоятельств воспринимает слова «аномалия» и «атомная электростанция» как нечто пугающее или успокаивающее. Спорить с ней не стоит. Ретранслятор и заграничные электростанции: если ей от этого легче, пусть так и будет, возложим вину на них. Проще злиться на обогащенный французами уран и на электромагнитное излучение, чем на столь же невидимую глазу судьбу, на ничто, на безжалостный божий бич.
Вскоре времени на раздумья о причинах случившегося не остается. Синьоре А. приходится мириться с кучей неудобств, которые напоминают ей о годах, когда нужно было возить Ренато на диализ, только на этот раз яркий свет ламп падает на ее тело, и заботиться о нем приходится ей самой. Перед первой химиотерапией – онколог запланировал три цикла, с перерывом в двадцать дней, нехотя признав невозможность операции, – так вот, перед первой химией синьора А. решает завести парик. Она не знает, когда волосы начнут сыпаться на пол прядка за прядкой, и хочет заранее подготовиться. По иронии судьбы волосы – единственное, чем она по-настоящему дорожит: она прихрамывает, уже лет двадцать не позволяет себе новых нарядов (всякий раз, даря ей на какой-нибудь праздник кардиган, мы не промахиваемся с подарком), вообще не покупает косметики, носит те же украшения, что и при муже, но тщательно заботится о своей шевелюре. Иногда Нора, желая ее побаловать, водит ее к своему парикмахеру. Нора не раз подчеркивала, что такая седина, как у синьоры А., встречается очень редко – белые как мел волосы с серебряными нитями. «Вот бы у меня были такие в старости!» – вздыхает она, а я подозреваю, что за этой надеждой скрывается куда более глубокое желание сохранить связь с синьорой А.
– Сначала я их подстригу, – объявляет синьора А. по телефону, – коротко, как в молодости. Надо привыкнуть к лысине.
Нора принимает эти слова за то, чем они являются, – за каприз.
– Не говори глупостей! Тебе и так хорошо.
Синьора А. втайне надеется, что, если подстричь волосы, корни у них станут крепче и они не выпадут. Ее голова набита предрассудками и поверьями, что меня, в зависимости от ситуации, всегда забавляло или выводило из себя. Она не знает, какой разрушительной силой обладает яд, который введут ей в тело, с какой силой этот яд станет уничтожать всякую форму жизни и сломит всякое сопротивление, не различая хорошее и плохое, как ураган. Норе все-таки удается ее разубедить. Теперь Нора пускается на поиски лучшего магазина, где можно купить парик. Связывается с клиенткой, которой она обставила квартиру в Лигурии и которая год назад пожертвовала обеими грудями из-за злокачественной кисты, – Нора говорит о ней с особым восхищением, словно этот опыт позволил ее знакомой подняться на более высокую ступень сознания. Знакомая отправляет нас в магазин в центре и, судя по тому, что я узнал, предварительно туда позвонив, не промахивается: взявшая трубку девушка куда меньше, чем я, стесняется говорить о париках для больных раком женщин, вообще не стесняется, словно ей ежеминутно звонят по этому поводу.
Синьора А. приезжает к нам, на кухне я измеряю ей окружность головы сантиметром, который прежде брала в руки только она и который хранится в коробке со швейными принадлежностями. Потом я ее фотографирую спереди, сзади и в профиль. Парик навсегда сохранит эту прическу, волосы, которые никогда не вырастут, всегда будут выглядеть так.
Я сам везу ее на примерку – ощущение странное, будто сопровождаю ее к гинекологу. Синьора А. светится, рак можно победить, ей приятно, что часть дня я посвящаю ей одной, что кто-то не поленился сесть за руль ее автомобиля, а сейчас угощает кофе. Уже давным-давно никто не проводил с ней столько времени.
В магазине нас усаживают в коридоре, откуда видно все, что происходит в остальных помещениях. Над нашими головами хрустальная люстра с подвесками, в люстру ввинчены энергосберегающие лампочки. Ощущение, будто попал то ли в знатный, то ли в полузаброшенный дом – скорее, все же в полузаброшенный. Синьора А., указывая на разные предметы мебели, называет их стиль: ампир, модерн, барокко… «Видишь, сколькому я могла бы научить своего сына?» – вздыхает она. Но сын у нее так и не появился.
Когда мы с Норой в первый раз поцеловались, на нас были парики: Норин парик высотой с локоть по форме напоминал ананас, мой – седой, с буклями. У обоих на лице – белый грим. В театральном кружке мы репетировали сцены из «Трактирщицы», но разыгрывать их перед зрителями не предполагалось. А сценические костюмы мы надевали ради торжественности и удовольствия.
Каждый вечер студенты и аспиранты физического факультета, и я среди них, выходили из сурового здания на виа Джурия и рассеивались по городу в поисках мест, где девушки не одевались убийственно строго, как у нас, но и не считали, что за внешностью можно вообще не следить. Мы посещали курсы фотографии и восточных языков, школы кулинарии и танго, ходили на аэробику, просачивались на кинофорумы, где было полно старшекурсниц-филологинь, притворялись, будто верим в духовную силу лайя-йоги, – лишь бы добиться секса. После нескольких попыток я оказался в театральном кружке, хотя не питал к театру ни малейшего интереса. На первом занятии Нора, которая занималась в кружке больше года, научила меня дыхательным упражнениям. Будущая жена с силой ткнула меня рукой в живот, из-за чего я, не успев представиться, невольно издал смешной звук.
После занятия поздним вечером мы прогуливались по набережной, туда и обратно, всякий раз возвращаясь к остановке автобуса, которому предстояло нас разлучить и который мы всякий раз пропускали. Нора почти все время говорила о своих родителях – они разошлись и находились в состоянии войны. Мысль о родителях терзала ее, как может терзать в двадцать пять лет, когда мы внезапно понимаем, что нам ничуть не хочется походить на них, но у нас вряд ли получится.
Тем вечером, когда мы были в париках, я рассмешил ее, пародируя русского стажера Алексея, с которым я работал в одной комнате на первом этаже. Чтобы сэкономить на аренде, он уже больше месяца жил на своем рабочем месте. Алексей завел электроплитку, на которой разогревал омерзительное содержимое всевозможных консервных банок, а ночью, тайком от охраны, сдвигал письменные столы и укладывался на них в спальном мешке. До моего прихода, если слышал будильник, все убирал. Нора поцеловала меня без всякого предупреждения. Мы были в париках, и я копировал ломаный английский своего русского товарища, так что в некотором смысле это были мы и не мы, хотя, наверное, так бывает всегда, когда целуешь в губы кого-то в первый раз.
Я рассказываю все это синьоре А. главным образом, чтобы скрасить ожидание, но – то ли она была в курсе, то ли ей это неинтересно – как только появляется девушка с деревянной подставкой в форме головы, на которую надеты ее новые волосы, синьора А. мгновенно вскакивает.
Искусственные волосы по цвету и укладке точь-в-точь, как у нее, но я готов поклясться, что на ощупь они другие. Синьора А. встает перед зеркалом и позволяет девушке торжественно надеть ей парик, как корону. Она быстро рассматривает свое отражение, поворачивается то в одну, то в другую сторону и просит у девушки зеркальце – взглянуть, как смотрятся волосы сзади.
– Пожалуй, мне так даже больше нравится, – говорит она, а я не понимаю, подбадривает ли она себя или на самом деле так думает. С синтетическими волосами она не похожа на себя прежнюю, она – другая и в то же время та же.
Нам объясняют, как ухаживать за париком: его можно причесывать, мыть деликатным шампунем, но не часто – этого не требуется, волосы парика не пачкаются, как наши (вежливая девушка использует слово «наши» вместо «настоящие»).
– А теперь вы можете выбрать ночной чепец, мы его дарим, есть разные цвета. «Зеленая мята» – вам нравится? А вам как? Под цвет ваших глаз. Погодите! Погодите, я помогу снять.
Синьора А. придерживает парик обеими руками.
– Нет! Я в нем останусь! Если можно. Чтобы привыкнуть.
Девушка невольно глядит на нее с грустью и досадой.
– Да, конечно можно! Теперь он ваш.
Из магазина мы выходим под ручку. Синьора А. гордо шагает в парике.
– Давайте не скажем Норе, посмотрим, заметит ли она, – предлагает синьора А.
Я отвечаю, что согласен, что она здорово придумала – устроить проверку, а тем временем пишу жене СМС: объясняю, что Бабетта придет в парике и что Нора должна сделать вид, будто ничего не заметила.
В спешке мы забыли деревянную подставку. Я заезжаю за ней несколько дней спустя, один. Говорю той же продавщице:
– Простите, но синьора потеряла голову. – Девушка даже не улыбается, словно я весьма плоско пошутил.
Я оставляю манекен в машине, на пассажирском сиденье, чтобы отдать его синьоре А. при следующей встрече. Иногда я с ним разговариваю. Однажды я подвожу домой молодого коллегу. Садясь в машину, он с удивлением берет в руки деревянную голову. «На что она тебе?» – спрашивает он. Потом, не дав мне ничего объяснить, понарошку целует отсутствующие губы.
Комната реликвий
Синьора А. не облысеет ни после первой, ни после второй химии. Зато, что значительно хуже, ее постоянно тошнит. Она расставила тазики в трех стратегических точках (у дивана, под кроватью, в ванной) и, как ни в чем не бывало, рассказывает, что регулярно ими пользуется. Она никогда не стеснялась говорить о теле, человек она прямой, из тех, как сказала бы она сама, кто выкладывает все как есть. Но ее раздражает, что все вокруг спрашивают ее о здоровье. О раке знают только Джульетта и еще две подруги – вроде не сплетницы, но синьора А. понимает, что всем нравится судачить о болезнях, в прошлом и она готова была часами обсуждать чужое здоровье. Ну да ладно. Менее чем за месяц она похудела на шесть килограммов и заметно осунулась, ничего удивительного в том, что все интересуются ее самочувствием. Чтобы избежать неприятных разговоров, она старается как можно реже выходить из дому, а продукты покупает на рынке в Альмезе, в нескольких километрах от дома: все равно она проезжает Альмезе по дороге из больницы.
Врачи запретили ей сырые овощи, консервы с оливковым маслом и колбасы – все, в чем могут скрываться бактерии, представляющие угрозу для ее ослабленной лекарствами иммунной системы, нечто вроде диеты для беременной, на которой ей никогда не доводилось сидеть при более счастливых обстоятельствах. И как беременная женщина в редкие часы, не занятые лечением и его неприятными последствиями, она все чаще мечтает о тех или иных блюдах, о том, как с иронией говорит она сама, «на что ее тянет».
Однажды она садится в машину и проезжает много километров только потому, что ей вспомнился хлеб, который выпекают в дровяной печи в Джавено. Никогда в жизни ничего подобного она себе не позволяла, и все ради примерного поведения, из уважения… к чему? Прежде ей не раз хотелось этого хлеба, но она не решалась за ним поехать: разве стоит долго петлять по дороге из-за какого-то каприза. Теперь она цепляется за свои желания, будит их, потому что каждое из них означает всплеск жизненной силы, отвлекающей ее хотя бы на считанные минуты от невыносимой мысли о болезни.
Из ее холодильника сперва исчезает пармезан, потом сыр как таковой, красное и белое мясо. Мясо – объясняет мне она – никак не связано с рвотой, просто она почти не чувствует его запах и вкус, а жевать кусок мяса, не чувствуя его вкуса, – все равно, что держать во рту что-то мертвое и все время помнить о том, что оно мертвое: в результате ты просто не можешь его проглотить.
– Вчера мне захотелось горошка и яиц. Я их приготовила и с удовольствием съела. А потом резко кашлянула, и меня вырвало. Ну все, горошек и яйца остались в прошлом.
Синьора А., не отказывавшаяся от самых смелых традиционных блюд, от запеченных лягушачьих лапок, вареных улиток, голубей и требухи, мозгов и жаренных в масле потрохов, больше не может съесть самое обыкновенное блюдо – яйца с горошком.
– А вода, ты представляешь? Меня от нее тоже мутит. – С декабря в течение отпущенного ей последнего года жизни она будет пить только газированные напитки – кока-колу, фанту и кинотто, а питаться в основном сладостями, как избалованная и непослушная девчонка.
Я решаю ее навестить. Зная об абсурдной диете, я покупаю печенье «Поцелуи дамы» (убедившись, что оно имеет успех, я всякий раз буду являться к ней с этим печеньем, до самого конца, до последнего раза, когда она даже его не станет есть). Одним прекрасным солнечным воскресеньем мы едем к ней с Эмануэле, который, чтобы сделать приятное своей покинувшей пост няне, нарисовал яркий, почти кислотный рисунок, на котором крылатые нимфы с розовыми, сиреневыми и синими волосами плывут по небу, полному чудовищ.
– Это кто? – спрашиваю я.
– Нежные феи.
– А это?
– Покемоны.
– А-а.
Жаль, что потом он решает упаковать рисунок: мнет его и облепляет скотчем. Синьоре А. он вручает ком жеваной и липкой бумаги. Она в растерянности откладывает его в сторону. У нее больше нет времени разбираться в не вполне ясных творческих порывах Эмануэле, теперь ей надо заботиться о собственном теле, помнить, какие принять лекарства, думать не столько об их пользе, сколько о побочных эффектах. Я не сомневаюсь, что, как только мы уйдем, рисунок окажется в мусорном ведре.
Эмануэле этого не понять, не понять эгоцентризм, на который обрекает ее болезнь, ему кажется, что синьора А. всегда будет той, что заботилась о нем, о нем и ни о ком другом, той, что вслед за ним карабкалась по крутым тропинкам его фантазии и баловала его, как принца. Заметив ее равнодушие, он начинает нервничать и дерзить, а я понимаю это по тому, как меняется его голос – он всегда так делает, когда хочет привлечь к себе внимание. Но у синьоры А. нет ни сил, ни желания понять, что с ним происходит. Я оказываюсь между двух огней, где смешались обманутые ожидания и досада: с одной стороны – больная пожилая женщина, с другой – ученик начальной школы, оба хотят, чтобы все внимание было приковано к ним, потому что боятся, что иначе они и вовсе исчезнут.
Я отправляю Эмануэле поиграть во дворе, хотя на улице холодно. Он протестует, но в конце концов уступает. С порога он бросает на меня испепеляющий взгляд.
В квартире синьоры А. есть комната, в которой многие годы отключено отопление, – эта комната, не похожая ни на гостиную, ни на кабинет, напоминала, скорее, реликварий. Если я заходил туда зимой, когда температура в комнате была как минимум градусов на десять ниже, чем в других помещениях, мне казалось, будто я спускаюсь в катакомбы. На окнах были витражи с изображенными в профиль женскими лицами (имени художника я не помню, но синьора А. всегда отзывалась о нем с большим почтением), поэтому проникающий в комнату свет был тусклым, как в надгробной часовне. Все в этой комнате рассказывало о Ренато.
В стене была ниша с полками, на каждой выставлена отдельная коллекция. Смешение эпох и стилей свидетельствовало о том, что собирал коллекцию человек крайне непоследовательный или напрочь лишенный предрассудков: десяток статуй доколумбовой эпохи, несколько причудливых пресс-папье, каких я больше нигде не видел, довольно безвкусная скульптура из цветной керамики и разномастная серебряная и латунная посуда. В центре комнаты, на низеньком столике-витрине, на зеленом сукне были разложены на одинаковом расстоянии друг от друга десятка два карманных часов, причем стрелки у всех указывали на полдень. Пестрая коллекция выдавала мечту Ренато превратиться из старьевщика в знатока искусства – всю жизнь он стремился ее осуществить, но добиться полного воплощения не сумел. Синьора А. это понимала, а может, не понимала – трудно сказать, но она ни за что на свете не признала бы, будто у ее мужа отсутствовал безупречный вкус. Среди всех занятий, которые ей довелось перепробовать, помощь мужу в торговле антиквариатом была самым неожиданным и волнующим, – вспоминая об этом, она и сейчас испытывала гордость.
Главные ценности – около полусотни полотен разного размера с подписями авторов – прятались за лакированной ширмой, расписанной в восточном стиле. Я точно помню, что среди них были работы Алиджи Сассу и Романо Гадзерры, по крайней мере, пара работ школы Феличе Казорати, несколько футуристов, хотя и не самых известных. Синьора А. рассказывала мне и о картине маслом Джузеппе Миньеко «Молодожены», которую Ренато так и не продал, несмотря на настойчивые просьбы одного врача – тот всякий раз предлагал бо́льшую сумму; эта картина, – говорила она, – напоминала их с Ренато, а еще нас с Норой.
Честно говоря, я не видел ни одной картины. Синьора А. показывала их лишь в бумажных упаковках, совершенно одинаковых; но когда я как-то раз осмелился заглянуть под бумагу, она решительно шагнула ко мне. И больше я не пытался.
– Что ты собираешься со всем этим делать? – спросил я, широко раскинув руки, словно хотел обнять целиком всю комнату, когда мы с Эмануэле приехали навестить синьору А. Вопрос бестактный, – возможно, не стоило заводить этот разговор, но я считал своим долгом ее предупредить: сокровище – то, что она многие годы хранила в не вызывающей подозрений квартире не вызывающего подозрений обычного дома, может погибнуть. Кто бы ни поселился в квартире после нее, он не проявит должного почтения к ее сокровищу, по крайней мере, точно не оправдает ее ожиданий, – ведь что может сравниться с религиозным поклонением, которое она пронесла через всю жизнь? У синьоры А. еще остается драгоценная возможность распорядиться коллекцией, решить судьбу каждого экспоната.
– Им и здесь неплохо, – отвечает она.
Мой вопрос на мгновение отдаляет нас друг от друга, я чувствую это: синьора А. сразу же предлагает вернуться в гостиную.
– Я озябла, – жалуется она.
Я знаю, о чем она думает, и не могу сказать, что она не права. Хотя я и не движим корыстью, должен признаться, мне запомнилось одно полотно – обнаженная, чистящая персик; на мгновение представляю эту картину в нашей с Норой спальне, она облагородит стену, для которой мы никак не найдем подходящего украшения, что было бы для нас таким родным, чтобы висеть над нами и смотреть на нас каждую ночь, когда мы спим или не спим.
После того воскресенья я еще раз оказался в квартире синьоры А. К этому времени прошло четыре месяца как ее не стало. Она завещала нам часть гарнитура: стол и буфет двадцатых годов, оба кремового цвета, – нужно было забрать их до продажи квартиры. Два предмета мебели, единственный подарок Бабетты, – все, что у нас осталось от нее. Об Эмануэле она не подумала.
В Рубиане меня ждали обе кузины синьоры А. – Вирна и Марчела. В квартире стояли только стол и буфет, да еще была куча коробок со всяким скарбом: пароварка, два стеклянных графина, набор фужеров с золотым ободком.
– Это мы отдадим на благотворительность, – объяснила Вирна.
– Весьма благородно, – отозвался я без тени сарказма.
От светильников, коллекции часов и доколумбовых статуэток, картин и часов с маятником, которые стояли в гостиной, не осталось и следа. Пропали даже оконные витражи, и дневной свет, которому прежде воздвигали преграду, теперь с яростью лился в комнаты. Голая, вычищенная квартира, целая жизнь, отданная сохранению сокровища, – теперь эту жизнь спешно отсюда выселили. У синьоры А. было довольно времени, не один месяц, чтобы обеспечить своим реликвиям достойное, осмысленное будущее, а она ничего не сделала. После того, как ей поставили диагноз, она мучительно проживала свои дни, каждый день, чтобы отвоевать еще горстку столь же бесполезных дней. От всего, что она бережно хранила всю жизнь, ничего не осталось, все ее предметы оказались рассеяны по разным местам, к которым они не имели ни малейшего отношения и в которых ничто не говорило об их происхождении, – всякая безделушка утратила заложенный в ней дух воспоминаний, превратилась в вещь, которая могла бы принести выгоду.
Бедная, неразумная синьора А.! Ты поддалась на обман, смерть подшутила над тобой, а до смерти – болезнь. Где картины, которые ты прятала за ширмой? Долгие годы ты не решалась на них взглянуть – не дай бог, запылятся. Ширма тоже исчезла, небось валяется на каком-нибудь сыром складе, завернутая в целлофан и водруженная на грузовой поддон. Нужно всегда думать о будущем, синьора А., всегда! Ты часто хвасталась своей мудростью, хвасталась тем, что тебя всему научил жизненный опыт, но, к сожалению, опыт тебя подвел. Нужно было все хорошо продумать: твоя практичность не спасла ни тебя саму, ни твое имущество. Смерть не избавляет нас даже от простой оплошности, не извиняет самый невинный проступок.
Стол мы поставили на кухне. Эмануэле узнал его, обошел вокруг, не дотрагиваясь, словно спрашивал, по какому пространственно-временному туннелю стол переместился к нам из дома синьоры А., то есть из прошлого. В первый вечер было странно ужинать, сидя за этим столом, мы не привыкли к холоду мраморной столешницы, к ее гладкой поверхности, которой касались наши руки. Светлый мрамор отражал искусственный свет, внезапно вся комната словно наполнилась сиянием.
– Нужно ввинтить лампочку послабее, – сказал я.
– Точно, – рассеянно ответила Нора. Потом прибавила: – Тебе не кажется, что она сидит с нами за столом?
Буфет не помещался: он был слишком длинным и слишком громоздким для кухни нашей городской квартиры. Мы решили перетащить его в подвал, пока не придумаем ему нового применения, хотя надежды на это было мало. Однажды утром, когда я спустился вниз, чтобы протереть буфет и нанести средство от древесных жучков, я увидел, что по углам у него лежит тонкий слой пыли. Распахнув верхние створки, я обнаружил, что внутри буфет обклеен газетными вырезками, и на каждой ручкой подписана дата: 1975 или 1976 год. Ренато был еще жив, но тяжело болел. Насколько мне известно, синьора А. получила буфет от тетки Ренато, вероятно, на свадьбу.
Я пробежал глазами названия статей, пытаясь понять, по какому принципу их отбирали:
Подлый заговор, арестован офицер полиции.
Засуху в Китае вызвали Пентагон и ЦРУ?
Корпорация ITT признала, что финансировала свержение Альенде[2].
Муниципальное жилье будут отапливать энергией солнца.
Миллиардная зарплата президента косметической фирмы.
Сан-Джорджо: вонь от свалки.
Ей 50, а ему 67: «Любовь с первого взгляда».
Казалось бы, статьи – их было десятка четыре – ничего не объединяло. Единственное, что было очевидно: отбирала их не синьора А. (сомневаюсь, что она ясно представляла себе, где находится Куба, и что Пентагон ассоциировался у нее с чем-то иным, кроме геометрической фигуры, имеющей пять сторон). И все же, переводя взгляд с одной створки буфета на другую, со статьи на статью, я заметил, что их можно отнести к определенным категориям, к узкому кругу тем. Я пересчитал статьи, разделив по темам. Поразительно, но в итоге первое место заняли вырезки, в которых говорилось про ЦРУ, ФБР, про сложные отношения между США и Фиделем Кастро. Синьора А. никогда не упоминала, даже во время наших последних разговоров, о том, что Ренато интересовали политические интриги. Зато створки буфета рисовали мне человека, одержимого заговорами: приклеивая рядом эти вырезки, он, возможно, пытался выстроить с их помощью общую картину и разоблачить обман – сети, которые расставило ему общество. А может, за этим стояло нечто большее, может, Ренато сотрудничал с секретными службами (синьора А. всегда описывала его как человека непредсказуемого, прожившего одновременно несколько жизней и оттого особенно интересного), но вряд ли сотрудник разведки станет наклеивать статьи про ЦРУ в кухонном буфете.
В обведенном фломастером прямоугольнике приводился список десяти крупнейших фирм мира – по данным на 1973 год. «Крайслер» занимал пятое место. Знай Ренато, что случится потом, когда «Крайслер» практически уничтожат и теперь им командует его, Ренато, соотечественник, он бы решил, что Земля стала вращаться вокруг своей оси в обратную сторону.
Если бы однажды нашу с Норой мебель выставили на аукцион, если бы ее обнаружили под пеплом после извержения вулкана, на ней не осталось бы или почти не осталось наших следов – разве что каракули Эмануэле, напоминающие наскальную живопись того времени, когда он, вооружившись фломастерами, пытался разрисовать весь дом. Археологи будущего не нашли бы ни одной фотографии: все наши немногочисленные фотографии хранятся на жестком диске компьютера, но, когда его обнаружат, он задолго до этого выйдет из строя. У нас с Норой странная тяга к иконоборчеству: мы ничего не храним, не пишем друг другу письма или записки (разве что списки того, что купить в супермаркете), в путешествиях мы не покупаем сувениры – по большей части безвкусные и одинаковые во всех странах света, а с тех пор, как у нас в квартире побывали воры, мы не храним золото и украшения – у нас их просто нет. Прожитое нами время мы доверяем крепкой памяти – нашей собственной и кремниевой памяти материнской платы. Нет, мы с Норой тоже не думаем о будущем. У нас даже нет свадебного альбома, ты представляешь? А ведь однажды, когда день свадьбы останется в далеком прошлом, нам наверняка захочется пережить его снова, хотя бы с помощью фотографий.
Археологи, которые придут и откопают наш дом из-под пепла, обнаружат лишь металлические детали твоей необыкновенной мебели и далеко не сразу восстановят ее облик, они найдут несколько полезных предметов, но не увидят никаких украшений, даже в комнате Эмануэле, в которой год от года все меньше игрушек и красок, потому что все, что ему дорого, теперь вмещается в схему портативной консоли. Остается лишь гадать, что́ может рассказать этим археологам о том, как в этих комнатах жила молодая пара, а потом семья, когда все вместе они были счастливы, по крайней мере, долгое время.
А если вдруг в результате длительного процесса окаменения сохранится какой-нибудь обрывок газеты из тех бумаг, которые мы складываем и от которых мы не успеем избавиться, то археологи, просмотрев названия статей, как я просмотрел названия вырезок в буфете синьоры А., наверняка решат, что мы жили в новое Средневековье, на очередном рубеже тысячелетий – в мрачное и скупое на обещания время. Хотя может быть иначе: может, наше время кажется тяжелым и неспокойным для нас, так же как для Ренато казалось тяжелым и неспокойным его время: мы все легко поддаемся внушению, всякая эпоха содержит в себе пугающее обещание катастрофы.
Бейрут
Без нее мне не хочется праздновать, – признается Нора накануне первого Рождества, когда Бабетты не будет рядом. То ли синьора А. решила провести сочельник с кузинами (она всегда описывала их как женщин завистливых и коварных и, несмотря на одиночество, не подпускала близко, но рак ослабил и ее семейный иммунитет, который она укрепляла полвека), то ли не ожидала, что мы и на этот раз ее пригласим. Возможно, она рассудила так: я больше у них не работаю, с какой стати они меня позовут? Когда я позвонил и сказал, что мы, как всегда, ее ждем, она как будто растерялась, почти рассердилась:
– Господи, да я вовсе не собираюсь садиться за стол! Смотреть на всю эту еду. Теперь я вам не компания.
Я предложил ей заехать к нам до или после ужина, на голодный желудок или сытой, – мы все равно будем рады.
– Забудьте обо мне, – поставила она точку, – празднуйте себе спокойно.
Вот только мы с Норой отнюдь не спокойны. Без синьоры А. список гостей, которых мы собираемся пригласить на ужин в сочельник, выглядит пугающе, как никогда: мы трое, мама Норы, ее второй муж Антонио (страстный любитель порассуждать об экономическом кризисе и задиристый блогер, несмотря на неподобающий для блогера возраст), а также его дочь Марилена, с которой Нора никогда не находила общего языка – возможно, из-за десятилетней разницы в возрасте, а, может, как ехидно утверждает Нора, любить новых детей твоих родителей – значит идти против природы, привязываться к кому-то по команде. Всякий раз с приближением Рождества развод Нориных родителей повисает в небе грозовой тучей, а накопившийся в воздухе электрический заряд проникает в Нору, и она то и дело бьет током в десять тысяч вольт всякого, кто попадется – Эмануэле, а чаще – меня. Никого не обидеть – родственников с моей стороны, ее старых и новоприобретенных родственников – и, одновременно, предотвратить нежелательные встречи – игра, которой мы так и не овладели.
По крайней мере, с синьорой А. у нас всегда было за что зацепиться. Когда оказывалось, что за столом не находилось общих тем для беседы и не было ни малейшего желания их искать, все сосредотачивались на приготовленном ею угощении. Мы расхваливали его по очереди, гадали, что́ она приготовит в следующем году, – так мы с трудом дотягивали до полуночи. Синьора А. становилась центром Рождества, рождественским козлом отпущения, но ей все равно было приятно. В такие вечера она более чем когда-либо казалась членом семьи, хотя ей никак не сиделось на своем месте: не договорив фразу до конца, она убегала из гостиной в кухню, заранее принималась мыть посуду, каждые пять минут переодевалась: из прислуги в гостя, а потом – опять в прислугу. Если подумать, наверняка праздники ее выматывали. Когда наступало время десерта, я брал бразды правления в свои руки и заставлял ее сидеть, приклеившись к стулу, я так и говорил: «А сейчас приклей свою попу к стулу!» Ей нравилось, когда я так с ней разговаривал. Она складывала руки на коленях и наслаждалась завершением вечера.
Подарки она никому не дарила, зато ее всегда ждали подарки – от нас и от Нориной мамы. Норина мама дарила какую-то ерунду, подозреваю, в большинстве случаев просто передаривала ненужное. Их отношения с синьорой А. никогда не были безоблачными. Но, честно говоря, Нора нередко бывает бестактной и не скрывает, что из них двоих решительно предпочитает Бабетту.
Во время рождественского ужина всегда наступал момент, когда мы безжалостно устраивали соревнование – сравнивали жаркое, приготовленное тещей, и жаркое Бабетты. В центре стола водружали мясо прямо в формах для запекания. Дуэлянтки обменивались долгими взглядами, как героини так называемых «женских» вестернов. Мы все, уже порядком отяжелевшие, послушно съедали по кусочку от каждого жаркого, а потом принимались расхваливать угощение с еще большим шумом и воодушевлением. Хотя мы и старались свести все к ничьей, синьора А. неизменно набирала больше очков.
– Давай возьмем и сбежим. Вот как мы поступим, – предлагает Нора, – мы пользуемся горящим предложением и покупаем билеты в Бейрут на двадцать четвертое декабря.
Когда Норина мама начинает возмущаться, мы объясняем, что оплатили билеты по выгодному тарифу, меньше обычного, намного меньше, – мы знаем, что подобные доводы, как правило, заставляют ее замолчать (после истории с разводом деньги оказались на вершине ее пирамиды ценностей). Эмануэле мы обещаем, что он все равно получит свои подарки и даже получит их раньше – вроде бы это его успокаивает.
Интересно наблюдать, как рождается семейная традиция: и опухоль синьоры А., и то, что она покинула нас до срока, вынуждают нас с Норой заключить тайное соглашение. С этого года мы никогда и ни при каких обстоятельствах не станем праздновать Рождество ни с ее, ни с моими родителями. Начиная с декабря, мы всегда будем откладывать нужную сумму, чтобы в следующем декабре уехать куда-нибудь далеко, прочь от семейных неурядиц и традиций, в ценности которых мы теперь сомневаемся.
В самолете я читаю книгу Сиддхарты Мукерджи «Царь всех болезней. Биография рака». Мукерджи, индийско-американский врач и писатель, на протяжении многих лет исследовавший зыбкую пограничную область между гематологией и онкологией, выпустил труд по истории рака – нечто вроде романа в семьсот страниц, содержащих массу отсылок к научным и историческим фактам, – и сразу получил Пулитцеровскую премию. За каждым абзацем мне видится синьора А., и всякий раз надежда на ее выздоровление становится легче на миллиграмм. Мукерджи описывает настоящую войну, в которой удалось достичь некоторых успехов – о них много говорят, но выиграть ее пока не получается.
Я задерживаюсь на аналогии, которую Гален проводил между раком и меланхолией – и то, и другое вызвано избытком черной желчи. Читая, я словно чувствую липкую жидкость, будто поток дегтя разливается по моей лимфатической системе и закупоривает ее. Дорогая синьора А., если верить древним медикам, нас с вами связывают не только родственные чувства, – мы с вами одинакового цвета, мы – рыцари черного.
Мне хочется немедленно позвонить психотерапевту, чтобы поставить преграду быстро охватывающей меня тоске, но из самолета не позвонишь (а если воспользоваться установленным здесь платным телефоном? Он правда работает? Ладно, все равно в канун Рождества психотерапевт не ответит…), поэтому я прошу у стюардессы еще одну бутылочку французского вина. Заставив меня ждать, она с презрительным видом приносит. Наверное, она мусульманка или ей противно смотреть, как в самолете отец сидит рядом с сыном и напивается.
Скорее всего, стюардессе не известно о черной желчи, как почти ничего не известно о ней Норе, сладко спящей у меня на плече. Я гляжу на нее со смешанным чувством нежности и зависти. В ее теле, несмотря ни на что, течет светлая, прозрачная, обильная лимфа. Я твердо знаю, что ее жизненная сила неисчерпаема, что ничего, даже самая страшная беда, самое тяжелое горе не остановят ее. На самом деле, мы счастливы или несчастливы не из-за того, что с нами происходит, а от того, какая в нас течет жидкость: у Норы это расплавленное серебро, самый светлый из металлов, самый лучший проводник, металл, который безжалостнее других все отражает. Понимание Нориной силы меня утешает и одновременно рождает страх, что на самом деле я ей не нужен, что я – если вдуматься – прилип к ней как пиявка, высасывающая чужую кровь, как гигантский паразит.
Однажды вечером мы заговорили о синьоре А., о ее жизни, о том, что она постоянно от чего-нибудь отказывалась, неизменно приносила себя в жертву ради кого-то или чего-то. В свои лучшие годы, когда ее тело было наполнено силой, она прожила пять счастливых лет с мужем, пока у того не забарахлили почки. Пять лет, что оставили в ней заметный след, пять лет брака плюс год помолвки, за которые она изменилась, рассталась с тем, с чем пора было расстаться, и накопила достаточно воспоминаний, чтобы хватило сил смотреть, как угасал Ренато – день за днем, неумолимо, сотни и сотни диализов повлияли на его кровь, характер и любовь к ней. Пяти лет ей хватило, чтобы протянуть еще сорок.
– А ты бы так смог? – спросила меня однажды Нора. – Смог бы вынести такое? Смог бы остаться со мной до конца, если я заболею?
– Если я правильно помню, мы оба принесли клятву.
– А если я буду болеть долго, как Ренато? Ты проведешь со мной долгие годы, пожертвовав лучшим в своей жизни?
– Да.
Я знал, что не стоило адресовать ей тот же вопрос: люди с быстрой лимфой похожи на бурный поток, их не остановишь, но порой любящие заводят разговоры, которые уносят их куда-то за область видимого и затягивают в темный омут.
– А ты?
Нора правой рукой потянулась к вьющейся прядке волос за ухом – эту прядку видно, только когда она собирает волосы в хвост, мне нравится ее выпрямлять. Она принялась крутить волосы.
– Не знаю. Наверное, – ответила она, поколебавшись. До конца вечера мы избегали друг друга.
Я сижу в самолете, летящем в умеренные широты Ближнего Востока, за несколько часов до Рождества, вместе со спящей семьей, когда ничто за пределами самолета не представляет серьезной угрозы, и чувствую, что нахожусь в наивысшей точке нашей жизни, на ее ускользающей светлой вершине. Я гадаю, сколько это продлится, как насладиться этим сполна. Уж точно не одурманивая себя вином, которого мне, кстати, уже не хочется. И вообще, мы с Норой всегда так заняты, у нас куча дел, мы так устаем. Мы проживаем жизнь заранее, постоянно ожидаем чего-то, что избавит нас от сегодняшних забот, не принимая в расчет грядущие заботы. Если это наши лучшие годы, я не могу сказать, что доволен тем, как мы их проводим. Мне хочется разбудить Нору и сказать ей об этом, но я знаю, что она не воспримет мои разговоры всерьез, а, свернувшись калачиком, повернется в кресле, прижмется головой к темному окошку иллюминатора и будет дальше дремать.
Таблица умножения
Некоторые из газетных вырезок, которыми обклеен буфет синьоры А., меня особенно заинтересовали: американец Терри Фейл умер через тридцать лет после того, как получил дозу радиации в Нагасаки, куда он прибыл сразу после взрыва бомбы; в Великобритании в шестидесятые годы из-за болезней легких и сердечно-сосудистой системы умирало по пятьдесят тысяч человек в год, в статье сообщалось, что их смерть может быть связана с потреблением никотина; в нашей стране свыше пяти лет продавали опасное для здоровья лекарство. Ионизирующее излучение, карцинома легкого, лекарства: тень смерти, которая к тому времени уже частично затмила горизонт Ренато, словно двигалась к синьоре А., и Ренато об этом знал. Пока я глядел на аккуратно сохраненные вырезки, у меня закралось подозрение, будто он предчувствовал смерть жены и боялся этого сильнее собственной смерти, а в этих на первый взгляд не связанных между собой заметках он искал смысл, возможное лечение, путь к спасению жены.
И вот теперь, тридцать лет спустя, синьора А. подставляет левую руку, чтобы ей воткнули иглу, через которую потечет жидкость с высокой концентрацией неустойчивых изотопов фтора. У нее всегда были тонкие и хрупкие кровеносные сосуды, из-за чего анализы крови и инъекции превращались в пытку, но сегодня она полна оптимизма и не обращает внимания на неловкие манипуляции медсестры. Размышляя о том, как она себя чувствует последние две недели, она замечает, что вновь полна сил и энергии, ее кожа опять стала гладкой, появился слабый аппетит, благодаря чему она быстро набрала два килограмма, – синьора А. не может не прийти к выводу, что она вылечилась или, по крайней мере, быстро идет на поправку. Позитронно-эмиссионная томография это обязательно подтвердит. Ей не приходит в голову, что улучшение связано с лошадиными дозами кортизона – она принимает его уже несколько месяцев, сомнения не закрадываются, даже когда по окончании обследования она ловит растерянный взгляд лаборанта: сидя в защищенном свинцовыми стенами отсеке, он наблюдает, как на мониторе появилась полупрозрачная фигура – призрак женщины, у которой, кроме легкого, засветились и другие части тела: позвонок L1, подвздошная кишка и шейка правого бедра. Из раковых клеток выделяются позитроны, аннигиляция которых с отрицательно заряженными братьями-близнецами сопровождается излучением света, – безусловное свидетельство того, что рак распространяется по крови и постепенно подчиняет себе весь организм. Но синьора А. об этом еще не знает и продолжает испытывать облегчение, что объясняет не только улучшением физического состояния, а еще одной причиной, о которой ей неловко вспоминать. Неделю назад умер художник – спокойно, во сне. Накануне вечером он вкусно поел, выпил вина, а утром не проснулся. Кроме того, что список людей из ее прошлого стал короче, это означало, что райская птица прилетала не к ней: они оба ошиблись. Это добрая весть, не стоит делать вид, что это не так, а художнику в любом случае не на что жаловаться:
– Для карлика он и так прожил долго, – заключает синьора А., – жил в свое удовольствие, окруженный славой и женщинами. В удовольствие, а как же еще!
Полагаю, что в дни, когда синьора А. проходила ПЭТ и еще не знала о трагическом результате обследования, Нора разделяла ее необоснованный оптимизм и даже подпитывала его, хотя, когда я спросил ее об этом, она ответила отрицательно – мол, оптимизм совсем ни при чем и, в любом случае, об иглоукалывании заговорила не она, а ее мама.
– Иглоукалывание? Вы что, серьезно отвели ее на иглоукалывание? Это когда же?
– До того, как был получен результат ПЭТ.
– У нее был рак в продвинутой стадии, а вы… я просто поверить не могу.
Нора сделала свое запоздалое признание однажды вечером, когда к нам на ужин пришла пара довольно близких друзей (их дочка – почти ровесница Эмануэле, их и наш образ жизни очень похожи, да и живут они недалеко). Подобные признания мы делаем куда чаще, чем хотелось бы, в компании, словно нам нужны свидетели, сообщники, а может быть, мы просто трусливо используем присутствие посторонних, чтобы приглушить возможную реакцию другого человека.
Нора занимает оборону:
– Если, как ты считаешь, от иглоукалывания никакой пользы, тогда это вряд ли что-то меняет.
Придраться в ее рассуждениях не к чему, но мне все же кажется, что в них что-то не так, что оказаться в ловушке предрассудков, убедить себя в том, что существует простой выход из положения, – очередная злая шутка, которую опухоль сыграла с синьорой А. За шестнадцать месяцев мучений мы так и не поняли, что́ лучше: открыть ей глаза или, наоборот, подпитывать ложную надежду, хотя я лично склонялся к жестокой правде.
– А вы бы что предпочли? – поинтересовался я у наших гостей. – Я имею в виду подобный диагноз. Вам бы не хотелось, чтобы с вами, по крайней мере, не обращались как с идиотами?
Оба попытались уйти от ответа. Они почувствовали, что я принимаю эту историю куда ближе к сердцу, чем стараюсь показать, и наверняка рак у близкого человека казался им не вполне подходящей темой во время десерта.
– Для меня важнее всего ясность ума, – объяснял я, – мне важно сохранить ее до конца.
– Как грустно! – отозвалась Нора, давая понять, что я не только поставил наших друзей в неловкое положение, но и обидел ее.
– А что тут грустного?
Нора принялась быстро убирать со стола пустую посуду.
– Ничего. Тебе не понять.
Когда мы остались одни, я попытался развеселить ее и добиться прощения. Я напомнил, как много лет назад она настояла на том, чтобы мы показали Эмануэле педиатру-вегетарианцу.
– Ты помнишь? Он хотел, чтобы мы начали вводить прикорм, давая ему семена тмина и проса, как цыпленку. – А еще я напомнил, как она отправила меня к знаменитому в городе гипнотизеру, чтобы тот избавил меня от бессонницы (и гипнотизера, и педиатра посоветовала Норе ее мама). Гипнотизер так и не сумел ввести меня в состояние транса, наоборот, на протяжении всего сеанса я был бодр как никогда.
«Что вы видите?» – допрашивал меня докторский баритон.
«Ничего, мне очень жаль».
Я чувствовал, что он все сильнее нервничает, и сам я все сильнее нервничал: мне казалось, будто проявляю к нему непочтение. Пока я пытался расслабиться, у меня вдруг закружилась голова. Он сразу же ухватился за этот симптом, толкуя головокружение как последствие кохлеарного неврита.
«Могу поспорить: вы переболели свинкой».
«Точно. Но мне было пять лет».
«Ах, вот как. Вы тогда испугались?»
«Даже не знаю».
«Конечно, испугались! Вспомните беззащитного малыша, у которого впервые закружилась голова: он не понимает, что с ним происходит, и ему страшно, очень страшно. Вы его видите?»
«Нет…»
«Возьмите его на ручки».
«На ручки? Кого?»
«Малыша. Покачайте, погладьте. Убаюкайте себя маленького, шепните ему, чтобы он не боялся…»
«Раз, два, три!» – И он с довольным видом разбудил меня.
– То, что я всю жизнь принимал за серьезные травмы, могло быть последствием обыкновенной свинки, – объяснял я жене, которая наконец улыбнулась, – ты хоть понимаешь, что́ я открыл благодаря тебе и твоей маме, которая, могу поспорить, обладает даром прозрения? Ну-ка иди сюда, поближе, помоги мне убаюкать спрятанного во мне страдающего малыша!
Тем не менее, они и правда пошли на иглоукалывание: Нора, Норина мама и синьора А. вместе отправились к слепому доктору, который сначала помог моей теще бросить курить, потом помог ей перестать объедаться мороженым по ночам, избавил от болей в пояснице, от головных болей, которые после развода стали невыносимыми, от геморроя и от общей низкой самооценки.
– Как человек, лечащий иглоукалыванием, может быть слепым? – полюбопытствовал я однажды.
– Он ослеп из-за диабета. Иногда он забывает вытащить иголку, но под душем ты ее сразу чувствуешь.
По крайней мере, в тот раз синьора А. разделась перед тем, кто не мог констатировать ее угасание. Врач искал точки, чтобы вставить иголки, щупал кожу теплыми и нежными подушечками пальцев. Синьора А. дрожала (еще и от холода), он это заметил и на несколько секунд закрыл ей уши своими ладонями – дрожь мгновенно прекратилась. Сколько лет мужчины не прикасались к ней так нежно? Врачи защищали себя перчатками, почти всегда были молоды и неприступны, а иглоукалыватель с затуманенными глазами… у него были нежные руки и приятный голос – бархатный, вызывавший доверие.
Он объяснил ей, что завитки ушной раковины повторяют форму лежащего вниз головой плода – плода, который мечтает увидеть свет, и что, воздействуя на нервные центры этого маленького человечка, можно лечить все тело. Синьора А. внимательно слушала его и воображала малюсенькую опухоль у себя в ухе, как ее пронзает игла: в тот же миг, как по волшебству, опухоль в ее груди рассасывается.
«Это больно?» – спросила она.
«Ничуть. Иголки тонкие».
«Жаль».
Ей хотелось, чтобы поселившийся в ней зверь умер в мучениях, чтобы он хотя бы на мгновение почувствовал то, что чувствует она. Любопытно, что в это время у нее было двойственное отношение к раку: иногда она говорила о нем как о пораженной болезнью части себя, иногда – как о ком-то чужеродном, кто поселился в ее организме, кого надо схватить и вырвать с корнем.
«Теперь закройте глаза, – велел слепой доктор, – и подумайте о приятном».
О приятном. Впервые после долгого времени, лежа на очередной кушетке в кабинете очередного врача, замерев неподвижно, чтобы иглы, которые торчат из нее, как у дикобраза, не согнулись, не съехали и не воткнулись глубже, синьора А. вспомнила поздний октябрьский день, когда Ренато женился на ней, и клены с кроваво-красной листвой – казалось, склоны долины покрыты ранами. На ней было платье от портнихи – такое же, как у бельгийской королевы Паолы Руффо ди Калабриа, и, чтобы придать наряду оригинальность, она заказала у модистки с Виа XX Сеттембре венок из белых бутонов. Все до сих пор должно лежать в шкафу – и платье, и каркас венка, и приданое, которое она сразу же убрала и больше не доставала. Ее пронзает острая тоска при мысли о постельном белье и скатертях изумительной красоты, которые она, чтобы не испортить, ни разу не использовала.
А потом, непонятно по какой ассоциации (возможно оттого, что Эмануэле любил открывать дома все ящики и проверять, что в них лежит) мысли синьоры А. переключаются на ребенка. Она вспоминает его тем утром, когда он решился отпустить ножку стула, сделал три неуверенных шажка в ее сторону и ухватил ее за колготы. Синьора А. была единственным свидетелем этого домашнего чуда. Мы с Норой даже обиделись – отчасти потому, что синьора А. долго этим хвасталась. «Он пошел со мной», – гордо объявляла она, пересказывая все с самого начала. Эмануэле слышал эту историю столько раз, что она вытеснила его собственные воспоминания.
«Да, я точно помню. Я отпустил стул и пошел к ней, а потом ухватил ее за колготы». С тех пор, как Бабетты не стало, мы ему больше не возражаем.
Синьора А. часто говорила о нашем сыне: «Поставь его рядом с десятком детей его возраста – по сравнению с ним они просто бельчата». Отчасти она была права. С рождения Эмануэле был хорошо, пропорционально сложен, черты лица безупречные – разница с другими младенцами бросалась в глаза еще в роддоме, когда он лежал в окружении пластмассовых кюветов. В палате Нора и синьора А. наперебой восхищались совершенной формой его головы – маленькой и круглой (спасибо кесареву) – и тем, что кожа у него с рождения была светлая, без красноты, из-за которой другие дети выглядели пугающе.
Прошло несколько недель, и я, уверенный в том, что устою перед его красотой, тоже пал ее жертвой. Сколько мог, я таскал его на руках – пока ему не исполнилось четыре или пять лет. Иногда со мной и вовсе происходило нечто позорное: когда я прижимал к себе мягкое голенькое тело сына, я невольно возбуждался. Чисто физическая реакция, не связанная ни с какими мыслями, приводила меня в смятение, в такие минуты я всякий раз отходил от сына. Когда Нора это заметила, она сперва приласкала меня, а потом его: «Ничего страшного, – сказала она, – я тоже чувствую его всеми своими органами».
Потом Эмануэле вырос, вырос быстрее, чем мы ожидали, и нам захотелось, чтобы он как можно скорее стал большим, – мы не понимали, что это обернется против нас. Он всегда казался нам недостаточно бойким, недостаточно ответственным, недостаточно логично рассуждал. Только с синьорой А. Эмануэле позволял себе снова стать маленьким ребенком, каким он себя и ощущал. Она брала его на ручки, долго укачивала, хотя мы давно этого не делали, разрешала капризничать и проявлять свои чувства с детским однообразием, помогала делать то, с чем ему, по нашему мнению, полагалось справляться самостоятельно (но разве мы с Норой не вели себя с ней точно так же и не позволяли за собой ухаживать?). Возможно, ее присутствие все сглаживало, мешало мне увидеть Эмануэле таким, каким он был на самом деле: не чудо-ребенком, а обычным и даже чуть менее способным, обидчивым мальчишкой, для которого что-то понять, особенно нечто отвлеченное, означало труд, страх, изматывающее повторение. Когда это обнаружилось, и нам, и ему было больно – наверное, из-за этого я до сих пор сержусь на синьору А., которая долго его прикрывала.
Помню один случай. Эмануэле уже второй год ходил в детский сад, но не проявлял склонности к рисованию, в его каракулях было что-то тревожное, а мы не обращали на это внимания (неужели в жизни так важно раскрашивать картинки, не заходя за контур?), по крайней мере, до того дня как я однажды не зашел за ним в сад и у шкафчиков – в раздевалке, где родители, бабушки и дедушки, стоя на коленях, обували своих чад, – не увидел автопортреты детей, нарисованные красками и расположенные прямоугольником на стене. Автопортрет Эмануэле, красовавшийся на видном месте, отличался от остальных: это было расплывчатое розовое пятно с двумя кривыми черточками вместо глаз. Эмануэле, заметив различие между своим портретом и другими, решил сразу все объяснить.
– Мой самый некрасивый, – объявил он, словно это и так не было очевидно.
Я рассказал Норе и синьоре А. об этом. На самом деле, я просто выплеснул свое разочарование: раз наш сын рисует хуже всех и, скорее всего, будет отставать от сверстников во многом другом (я в его возрасте рисовал очень хорошо), значит, мы должны принять его таким, какой он есть. Мне казалось само собой разумеющимся, что быть родителями означает, кроме всего прочего, быть готовыми к унижениям.
Нора и синьора А. слушали меня, скрестив руки на груди. Потом, не сказав ни слова, чтобы я не понял, что они намерены сделать, и не мог бы их остановить, вышли из дому и отправились в детский сад. Там, вместе, как мать и дочь, они потребовали немедленно убрать со стены все рисунки. Домой они вернулись победительницами, но гнев их еще не остыл, и мне показалось, будто передо мной две бурые медведицы, которые возвращаются в пещеру после кровавой схватки со стаей волков, угрожавшей их потомству.
Однако со временем мы все чаще сравнивали Эмануэле с его сверстниками, репрессивные меры Норы и синьоры А. больше не помогали. Во втором классе начальной школы Эмануэле продолжал путать «b» и «d», правое и левое, до и после – меня это бесило.
– Тебя это бесит, потому что твое представление об уме ограниченно, – возражала Нора. – У него богатое воображение. Но для тебя и твоих родителей это не имеет значения, верно? Для вас важно только учиться на «отлично».
– При чем здесь мои родители?
– Два антрополога, печатающиеся в журналах, и маленький физик, получающий самые высокие оценки в школе. Признайся: тебя унижает, что твой сын не математический гений.
Она была права, разумеется, все так и было. Но в тот раз я нарочно ответил грубо:
– К сожалению, математические способности передаются по наследству.
Она покачала головой.
– Значит, ему не повезло, видимо, он унаследовал гены не по той линии.
И вот теперь, очередным субботним утром, мы с Эмануэле сидим друг напротив друга – из всех дней недели мы оба больше всего ненавидим это время. Сидим в гостиной за столом из массива бука, который Нора заказала у одного из своих бельгийских дизайнеров и из-за которого она нас терроризирует: не дай бог мы нечаянно черкнем по столу ручкой. Я медленно листаю тетрадь по арифметике, блестящая полиэтиленовая обложка пахнет как обложки из моего детства. Тетрадь похожа на поле боя: повсюду красные значки, целые страницы перечеркнуты по диагонали, на полях – замечания и восклицательные знаки.
– А это что такое? – спрашиваю я.
– Учительница вырвала листок.
– Почему?
– Я все сделал неправильно.
Около получаса мы сражаемся с примерами на умножение, лица обоих все сильнее вытягиваются.
– Семью один?
– Семь.
– Семью шесть?
Эмануэле медленно считает на пальцах.
– Сорок четыре.
– Нет, сорок два. Семь умножить на ноль?
– Семь.
Он отвечает с иронией – нет, с ноткой садизма. Имея диплом физика-теоретика, я специализируюсь в области квантовой теории поля, знаю самые современные системы символьных вычислений, но не способен объяснить своему ребенку, почему при умножении на ноль любого числа получается ноль. Мне кажется, будто я заглядываю в его голову, вижу окутанный туманом мозг: в тумане все утверждения растворяются, не создавая ничего осмысленного.
Я теряю терпение:
– Ноль! Будет ноль! Не можешь понять – просто запомни!
Я выставляю в паре сантиметров от его носа большой и указательный палец и соединяю их в кольцо: ясно, что ноль относится к моему сыну.
– Но в таблице умножения этого нет, – защищается он.
– При чем тут таблица умножения! У тебя голова дубовая!
Тут в дело вмешивается Нора – просит меня уйти, дальше она сама. Я стою в кухне, пытаясь взять себя в руки, и слышу, как Нора решает примеры за него.
Зима
После многих лет совместного существования порой начинаешь повсюду видеть символы, следы человека, с которым ты долгое время жил в общем пространстве. Со мной часто бывает, что, сам того не желая, я обнаруживаю Нору в любом уголке нашего дома, словно ее душа пылью легла на предметы. Так бывало и с синьорой А. – в последний год жизни она повсюду встречала полупрозрачную голограмму Ренато. Всякий раз, стоя у окна и глядя на дорогу, круто спускающуюся от ее дома к шоссе, она вспоминала день, когда, нарушив мужний запрет, тайком взяла лежавшие на тарелочке у входа ключи и вывела из гаража машину. Он не хотел, чтобы она садилась за руль, но, когда он заболел и нужно было трижды в неделю возить его в больницу на диализ, – кто мог этим заниматься, кроме нее?
– Я поцарапала правое крыло об угол, – рассказывала мне она, – потом вернулась домой и сказала ему: «Давай собирайся!»
Она часто упоминала этот негромкий героический поступок, для нее он был важным шагом, в котором соединились закат Ренато и расцвет ее как эмансипированной женщины. До той поры у них была самая обычная семья, куда обычнее, чем у нас с Норой – мы постоянно меняемся ролями мужа и жены и уже не помним, что положено одному, а что другому. Ренато водил машину, синьора А. – нет, синьора А. вытирала пыль с полок, Ренато – нет: с самого начала обязанности были четко распределены. Синьора А. не могла принять брак, в котором не было привычных ролей, возможно, поэтому ее присутствие до такой степени заряжало нас уверенностью: глядя на нее, мы невольно тосковали по оставшейся в прошлом простой модели семьи, в которой каждый не должен быть одновременно всем и всеми – мужчиной и женщиной, человеком рациональным и сентиментальным, уступчивым и строгим, романтичным и приземленным – эта модель отлична от той, которая распространена в наше время и которая накладывает на нас, независимо от пола, столько обязанностей, что мы с ними не в состоянии справиться.
Синьора А. обычно снисходительно относилась к тому, что мы не распределили роли, прощала нам это как недостаток, типичный для современных семей, но инстинктивно этому сопротивлялась. Она не могла видеть, как я вожусь со стиральной машиной, и не могла понять, как Нора может взять в руки дрель и просверлить отверстие в стене (Нора справляется с этим куда лучше меня). В подобных случаях она находила способ выгнать нас обоих, чтобы доделать работу за нас: ей дозволялось делать все с тех пор, как, овдовев, она превратилась в андрогинное существо. В каком-то смысле ее уход стал для нас спасением: продолжай мы доверять ее взгляду, однажды мы оказались бы в ловушке реинкарнации решительного мужа и покорной жены, воспроизвели брак, каким он виделся полвека назад.
Она соблюдала установленные в обществе правила и церковные заповеди и бессознательно верила в превосходство мужчин над женщинами. Это было забавно, и, обращаясь ко мне с чуть большим почтением, чем к Норе, она показывала, что считает меня хозяином в доме. Казалось, ей ничего не остается, как больше прислушиваться к моему мнению, быть внимательнее к моим потребностям, больше уважать мой характер, чем вести себя точно так же по отношению к моей жене, хотя синьора А. любила ее всей душой.
Однажды летом я уговорил Нору раньше обычного поехать в отпуск вместе с мамой и Эмануэле. Во время моего недолгого одиночества синьора А. заботилась обо мне с еще большим рвением. Она готовила блюда, которые Нора никогда бы не разрешила, и часто оставалась со мной ужинать (чего она никогда не делала), чтобы составить мне компанию. Утром она являлась раньше обычного и приносила дневной урожай со своего огорода, и, когда я вставал, завтрак был уже на столе, а рядом с моим рюкзаком стоял пакет с обедом: мне предстояло его съесть позднее, в университете, вместо бутербродов из кафетерия, от которых, по ее мнению, я только толстел. Она даже купила букет оранжевых гербер и поставила его на стол. Синьора А. играла роль преданной жены, а я не мешал ей.
Июль выдался жаркий, кондиционеров у нас тогда еще не было, и я расхаживал по дому в нижнем белье; мне казалось, будто ее глаза следят за мной, что ей нравится на меня смотреть. Это может показаться абсурдным, но неделю спустя в воздухе повисло эротическое напряжение.
Когда Нора вернулась, я уже успел привыкнуть к нашей странной фамильярности. Увидев, что я вышел к синьоре А. в трусах, Нора позвала меня в спальню и велела надеть брюки.
– Ты теперь и к Бабетте ревнуешь? – спросил я шутливо. – Не думаю, чтобы она вынашивала подобные замыслы.
– Как бы то ни было, она – женщина, – серьезно ответила Нора, – не стоит об этом забывать.
Окно, из которого Ренато следил с замиранием сердца, как синьора А. едет по крутому спуску, – то же самое окно, из которого она в феврале 2012 года смотрит в пустоту. Атлантический циклон захватил север полуострова и принес больше снега, чем выпало в совокупности за последнюю пару лет. Даже днем температура не поднимается выше нуля, вдоль дорог протянулись сверкающие ледовые дорожки, на которых люди ломают запястья, лодыжки и крестцы. Из-за этого отделения «Скорой помощи» переполнены, служба гражданской обороны настоятельно рекомендует всем оставаться дома, и синьора А., одна из немногих, следует этому совету.
Никто из жильцов не потрудился разгрести снег во дворе: вместо того, чтобы попотеть, все предпочитают парковаться на обочине. Одна синьора А. разгребала снег, пока были силы, пока у нее были веские основания выйти на улицу, а вескими основаниями были мы. Когда шел снег, мы уговаривали ее переночевать у нас, в комнате Эмануэле была приготовлена раскладушка, но синьора А. непременно возвращалась домой – наверное, дух Ренато ждал ее к ужину, поэтому она смело катила по скользким дорогам до Рубианы на своей машиненке. «Она к нам и в бурю приедет, – говорила Нора, всякий раз удивляясь ее преданности, – а вот моя мама при малейшем намеке на туман не садится за руль. Когда я была маленькой, она из-за тумана не возила меня к зубному, и теперь у меня плохие зубы. Вот дура!»
Тот, кто, стоя на улице, увидел бы в окне профиль синьоры А., вряд ли разобрал бы, мужчина это или женщина. Худоба стерла в ней все женское, на лысой и словно ссохшейся голове она носит ночную шапочку цвета зеленой мяты (во время третьей химии у нее внезапно выпали все волосы), она уже привыкла ходить в темных брюках и свитере, которые висят на ней тюремной робой. Она и ощущает себя как в тюрьме. Ложащийся тонким слоем мягкий снег – зрелище, которое всегда ее очаровывало, теперь кажется непреодолимым рвом вокруг тюрьмы.
Из-за непогоды она оказалась заперта дома на две недели. Муж Джульетты дважды приносил ей продукты – стандартный набор, совсем не то, что купила бы она сама. Люди, которые заботятся о нас, редко делают это так, как хотелось бы нам, но грех жаловаться: это и так немало. Пока он задает ей предсказуемые вопросы, у него с сапог сползает снег и медленно тает на полу в прихожей – неглубокая лужица, которую она даже не вытрет.
Все визиты этим исчерпываются. До ее одинокого убежища трудно добраться. Рак, ее злейший враг, теперь стал ее единственным спутником. Впрочем, ей нет дела ни до чего, кроме календаря лечения, по которому она отсчитывает дни, недели и месяцы. Теперь она может проваляться большую часть дня в постели, подремывая, с включенным телевизором: там цветущие барышни рассказывают о своих многочисленных женихах – и это ей, всю жизнь хранившей верность единственному мужчине. Синьора А. их не осуждает, но и не завидует. Они принадлежат к новой расе, они с другой планеты, их приключения ее не волнуют.
Правда заключается в том, что ПЭТ и вторая компьютерная осевая томография показали, что лечение полностью провалилось. Опухоль выросла на три миллиметра в диаметре, словно яд распространился в организме синьоры А. повсюду, кроме того места, куда он должен был попасть. Она пожертвовала волосами, потеряла тринадцать килограммов веса, страдала от рвоты – все бесполезно. Врач-онколог, наблюдавшая ее с самого начала, сообщив результаты, не выразила никакого сочувствия, она никогда не выражает сочувствия – синьора А. научилась ценить эту черту характера, хотя поначалу ее это ранило. Доктор ведет себя с тевтонской холодностью, как военный стратег, – холодность соответствует ее густым и кудрявым волосам цвета меди. Она не в состоянии думать об эмоциональных последствиях всякого известия, которое сообщает пациенту, иначе ее собственное настроение – притом, что у нее три десятка пациентов, находящихся между жизнью и смертью, – менялось бы с космической скоростью. «Но есть и положительная сторона, – прибавляет она, – пока что новых метастазов не появилось. Опухоль словно… заморозили».
Нора присутствовала при этом разговоре, она настояла на том, что будет сопровождать синьору А., – видно, догадывалась, что дело плохо. Позднее она рассказала мне, как врач использовала подходящую погоде метафору, чтобы соврать Бабетте. Когда синьора А. вышла умыть заплаканное лицо, Нора спросила:
«Сколько ей осталось?»
Доктор вздохнула, показав, что не любит подобные вопросы: когда речь идет о раке, рано или поздно кто-то всегда стремится узнать точную дату, перечеркнув тем самым все усилия врача, – в данном случае таким человеком оказалась Нора.
«Полгода. Наверное».
Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что онколог была чересчур сурова и не учла невероятную жизненную силу синьоры А.: она недооценила ее почти на пятьдесят процентов.
На пятнадцатый день снежного заточения синьора А. просыпается от такой острой боли в ладони, что хочется кричать. Вызывает неотложку. Соседи видят в окно, как машина «скорой помощи» скользит на крутом подъеме, как она освещает мигающими синим и оранжевым огнями снежное покрывало, а потом они видят, как закутанную в термическое одеяло синьору А. завозят на носилках в машину.
После этого она больше не сядет в свой голубой ФИАТ-600. Конец эмансипации. Достаточно один раз сдаться, чтобы потом не осталось смелости: теперь от одной мысли, что ей нужно вести машину, пусть даже трехколесную, одновременно управлять рулем, педалями, переключать скорости и следить в зеркале за сотней других транспортных средств, которые ее обгоняют или едут навстречу, она испытывает ужас, словно все эти действия, до недавнего времени составлявшие одно целое, теперь распались на части. Машина простоит неподвижно до конца зимы, аккумулятор будет постепенно разряжаться до тех пор, пока одна из кузин (не знаю, которая) не заберет машину – отдать внуку или продать.
Синьора А. заполняет заявление с просьбой обеспечить ей транспорт для проезда в больницу и обратно домой. На мгновенно полученном положительном ответе написано «бессрочная инвалидность» и прилагательное «тяжелая» – она будет долго жаловаться на эти формулировки, в том числе мне. События еще не успели произойти, а те слова уже ранили ее, причем куда больнее.
Наверное, приблизительно в это время я завел разговор о синьоре А. со своим психотерапевтом. Слушая меня, он нетерпеливо постукивал левой ногой и курил больше обычного. В другой раз он произнес фразу, которая тогда показалась мне пустой и жестокой: «Истории всех раковых больных похожи друг на друга».
Мы обсудили, могут ли обстоятельства смерти хотя бы отчасти отражать то, как человек прожил жизнь. Разве синьора А. заслужила то, что с ней происходит, хоть отчасти навлекла беду на себя? Мне кажется, именно эта мысль не давала ей покоя: наказание казалось ей совершенно несправедливым.
Один мой дедушка был редким скаредой, он разучился любить задолго до того, как у него началась деменция, он был таким злым, что из-за него я возненавидел пожилых людей и старость как таковую – я не мог в этом признаться, но отвергал старость, пока синьора А. со своей невероятной самоотверженностью не помогла мне измениться, – так вот, для деда упасть с приставленной к вишне лестницы и мучительно умирать целую ночь, лежа на земле, под дождем, когда рядом никого не было, – достойный конец. Но за что расплачивалась синьора А.? И если имело смысл искать связь между тем, как человек умирает, и тем, чего он не сделал в жизни, какой конец ждет меня?
Психотерапевт, обычно с энтузиазмом воспринимающий мои попытки найти связь между явлениями, холодно остановил меня:
– Между смертями нет большой разницы, почти все просто перестают дышать. – Он выпрямился в кресле, которое было ему тесновато, словно собираясь с силами. – Ну, хватит о домработнице. Поговорим лучше о вашей жене.
– О Норе? Зачем?
Страшила
Если бы не талант жены вести телефонные беседы, если бы не героическое упорство, с которым она каждую неделю обзванивает подруг и знакомых, посвящая каждой ровно столько времени и внимания, сколько та заслуживает, после весны мы бы почти ничего не знали о синьоре А. Если бы не Нора и не ее телефонная преданность, за последние годы много чего бы не произошло, например, мы бы с ней не влюбились.
Я был нетерпеливым юношей и не выдерживал телефонные разговоры, длившиеся дольше считанных минут: я был неразговорчив, замкнут и передо мной обычно лежало нечто, что отвлекало внимание, – как правило, страница с заметками. Друзьям было об этом известно, да и сами они были запрограммированы так же, поэтому мы в основном обменивались короткими сообщениями или писали мейлы в несколько строк, за которые к тому же не надо было платить. В двадцать лет я заработал сомнительную репутацию, дурно поступив с однокурсницей, которая сохла по мне и которая мне тоже нравилась. Она звонила мне каждый день без особых причин – как говорила она, поболтать. Однажды я собрался с духом и попросил больше меня не беспокоить, потому что, в отличие от нее, у меня имелись дела поважнее: может, нам удобнее видеться в университете или встречаться специально? Не могла бы она сделать одолжение и отложить все, что собиралась мне рассказать, до завтрашней перемены?
Нора сумела все изменить. Я проводил за телефонными разговорами с ней столько времени, что у меня даже закралось сомнение – страшное, пугающее, сомнение, что происходит нечто неслыханное: со мной, с ней, с нами обоими. Где бы и с кем бы я ни находился, я всегда мог улучить время, чтобы поговорить с ней, без лишних церемоний оставив других людей и дела. После каждого звонка я проверял, сколько минут он длился, и сам удивлялся тому, что не испытывал ни малейших угрызений совести – наоборот, умирал от желания снова набрать ее номер. В памяти всплывают картины того, как я хожу по кругу, разглядывая свои ноги, и слушаю Нору и ее паузы, а прижатое к трубке ухо греется, ладонь постепенно влажнеет от пота. Она до сих пор подшучивает надо мной, вспоминая, каким я был до нашего знакомства, и, наверное, будет подшучивать всю жизнь: «Как вспомню, где я тебя откопала, в какой дыре ты прятался – испуганный, напряженный, в компании своих кварков!» – Вероятно, для меня влюбленность будет всегда похожа на ощущение, что меня выкурили из звериной норы.
В мае Нора, разговаривая бодрым и звонким голосом (настолько громко, что я не выдерживаю и прошу ее говорить потише), использует отточенное на мне риторическое искусство, чтобы вовлечь нашу одичавшую и подавленную синьору А. в непринужденные беседы – как те, которые они вели раньше. У синьоры А. период временного облегчения, наставший точно в срок, как и прочие полагающиеся этапы болезни. Исчезновение, как по волшебству, симптомов, всех симптомов, включая последствия токсичной химиотерапии, возродило в ней интерес к миру, который по-прежнему существует вне ее тела. Опять появляются гороскопы, вековая мудрость, сформулированная в коротких сентенциях, подробные рассуждения о том, как лучше готовить кабачки – они как раз появляются на рыночных прилавках (да-да, к превеликой радости, к ней вернулся аппетит!), словом, с нами опять Бабетта – та, которую мы знали и любили, скала, на которую все опираются и которая не опирается ни на кого.
Я слушаю, как Нора слушает синьору А., и подремываю. Субботнее утро, одиннадцатый час, но мы валяемся в постели, хотя Эмануэле чем-то занимается у себя в комнате, шумя громче обычного, чтобы привлечь наше внимание. После сна у нас спокойное, благодушное настроение, располагающее к проявлениям солидарности. Пока синьора А. сообщает Норе, что рак отступил, что волосы отрастают быстрее, чем ожидалось, – чуть более редкие и, что удивительно, более темные, даже каштановые, – я думаю, догадывается ли она, что ее вновь обретенный рай – один из известных этапов, временное, эфемерное и отчасти садистское облегчение, а на самом деле – начало падения в бездну.
Она это понимает, но выдает себя лишь в конце разговора, когда в порыве энтузиазма Нора спрашивает, не вернулись ли к ней силы и не займется ли она опять огородом.
– Нет, огородом, нет, – внезапно она отступает, – на это у меня не хватит сил.
Спустя мгновение они прощаются, во рту остается горьковатое послевкусие взаимного обмана.
Тем не менее присущий ей здравый смысл заставляет ее прожить последние спокойные дни так, будто они длятся вечно. К счастью, представление, в котором участвует Эмануэле, покажут как раз в эти два месяца или немного позднее. В «Волшебнике страны Оз» ему поручили играть неотесанного Страшилу, одну из главных ролей, – Нора гордится этим больше, чем Эмануэле, мечтавший сыграть льва с царственной рыжей гривой.
Изготовление костюма мы поручаем синьоре А. Она до сих пор делает все с удивительным мастерством; когда она вставляет смоченную слюной нитку в иголку, рука не дрожит, движется уверенно и твердо. Полдня работы – и потрясающий результат: она покрыла заплатами старые спортивные штаны, превратила мою рубашку в куртку и украсила все, включая сапожки, которые нам пришлось купить, желтой шерстью, которая изображает солому. Эмануэле в костюме, похожий на эльфа, скачет вокруг нее, упершись руками в бока, и они вновь растворяются друг в друге. Это окажется последним домашним представлением, которое наш сын устроит своей любящей няне, плененной его красотой. Мне хочется схватить фотоаппарат или телефон, чтобы запечатлеть сцену, но я знаю, насколько все хрупко, и не хочу все испортить.
Действительно, во время спектакля царит уже совсем иная атмосфера, чем при подготовке домашних представлений, когда мы все были заняты общим делом. Неожиданно к нам присоединяются все члены семейства Норы, из-за этого еще до входа в зал атмосфера становится напряженной. Дедушки и бабушка нарядились как на торжественный вечер (на Нориной маме шикарное вечернее платье, ее первый и второй супруг в пиджаках из ткани в елочку, превративших их в близнецов, – есть о чем задуматься), и вот теперь они недовольны тем, что стоят в скромном вестибюле начальной школы в толпе родителей, одетых в футболки и джинсы. Они ждут, что мы с Норой что-нибудь сделаем, что мы усадим их в кресла, подобающие их костюмам, принесем им напитки или, по крайней мере, как-нибудь развлечем.
Оказывается, что спортивный зал, где будут показывать спектакль, слишком мал и пестрая толпа родителей туда не вмещается. Антонио, мечтавший поразить всех фотографическим оборудованием, включающим треножник и белый светоотражающий экран, не стесняясь в выражениях, ругается с мужчиной, который, по словам Антонио, лезет в кадр; в конце концов мужчина посылает его куда подальше и объясняет, что ему сделать со своим экраном. Перед невысокой синьорой А. мгновенно вырастает плотная стена из спин и курток, полностью загораживающая ей обзор. Теперь и она поглядывает на нас с упреком, но нам самим почти не видно сцену, которая находится на уровне пола, и мы не знаем, чем ей помочь. Из-за жары, духоты и того, что приходится долго стоять, у синьоры А. кружится голова. Какая-то женщина поддерживает ее, обмахивает листком бумаги, словно веером. Прежде чем представление окончится, прежде чем ее приемный внук выйдет на сцену, синьора А., расталкивая толпу, пробирается к дверям и уходит.
На выходе из зала Эмануэле сразу же спрашивает:
– А где Бабетта?
– Она себя плохо почувствовала, но она все видела и сказала, что ты выступил замечательно.
Он сразу сутулится, на лице появляется такое несчастное выражение, что я не могу разобрать, то ли он не вышел из роли, то ли его на самом деле больно ранили в сердце.
Чрезмерные похвалы бабушки и многочисленных дедушек не радуют его. На полосатом линолеуме спортзала Эмануэле выступал прежде всего для синьоры А. и для нас, но счастье, которое он испытывает, не равно двум третям счастья, на которое он надеялся: ее отсутствие перевешивает наше присутствие.
Мы быстро прощаемся и шагаем домой, мы трое: родители и маленький грустный Страшила, который не отпускает наших рук, даже когда мы оказываемся перед входной дверью; сын словно хочет сказать: он понял, понял, что люди отдаляются, что они просто уходят, навсегда, но нам он этого не позволит, нам – нет, по крайней мере, пока он держит нас вместе.
Сообщающиеся сосуды
Всякий ребенок – исключительно точный сейсмограф. Эмануэле все понял раньше нас, почувствовал, что скоро нас тряхнет, вот почему он сжимал наши руки в вечер спектакля. После того, как синьора А. покинула нас, под землей возникли трещины, слои горных пород стали бесшумно оползать, лето еще не кончилось, как мы узнали, что вероятный очаг землетрясения находится в животе у Норы.
Однажды утром, уже одетая, чтобы выйти из дома, она объявила о двухнедельной задержке. Странно, что она сообщила это бесцветным голосом, на бегу, между делом, держа в руке ключи от машины.
– Ты сделала тест? – спросил я, главным образом, чтобы выиграть время и преобразовать мою реакцию в нечто отличное от замешательства.
– Нет. Давай сперва решим, как нам быть.
– А как нам быть?
Нора присела за стол, я поставил чашку, из которой отхлебывал кофе. Она не потянулась ко мне и не показала волнения, а сразу четко заговорила, будто выучила текст наизусть.
– Лучше все обсудить прямо сейчас. Я не готова. У меня не хватит сил. Меня едва хватает на то, чтобы справляться с работой и ухаживать за Эмануэле. Нам никто не помогает, а ты все время пропадаешь в университете. Боюсь, нам не хватит денег, и, честно говоря… – Только теперь она замолчала, словно последняя фраза нечаянно уже слетела с ее губ.
– Честно говоря?
– У нас с тобой тоже не все хорошо.
Я отодвинул пластиковую салфетку с остатками завтрака. Я даже не успел понять, какие чувства вызвала во мне эта новость, дело было в другом: как легко Нора лишала меня всякой реальной возможности повлиять на ее выбор, как резко она заявила, что на самом деле каждый из нас живет собственной, а не общей жизнью. Я пытался сохранять спокойствие:
– Нора, иметь детей или нет, решают, когда речь идет о первом, а не о втором ребенке. Мы молоды, здоровы, с какой стати нам так поступать?
Она на минуту задумалась.
– С той стати, что нам страшно. Очень страшно. По крайней мере, мне.
– Насколько я понимаю, ты уже все решила. Зачем тогда что-то со мной обсуждать? – спросил я. На сей раз мои слова прозвучали как издевка, как взрыв негодования.
Не глядя на меня, она кивнула, поднялась и ушла. Ей не хотелось, чтобы я видел ее лицо. Я был почти уверен, что силы у нее иссякли и теперь она плачет.
Ах, видела бы нас синьора А. в следующие недели! Она бы страшно расстроилась. Когда Эмануэле было почти три года, она настойчиво уговаривала нас подарить ему сестренку (о том, что у нас может родиться мальчик, она даже не задумывалась): не слишком оригинальные педагогические соображения подсказывали ей, что второго ребенка надо рожать в определенные сроки. «Места в доме хватает», – говорила она, словно это было главным препятствием.
Мы над ней подтрунивали: «Бабетта, тебе одного не мало? Ладно, скоро, скоро. Как знать?» – и переводили разговор на другое, вызывая у синьоры А. разочарование. Но она никогда бы не поверила, что, когда все случится, Нора сделает шаг назад.
Однако сейчас синьора А. была как никогда далека. После того, как болезнь стала быстро прогрессировать, где-то в середине июля она переехала к своей кузине Марчелле, у которой ей предстояло прожить последние пять месяцев – в основном лежа на правой половине чужой супружеской постели. Рак пробил еще одну брешь и пробрался в мозг. Общаться с ней по телефону стало трудно – она почти не могла говорить, а чтобы попасть к ней, приходилось преодолевать фильтр, установленный чужими людьми, просить разрешения повидаться, а во время визита быть под неусыпным наблюдением.
Нора не признавалась ни тогда, ни после, что была напугана: от одной мысли, что и вторую беременность ей придется провести в постели, ее охватывал ужас. Месяцы неподвижности ради Эмануэле оставили в ней куда более глубокий след, чем я думал, а ведь теперь рядом с ней была бы не синьора А., а замотанный муж, которому, как я понял тем летом, она не вполне доверяла. С того дня мы оба изливали давно накопившееся, с трудом скрываемое недовольство друг другом, и чем дальше, тем это было больнее и тем труднее было остановиться.
В конце концов задержка оказалась ложной тревогой, но было уже не важно, новость уже возымела действие. Внешне наша семейная жизнь протекала без изменений, подчиненная обычным заботам, но в ней что-то увяло, словно сердце нашей семьи билось тише. И прежде я видел Нору подавленной, расстроенной, сердитой, но никогда не видел ее вялой и равнодушной. Мир, от которого меня больше не защищала Норина живость, вновь превращался в холодную оболочку, в которой я существовал до знакомства с ней. Даже Эмануэле порой казался мне чужим.
– Может, поужинаем сегодня в рыбном ресторане, поболтаем?
– Как хочешь. Я не очень голодна.
– Все равно поехали!
И мы ужинали – сидели рядом, как посторонние люди, и ничем не отличались от семейных пар, которым не о чем говорить и которых мы, с высоты пьедестала нашей близости, всегда жалели.
– Что с тобой?
– Ничего.
– Что-то ты грустная.
– Я не грустная, я думаю.
– О чем?
– Да так, ни о чем.
– Ты что, нарочно меня пугаешь?
Весь вечер мы заводили друг друга, лишь бы прервать молчание, к которому мы не привыкли. Уцепиться нам было не за что: как бы глупо мы себя ни вели, нам казалось, что мы переживаем первый семейный кризис в истории человечества.
Молодая пара тоже может заболеть неуверенностью, одиночеством, бесконечно ходить по кругу. Метастазы появляются незаметно, наши метастазы быстро достигли постели. На протяжении одиннадцати недель – тех самых недель, когда системы организма синьоры А. постепенно утрачивали свои элементарные функции, мы с Норой ни разу не обнялись, не потянулись друг к другу. Наши тела, лежавшие на безопасном расстоянии, напоминали суровые мраморные глыбы.
В полусне меня мучили воспоминания о тех временах, когда ее тело принадлежало мне, а мое – ей, когда я мог ласкать ее всю, не спрашивая разрешения: провести пальцами по шее, под грудями, вдоль изогнутой линии позвонков, между ягодицами; когда мне дозволялось забираться под все резинки, не боясь ее потревожить, а она, не просыпаясь, отвечала мне, невольно подрагивая. Никто из нас никогда не уклонялся от секса – бывало, мы не занимались им долгое время, потому что не было возможности или сил, но никто и никогда не создавал препятствий для секса. Что бы ни происходило, мы знали, что в нашей спальне нас ждет нетронутое пространство, убежище нежных объятий и ласк.
Если и наш рак пытался поразить мозг, ему это удалось: жена лежала в нескольких сантиметрах от меня, а я не знал, как к ней приблизиться. В моих воспоминаниях о тех – совсем недавних – днях и ночах, много пробелов и противоречий, замешанных на обиде и мучительных фантазиях, в которых Нора изменяла мне со всеми подряд.
Гален ясно не объясняет, смешиваются ли друг с другом жидкости, словно краски, или они сосуществуют, не смешиваясь, как масло и вода; он не объясняет, может ли получиться из выделяемой печенью желтой желчи, если смешать ее с красной кровью, новый, оранжевый темперамент, возможна ли при контакте эффузия или чувства сохраняются незамутненными, может ли перетекать жидкость от одного человека к другому, как это происходит в сообщающихся сосудах. Долгое время я думал, что да. Я был уверен, что Норино серебро и мое черное медленно смешиваются, что однажды в нас потечет одинаковая жидкость цвета вороненой стали, цвета старинных берберских украшений (наверное, не случайно моим первым подарком Норе был берберский браслет с геометрическими узорами). А еще мы оба поверили в то, что сверкающая лимфа синьоры А. подарила нашей лимфе дополнительный оттенок, увеличила ее относительную плотность, сделала нас сильнее.
Я ошибался. Мы оба ошибались. Порой жизнь загоняет нас в воронку, наши жидкости, изначально превратившись в эмульсию, распределились слоями. Норина живость и моя меланхолия, тягучая стойкость синьоры А. и воздушный беспорядок моей жены, прозрачные математические рассуждения, которыми я занимался годами, и шероховатая мысль Бабетты: каждый компонент, несмотря на тесное общение и привязанность, не смешивался с другими. Рак синьоры А., единственный бесконечно малый сгусток взбесившихся, беспрерывно делящихся клеток, пока они не стали заметны, помог нам увидеть собственную разделенность. Вопреки надеждам, мы не могли раствориться друг в друге.
Райская птица (II)
В некоторых приключенческих историях эпилог пишут в самом начале. Разве кто-нибудь, включая синьору А., мог хоть на мгновение допустить, что все закончится иначе? Кто-нибудь, говоря о ней, произнес слово «выздоровление»? Никто и никогда. В лучшем случае мы говорили ей, что потом полегчает, хотя мы и в это не верили. Картина ее угасания уже была нарисована на темном пятне в легких, появившемся на первом рентгеновском снимке. «Истории всех раковых больных похожи друг на друга». Наверное. Но ее жизнь, все равно ни на что не похожая, заслуживала, чтобы о ней рассказали: ее жизнь до последнего мгновения была достойна надежды на то, что судьба сделает для нее исключение, обойдется с ней по-особому в обмен на помощь, которую она оказывала стольким людям.
В ситуации, в которой мы с Норой оказались после того лета, у нас не было сил думать о ком-то другом. Однажды в конце ноября нам позвонила кузина синьоры А.:
– Она хочет вас видеть. Боюсь, долго она не протянет.
Мы много спорили, брать ли с собой Эмануэле. Я настаивал, говорил, что бессмысленно скрывать от ребенка страдания, и, вообще, он уже достаточно большой, чтобы это выдержать, но Нора не хотела, чтобы образ умирающей синьоры А. вытеснил его ранние воспоминания.
Она была права. От Бабетты, лежащей в чужой постели под горой одеял, осталась лишь сероватая тень с заостренными чертами. В комнате стоял приторный запах лекарств и еще чего-то неясного; когда я нагнулся и дотронулся до ее щеки, робко изображая подобие поцелуя, я понял, что запах исходил из ее рта – запах брожения, словно ее тело уже умирало изнутри, по частям. Свет в спальне был странный – текучий и словно неземной, возможно, из-за отражавшей его позолоты: покрывало и полупрозрачные занавески с золотыми нитями, ручки шкафов и латунные безделушки.
Присев на край постели, Нора разрыдалась. Теперь, спустя девять лет, я вновь наблюдал ту же сцену, только они поменялись ролями: синьора А. лежала, жена сидела у изголовья. Нора пыталась надеть ей на худое запястье браслет, который мы купили, чтобы она взяла в приближающееся путешествие нечто в память о нас, но пальцы дрожали, у Норы никак не получалось застегнуть браслет. Даже теперь, в обратной ситуации, роль утешительницы выпала синьоре А.
– Не плачь, Нора, – проговорила она, – не плачь! Мы с тобой провели вместе столько времени.
Я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Норины слезы растворили что-то во мне, выпустили на свободу нежность, которая никогда не умирала; несмотря на трагичность момента, я испытал облегчение. Мы купили белые тюльпаны, потому что это были любимые цветы синьоры А. и потому что принести подарки казалось нам действенной защитой в сложившихся обстоятельствах. Марчелла нашла вазу, я подрезал стебли и поставил цветы в воду. Я старался поддерживать разговор, чтобы помешать Марчелле вернуться в спальню, где, как я понимал, ей хотелось присутствовать и контролировать ситуацию – вдруг кузина разоткровенничается с моей женой. А я хотел предоставить Норе все время, которого она заслуживала.
Зайдя в спальню, я поставил вазу с цветами на тумбочку. Там стояла фотография Ренато, снятая зимой на набережной в Сан-Ремо, которую я уже где-то видел. Возможно, одной мысли о том, что он ждет ее, было синьоре А. достаточно, чтобы придать ей сил, которые у нее вновь появились, сил, для выражения которых больше не были нужны ни кости, ни плоть, ни голос (вот еще что: ее голос внезапно изменился, опустился на октаву и, выходя из горла, словно за что-то цеплялся).
– Держись! – сказал я ей.
В ответ она улыбнулась. Больше не надо было притворяться, смерть уже была здесь, среди нас: заняв свободную половину постели, она спокойно ждала.
Синьора А. еще сжимала руку Норы или, наоборот, Нора сжимала ей руку.
– Смотри, береги ее! – велела синьора А.
– Обязательно буду! – пообещал я.
Нора едва повернулась ко мне, словно говоря: видишь, насколько все просто? Почему ты раньше так не делал? Я подошел и поцеловал ее в висок.
– Мы пойдем, а ты отдыхай! – сказал я синьоре А., но она уже дремала, неизвестно, где она нашла силы сохранять бодрость эти несколько минут, с какими обезболивающими и успокаивающими ей пришлось бороться, чтобы добиться обещания, что мы с Норой и впредь будем беречь друг друга.
Когда мы выходили, она глубоко спала. Я взглянул в окно. И не удивился, увидев на карнизе, за кружевными шторами и двойными стеклами диковинную птицу, – птицу с желтыми и голубыми перышками, длинными белыми перьями хвоста и с темными, серьезными, полными сочувствия глазками, глядевшими на нас.
Несколько дней спустя Нора купила сковороду с отверстиями – для жарки каштанов. Сковорода сияла девственно чистым металлом и была совсем не похожа на немного помятую и заржавелую сковороду синьоры А. Каждую осень Бабетта совершала этот ритуал. Она собирала каштаны в лесу за домом – собирала, когда они еще были в плюске, а потом приходила к нам их пожарить. Я помогал ей надрезать каштаны один за другим, в тот вечер мы ужинали каштанами и молоком с медом.
– У меня так вкусно, как у нее, не получится, – сказала Нора, – эти из супермаркета. Но можем попробовать.
Пока мы с сомнением разглядывали золотистую мякоть каштанов, она попросила налить ей вина.
– Я решила перевести Эмануэле в другую школу, – объявила Нора.
– Правда?
– Со следующего года. Здесь его не ценят. Не понимают. Она всегда об этом говорила. И вообще, разве можно вырывать из тетрадки листки?
– Учительницы вырывают. Так было всегда.
– А сегодня нет. Сегодня так больше не делают. – Она замолчала, чтобы отпить вина, потом протянула мне бокал. – Еще я считаю, что, если тебе не продлят контракт, ничего страшного не случится.
– А вот я боюсь, что случится.
– Может, это подтолкнет нас уехать. По крайней мере, попробуем. Если тебе здесь не нравится, если ты считаешь, что можешь добиться большего, можем уехать. Я и на расстоянии смогу вести свои проекты, а не получится – наплевать. Стану специалистом по жареным каштанам. – Она приобняла меня. – Ну, что скажешь?
– Не знаю. Столько всего сразу.
– Я не об этом. Гляди, по-твоему, они готовы?
Однажды ночью, во время болезни, синьоре А. приснился Ренато. Он редко приходил к ней во сне. В этот раз он стоял перед ней, как всегда элегантный, но в какой-то нелепой фетровой шляпе, хотя он терпеть не мог головных уборов, у него от них чесалась голова. Не вынимая рук из карманов зимней куртки, он ласково позвал ее:
– Пойдем, пора!
Синьора А. испугалась, что он прячет в карманах что-то опасное, и попросила показать ладони. Ренато пропустил ее просьбу мимо ушей.
– Пойдем, уже поздно! – повторял он.
– Я не хочу, еще рано. Уходи!
Синьора А. подалась назад. Ренато с расстроенным видом опустил голову. Повернулся к ней спиной, и его поглотила темнота.
Той ночью Бабетта прогнала мужа, хотя очень его любила: и в этом – самое красноречивое свидетельство ее привязанности к жизни.
Приблизительно в то же время и мне приснился сон. Я находился на безлюдной подземной парковке. На асфальте, в одной из трещин, вырос кустик. Когда я подошел взглянуть на него, оказалось, что это не куст, а верхушка пышной кроны дерева, ствол которого тянется вниз на много метров, так глубоко, что основания не видно. Проснувшись, я понял, что это видение связано с синьорой А. К сожалению, мне не выдалось случая рассказать ей об этом.
Она принадлежала к тому роду кустарников, которые пускают корни в трещинах стен, растут у дорожных бордюров, а также к тем вьющимся растениям, которым хватает узкой щели, чтобы уцепиться и целиком покрыть собой фасад дома. Синьора А. была сорной травой, но одной из благороднейших сорных трав. Ошибок, которые она совершила в последние месяцы жизни (она махнула на себя рукой раньше времени, не потрудилась позаботиться о том, что случится после нее, поддалась растерянности), было, наверное, не избежать. У того, кто настолько полон жизни, нет места для мыслей о смерти, – я наблюдал это у синьоры А. и каждый день вижу это у Норы. Мысли о смерти существуют только для тех, кто готов ослабить хватку, для тех, кто хоть раз ее ослабляет: да это и не мысль вовсе, а, скорее, воспоминание. Одно она все же предусмотрела. Синьора А. позаботилась о том, чтобы лежать рядом с мужем. Видимо, однажды она дошагала до местного кладбища, прижимая к себе черную сумочку, а потом достала деньги – заплатить за землю, в которую она ляжет. Не знаю, когда она это сделала, до или после того, как заболела раком, но я точно знаю, что и в тот раз к подобному шагу ее подтолкнула не смерть, а любовь к Ренато, с которым ей не хотелось расставаться на целую вечность.
– Нам тоже надо об этом позаботиться, – сказал я Норе, когда мы входили в кладбищенские ворота. Я сделал вид, что пошутил, хотя на самом деле был серьезен.
– Ты же всегда говорил, что хочешь, чтобы тебя кремировали.
– Знаешь, я передумал.
Она кокетливо надула губы, словно показывая, что ей тоже нужно подумать, стоит ли держать меня при себе столько времени. Потом растерянно оглянулась:
– Как мы ее найдем?
Дело в том, что в день похорон мы не пошли на кладбище и не знали, где погребена синьора А. Одна из ее кузин дала моей жене расплывчатые указания, которые, помноженные на Норин географический кретинизм, утратили всякий смысл.
– Раньше ты говорила «в глубине». Давай-ка сходим туда!
Мы поделили дорожки, словно искатели сокровищ. Отчасти так и было.
Нашел ее Эмануэле.
– Идите сюда! Она здесь! – закричал он.
Мы велели ему не кричать, потому что на кладбище это не принято.
– Но мы же на улице, – возразил он.
Эмануэле чувствовал себя среди покойников куда свободнее, чем мы. Позднее мне подумалось, что они только обрадовались, услышав звонкий голос нашего сына – «певческий голос», как говорила она.
Длинная плита из белого мрамора была чистой – то ли ее вымыл дождь, то ли кто-то побывал на могиле незадолго до нас. Эмануэле забрался на плиту, Нора уже собиралась сказать, чтобы он слез, но я ее остановил: она бы разрешила. Эмануэле погладил цветную фотографию синьоры А. и долго с подозрением рассматривал фото Ренато.
– Привет! – поздоровался Эмануэле.
Он улегся на мрамор лицом вниз и долго к чему-то прислушивался, прижавшись ухом к камню. Наверное, разговаривал с ней – губы его чуть заметно шевелились. Потом встал на четвереньки и вздохнул – смешно и немного деланно, как взрослый.
Наконец он громко произнес ее имя:
– Анна.
Примечания
1
Перевод Я. Свирского
(обратно)2
ITT (International Telephone & Telegraph) – Международная телефонная и телеграфная компания. Финансировала противников Сальвадора Альенде, в 1973 году поддержала военный переворот.
(обратно)



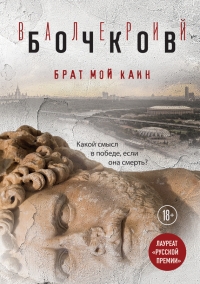
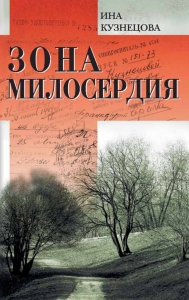

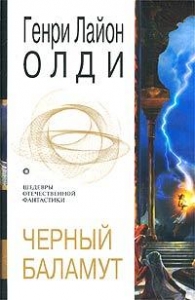





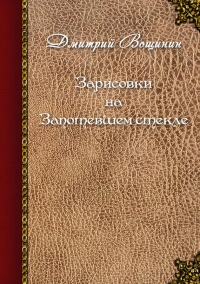
Комментарии к книге «Черное и серебро», Паоло Джордано
Всего 0 комментариев