Орхан Памук Рыжеволосая Женщина
Orhan Pamuk
KIRMIZI SAÇLI KADIN
Copyright © 2016, Orhan Pamuk
All rights reserved
© А. Аврутина, перевод, статья, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство Иностранка®
* * *
Посвящается Аслы
Эдип – убийца своего отца, муж своей матери, Эдип – отгадчик загадок сфинкса! Что говорит нам таинственная троичность этих роковых дел? Существует древнее, по преимуществу персидское, народное верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения…
Фридрих Ницше. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизмГде сыщешь неясный след давнишнего злодейства?
Софокл. Царь ЭдипНикто никогда не заключит в объятья ни сына, у которого нет отца, ни отца, у которого нет сына.
Хаким Фирдоуси. ШахнамеЧасть I
1
По правде говоря, я хотел стать писателем. Но после тех событий, о которых я собираюсь рассказать, я стал инженером-геологом и строителем. Пусть мои читатели не думают, что если я начал рассказывать о произошедшем, то для меня все давно закончилось и осталось далеко позади. По мере того как я вспоминаю, я начинаю больше погружаться в то, что произошло. И надеюсь, что вы вслед за мной проникнете в мой причудливый лабиринт отношений отца и сына.
В 1985 году мы жили на окраинах Бешикташа, в одном многоквартирном доме неподалеку от Павильона Лип[1]. У моего отца была своя маленькая аптека под названием «Хайят». Раз в неделю аптека работала всю ночь до утра, а отец дежурил. В такие вечера, когда отец оставался на дежурство, я приносил ему в аптеку ужин. Я очень любил сидеть в магазине, вдыхая аптечные запахи, пока отец – высокий, стройный, красивый человек – ужинал, сидя у кассы. И сегодня, спустя тридцать лет, когда мне уже сорок пять, я по-прежнему люблю запах старых аптек с деревянными прилавками.
У аптеки «Хайят» покупателей было немного. В те ночи, когда отец оставался на дежурство, он убивал время перед маленьким переносным телевизором, которые в те времена только-только вошли в моду. Иногда я слышал, как отец тихим голосом разговаривает с какими-то приятелями, зашедшими его навестить. Всякий раз, завидев меня, приятели отца прерывали разговор, принимались хвалить меня и говорить, какой я славный, такой же, как отец, и задавали разные вопросы: в каком я классе, люблю ли я школу, кем хочу стать.
Так как я замечал, что отец при своих приятелях становится беспокойным, то в аптеке долго не задерживался, забирал пустые миски и возвращался домой в свете бледных фонарей по улицам с раскидистыми чинарами. Дома я не говорил маме, что в лавку к отцу пришел один из его друзей; мать расстраивалась, когда слышала об этом, ибо думала, что на голову отца вновь свалятся неприятности, или что он вновь ни с того ни с сего нас покинет и исчезнет, и сердилась на отца и его друзей.
Однако я замечал, что политика не является единственной причиной безмолвных ссор между отцом и матерью. Иногда, как будто без причины, они подолгу обижались друг на друга и почти не разговаривали. Возможно, они разлюбили друг друга. Я чувствовал, что мой отец любит других женщин, а многие другие женщины – его. Иногда мать разговаривала с отцом так, чтобы я догадался, что у него есть другая женщина. Меня очень расстраивали ссоры родителей, и поэтому я запретил себе о них думать.
В последний раз я видел отца в аптеке одним осенним вечером, когда в очередной раз принес ему еду. Я был тогда в первом классе лицея. Отец смотрел новости по телевизору. Пока отец ел из расставленных по прилавку мисок, я обслужил двух клиентов, один из которых купил аспирин, а другой – витамин С и антибиотик, и положил деньги в старую кассу, которая открывалась с приятным звоночком. Уходя домой, я в последний раз взглянул на отца; он с порога улыбался и махал мне вслед.
Утром отец домой не пришел. Об этом мне сообщила мать, когда я после обеда вернулся из школы. Глаза ее опухли, было видно, что она долго плакала. Я решил, что отца забрали из аптеки и отвезли в политическое управление, как уже бывало раньше. Там его пытали электрическим током, били на фалаке[2].
Семь или восемь лет назад отец уже исчезал и вернулся домой только спустя два года. Но мать в тот раз вела себя так, как будто отца вовсе не допрашивают и не пытают в полиции – она злилась. Говоря о нем, она восклицала: «Он сам знает, что делает!»
В другой раз, когда отца однажды вечером забрали из аптеки сразу после военного переворота, мать очень печалилась и твердила, что он – герой, что я должен им гордиться, и дежурила в аптеке вместо отца с провизором Маджитом. Иногда и я надевал белый передник Маджита, хотя мне, конечно же, в будущем предстояло стать не провизором, а ученым, как мечтал о том отец.
Но после этого последнего исчезновения отца мать совершенно не интересовалась аптекой. Она не говорила ни о Маджите, ни о других помощниках, ни о том, что будет с отцовским бизнесом. Это заставляло меня думать, что на сей раз отец исчез по другой причине. Но что толку в беспочвенных догадках?
Уже в то время я понял, что мысли приходят к нам в голову иногда в виде слов, а иногда в виде картинок. Порой я о чем-то не мог думать словами, но у меня перед глазами появлялась картина, например, как я бегу под дождем, который льет как из ведра. Иногда о чем-то я мог думать только словами, а вот в виде картины этого представить не мог: например, черный свет, смерть матери или бесконечность.
Может быть, я все еще был ребенком: мне удавалось иногда не думать о том, о чем я не хотел. А иногда все было ровно наоборот: я не мог отделаться от картинки или слова, о котором совершенно не хотел знать.
Отец исчез надолго. Бывало, что я уже не мог вспомнить его лица. В такие минуты я чувствовал себя, словно бы на мгновение выключилось электричество и я потерял зрение.
Однажды вечером я брел в одиночестве к Павильону Лип. Дверь аптеки «Хайят» была заперта, на ней висел замок, который, казалось, никогда не откроется. Из сада Павильона Лип поднимался туман.
Вскоре мать сказала, что наше финансовое положение очень плохое. Лично у меня не было тогда никаких расходов, кроме как на кино, донеры в лаваше и комиксы. В лицей на Кабаташе и обратно я ходил пешком. Некоторые мои приятели занимались тем, что скупали, а затем продавали или давали читать за деньги выпуски комиксов. Но мне не хотелось быть таким, как они, и терпеливо караулить по выходным клиентов у кинотеатров.
Лето 1985 года я провел на рынке в Бешикташе – продавцом в книжном магазине под названием «Дениз». Важной частью моей работы было прогонять книжных воришек, почти сплошь школяров. Иногда еще мы ездили с хозяином магазина Денизом на его машине в Чагалоглу за книгами. Хозяин, увидев, что я прекрасно запоминаю имена авторов и названия издательств, стал меня ценить и разрешал брать почитать книги домой. Тем летом я прочел очень много книг – множество приключенческих романов, роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», сборник рассказов Эдгара Аллана По, книжки стихов, исторические книги об османских военачальниках, даже один сонник. Статье из этого сонника предстояло изменить всю мою жизнь.
Друзья-писатели хозяина Дениза иногда заходили к нам в магазин. Тот, представляя меня им, часто говорил, что в будущем я стану писателем. Я сам как-то раз сболтнул ему об этой своей мечте, и вскоре, под влиянием хозяина, я поверил в это всерьез.
2
Денег, что я зарабатывал продавцом, должно было, по меньшей мере, хватить на курсы для поступления в университет. После того как отец исчез, мы с мамой сильно сблизились. Мое решение стать писателем она воспринимала со смехом, словно шутку.
Однажды, после возвращения из школы, я заглянул в шкаф и в ящики комода в родительской комнате и увидел, что рубашки и остальные вещи отца исчезли, хотя запах отцовского табака и одеколона по-прежнему был там.
В начале того лета, когда я закончил второй класс лицея, мы переехали из Стамбула в Гебзе[3]. Нам разрешили жить бесплатно в пристройке дома мужа моей тети. Если бы мне удалось в первой половине лета повкалывать на той работе, которую хотел поручить мне дядя, и скопить денег, то я бы смог после июля продолжить свою службу в книжном магазине «Дениз» в Бешикташе и поступить на курсы, чтобы готовиться к экзаменам в университет в будущем году. Хозяин магазина, знавший, как я расстроен из-за того, что мы уехали из Бешикташа, сказал, что летом, если мне захочется, я могу ночевать в магазине.
Дядя попросил меня за небольшую плату охранять поле и сад с черешней и персиками на окраинах Гебзе. Я увидел в саду старый стол под навесом и решил, что у меня будет много времени сидеть за ним и читать, но я ошибался. Поспела черешня, и на деревья то и дело налетали стаи шумных бесстыжих ворон. Кроме того, дети и рабочие с большой стройки неподалеку то и дело залезали воровать фрукты и овощи.
В соседнем саду рыли колодец. Иногда я ходил туда и наблюдал за работой орудовавшего лопатой мастера и двух его подмастерьев, которые таскали вырытую им землю.
Подмастерья крутили деревянное колесо лебедки, издававшее приятный скрип, поднимали очередное ведро с землей, отправленное снизу мастером, и высыпали на стоявшую рядом тележку. Затем один из подмастерьев, мой ровесник, куда-то увозил тележку, а в это время второй, который был старше и выше первого, кричал в колодец: «Лови!» – и опускал туда пустое ведро.
Мастер редко поднимался наверх. Первый раз я его увидел во время обеденного перерыва. Он был совсем как мой отец – высокий, стройный, красивый. Однако в нем не чувствовалось такого покоя, как в моем отце, и лицо его не было приветливым. Напротив, он часто сердился и ругал обоих подмастерьев на чем свет стоит. Поскольку тем явно не нравилось, что я слышу, как их ругают, то я старался не подходить близко к колодцу, когда мастер был наверху.
Однажды в середине июня со стороны колодца раздались радостные крики и выстрелы. Я подошел посмотреть. В колодце забила вода. Узнав об этом, владелец участка, родом из Ризе, прибежал и на радостях принялся палить в воздух. Я вдохнул сладковатый запах пороха. Радостный владелец участка раздал мастеру и подмастерьям деньги. Колодец ему был нужен для будущей постройки на этом участке, так как городской водопровод еще не довели до окраин Гебзе.
В последующие дни я не слышал, чтобы мастер ругал подмастерьев. На повозке он привез несколько мешков цемента и железные детали, залил колодец бетоном и установил металлическую крышку. Так как все явно повеселели, я решился подойти поближе.
– Парень, вижу, тебе нравится эта работа. Я еду копать колодец в одно место на окраинах Кючюкчекмедже[4]. Мои подмастерья не последуют за мной. Хочешь, отправимся вместе? – сказал колодезный мастер, которого звали Махмуд-уста.
Увидев, что я растерялся, он сказал, что хороший подмастерье зарабатывает в четыре раза больше садового сторожа. Работы предстоит всего на десять дней, и я смогу быстро вернуться домой.
Мама решительно воспротивилась:
– Я никогда тебе этого не разрешу! Ты поступишь в университет и будешь учиться!
Но мысль о возможности быстро разбогатеть не давала мне покоя. Я настойчиво повторял, что могу за две недели заработать деньги, которые в саду заработаю только за два месяца. Так что у меня появится больше времени, чтобы готовиться к вступительным экзаменам, ходить на курсы и читать. Я даже пригрозил моей бедной маме:
– Если ты мне не разрешишь, я сбегу!
А дядя сказал:
– Если мальчик хочет потрудиться, не сбивай его пыл. А я разузнаю, что за человек этот мастер.
Дядя-адвокат сдержал слово – он встретился в своем муниципальном кабинете в присутствии мамы с этим Махмудом-устой. Они договорились, что в колодец я спускаться не буду. Дядя назвал сумму моего вознаграждения, и мастер согласился. Дома я сложил свои рубашки и спортивные тапки в маленький старый отцовский чемодан.
Фургончик, которому предстояло отвезти нас на новое место работы, в тот дождливый день все никак не приезжал, а в это время мама, провожая меня, несколько раз заплакала; она просила меня передумать, говорила, что будет очень скучать и что мы от безденежья совершаем ошибку.
– Мама, обещаю никогда не спускаться в колодец, – произнес я, сжимая чемодан. И вышел из дому с гордо поднятой головой, совсем как отец при аресте.
Фургончик ждал на площади за старой мечетью напротив дома. Махмуд-уста внимательно, словно учитель, осмотрел мою одежду и чемодан в руках.
– Давай забирайся внутрь, мы выезжаем, – сказал он.
Я сел между водителем Хайри-бея, бизнесмена, который заказал вырыть колодец, и мастером. Первый час мы ехали молча. Когда мы проезжали мост через Босфор, то я попытался рассмотреть слева внизу свой лицей на Кабаташе и знакомые дома Бешикташа.
– Не волнуйся, наша работа не надолго, – сказал Махмуд-уста. – Ты успеешь на свои курсы.
Мне было приятно, что мама с дядей рассказали ему о моих заботах. Теперь я ему доверял. Переехав мост, мы попали в пробку и смогли выехать из Стамбула, только когда обжигающие лучи заходящего солнца вовсю слепили нам глаза.
На окраинах города домов стало меньше, теперь они казались маленькими, бедными, невзрачными, появилось много фабрик и заправок, а еще тут и там располагались мотели.
Какое-то время мы неслись вдоль железной дороги, а потом, когда совсем стемнело, свернули с шоссе. В свете редких фонарей я видел кипарисы, кладбища, бетонные стены, безлюдные площади. Иногда пробивался желтоватый свет из какого-нибудь окна, а иногда – мелькала неоновая вывеска очередной фабрики. Потом мы заехали на гору. Вдали сверкнула молния, небо осветилось, место, которое мы проезжали, оказалось пустынным – бесплодные земли, без единого деревца, – а затем и оно исчезло в темноте.
Когда мы наконец остановились, вокруг не было ни света, ни домов, и поэтому я решил, что фургончик сломался.
– Ну-ка помоги, – сказал Махмуд-уста.
Мы выгрузили доски, части лебедки, два перевязанных веревкой хлопковых матраса, лопаты и вещи в грубых пластиковых мешках. Шофер сказал нам:
– Ну что, ребята, удачи вам, – и удалился на своем фургончике.
А я, очутившись в кромешной тьме, заволновался. Вдали сверкала молния, но над нами небо было ясным и звезды светили ярко. Вдалеке облака над Стамбулом были подсвечены желтым.
Земля местами была мокрой от дождя. Мы принялись искать сухое ровное место и наконец нашли его. Вещи перенесли туда. Мастер начал ставить палатку с помощью привезенных с собой шестов. Веревки, которые надо было натянуть, и крюки, за которые надо было их зацепить, в ночи были совсем не видны, и у меня перехватило дух. Я слышал только голос Махмуда-усты, который говорил: «Держи здесь, подтяни там».
Мы услышали уханье филина. Я подумал, обязательно ли нам ставить палатку, раз уж дождь кончился, но решимость мастера вселила в меня уверенность.
После полуночи нам все-таки удалось ее установить, и, расстелив матрасы, мы легли спать. Летние дождевые тучи разошлись, ночь стала ясной и звездной. Неподалеку раздалось пение цикад. Оно меня успокоило. Я вытянулся на матрасе и сразу уснул.
3
Когда я проснулся, в палатке никого не было. Где-то жужжала пчела. Я вышел. Солнце стояло уже так высоко, что мои глаза на какое-то время ослепли от яркого света.
Я находился на совершенно ровном участке на вершине холма. Чуть поодаль виднелись два зеленовато-желтых кукурузных поля, за ними поля пшеницы и каменистые пустыри. На равнине белели дома маленькой деревеньки и мечеть.
Где Махмуд-уста? По донесшемуся издалека звуку горна я понял, что здания свинцового цвета на окраине деревни были военными казармами. Казалось, вся земля погрузилась в глубокое безмолвие воспоминаний. Я чувствовал себя счастливым, находясь здесь, вдали от всех, от Стамбула, и гордился тем, что сам зарабатываю себе на жизнь.
Со стороны деревни донесся гудок паровоза. Всмотревшись в ту сторону, я увидел удаляющийся состав с вагонами.
Через некоторое время в мою сторону из деревни зашагал Махмуд-уста. Сначала он шел вдоль дороги, а потом, когда она начала петлять, направился напрямик через пустыри и поля.
– Я набрал воды, – сказал он. – Ну-ка давай завари мне чай.
Пока я заваривал чай на примусе, приехал вчерашний фургончик и привез владельца участка Хайри-бея. За хозяином из кузова вылез юноша. По разговорам я понял, что его зовут Али и он будет спускаться в колодец вместо подмастерья из Гебзе, который передумал ехать сюда с нами в последний момент.
Махмуд-уста вместе с Хайри-беем долго вышагивали по участку. Местами покрытый травой, камнями, а местами с проплешинами, участок составлял немногим более десяти дёнюмов[5]. Они находились с наветренной стороны, и даже когда дошли до самой дальней точки участка, мы с Али слышали, как они спорят и не могут договориться.
Участок Хайри-бею достался по дешевке. Если найдется вода, то сюда сразу проведут электрическую линию. А потом Хайри-бей построит здесь настоящую фабрику: мастерские по окраске тканей, склады, роскошное здание дирекции и столовую. План он даже принес нам показать. В глазах Махмуда-усты я видел внимание к словам Хайри-бея, но на самом деле мы с мастером думали только о подарках и наградах, обещанных нам владельцем за найденную воду.
– Да благословит Аллах ваше дело, пусть подарит он вашим рукам силу, а глазам – зоркость! – торжественно произнес Хайри-бей, словно османский паша, провожавший янычарское войско в поход. Садясь в фургончик, он на прощание махнул нам рукой.
Ночью я не мог сомкнуть глаз из-за храпа Махмуда-усты и высунул голову наружу. Небо было темно-синим, мир освещали только звезды.
4
В те времена буровая техника и пробные скважины еще не использовались. Колодезных дел мастера тысячелетним опытом и чутьем определяли, где нужно рыть очередной колодец. Махмуд-уста, конечно же, знал приметы. Но он насмехался над теми мастерами, которые то и дело меряли шагами участок, что-то бормотали, читали молитвы. Он чувствовал себя представителем последнего поколения этой профессии, насчитывавшей тысячи лет, и поэтому во всем, что касалось дела, проявлял сдержанность и скромность.
– Ты должен смотреть на темные цвета земли, на ее влагу, искать черную землю, – говорил он мне. – Если увидишь, что на участке есть неровности – низменность, каменистая часть, пригорки, тень, то именно там ты должен искать воду, – объяснял он мне. – Там, где много деревьев и зелени, земля темная и влажная, должна быть вода. Понимаешь? Ты должен обращать на это внимание.
Земля, как оказалось, состояла из нескольких слоев, точно так же, как небо, состоявшее из семи уровней[6]. (Иногда по ночам, глядя на звезды, я ощущал мир, расположившийся под нами.) Например, на глубине двух метров, под темной черной землей, мог внезапно появиться ужасный слой совершенной сухой, не пропускавшей влагу почвы или даже песок. Старые мастера, которые пытались исследовать землю в поисках воды, были вынуждены разбираться в языке земли, трав, насекомых и даже птиц. И, шагая по поверхности, чувствовать ногами, где под землей прячется скала или глина.
Злые языки болтали, что некоторые старые умельцы способны разговаривать с подземными богами и джиннами. Когда я был маленьким, то простые люди, пытаясь найти воду, всей душой желали верить в эти выдумки, над которыми мой отец смеялся. Я очень хорошо помню, как в Бешикташе в садах лачуг гедже-конду[7] подобным образом искали место для колодца. В детстве я не раз видел, с каким уважением смотрят тетушки и дядюшки на очередного мастера, который в поросшем плющом дворе, по которому бродят куры, слушает землю, словно врач легкие больного.
– Если будет на то воля Аллаха, наша работа закончится самое позднее через две недели, и воду я найду здесь на глубине десяти-двенадцати метров, – еще в первый день пообещал мне Махмуд-уста.
Со мной он разговаривал более откровенно, потому что второй подмастерье, Али, был человеком хозяина. Мне это нравилось, я чувствовал себя так, будто участвую в нашем собственном с мастером деле.
На следующее утро Махмуд-уста указал место, где нужно рыть колодец. Оно находилось в дальнем углу участка.
У моего отца была привычка скрывать свою политическую деятельность, и поэтому он никогда не позволял мне вмешиваться в его дела и не спрашивал моего мнения. А Махмуд-уста делился со мной соображениями. Он рассказал, что нам достался сложный участок. Мне его разговоры очень нравились, я полюбил его. Правда, в какой-то момент он ушел в себя и принимал решения, не советуясь со мной и ничего мне не объясняя. Так я впервые почувствовал его власть надо мной.
Махмуд-уста вбил в землю колышек. Почему он выбрал именно это место? Чем оно отличалось от других? Может быть, если достаточно долго копать в любом месте, то все равно появится вода? Мне хотелось задать ему эти вопросы, но я понимал, что спросить не смогу. Я был ребенком, он не был мне ни другом, ни отцом, он был моим мастером.
К колышку он привязал веревочку, а к другому ее концу – острый гвоздь и объявил, что длина веревочки – метр. Здешние камни стену колодца не выдержат. Колодец придется делать из бетона. Толщина бетонной стены будет двадцать – двадцать пять сантиметров. Натягивая нить, он отмечал гвоздем точки на земле. А мы с Али, соединяя эти точки, вычерчивали круг.
– Окружность колодца должна быть очень аккуратной, – сказал Махмуд-уста. – Если окружность будет неровной, то стена не выдержит, поедет.
Так я впервые услышал об опасности обвала. Мы с мастером начали рыть лопатами землю, я нагружал ею тачку Али.
– Не насыпай в тачку много земли, – запыхавшись, просил тот.
Вскоре мы с Али начали работать медленнее. От безостановочно двигавшейся лопаты Махмуда-усты на краю будущего колодца стала скапливаться земля. Если земли скапливалось слишком много, мастер бросал лопату, ложился под оливковое дерево поодаль и ждал, когда мы уберем ее.
После захода солнца я рухнул на матрас, не найдя в себе сил даже съесть тарелку чечевичного супа. На руках моих вздулись волдыри, а затылок сгорел на солнце.
– Ты привыкнешь, маленький бей, привыкнешь, – улыбался Махмуд-уста, не сводя глаз с экрана маленького телевизора на батарейках, который он пытался настроить.
Меня задело то, что я такой нежный и не могу выполнять грубую ручную работу, но его обращение ко мне – «маленький бей», – мне очень польстило. Мастер признавал, что я городской, из образованной семьи, а значит, он будет по-отечески меня беречь.
5
Городок, который находился на расстоянии пятнадцати минут ходьбы от нашего участка, назывался Онгёрен. Вывеска, красовавшаяся на въезде, гласила, что население его составляет шесть тысяч двести человек. Первые два дня мы безостановочно копали колодец. Но вскоре нам потребовались строительные материалы, так что на третий день после полудня мы втроем спустились с холма и отправились в Онгёрен.
Сначала Али отвел нас к деревенскому столяру. Так как на глубине двух метров землю лопатой наверх выкидывать было уже невозможно, нам нужно было сделать лебедку. Но досок, которые привез на фургончике шофер владельца участка, оказалось недостаточно. Столяр спросил, кто мы такие и что поделываем. Махмуд-уста ответил, что мы мастера по устройству колодцев. Столяр, узнав, где мы работаем, только и сказал:
– А, там, наверху.
В последующие дни Махмуд-уста, когда мы спускались в городок, то и дело наведывался к этому столяру, а также к бакалейщику и к хозяину табачной лавки, который носил очки, и в скобяную лавку, которая не закрывалась допоздна. Я очень любил спускаться в Онгёрен с моим мастером по вечерам, после тяжелого рабочего дня, бродить с ним по улицам, сидеть с ним либо на скамейке в маленьком парке, в котором росли кипарисы и сосны, либо за выставленным на улицу столиком какой-нибудь кофейни, либо в дверях какой-нибудь мастерской, либо в прохладном углу на станции.
Судьба сыграла с Онгёреном злую шутку. Во время Второй мировой войны здесь разместили пехотную часть для обороны Стамбула. Спустя сорок лет большое количество военных стало как главным источником доходов для городка, так и главным источником его проблем.
Почти все магазинчики в центре по выходным продавали почтовые открытки, носки, телефонные жетоны, пиво и тому подобные вещи солдатам, получавшим на выходных увольнительные. На улице, которую жители называли «улица столовых», для все той же публики бок о бок были расположены закусочные и кебабочные. Там постоянно дежурили жандармы. Маленькие кондитерские и кофейни, днем до отказа забитые солдатами, по вечерам пустели, и мы видели уже совершенно другой город. К тому времени жандармы успокаивали расшумевшихся солдат, крикунов – посетителей шумных баров, а если где вспыхивала ссора или драка, немедленно арестовывали буянов.
Тридцать лет назад, когда солдат в гарнизоне было больше, для родственников военных и для членов их семей было открыто несколько гостиниц. Но впоследствии в Стамбул ездить стало проще, и они опустели. Еще в первый раз, когда Али показывал нам городок, он сказал, что большинство из подобных заведений превратились в тайные дома свиданий. Гостиницы были расположены на привокзальной площади. С самого первого дня мы очень полюбили это место, там находились небольшая статуя Ататюрка, кондитерская «Йылдыз» с популярным мороженым, почта и кофейня «Румелия».
Однажды Али сводил нас к кузнецу. У него Махмуд-уста заказал крепеж для лебедки. Также он заказал четыре мешка цемента, мастерки, гвозди и веревки.
Весь этот строительный материал мы погрузили на запряженную лошадью телегу, за которой кузнец послал своего помощника. Пока телега со страшным скрипом передвигалась по мостовой, я с грустью думал о том, что скоро все закончится; я поеду в Гебзе к маме, а потом вернусь в Стамбул. Помню также, как, заглянув в усталые темные глаза лошади, я подумал, какая она старая.
Мы оказались на привокзальной площади. В доме, мимо которого мы проходили, открылась дверь. На улицу вышла дама в джинсах. Обернувшись, она строгим, недовольным голосом окликнула:
– Где вы там?
В открытой двери показался молодой человек старше меня лет на пять-шесть, а за ним – высокая рыжеволосая женщина, возможно, его старшая сестра. В рыжеволосой женщине было что-то необычное и привлекательное.
Скорее всего, дама в джинсах была матерью молодого человека и рыжеволосой.
– Кажется, я забыла взять деньги! – воскликнула рыжеволосая.
Прежде чем войти в дом, она бросила взгляд на меня и на старую лошадь. Я увидел на ее прекрасных полных губах печальную улыбку, словно бы она заметила во мне или в лошади что-то странное. На ее лице появилось милое и нежное выражение.
– Ну давайте же быстрее! – воскликнула ее мать. На нас она не обратила никакого внимания.
Когда телега наконец выехала из Онгёрена и мостовая закончилась, колеса стали шуметь меньше. Поднявшись на холм и оказавшись на нашем участке, я почувствовал, что мы попали совершенно в другой мир.
Облака развеялись, вышло солнце, и даже наша голая земля окрасилась разнообразными цветами. По обеим сторонам извивающейся дороги из кукурузных полей показывались черные вороны, но, завидев нас, раскрывали крылья и тут же улетали. Я заметил, что темно-синяя возвышенность со стороны Черного моря приобрела странный голубоватый оттенок, на полях вокруг нее зеленели редкие деревья. Наш холм, на котором мы рыли колодец, дома вдалеке, расцвеченные бледными красками, тополя с дрожащими листьями, уходившая вдаль железная дорога – все было прекрасным, и будто краем сознания я ощущал во всем этом присутствие красивой рыжеволосой женщины, которую только что увидел.
Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Рыжие волосы на свету странно сияли. Она смотрела на меня так, будто я был ее старым знакомым.
Погружаясь в сон, я разглядывал звезды и пытался увидеть во сне лицо Рыжеволосой Женщины.
6
На следующее утро, то есть на четвертый день работы, мы наконец установили лебедку. По обеим ее сторонам находились две рукоятки с тонкими ручками, а посередине валик с привязанной к нему веревкой; вся эта конструкция размещалась на деревянной треноге. Рядом стояли козлы, на которые ставилось поднятое наверх ведро.
Мы с Али крутили лебедку за обе рукоятки и поднимали наверх наполненное мастером ведро с землей. Ведро было больше обычного колодезного; после того как оно заполнялось до краев каменистой землей, мы, оба подмастерья, с трудом вытаскивали его. Когда же ведро поднималось до нашего уровня, мы аккуратно его подхватывали и ставили на козлы, слегка ослабив веревку. Все это требовало силы и ловкости. Поставив полное ведро на деревянные козлы, мы с Али переводили дыхание. Затем торопливо лопатами пересыпали некоторое количество земли в тачку и, когда ведро становилось легче, хватали его и высыпали туда же. Затем я аккуратно опускал ведро вниз, крикнув: «Лови!», как научил нас мастер. Махмуд-уста бросал лопату, ловил ведро, ставил его на дно колодца и быстро заполнял вновь. В первые дни сверху я мог слышать его тяжелое дыхание, когда он яростно, с какой-то злостью работал лопатой. Так как он продвигался в глубину на метр в день, то вскоре звук дыхания стал плохо различим.
Махмуд-уста кричал: «Тяни!», не поднимая головы. Если мы с Али были наготове, то тут же бросались к рукояткам лебедки. Иногда Али запаздывал, и, так как мне было тяжело поворачивать лебедку одному, приходилось его ждать. А иногда мастер работал медленно. Мы смотрели, как Махмуд-уста наполняет ведро землей.
Эти минуты ожидания были единственным временем отдыха. Тогда мы с Али обменивались парой слов. Но я уже с первого дня понял, что не смогу расспросить его обо всех людях, которых мы видели в городке, о загадочной Рыжеволосой Женщине с прекрасными глазами и полными губами. Может быть, я боялся, что он ее не знал, а может быть, боялся услышать нечто такое, что разобьет мне сердце.
То, что Рыжеволосая Женщина не выходит у меня из головы, я хотел скрыть не только от Али, но даже от самого себя. По вечерам, когда я одним глазом смотрел на звезды, а другим косился в маленький телевизор мастера и уже было засыпал, образ Рыжеволосой Женщины внезапно оживал передо мной. Если бы у нее не было такой улыбки, а на лице не было выражения нежности и такого взгляда, будто мы с ней знакомы уже давно, я, вполне возможно, так много о ней бы не думал.
Раз в три дня после полудня на фургончике приезжал владелец участка Хайри-бей, чтобы с нетерпением расспросить, как идут дела. Если мы сидели за обедом, то Махмуд-уста всегда приглашал его к нашей трапезе, состоявшей из помидоров, хлеба, брынзы, оливок, винограда и кока-колы. А иногда мастер в этот момент сидел на дне колодца, и Хайри-бей вместе с нами, двумя подмастерьями, безмолвно, с уважением смотрел на него.
Поднявшись, уста отводил Хайри-бея на другую сторону участка, туда, куда Али высыпал мусор, и, показывая осколки скальных пород и комки земли, рассказывал о продвижении наших работ и о том, когда, по его мнению, вода наконец покажется. В первые дни мы проходили слои, где было мало камней, но после трех метров, на четвертый или на пятый день, начался твердый слой: работы замедлились. Махмуд-уста был уверен: как только пройдем эту твердую жилу, сразу найдем мокрую землю, а фабрикант Хайри-бей в ответ приговаривал: «Иншаллах!» Он обещал, что в тот день, когда мы найдем воду, он зарежет барашка и устроит угощение, и в очередной раз повторял, что щедро наградит Махмуда-усту и нас, и даже рассуждал, в какой из стамбульских кондитерских закажет пахлаву для праздника.
В полдень скорость нашей работы заметно падала. На холме росло большое ореховое дерево. Я ходил полежать под ним и даже иногда засыпал. Когда я погружался в дрему, передо мной опять появлялась Рыжеволосая Женщина, хотя я совершенно не думал о ней. Она смотрела на меня так, будто бы говорила: «Я все про тебя знаю!» Это делало меня счастливым. Иногда эта женщина появлялась передо мной, когда я готов был потерять сознание от полуденного зноя. Что-то в этом образе было такое, что вселяло в меня радость и дарило надежду.
Когда жара была особенно сильной, мы с Али лили друг на друга воду и много пили. Воду привозил в пластиковых бидонах фургончик Хайри-бея. Раз в два-три дня он привозил также из города еду, которую мы заказывали. Деньги на помидоры, зеленый перец, сливочное масло, хлеб, маслины и все прочее Махмуд-уста давал шоферу, но, кроме заказов, всякий раз фургончик привозил арбузы, дыни, иногда шоколад и сладости, а иногда целый казан долмы, плова или тушеного мяса, которые присылала нам жена Хайри-бея.
Махмуд-уста очень щепетильно относился к ужину. Каждый день, прежде чем взяться за укрепление колодца, заставлял меня хорошенько намыть картошку, баклажаны, чечевицу, томаты, перец и самолично складывал все в небольшой казан, который мы привезли из Гебзе, затем добавлял в него немного масла и все это ставил на слабый огонь. Я отвечал за то, чтобы до захода солнца еда в казане хорошо приготовилась и не пригорела.
Каждый день перед окончанием работы Махмуд-уста ставил деревянную опалубку на том метре, что вырыл за день, и заливал в нее бетон. Мы с Али смешивали цемент с песком и разбавляли водой, смесь переливали в тачку и по деревянному желобу, который, как с гордостью говорил Махмуд-уста, он выдумал сам, аккуратно заливали ее в колодец. Махмуд-уста, глядя на то, как мы лопатами пропускаем мокрый бетон по желобу, давал нам снизу указания: «Выше!» или «Правее!», злился и кричал на нас, потому что бетон быстро твердел. В такие минуты я очень тосковал по отцу, который никогда на меня не ругался. Но в то же время я злился на отца, ведь из-за него мы остались без денег. А Махмуд-уста все-таки время от времени проявлял ко мне внимание, – чего никогда не делал отец, – рассказывал разные истории, поучал и то и дело спрашивал, не голоден ли я, не устал ли я, все ли хорошо. Может быть, именно поэтому я так сердился, когда он меня ругал? Если бы меня поносил мой отец, то я бы согласился с ним, извинился и забыл о произошедшем. А когда меня клял мастер, это задевало меня за живое, и я, с одной стороны, послушно следовал его воле, а с другой – злился на него.
В конце концов Махмуд-уста кричал: «На сегодня всё!», вставал в ведро одной ногой, а мы, вращая лебедку, поднимали его наверх, как на лифте. Наверху Махмуд-уста ложился под оливковое дерево, и воцарялось безмолвие. Я, ощущая, насколько мы близки к природе и насколько одиноки, вспоминал отца, мать и нашу жизнь в Бешикташе.
Затем я тоже ложился куда-нибудь в тенек и смотрел, как шагает удаляющийся от холма Али. Он всякий раз возвращался в город. Али шел не по петляющей дороге, а срезал путь, пробираясь по пустырям и полям, заросшим сорняками и колючками. Интересно, где находился его дом? И далеко ли от его дома жили рыжеволосая красавица, ее брат и строгая мать?
Пока голова моя была занята этими мыслями, до меня долетал приятный запах сигареты Махмуда-усты. Слушая доносившиеся издалека крики солдат перед отбоем и гудение пчелы, я размышлял о том, как странно быть свидетелем этого мира и жить в нем.
Однажды я поднялся, чтобы проверить казан с едой, и увидел, что Махмуд-уста уснул. Воображая, как в детстве, что он великан, а я Гулливер, угодивший в страну великанов, я внимательно разглядывал спящего мастера. Руки Махмуда-усты были твердыми и грубыми. На пальцах – порезы, родинки, а под рубашкой с короткими рукавами, в тех местах, куда не попадало солнце, был заметен белый цвет кожи. Я смотрел, как раздуваются во время сна ноздри его длинного носа. В густых, местами с проседью волосах застряли комочки земли, а по шее вверх-вниз ползали любопытные муравьи.
7
Каждый вечер на закате Махмуд-уста спрашивал меня:
– Ты будешь мыться?
У пластмассового бидона был небольшой краник, струйкой из которого мы могли помыть только руки и лицо. Чтобы вымыться целиком, сначала нужно было накопить воду в пластмассовом ведре. Мне было не по себе, когда Махмуд-уста лил мне воду на голову большой кружкой: не потому, что вода не прогрелась на солнце, а потому, что он видел меня обнаженным.
– Ты еще совсем ребенок, – сказал он мне как-то раз.
Что он имел в виду? Что я слаб на вид? Сам он был мускулистым, крепко сбитым и очень сильным, грудь и спина были покрыты черными волосами.
Когда наступала моя очередь лить воду из жестяной кружки на намыленную голову Махмуда-усты, я старался на него не смотреть. На его руках, ногах, спине были синяки. Я их видел, но никогда ничего не говорил. В свою очередь Махмуд-уста, когда сам лил мне воду на голову, мог коснуться своим огромным твердым пальцем моей спины или руки, наполовину в шутку, наполовину с любопытством, и, увидев, как я вздрагиваю и охаю, смеялся и приговаривал: «Осторожно!»
Махмуд-уста вообще часто приговаривал: «Осторожно!», и всякий раз это слово звучало то резко, то упреждающе. Еще он говорил: «Глупый ученик-подмастерье может изувечить мастера в колодце, а невнимательный – убить». Или: «Ты всегда должен все свое внимание, все зрение и слух занимать только тем, что происходит внизу», – и рассказал, как однажды на него из-за оторвавшейся ручки упало полное земли ведро. Еще он пояснил, что, если зазевавшийся наверху подмастерье в течение трех минут не заметит, что мастер внизу отравился углекислым газом и потерял сознание, тот очень быстро может оказаться в лучшем мире.
Когда мастер с увлечением рассказывал о невнимательных подмастерьях, я чувствовал, что он как-то связан с подземным миром, с миром мертвых и глубинами земли и эта связь сохраняет в его голове незабываемые воспоминания о потаенных уголках рая и ада. От подобного мне делалось не по себе. С точки зрения мастера, по мере того, как мы зарываемся в землю, мы поднимаемся ввысь, к Аллаху и его ангелам. Но по ночам прохладный ветер, темно-синий небесный свод и подвязанные к нему десятки дрожащих звезд напоминали мне, что мы находимся на бренной земле.
В прекрасной тиши, устанавливавшейся перед заходом солнца, Махмуд-уста обычно звякал крышкой, заглядывая в казан, чтобы проверить ужин, одновременно пытаясь наладить изображение в телевизоре. Телевизор он привез из Гебзе вместе со старым автомобильным аккумулятором, но первых два вечера аккумулятор никак не мог заработать, и он отправил его на фургончике в Онгёрем на починку. Теперь аккумулятор давал электричество, но для того, чтобы получить более-менее сносное изображение на экране, Махмуду-усте приходилось как следует потрудиться. Это сердило его, и тогда он звал меня, совал мне в руки антенну, представлявшую из себя моток проводов, и командовал, куда встать, чтобы картина была четкой. После долгих усилий изображение наконец появлялось, но, как только мы садились за ужин, изображение вновь мутнело, словно старые воспоминания, дрожало и скрывалось в тумане. Тогда мы вставали и поправляли антенну, но чаще всего к концу ужина картинка исчезала окончательно, оставался только звук. Однако мы продолжали слушать новости и рекламу.
К тому времени заходило солнце. В сумерках раздавались странные и резкие голоса птиц. Затем появлялся розоватый месяц. Вокруг палатки начинали трещать цикады, издалека доносился лай собак, а я вдыхал запах затухающего костра и вспоминал стамбульские кипарисы.
Мой отец никогда мне ничего не рассказывал. А вот Махмуд-уста каждый вечер делился разными историями. Совершенно неясно было, где в этих историях правда, а где вымысел, где начало, а где конец. Но я всякий раз заслушивался ими и особенно любил мораль, которая неизменно следовала за каждой из них. Признаться, я не до конца понимал эти рассказы. Например, однажды Махмуд-уста рассказал, что в детстве его утащило под землю огромное чудовище и что, оказывается, под землей не темно, а, наоборот, светит яркий свет. Чудовище отнесло его в сияющий дворец и усадило там за огромный стол, накрытый угощениями из скорлупок орехов, панцирей насекомых, рыбьих голов и мелких рыбьих косточек. Перед ним появлялись самые прекрасные кушанья на земле, но Махмуд-уста услышал у себя за спиной голоса плачущих женщин и не прикоснулся ни к чему. При этом он неожиданно добавил, что голоса женщин, плакавших во дворце подземного падишаха, очень похожи на голос женщины-диктора из телевизора.
В другой раз он рассказал, как две горы – одна из пробки, одна из мрамора – тысячи лет молча смотрели друг на друга и так и не поговорили, и закончил повествование следующей моралью: в Священном Коране будто бы есть аят, в котором сказано: «Возводите ваши дома на горе». Это значит, что при землетрясении дома на горе не пострадают. Нам повезло, что мы рыли колодец на холме – на возвышенности вода легче поднимается.
Что касается телевизора, несмотря на то что смотреть было больше не на что, мы оба вглядывались в туманные изображения на экране, будто картинка была отчетливой и понятной.
Иногда Махмуд-уста восклицал, указывая на какое-то пятно на экране:
– Смотри, ты видишь, там есть горы. Это не случайно.
И я мгновенно замечал две горы, обменивавшиеся взглядами в призрачном мире экрана. Но пока я не решался признаться даже самому себе, что это обман, Махмуд-уста внезапно менял тему разговора, принимаясь наставлять: «Завтра, смотрите, не заполняйте тележку до краев!»
Меня очаровывало то, что человек, который рассуждал и вел себя как настоящий инженер, когда заливал бетон, когда присоединял телевизор к аккумулятору, когда чертил рисунок лебедки, – рассказывал все эти легенды и истории так, как будто пережил их в реальности сам.
После ужина я собирал посуду, а Махмуд-уста иногда предлагал: «Давай пойдем в город, купим гвоздей» или спохватывался: «У меня закончились сигареты».
Пока мы в прохладной тьме шагали в Онгёрен, месяц освещал нам дорогу. Мне очень нравилось вечернее пение цикад. А в безлунную ночь я любил рассматривать тысячи сияющих звезд на небосводе.
В городке я звонил матери. Как-то раз я позвонил ей и сказал, что у меня все нормально, а она заплакала. Я сказал, что Махмуд-уста заплатил мне денег. (Это было правдой.) Я сообщил, что не позже чем через две недели буду дома (признаться, в этом я не был уверен). Краешком сознания я понимал, что я очень доволен тем, что я здесь, с Махмудом-устой. Возможно, потому, что я сам зарабатывал деньги, что стал мужчиной после того, как нас бросил отец.
Когда по вечерам мы спускались в Онгёрен, я понимал настоящую причину своей радости. Мне хотелось вновь встретиться с Рыжеволосой Женщиной, которую я видел на привокзальной площади. Всякий раз, когда мы приходили в городок, я старался, чтобы наш с Махмудом-устой путь прошел мимо ее дома. А если в какой-либо вечер мы не оказывались на привокзальной площади, я находил предлог, сбегал от мастера и направлялся, замедляя шаги, к тому дому.
Дом был трехэтажным, оштукатуренным и выглядел бедным. После вечерних новостей на двух верхних этажах загорался свет. На среднем этаже окна всегда были закрыты занавесками. На верхнем этаже занавески были чуть раздвинуты, а иногда одно окно оставалось открытым.
Я представлял себе, что Рыжеволосая Женщина живет с матерью и братом в третьем этаже, – это означало, что у них неплохо с деньгами. Интересно, чем занимался отец Рыжеволосой Женщины? Может быть, и он, как мой отец, скрылся и бросил свою семью.
Работая, я часто воображал себе, как мы с Рыжеволосой Женщиной поженились, как занимаемся с ней любовью, как счастливо живем вместе. Ее стремительные движения, изящные руки, длинная шея, полные губы и нежное, грустное выражение лица не выходили у меня из головы. Эти фантазии распускались в моем сознании, как полевые цветы.
8
В те вечера, когда мы с Махмудом-устой возвращались из городка к себе в палатку, мне казалось, будто мы идем прямо на небосвод, – так как на взгорье между городком и нашим холмом не было ни одного дома, вокруг стояла кромешная тьма, и с каждым шагом мне казалось, что мы приближаемся к звездам. Кипарисы, росшие на маленьком кладбище в конце подъема, преграждали нам путь к ним, отчего ночь казалась еще темнее.
Мы часто видели падавшие звезды. Махмуд-уста считал, что каждая звезда – это чья-то жизнь. Всемогущий Аллах сотворил летние ночи такими звездными, чтобы было понятно, сколько в мире живет людей, сколько в нем жизней. Поэтому, когда падала очередная звезда, Махмуд-уста иногда начинал грустить, словно бы в самом деле стал свидетелем чьей-то смерти, молился, а увидев, что я отвлекся, сердился, и тут же принимался рассказывать очередную историю. Должен ли я был верить всему, что он рассказывает, чтобы он не сердился на меня? Когда много лет спустя я окончательно осознал, что истории, рассказанные мне Махмудом-устой, твердо определили направление моей жизни, я прочел много книг, чтобы найти их источники.
Бóльшая часть историй была позаимствована мастером из Корана. Например, притча о том, как шайтан заставлял людей рисовать портреты их покойных родственников, а затем советовал смотреть на эти портреты – чтобы живые в конце концов сделали себе из умерших близких идолов и сбились с пути истинной веры. Махмуд-уста признавался, что слышал подобные истории то ли от какого-то дервиша, то ли где-то в кофейне, но рассказывал так, будто пережил их сам.
Однажды он поведал, как забрался в колодец пятисотлетней давности, сохранившийся со времен Византии. На дне этого колодца, который все считали населенным джиннами, на самом деле скопился углекислый газ. Махмуд-уста, прежде чем спуститься, поджег развернутую, словно крылья голубя, газету и бросил ее вниз. Медленно падавшая газета на дне колодца погасла, так как там не осталось воздуха. Я поправил мастера, сказав, что не воздуха, а кислорода там не осталось. Тот не обратил никакого внимания на мою дерзость и рассказал, что стены византийских колодцев сделаны точно так же, как у османских – наполовину из кирпича, наполовину из камней, с пауками и змеями, и использовалась в них штукатурка по хорасанскому рецепту, а до Республики и до Ататюрка все старые колодезных дел мастера в Стамбуле были армянами.
Иногда он с грустью вспоминал, что в семидесятые годы, когда дела шли очень хорошо, он рыл много колодцев в кварталах гедже-конду, на окраине стамбульских районов Сарыйер, Бююк-дере и Тарабья. У него было много подмастерьев, иногда он копал одновременно два-три колодца. В те годы все переселялись из Анатолии в Стамбул и строили лачуги на холмах над Босфором – там не было ни воды, ни электричества. Три-четыре соседа скидывались и звали Махмуда-усту рыть колодец. В те времена у Махмуда-усты была собственная щегольская тележка, расписанная цветами и фруктами, а сам он, как большой хозяин, который зорко следит за тем, как идет дело, в которое он вложил деньги, иногда за день объезжал с проверкой три колодца в трех разных районах, в каждый спускался, проверяя работу подмастерья, и убедившись, что может доверять ему, спешил в следующий район.
– Если ты не доверяешь собственному подмастерью, то ты не сможешь быть мастером, – говорил он. – Мастер должен быть уверен, что парень наверху делает все правильно. Тот мастер, который доверяет своему подмастерью как собственному сыну, преуспевает. Как ты думаешь, кто был моим мастером?
– Кто? – спрашивал я, хотя прекрасно знал ответ.
Махмуд-уста знал, что ответ мне известен, поскольку много раз говорил мне об этом, но все равно наставительно повторял:
– Моим мастером был мой отец. Ты тоже будешь хорошим подмастерьем, будешь мне как сын.
Махмуд-уста считал, что отношения мастера и подмастерья похожи на отношения отца с сыном. Каждый мастер должен любить своего ученика как отец, беречь и учить его. В ответ на это ученик должен хорошенько узнать дело своего мастера, слушать его советы и проявлять покорность. Если между мастером и учеником появится неприязнь, то для обоих это кончится плохо, и дело останется недоделанным. Я был из хорошей семьи, поэтому мастер за меня не беспокоился; он не ожидал от меня неуважения или непослушания.
Махмуд-уста родился в городке Сушехри, что под Сивасом. Когда ему было десять лет, отец с матерью перебрались в Стамбул. Детство его прошло на окраинах Бююк-дере, в лачуге, которую они сами построили. Мастеру нравилось говорить, что семья его была бедной. Его отец работал садовником на последних ялы[8] Бююк-дере, колодцы рыть научился уже немолодым. Решив, что это дело принесет доход, продал домашний скот, а сына Махмуда взял помощником. До окончания лицея Махмуд-уста помогал отцу, а после армии, в семидесятые годы, когда в садах и в кварталах бедняков рыли больше всего колодцев, купил себе повозку с лошадью и после смерти отца продолжил его дело. За двадцать лет он вырыл больше ста пятидесяти колодцев. Ему было сорок три года, как моему отцу, но он никогда не был женат.
Интересно, знал ли он, что мой отец нас бросил и что мы с матерью остались без денег? Я задавался этим вопросом каждый раз, когда Махмуд-уста говорил о своем детстве, которое прошло в борьбе с бедностью. Иногда я с обидой думал о том, что он меня подкалывает, так как я был сыном хозяина аптеки, «маленьким беем», только из-за стесненных обстоятельств ставшим его учеником.
Однажды вечером, спустя неделю после того, как мы начали рыть колодец, Махмуд-уста рассказал легенду о пророке Юсуфе и его братьях[9]. Их отец Якуб из всех своих сыновей больше всего любил Юсуфа, остальные братья завидовали такой любви и решили бросить Юсуфа в темный колодец. Мне запомнилось, как Махмуд-уста, глядя мне в глаза, говорил:
– Да, Юсуф был красивым и очень умным, но отец никогда не должен выделять никого из своих сыновей. Отец должен быть справедливым.
А чуть позже добавил:
– Несправедливый отец делает своего сына слепым.
Почему он заговорил о слепоте? Неужели для того, чтобы подчеркнуть, что Юсуф сидел в колодце в кромешной тьме? Много лет спустя я задавал себе этот вопрос бессчетное количество раз. По какой причине эта история так взволновала меня?
9
Махмуд-уста неожиданно докопался до твердой скалы, и у нас впервые испортилось настроение. Теперь он работал осторожнее, потому что боялся сломать лопату.
Пока мы наверху ждали, когда заполнится ведро, Али ложился отдохнуть на траву в сторонке. Но я никогда не спускал глаз с мастера. Стояла невыносимая жара, солнце пекло в затылок.
Около полудня приехал хозяин участка Хайри-бей, которому тоже не понравилось, что в колодце нашлась скала. Под раскаленным солнцем он выкурил сигарету, разглядывая дно колодца, а затем уехал в Стамбул. Он оставил нам арбуз, мы его разрезали и съели с брынзой и теплым хлебом.
Вечером Махмуд-уста впервые не стал сколачивать опалубку. Он орудовал лопатой до захода солнца, был измотан и зол. Когда мы сели ужинать, то вообще не разговаривали.
Уезжая, Хайри-бей сказал:
– Надо было вам копать там, где я показывал, – чем немало задел гордость Махмуда-усты.
– Мы сегодня в город не пойдем, – сказал Махмуд-уста после ужина.
Было очень поздно, он был очень уставшим, поэтому я не возразил, хотя привык навещать каждый вечер привокзальную площадь, думая о Рыжеволосой Женщине и разглядывая окна ее дома.
– А ты сходи ненадолго, – сказал Махмуд-уста. – Принесешь мне пачку «Мальтепе». Ты не побоишься идти один в темноте?
– Конечно нет.
Вновь надо мной раскинулось безоблачное сияющее небо. Глядя на звезды, я быстро шагал в сторону огней маленького Онгёрена. Прежде чем я дошел до кладбища, с неба упало две звезды, а я ощутил волнение, будто мне предстояло встретиться с Рыжеволосой Женщиной.
Но когда я оказался на привокзальной площади, то увидел, что огни в доме не горят. Я сходил к хозяину табачной лавки и купил сигарет моему мастеру. Чуть поодаль располагался летний кинотеатр «Гюнеш», с его сцены доносились голоса. Сквозь щелку в заборе я заглянул в сад кинотеатра, но среди зрителей Рыжеволосой Женщины не было.
У дороги, ведущей в казарму, на окраине городка был установлен шатер, вокруг которого висели театральные афиши. На афишах красовалась надпись «ТЕАТР НАЗИДАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ».
Когда я был маленький, на пустыре за Павильоном Лип работал луна-парк, а рядом с ним располагался такой же театр в шатре, но доходы оказались низкими, он не выдержал и закрылся. Должно быть, этот театр был таким же. Я немного побродил по улице. Публика из кинотеатра разошлась, передачи по телевизору закончились, улицы опустели, но в окнах дома на привокзальной площади свет так и не загорелся.
С чувством вины я побродил еще немного и вернулся домой. Когда я шагал вверх по дороге, ведущей к кладбищу, сердце мое сильно билось. Я чувствовал, что меня преследует безмолвный взгляд совы, караулящей жертву в кипарисовых ветвях.
Наверное, Рыжеволосая Женщина с семьей уехала из Онгёрена. А может быть, они все еще жили в городке, просто куда-нибудь на время ушли.
– Где ты пропадал? Я уже заволновался, – сказал Махмуд-уста.
Он немного вздремнул, настроение его улучшилось. Он выхватил у меня из рук пачку сигарет и тут же закурил.
– Что нового в городе?
– Ничего нового нет, – ответил я. – Только бродячий театр появился.
– Когда мы приехали, эти бесстыдники уже были, – сказал Махмуд-уста. – Они показывают танец живота и другие неприличные вещи солдатам. Такие театры ничем не отличаются от публичных домов. Не обращай на них внимания! Раз уж ты ходил в город, повидал людей, то сегодня вечером ты расскажи историю, маленький бей!
Я не ожидал такого поворота. И с чего он вдруг опять назвал меня «маленький бей»? Я задумался. Махмуд-уста меня воспитывает своими историями, а я должен его поразить. В голове у меня вертелись разные образы. Я начал рассказывать ему легенду про греческого царя Эдипа. Прошлым летом в книжном магазине «Дениз» мне попался краткий пересказ мифа.
– Эдип был сыном и наследником Лая, царя Фив, в Древней Греции. Еще когда был он во чреве матери, родители решили спросить жрицу о его будущем и услышали страшное предсказание…
После этого предложения я ненадолго замолчал и некоторое время смотрел на неясные тени в телевизоре Махмуда-усты.
– Согласно ужасному предсказанию, царевич Эдип в будущем должен был убить своего отца, жениться на собственной матери и занять отцовский трон. Лай, испугавшись пророчества, приказал, чтобы ребенка, как только он родится, унесли в лес и оставили там на погибель. Жизнь брошенного в лесу младенца Эдипа спасла служанка соседнего царя, нашедшая его под деревом. Эдипа, по виду которого было понятно, что он из благородной семьи, воспитали в соседней стране как принца, но, когда он вырос, он ощутил себя там чужим и почувствовал тоску. Он захотел узнать причину, отправился к жрице и спросил ее, что ждет его в будущем. Услышал он тот же ответ: Аллахом предначертано Эдипу, что тот убьет своего отца, займет его трон и женится на матери. Услышав это, Эдип пожелал избежать ужасной судьбы и немедленно уехал из страны. Сам того не подозревая, Эдип оказался на родине, в Фивах и, переходя мост, без всякой причины вступил в спор с каким-то стариком. На самом деле этот старик был его собственным отцом, царем Лаем.
Сцену о том, как отец и сын не узнаю́т друг друга и спорят, я рассказал, растягивая подробности, подобно тому как это делают в мелодрамах киностудии «Йешильчам».
– Спор перерос в драку, и Эдип в конце концов оказался сильнее, вытащил меч и убил отца с одного удара. Конечно же, он не знал, что убитый – его отец, – сказал я, глядя в глаза Махмуду-усте.
Мой мастер изумленно поднял брови, словно только что узнал плохую новость, и с грустным видом продолжал слушать меня.
– Никто не видел, как Эдип убил своего отца, и поэтому в Фивах его никто в этом не обвинял. – Я представил себе, что чувствуешь, когда убиваешь отца и за это не несешь наказания. – Кроме того, в городе случилось несчастье – там поселилось чудовище с женским лицом, телом льва, огромными крыльями. Чудовище загадывало всем проходящим мимо загадки, которые никто не мог разгадать, и убивало неудачников. Эдипу удалось отгадать загадки и убить чудовище, его объявили героем и новым царем Фив. Таким образом, Эдип, ни о чем не подозревая, женился на царице, то есть на собственной матери.
Последнюю фразу я произнес едва ли не шепотом и очень торопливо, словно не хотел, чтобы ее кто-то услышал. А потом повторил еще раз:
– Эдип женился на собственной матери.
После этого я добавил:
– У них родилось четверо детей. Вообще-то, я прочитал эту историю в одном книжном магазине.
Я сказал это, чтобы Махмуд-уста не решил, что я все это сам придумал.
Глядя на красный кончик сигареты моего мастера, я продолжал:
– Много лет спустя в город, в котором жили счастливо Эдип с женой и детьми, пришла чума. Все гибли от нее. Жители города спросили у жрецов, чем они прогневали богов. И боги ответили: «Если вы хотите избавиться от чумы, то найдите убийцу прежнего царя и изгоните его из города. В тот же день чума закончится». Эдип, который не знал, что убитый им на мосту старик был его отцом и бывшим царем Фив, немедленно приказал найти убийцу. Он сам бросился было на поиски, но в этот момент появился гонец из соседнего царства с известием, что правитель того самого царства умер. Поняв, что он считал своим отцом другого, Эдип расспросил свою жену, узнал историю ее первого сына и с ужасом убедился, что сыном является именно он, Эдип, что его вырастили приемные родители, а старик, которого он убил по дороге сюда, был его настоящим отцом и царем Фив.
Здесь я недолго помолчал. Когда Махмуд-уста по вечерам рассказывал всякие поучительные истории и легенды, то в самом важном месте он делал паузу. В его манере рассказывать я чувствовал словно бы предупреждение: «Смотри, как все может повернуться». Я подражал ему, поэтому завершил историю об Эдипе с милой грустной улыбкой:
– Поняв, что он женился на своей матери, Эдип сам себя ослепил, а затем навсегда ушел из города.
– То есть в конце концов все произошло так, как повелел Аллах, – сказал Махмуд-уста. – Никто не может избежать предначертанного свыше.
Меня поразило то, что Махмуд-уста сумел обнаружить в моем рассказе назидание о предначертанном человеку свыше.
– Да, когда Эдип себя наказал, чума закончилась и город был спасен.
– Зачем ты сейчас рассказал мне эту историю?
– Не знаю, – ответил я. Я почему-то чувствовал себя виноватым.
– Мне не понравилась твоя история, маленький бей, – сказал Махмуд-уста. – Что это была за книга?
– Это был сонник.
В тот момент я понял, что Махмуд-уста больше никогда не попросит меня рассказать ему историю.
10
Существовала определенная последовательность того, чем мы занимались в городе с Махмудом-устой. Прежде всего мы покупали сигареты – либо в табачной лавке, либо в бакалее, где постоянно работал телевизор. Затем заходили в скобяную лавку, которая не закрывалась допоздна, или в столярную мастерскую. Махмуд-уста подружился со столяром из Самсуна. Он присаживался на табуретку, которую тот ставил у порога, и выкуривал с ним сигарету, я ненадолго уходил на привокзальную площадь посмотреть на окна Рыжеволосой Женщины. Иногда мастерская столяра оказывалась закрытой, и тогда Махмуд-уста говорил: «Пойдем закажем себе чаю». Мы садились за одним из пустых столиков перед двустворчатой дверью кофейни «Румелия», расположенной на улочке, выходившей на площадь. Дома Рыжеволосой Женщины отсюда не было видно. Я то и дело, пользуясь каким-либо предлогом, вставал, шел до того места, откуда были видны ее окна, и, убедившись, что свет в окнах по-прежнему не горит, возвращался.
За те полчаса, что мы пили чай перед кофейней «Румелия», Махмуд-уста непременно подводил краткий итог работе, которую мы проделали за прошедший день.
– Скала очень твердая, но не беспокойся, я своего добьюсь, – сказал он в первый вечер после того, как мы на нее наткнулись.
На второй вечер, увидев, что я теряю терпение, он сказал:
– Ученик должен научиться доверять своему мастеру.
А на третий вечер мечтательно произнес:
– Если бы у нас был динамит, которым мы пользовались до военного переворота, то было бы проще. Но военные все запретили.
Однажды вечером Махмуд-уста, как добросердечный отец, даже сходил со мной в кинотеатр «Гюнеш». Когда мы вернулись к себе в палатку, он сказал:
– Через неделю я найду воду. Скажи завтра своей матери по телефону, пусть не беспокоится.
Но скала поддаваться не желала.
Однажды вечером, когда Махмуд-уста не пошел со мной в деревню, я пробрался к бродячему театру и прочитал то, что было написано на тряпичных афишах, натянутых над входом. «Месть Поэта, Рустам и Сухраб, Ферхат, Пробивающий Горы. Чудеса, Которых Вы Не Увидите По Телевизору». Особенное любопытство у меня вызвали чудеса, которые не показывают по телевизору. Входная плата составляла приблизительно пятую часть жалованья, выданного мне Махмудом-устой, для детей и студентов скидок не было. Правда, на самой большой афише красовалась надпись, которая гласила: «Военным большая скидка! По субботам и воскресеньям с 1:30 до 3».
Как-то раз мы сидели за чаем с Махмудом-устой, и я вновь сходил посмотреть на темные окна дома Рыжеволосой Женщины. А потом заглянул на «улицу столовых» и случайно встретил парня, которого тогда принял за брата Рыжеволосой Женщины, я решил идти за ним.
Парень вышел на привокзальную площадь, открыл дверь дома, на окна которого я ходил смотреть, и скрылся там. Мое сердце сильно забилось. Интересно, на каком этаже сейчас зажжется свет? Там ли была Рыжеволосая Женщина? Когда загорелся свет на втором этаже, я сильно заволновался. Но в то же время брат Рыжеволосой Женщины неожиданно показался на пороге дома и зашагал прямо ко мне. Я растерялся, запаниковал и заскочил в здание вокзала, где сел в углу на скамейку. В здании было тихо и прохладно.
Брат Рыжеволосой Женщины направлялся не к вокзалу, а к кофейне «Румелия». Я подумал, что если сейчас пойду следом за ним, то меня увидит Махмуд-уста, поэтому я пробежал по параллельной улице и притаился там за платаном. Когда парень задумчиво прошел мимо меня, я направился следом.
Брат Рыжеволосой Женщины дошел до окраины города и скрылся в шатре театра, освещенного желтым светом. Я бегом вернулся к своему мастеру.
– Где ты пропадал?
– Решил позвонить матери.
– Ты сильно скучаешь по матери?
– Да, сильно.
– Что говорит твоя мать? Ты сказал ей, что, как только мы пробьем скалу и найдем воду, самое большее через неделю ты вернешься домой?
– Сказал.
Я звонил матери с переговорного пункта на почте, которая была открыта до девяти вечера. Сотрудница почты записывала имя моей матери, затем звонила ей и спрашивала:
– Госпожа Асуман Челик, вам звонит Джем Челик из Онгёрен. Вы будете говорить?
– Буду, – взволнованно отвечала мать.
Присутствие сотрудницы почты, сознание того, что разговор стоит дорого, мешало нам общаться естественно, и поэтому мы спрашивали друг у друга одно и то же.
Неловкость, которая воцарялась между мной и матерью, в тот вечер установилась между мной и Махмудом-устой. Поднимаясь на холм и глядя на звезды, мы молчали. Казалось, кто-то из нас совершил проступок, и свидетелями этого проступка были бесчисленные звезды и цикады. Крик совы приветствовал нас с темных ветвей кипариса на кладбище.
Когда мы пришли в палатку, Махмуд-уста перед сном выкурил еще одну сигарету.
– Вот ты вчера рассказывал печальную историю про одного принца, – заговорил он. – Я сегодня обо всем этом думал. У меня тоже есть история о том, что предначертано судьбой.
Я не сразу сообразил, что он вспоминает миф о Эдипе.
– В стародавние времена жил да был один шехзаде[10], совсем как ты, – начал рассказывать Махмуд-уста. – Шехзаде был самым любимым сыном у своего отца-падишаха. Отец не мог надышаться на своего сына, и любой его каприз тут же исполнялся, а в честь его устраивали пышные угощения и балы. На одном из балов шехзаде понял, что мрачный человек с черной бородой, стоявший рядом с его отцом, – это ангел смерти Азраил. Шехзаде и Азраил встретились взглядами. Шехзаде заволновался и после бала сказал отцу, что один из гостей был Азраилом, а по его странному взгляду шехзаде понял, что тот пришел забрать его душу. Падишах испугался и сказал своему сыну: «Никому ничего не говори, езжай прямо в Иран, в Тебриз, и спрячься в тамошнем дворце. Шах Тебриза сейчас наш друг, он тебя никому не выдаст». И тотчас падишах отослал сына в Иран, а сразу после этого устроил еще один бал, на который пригласил мрачного Азраила, словно бы ничего не произошло. «О мой падишах, вашего сына шехзаде сегодня вечером нет во дворце», – озабоченно сказал Азраил. «Мой сын еще совсем молоденький, – ответил падишах. – Иншаллах, проживет еще долго. А ты почему о нем спрашиваешь?» – «Три дня назад Аллах всемогущий сказал мне отправиться в Иран, к шаху Тебриза, и там во дворце забрать душу вашего сына и наследника, – рассказал Азраил. – Поэтому, когда я вчера увидел вашего сына здесь, в Стамбуле, я удивился и в то же время очень обрадовался. А ваш сын заметил, что я странно на него смотрю». И с этими словами Азраил тотчас покинул дворец.
11
На следующий день около полудня, когда июльская жара здорово пекла нам затылки, Махмуд-уста сумел наконец, вложив все свои силы, на глубине десяти метров пробить скалу. Сначала мы обрадовались, но почти сразу убедились, что не сможем работать быстро. Куски разбитой скалы были тяжелыми – нам вдвоем с Али потребовалось очень много времени, чтобы вытащить несколько осколков.
После полудня Махмуд-уста велел поднять себя.
– Если я наверху буду с одним из вас вращать лебедку, то мы гораздо быстрее расчистим все внизу, – сказал он. – Пусть один из вас спустится, а я останусь здесь. Кто из вас пойдет?
И Али, и я – мы оба молчали.
– Пусть спустится Али, – сказал Махмуд-уста.
Мне понравилось, что Махмуд-уста бережет меня. Али поставил ногу в ведро, и мы, медленно вращая лебедку, опустили его в колодец. Сейчас мы были наверху вдвоем с мастером. Я испытывал к нему благодарность за то, что он не позволил мне спуститься, и переживал, уместно ли будет выразить эту благодарность глазами и выражением лица. Мне самому была неприятна такая подобострастность. Но я верил, что, если буду так себя вести, жизнь моя во время работы над колодцем станет легче и мы быстрее найдем воду. Вращая лебедку, мы с мастером не разговаривали, а прислушивались к звукам вокруг.
Цикады не смолкали. Я не обращал раньше внимания на этот звук днем, потому что его заглушали карканье ворон, свист стрижей, голоса незнакомых мне птиц, стук колес поездов, направлявшихся из Стамбула в Европу, доносившиеся издалека песни марширующих на жаре солдат.
Иногда мы переглядывались. Интересно, что думал обо мне Махмуд-уста? Мне бы очень хотелось, чтобы он любил и защищал меня. Но, когда взгляды наши встречались, я отводил глаза.
Иногда Махмуд-уста говорил: «Смотри, летит самолет!» Мы оба поднимали головы. Самолеты, отправлявшиеся из аэропорта в Йешилькёе, в течение двух минут набирали высоту, а затем прямо над нами делали разворот. Время от времени раздавался крик Али: «Тащи!» Мы, медленно вращая лебедку, со скрипом поднимали на поверхность очередной обломок и высыпали его в тележку.
Всякий раз, когда ведро оказывалось наверху, Махмуд-уста кричал Али, чтобы тот не трогал большие куски и хорошо проверял крепость ручки ведра.
Во время следующего визита хозяина участка Махмуд-уста рассказал ему, что никак не может ускорить работу – твердая скала плохо поддается. Но он не собирается сдаваться.
Хайри-бей платил Махмуду-усте за каждый пройденный метр. А кроме того, обещал нам большие деньги после того, как появится вода, и множество разных подарков. Эти правила оплаты были установлены тысячелетней традицией отношений между заказчиками колодцев и мастерами. Мастер должен проявлять особое внимание при выборе места, потому что если он выроет колодец там, где воды не найдется, то ему не заплатят. А если владелец участка настоит на рытье колодца в том месте, где воды не окажется, мастер все равно будет вознагражден. Некоторые мастера говорили хозяину: «Если ты хочешь, чтобы мы именно там вырыли колодец, тогда ты нам заплатишь за каждый метр», чем защищали себя от риска не найти воду. А другие после десяти метров увеличивали стоимость проходки.
Так как выгода и владельца участка, и мастера заключалась в том, чтобы найти воду, чаще всего они принимали решение вместе. Иногда владелец участка проявлял упрямство и настойчивость и заставлял рыть на том месте, где земля была плохой (слишком много камней, песка). Мастер слушался упрямца. Если он натыкался на скалу и скорость работы падала, то мог попросить деньги не за метр, а за день. Иногда владелец участка считал – воды не будет, но мастера, чувствуя, что вода скоро появится, настаивали на своем и просили еще несколько дней. Я чувствовал, что положение Махмуда-усты ближе к последнему варианту.
Вечером, после отъезда хозяина, мы с Махмудом-устой отправились в город. Улизнув от мастера, я побежал на «улицу столовых», где четыре дня назад встретил брата Рыжеволосой Женщины, и заглянул в витрину закусочной «Куртулуш», откуда тот тогда вышел. На витрине была полузадернутая тюлевая занавеска. Не увидев там парня, я открыл дверь и внимательно осмотрел полупустую закусочную, чтобы быть полностью уверенным – в пропитанном запахом ракы зале нет ни одного знакомого лица.
На следующий день пошла мягкая земля. Но не успел Махмуд-уста набрать прежнюю скорость, как наткнулся на новую скалу.
Мы сидели в кафе «Румелия» грустные и молчаливые. В какой-то момент я встал, не давая никаких объяснений, вышел на площадь и посмотрел на окна дома. Затем решил сходить на «улицу столовых». Я заглянул сквозь приоткрытые занавески внутрь «Куртулуша» и увидел, что за столом сидят Рыжеволосая Женщина, ее брат, мать и еще пятеро каких-то людей.
Я заволновался и, не сознавая, что делаю, вошел. Сидевшие за столом весело разговаривали и смеялись, не обращая на меня никакого внимания. Перед ними на столе стояли стаканчики ракы и бутылки с пивом. Рыжеволосая Женщина курила.
Один из официантов спросил меня:
– Ты кого-то ищешь?
Сидящие за столом повернулись и посмотрели на меня. Сбоку на стене висело большое зеркало, я все видел в нем. На мгновение наши взгляды с Рыжеволосой Женщиной встретились. На ее лице появилось то же самое нежное и на этот раз радостное выражение.
– Вечером после шести для солдат здесь закрыто, – напомнил официант.
– Я не солдат.
– Не достигшие восемнадцати лет тоже не допускаются. Если у тебя здесь есть знакомые, садись, а нет – не взыщи.
– Пусти его, – сказала Рыжеволосая Женщина.
На мгновение воцарилась тишина. Она смотрела на меня так, как смотрят на старого хорошего знакомого. Я взглянул на нее с любовью, но на этот раз она отвела взгляд.
Не говоря ничего официанту, я ретировался из закусочной и вернулся в кофейню «Румелия».
– Где ты был? – спросил Махмуд-уста. – Почему ты каждый вечер меня бросаешь и куда-то уходишь?
– Уста, эта новая скала очень расстроила меня, – сказал я. – А если конца ей не будет?
– Верь своему мастеру, слушай, что я говорю, и держи сердце чистым. Я найду там воду.
12
В течение последующих трех дней мы не смогли дойти до конца второй скалы, и я не встретил в городке Рыжеволосую Женщину. Я постоянно вспоминал ее нежный взгляд и полные губы. Она была высокой, статной и очень привлекательной. В течение дня Махмуд-уста и Али менялись местами, так что дело внизу понемногу двигалось и скала потихоньку поддавалась. Но все равно, работа шла очень медленно, а жара лишала нас сил.
Однажды вечером я дошагал до театрального шатра и встал в очередь. Однако человек, сидевший за столом, который заменял кассу, грубо сказал мне:
– Это представление не для тебя!
И отказался продать билет.
Вначале я решил, что он имеет в виду мой возраст, однако в маленьких городках дети легко проникали в самые непотребные места. Кроме того, мне было семнадцать лет, и, как все утверждали, выглядел я гораздо старше. Возможно, человек на входе имел в виду, что для такого по виду городского и образованного маленького эфенди дешевые номера театра слишком низкопробны. Были ли Рыжеволосая Женщина и ее брат как-то связаны с пошлыми шутками для солдат?
Возвращаясь из городка, глядя на бесконечность звезд, я снова подумал о том, что буду писателем. Махмуд-уста ждал меня, глядя в телевизор. Тем вечером он вдруг спросил, ходил ли я в театральный шатер, а я ответил, что не ходил. По глазам моего мастера я понял, что он мне не верит. В уголках его губ появилась ехидная ухмылка.
Когда в течение дня мы вместе вращали лебедку, это ехидное выражение иногда появлялось на лице Махмуда-усты, и я начинал виновато думать, что допустил какую-то ошибку и, сам того не замечая, заставил мастера разочароваться во мне. Что же я сделал неправильно? Возможно, с недостаточной силой вращал лебедку, недостаточно внимательно следил за ручкой заполненного землей ведра или провинился в чем-то еще. Время шло, вода в колодце не появлялась, на лице Махмуда-усты все чаще появлялась эта ухмылка. И тогда я испытывал угрызения совести и злился на него.
Мой отец никогда не проявлял ко мне такого внимания, как Махмуд-уста. Но отец никогда не унижал меня. Единственное, из-за чего я испытывал чувство вины, – что он страдает в тюрьме. Что такого делал мастер? Почему я все время хотел его слушаться, ему нравиться?
Глядя на изображение в экране телевизора, Махмуд-уста рассказал мне, что у земли есть несколько уровней, один под другим. Некоторые слои такие большие, что неопытному работнику кажется – тот или иной уровень никогда не закончится. Эти слои можно сравнить с сосудами в теле человека. Подобно тому как сосуды снабжают тело человека кровью, слои питают землю железом, цинком, известью. Они разного размера: могут быть как ручейки, как реки и как подземные озера.
Махмуд-уста рассказывал много историй о том, как вода начинает выходить из колодца в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время. Например, однажды пять лет назад на окраинах Сарыйера владелец одного участка потерял доверие к мастеру и решил остановить работы. Однако Махмуд-уста сказал ему, что не надо отчаиваться: подземные слои соединяются друг с другом, как мышцы в теле человека. И вскоре нашел там воду.
Махмуду-усте очень нравилось вспоминать, как его приглашали на реставрацию колодцев в старинных мечетях Стамбула. В Стамбуле нет ни одной старинной мечети, в которой не было бы колодца. В мечети Яхьи-эфенди колодец находится у ворот, а в мечети Махмуда-паши – во дворе, глубина его тридцать пять метров. Прежде чем спуститься в старый колодец, Махмуд-уста ставил на дно ведра свечу, зажигал ее и опускал ведро. Если свеча на дне колодца продолжала гореть, значит углекислого газа там не было, и он, прочитав молитву во имя Аллаха, спускался туда сам.
Махмуд-уста очень любил перечислять предметы, которые столетиями кидали в колодцы жители Стамбула: мечи, ложки, бутылки, крышки от газировки, лампы, бомбы, ружья, пистолеты, игрушки, расчески, подковы и самые невообразимые вещи. Он даже находил там серебряные монеты. Понятно, что некоторые вещи бросали в колодцы, чтобы их спрятать, а затем забывали о них.
13
В одно июльское утро, когда мы задыхались от жары, на своем фургончике приехал владелец участка Хайри-бей и, увидев наше безнадежное положение, сказал то, что задело нас всех: если в течение трех дней не будет воды, он останавливает работы. Конечно, если Махмуд-уста все еще полон решимости, то мастер может копать и дальше на свой страх и риск. Но Хайри-бей не станет больше платить ни Махмуду-усте, ни Али. Правда, если Махмуд-уста в конце концов воду найдет, то Хайри-бей, конечно же, отблагодарит его, как полагается, и расскажет всем, что заслуга в открытии здесь фабрики принадлежит именно мастеру. Однако Хайри-бей не согласен с тем, чтобы такой старательный, опытный, честный специалист, как Махмуд-уста, тратил свои силы и способности напрасно.
– Не беспокойся, – ответил ему Махмуд-уста. – Мы найдем эту воду не за три дня, а за два.
Долгое время после того, как фургончик Хайри-бея удалился под треск цикад, мы не разговаривали. Затем прислушались к стуку колес стамбульского поезда, который всегда проходил мимо нас ровно в 12.30. Я прилег под ореховое дерево, но заснуть не смог. Меня не утешали даже мысли о Рыжеволосой Женщине.
На расстоянии пятисот метров от орехового дерева, за пределами участка находился бетонный дот[11], оставшийся со времен Второй мировой войны. Однажды мы с Махмудом-устой сходили посмотреть на него, и Махмуд-уста сказал, что его построили для боя с танками и пехотой противника. Сейчас я снова побрел туда, не зная зачем. Вход зарос сорняками и колючими кустами ежевики так, что когда я захотел из любопытства пройти внутрь, то не смог открыть дверь и лег рядом на траве, погрузившись в размышления. Если через три дня в колодце не появится вода, я не получу вознаграждения. Однако я посчитал, что денег, которые я накопил, находясь здесь, мне уже хватало. Если через три дня вода не появится, самым правильным будет забыть о вознаграждении и вернуться домой.
Вечером мы сидели под легким ветром возле кофейни «Румелия», и Махмуд-уста спросил:
– Сколько дней прошло с тех пор, как мы начали здесь копать?
Он знал ответ на этот вопрос, но все равно любил задавать его мне раз в два-три дня.
– Прошло двадцать четыре дня, – сказал я осторожно.
– Сегодняшний день ты тоже посчитал?
– Да, я посчитал и сегодняшний.
– И всего-то отлили стену на четырнадцать метров, – сказал Махмуд-уста и на мгновение посмотрел на меня так, как будто я виноват в том, что он переживает подобное разочарование.
Внезапно сердце мое забилось: Рыжеволосая Женщина со своей семьей проходила по площади.
Не говоря ничего Махмуду-усте, я встал из-за стола. Не выпуская их из виду, я направился к противоположному углу площади, чтобы Махмуд-уста решил, будто я пошел звонить матери.
С чего вдруг я их преследовал? Я ведь их даже не знал. Но, шагая за ними, я хотел, чтобы Рыжеволосая Женщина оглянулась и вновь нежно посмотрела на меня. Мне казалось, веселый взгляд этой женщины, ее внимание откроют мне, каким прекрасным местом является этот мир.
Рядом с Рыжеволосой Женщиной был человек, которого я принял за ее отца, мать и брат шли сзади. Я подкрался к ним так близко, что вполне мог слышать разговор матери с братом.
Подойдя к кинотеатру «Гюнеш», они остановились в том месте, где через забор можно было бесплатно смотреть фильм. Мои глаза были прикованы к ним.
С близкого расстояния я разглядел, что лицо Рыжеволосой Женщины не было таким уж прекрасным. Возможно, оттого, что на ее лицо с экрана падал синеватый отсвет. Но на ее полных губах играло все то же нежное, приветливое выражение. Я смог выдержать работу подмастерья колодезных дел мастера больше трех недель только благодаря очарованию этого взгляда.
Интересно, почему она улыбалась? Из-за того ли, что на экране показывали что-то веселое, или из-за чего-то другого? На мгновение я отвлекся на экран и, повернувшись обратно к ней, увидел, что Рыжеволосая Женщина с улыбкой смотрит в мою сторону.
Меня прошиб пот. Мне захотелось подойти и поговорить с нею. Она, должно быть, была старше меня лет на десять.
– Пойдемте, мы уже опаздываем, – сказал человек, которого я считал ее отцом.
В тот момент я не очень хорошо понимал, что делаю: кажется, я подошел и встал рядом с ними.
– Это что еще такое! – воскликнул брат Рыжеволосой Женщины.
– Тургай, кто это? – спросила его мать.
– Кто ты? – спросил меня брат Рыжеволосой Женщины, Тургай.
– Он что, солдат? – спросил их отец.
– Да не солдат он, он маленький бей, – ответила мать.
Я видел, что Рыжеволосая Женщина улыбается. То прекрасное нежное выражение не сходило с ее лица.
– На самом деле я учусь в Стамбуле, в лицее, – сказал я. – Но сейчас здесь неподалеку мы роем с моим мастером колодец.
Рыжеволосая Женщина продолжала внимательно смотреть мне в глаза.
– Приходите с мастером как-нибудь вечером к нам в театр, – сказала она, и они все вместе зашагали прочь.
Они удалялись в сторону театрального шатра. Я долго смотрел им вслед, пока они не скрылись, наконец-то сообразив – передо мной не семья, а театральная труппа.
Возвращаясь к Махмуду-усте, я увидел ту усталую лошадь, которая три недели назад тянула нашу телегу. Лошадь была привязана к шесту, щипала траву у дороги, и глаза ее были еще печальней.
14
На следующий день незадолго до обеденного перерыва работавший внизу Али радостно закричал, что видит мягкую землю. Махмуд-уста поднял его и торопливо спустился сам. Вскоре мастер громко объявил: скала закончилась, под ней находится песчаник и скоро непременно появится вода.
В тот день мы работали допоздна, без остановок и от усталости вечером в город не пошли. С первыми лучами солнца поднялись и продолжили работу. Но земля оказалась совершенно сухой, свинцово-желтого цвета.
Еще не было и одиннадцати, как Махмуд-уста поднялся наверх, а вниз опустили Али.
Махмуд-уста сказал ему:
– Работай медленно, не поднимая пыли. Если будешь быстро работать, то задохнешься, не сможешь даже свет наверху разглядеть.
После ужина мы с мастером спустились в Онгёрен. Сидя в кофейне «Румелия», я снова осознал то, о чем думал вот уже два дня: я не смогу сказать Махмуду-усте, что Рыжеволосая Женщина позвала нас в театр. Я хотел любоваться Рыжеволосой Женщиной в театре в одиночестве. К тому же я со страхом чувствовал – если Махмуд-уста заметит мое влечение к Рыжеволосой Женщине, то начнет мешать мне и мы можем с ним поссориться. Отца своего я ни разу в жизни не боялся так, как боялся сейчас Махмуда-усту. Я не знал, каким образом поселился этот страх в моем сердце, но понимал, что усиливает его именно Рыжеволосая Женщина.
Не допив чай, я сказал:
– Пойду позвоню матери.
И, завернув за угол, побежал к желтому шатру театра.
Оказавшись там, я вновь прочитал надписи на афишах. Сбоку от них появился огромный лист бумаги, на котором крупными черными буквами было выведено:
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ!
До спектакля еще оставалось время; увидев на «улице столовых» в одном из ресторанов Тургая, сидевшего вместе с большой компанией, я вошел туда.
Рыжеволосой Женщины за столом не было. Тургай сделал знак рукой. Я сел рядом с ним.
– Помоги попасть на представление, – сказал я. – Деньги у меня есть.
– Дело не в деньгах. В любой вечер, когда захочешь, можешь найти меня перед спектаклем в этом ресторане.
– Ты бываешь здесь не каждый вечер.
– Ты что, следишь за нами? – изумленно поднял брови Тургай. Затем, положив щипцами два кусочка льда в пустой стакан, налил в него ракы.
– На-ка выпей, – сказал он, вложив тонкий высокий стакан мне в руку. – Если сейчас залпом выпьешь все до дна, я проведу тебя через черный вход.
– Этим вечером не получится, – сказал я, но все равно проглотил залпом ракы и, не теряя больше времени, вернулся к Махмуду-усте.
От ракы кровь шумела в голове. На обратном пути мастер быстро шел впереди меня, то и дело останавливаясь и окликая:
– Где ты застрял?
– Дорогой мой уста, – закричал я в ответ, – а ведь никель, железо и скалы в нашем колодце на самом деле кометы, которые когда-то упали сюда с неба!
15
Владелец участка Хайри-бей приехал не через три, а через пять дней. Он знал, что мы не нашли воду, но вел себя так, будто ничего не происходит. С собой на фургончике он привез жену и маленького сына. Расхаживая по участку, Хайри-бей рассказал нам, какие построит здесь мастерские по окраске тканей, когда в колодце появится вода. Он показал, где будут находиться склады, где дирекция, а где столовая для рабочих. Сын Хайри-бея, надевший для поездки новые кроссовки, слушал отца, сжимая в руках пластмассовый футбольный мяч.
Отец с сыном погоняли мяч по участку, сложив из камней ворота. Жена хозяина постелила покрывало под мое ореховое дерево и начала раскладывать на нем продукты, которые привезла с собой. Когда она пригласила всех нас, Махмуд-уста помрачнел. Ведь он понимал, что этот торжественный и совершенно неуместный пикник был на самом деле праздником «в честь появления воды», который Хайри-бей задумал уже очень давно. Было ясно – хозяин участка долго мечтал о том дне, когда в колодце появится вода. Махмуд-уста нехотя сел вместе со всеми на краешек покрывала и поел всего понемножку. Когда обед был окончен, сын Хайри-бея лег рядом с матерью и уснул. Его полная, сильная и приветливая мать, покуривая, читала газету «Гюнайдын». Легкий ветер шевелил края газетных листов.
Махмуд-уста снова увел Хайри-бея туда, куда мы высыпáли землю, и я подошел к ним. По выражению лица Хайри-бея я увидел, что владелец участка уверен – вода в колодце в ближайшее время не появится и даже, возможно, не появится никогда.
– С вашего позволения, Хайри-бей, – тихим голосом говорил Махмуд-уста, – пожалуйста, позвольте нам еще два-три…
Он произнес эти слова очень робко. Мне стало стыдно, что я оказался свидетелем унижения мастера. Я разозлился на Хайри-бея. Тот на некоторое время отошел к ореховому дереву, переговорил с женой и вернулся.
– Когда я приезжал в прошлый раз, ты попросил у меня три дня, Махмуд-уста, – сказал он. – Я дал тебе больше, чем три дня. Но воды нет. И земля здесь отвратительная. Я больше не собираюсь здесь рыть никакого колодца. Не мы первые, кто ошибается с местом для колодца. Выбери лучше новое место на участке – ты лучше знаешь где – и начинай рыть новый колодец.
– Жилы меняются в самый неожиданный момент, – ответил Махмуд-уста. – Я буду продолжать копать здесь.
– Дайте мне знать, если появится вода. Я немедленно приеду. Отблагодарю вас, чем можно. Но поймите, я деловой человек. Я не могу бесконечно вливать бетон туда, где нет воды. Начиная с сегодняшнего дня я не плачу вам денег, не оплачиваю никакие материалы, не даю вам ни на какие расходы. С этой минуты Али перестает здесь работать и возвращается к нам. Но, если ты начнешь рыть колодец в новом месте, я снова пришлю к тебе Али.
– Я найду воду здесь, – упорствовал Махмуд-уста.
Затем они с Хайри-беем отошли в сторонку. Я внимательно смотрел на то, как владелец участка дает моему мастеру последние деньги.
Жена Хайри-бея, расстроенная неудачей, отдала нам вареные яйца, остатки пирогов и арбуз.
– Давай-ка мы отвезем тебя домой, – сказал хозяин Али и усадил его в фургончик.
Мы с мастером остались одни. Я в очередной раз заметил, как тих мир. Слышны были только бесконечный треск цикад и далекие гудки поездов.
После обеда мы не работали. Я разлегся под ореховым деревом и погрузился в фантазии о Рыжеволосой Женщине. Мастер подошел ко мне.
– Сынок, давай-ка поработаем здесь еще неделю, – сказал он. – К тому же я тебе задолжал… Даст Аллах, мы закончим в следующую среду. Хозяин нас одарит.
– Уста, а что, если воды так и не будет?
– Верь своему мастеру, – сказал уста, внимательно глядя мне в глаза. Он погладил меня по голове, потрепал по плечу. – Однажды ты станешь большим человеком.
Я не нашел в себе сил возразить ему. В конце концов я подумал: «Ладно, осталась всего неделя. Тем более, я собирался еще раз увидеть Рыжеволосую Женщину и сходить на спектакль».
16
Последующие три дня земля не меняла цвета. Так как я один с трудом крутил лебедку, Махмуд-уста внизу наполнял ведро не до краев. Это здорово замедляло нашу работу. Земля была очень мягкой, и мастер не тратил много сил. Ведро, которое я опускал ему, он заполнял в три приема, а затем сразу кричал: «Тяни!»
Бывало, силы мои кончались и я садился ненадолго отдохнуть. Когда я возвращался к лебедке, то слышал, как ругается мастер. Иногда он сам чувствовал, что я не в состоянии шевелиться, просил поднять себя, объявлял перерыв, садился под ореховое дерево и курил. Мне очень нравилось, что он зовет меня «сынок». Проходило некоторое время, и я слышал его мягкий, но настойчивый голос: «пора». И мы вновь принимались за дело.
Каждый вечер мы спускались в Онгёрен. Каждый раз я находил какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от мастера и одному побродить по улицам Онгёрена в надежде встретить Рыжеволосую Женщину. Желтый шатер театра стоял на прежнем месте.
На третий вечер я проходил мимо лавки столяра, как вдруг меня догнал Тургай.
– Ученик колодезного мастера, какой-то ты задумчивый!
– Отведи меня в театр, – попросил я.
– Пошли посидим.
В столовой «Куртулуш» мы сели за тот столик, за которым обычно собирались актеры.
– Прежде чем ты пойдешь в театр, тебе нужно научиться как следует пить ракы, – сказал Тургай.
На самом деле он был не намного старше меня. Я залпом проглотил ракы со льдом, который он поставил передо мной.
– Приходи к шатру в это же время послезавтра, – сказал Тургай. – Тебя встретят и проведут.
Когда мы с Махмудом-устой возвращались к себе, мастер предался воспоминаниям о счастливых минутах, которые он переживал, когда в очередном вырытом им колодце появлялась вода. Однажды владелец одного участка устроил в честь нового колодца угощение на сто человек и приказал зарезать четырех баранов. Иногда вода появлялась из совершенно неожиданного места, в неожиданный момент. Казалось, что Аллах льет воду в лицо истинно праведным мастерам. Сначала вода появлялась, как струйка из пиписьки младенца, а затем начинала бить с силой. Мастер, увидев воду, всякий раз улыбался, как счастливый отец новорожденного. Один мастер как-то раз так обрадовался, так кричал и прыгал, что подмастерья, которые сбежались на крики, случайно уронили на него ведро. А был один мастер, который всякий раз, когда появлялась вода, от радости на время совсем терял рассудок: он постоянно ходил к новому колодцу со своими учениками, которые должны были рассказывать, что почувствовали в тот момент, когда появилась вода, а он за это давал им по две ассигнации. Сейчас не осталось таких мастеров. Да и хозяева изменились. В прежние времена заказчик никогда не сказал бы мастеру, который проливает пот на его участке: «С меня хватит, дальше продолжай на свои деньги». Более того, он чувствовал бы себя опозоренным, если бы не кормил работавшего на его участке мастера, не оплачивал все его расходы и щедро не одаривал бы его, вне зависимости от того, появилась вода или нет. Но я не должен превратно понимать слова Махмуда-усты, ведь Хайри-бей очень хороший человек! Когда в колодце появится вода, он непременно осыплет нас подарками и заплатит причитающееся – совсем как в старые добрые времена.
17
На следующий день земля из колодца окончательно превратилась в сухой песок и стала легкой, как солома. В ней то и дело попадались хрупкие белые истонченные ракушки, тонкие слюдяные пластинки, ломкие, как пластмассовые солдатики из моего детства, полупрозрачные камушки и куски пемзы. По мере того как Махмуд-уста копал, мы чувствовали, что вместо того, чтобы приблизиться к воде, мы все больше от нее отдаляемся, и совсем не разговаривали.
Впрочем, я был так счастлив сознанием, что наконец-то войду в театр, что вообще ни на что не обращал внимания. Я делал все, о чем меня просил мастер, и даже больше. Вечером от усталости я еле держался на ногах. Вскоре после ужина я прилег ненадолго и сам не заметил, как заснул.
Когда ночью я проснулся, Махмуда-усты в палатке не было. Я выглянул и в страхе сделал несколько шагов в ночной тьме. Мне показалось, что опустел весь мир и в нем никого, кроме меня, не осталось. От этой мысли я похолодел. Во всем, что окружало меня, таилась какая-то загадочная красота. Я чувствовал, что звезды над моей головой стали мне ближе и что меня ожидает счастливая жизнь. Интересно, а могла Рыжеволосая Женщина попросить Тургая, чтобы меня завтра пустили в театр?
Ветер задул сильнее, и я забрался в палатку.
Махмуд-уста пришел только под утро. Мы работали весь день. В ведре, которое я постоянно вытаскивал, все время был песок.
Когда мы сидели, как обычно, на нашем месте в кофейне «Румелия», я был очень напряжен. Ровно в 20.30, не говоря ни слова, я встал и переулками прошел к театру. Тургай не обманул меня.
Спектакль уже начался, в шатре сидело примерно двадцать пять – тридцать человек. Может быть, немного больше. Посредине было возвышение, сильно освещенное, и это придавало Театру Назидательных Историй загадочную атмосферу. Задник шатра был темно-синего цвета, как ночное небо, и на нем были нарисованы огромные желтые звезды. К некоторым звездам были пририсованы хвосты, а некоторые были очень маленькими.
Перед тем как впустить меня в шатер, Тургай протянул флягу со спиртным. Ракы теперь очень сильно шумел у меня в голове. Я хотел одного – увидеть Рыжеволосую Женщину.
Театр Назидательных Историй старался продолжать традиции бродячих театральных трупп в духе анатолийского революционного народного театра в период между семидесятыми годами и военным переворотом в восьмидесятых. Но в их репертуаре были не столько пьесы, направленные против капитализма, сколько множество разнообразных сценок на такие темы, как старинные легенды о влюбленных, сюжеты из народных сказок и дастанов[12], поучительные мусульманские и суфийские истории. Некоторые из них я так и не смог понять. Я увидел две юмористические сценки, в которых актеры изображали популярные телевизионные рекламы. В первой из них на сцену вышел парень с усами и в коротких штанишках, с копилкой в руках, и спросил у своей сгорбленной в три погибели бабушки, как ему следует поступить с накопленными деньгами. Бабушка (полагаю, что это была мать Рыжеволосой Женщины) в ответ показала не очень приличный жест, который насмешил публику.
Вторую сценку я толком не понял, потому что в ней появилась Рыжеволосая Женщина. Она была в мини-юбке, у нее были длинные стройные и красивые ноги, шея, плечи и руки были открыты. Она выглядела поразительно прекрасной с подведенными глазами и ярко-красными полными губами, сверкающими в свете прожекторов. Она взяла коробку со стиральным порошком и сказала что-то забавное. На сцене был желто-зеленый попугай, который ей тут же ответил. Попугай, конечно, не настоящий, кто-то за сценой его озвучивал. Сценка представляла бакалейную лавку, в которой попугай шутил над клиентами и рассказывал анекдоты о жизни, любви и деньгах. В какой-то момент мне показалось, что Рыжеволосая Женщина смотрит на меня, и сердце мое забилось. Улыбка ее была очень милой, движения рук очень быстрыми. Я был влюблен в нее и из-за ракы не очень понимал, что происходит на сцене.
Сценки продолжались, каждая длилась несколько минут. Едва заканчивалась одна, тут же начиналась другая. В одной из них человек, которого я считал отцом Рыжеволосой Женщины, появился на сцене с длинным, как морковка, носом. Сначала я решил, что он изображает Пиноккио, но он прочитал длинный монолог из какого-то произведения. Только много лет спустя я узнал, что это был Сирано де Бержерак. Эта сценка имела моралью следующее: «Внешность не важна, важна духовная красота».
После сцены из «Гамлета» – с черепом, книгой и вопросом «Быть или не быть?» актеры хором исполнили народную песню. Песня была о том, что любовь – это обман, а правда заключается в деньгах. Рыжеволосая Женщина откровенно смотрела на меня, и ее взгляд сводил меня с ума. Я толком ничего не понимал, моя голова кружилась от любви и ракы, но все то, что я видел, навечно записалось в моей памяти.
Из всех сценок я понял одну, про пророка Ибрагима. Пророк Ибрагим долго-долго умолял Аллаха о том, чтобы тот даровал ему сына. Потом сын у него родился (младенец был игрушечным), и пророк Ибрагим, уложив мальчика, вытащил нож и приставил ему к горлу. В этот момент он произнес проникновенные слова об отцах, сыновьях и покорности. Эти слова на всех произвели глубокое впечатление.
Тишина в зале нарушилась, когда Рыжеволосая Женщина показалась на сцене в новом наряде. Сейчас она была ангелом, ей очень шли картонные крылья и новый грим. Я аплодировал вместе со всеми.
Следующая сценка была впечатляющей – на сцене появились два старинных витязя в латах, масках, с мечами и щитами. Пока они сражались на своих пластмассовых мечах, из динамиков шел звук металлических ударов. Потом они немного поговорили и вновь принялись сражаться. Я решил, что актеры в доспехах были Тургай и отец Рыжеволосой Женщины. Они покатились по полу, наконец расцепились и вновь встали.
Я взволнованно смотрел на происходящее вместе с остальными зрителями. Пожилой витязь неожиданным ударом сбил с ног молодого, поставил ногу на его грудь и с размаху вонзил ему меч в сердце. Все произошло настолько быстро, что присутствовавшие в зале, на мгновение забыв, что мечи пластмассовые, всерьез испугались.
Молодой витязь вскрикнул, но умер не сразу. Напоследок он хотел что-то сказать. Пожилой склонился над умирающим. Он снял с себя железную маску с уверенностью человека, победившего своего соперника. И тут, разглядев браслет на руке молодого человека, ужаснулся. Затем снял маску с лица молодого витязя и отшатнулся. Последовавшие жесты показывали, что произошла ошибка. Пожилой явно испытывал сильную душевную боль. Зрители, которые только что смеялись над рекламной пародией, теперь уважительно молчали. В зале звучал плач Рыжеволосой Женщины.
Пожилой витязь сел на пол, обнял умирающего, прижал его к груди и заплакал. Так как он плакал искренне, то все, кто был в театре, неожиданно расчувствовались.
Его раскаяние передалось и мне. Я еще никогда ни в одном кино, ни в одном комиксе не видел, чтобы кто-то так открыто изображал чувства. До того момента я полагал, что боль можно выразить только словами. Между тем сейчас, глядя на сцену, я делил горечь раскаяния. То, что я видел, в тот момент казалось мне каким-то полузабытым воспоминанием.
Два витязя, на которых сзади смотрела Рыжеволосая Женщина, глубоко страдали. Она тоже испытывала раскаяние. Она заплакала еще сильнее. Возможно, мужчины были членами той же семьи, что и Рыжеволосая Женщина. Теперь в театральном шатре не раздавалось ни звука. Между тем слезы Рыжеволосой Женщины перешли в стихотворение-плач, а затем просто в стихи. Это было поразительное стихотворение, длинное, как рассказ. Я слушал, как в длинном монологе Рыжеволосая Женщина гневно говорит о мужчинах, о том, что она пережила с ними, и о жизни. В темноте ей было трудно меня разглядеть. И как будто из-за того, что мы не можем посмотреть друг другу в глаза, я совершенно не понимал, о чем она говорила. Я испытывал непреодолимое желание быть рядом с ней. Когда долгий поэтический монолог Рыжеволосой Женщины закончился, закончилась и пьеса и маленькая толпа зрителей быстро разошлась.
18
Я вышел из театрального шатра, но ноги сами вели меня обратно. В этот момент рядом со столом, который использовали вместо кассы, я увидел Рыжеволосую Женщину.
Она сняла сценический костюм и была в юбке небесно-синего цвета.
Я опьянел настолько от первой любви, от того, что видел на сцене, и от ракы, что не чувствовал реальности происходящего, и мне в тот момент казалось, что я нахожусь в выдуманной мной фантазии.
– Тебе понравилась наша пьеса? – с улыбкой спросила Рыжеволосая Женщина.
– Очень понравилась, – ответил я, почувствовав прилив смелости.
Даже теперь, много лет спустя, мне хочется ревниво спрятать ее имя от читателя. Но я должен честно рассказать историю. Мы представились, как герои американских фильмов.
– Джем.
– Гюльджихан.
– Ты очень хорошо играла, – сказал я. – Я внимательно на тебя смотрел.
Мне стоило немалых усилий называть ее на «ты», потому что она оказалась старше, чем выглядела издалека и чем я думал.
– Как идут дела с колодцем?
– Мне кажется, что вода не появится, – сказал я.
Мне хотелось сказать: «На самом деле я остаюсь в Онгёрене только для того, чтобы видеть тебя», но такие слова могли показаться ей наглыми.
– Вчера у нас в театре был твой мастер, – сказала Рыжеволосая Женщина.
– Кто?!
– Махмуд-уста. Он уверен, что найдет воду. Ему тоже очень понравился театр и наше представление. Мы продали ему билет.
– По правде, Махмуд-уста ни разу в жизни не был в театре, – ревниво сказал я. – Однажды я рассказал ему драму Софокла о Эдипе, он на меня рассердился.
– Это правда, греческие пьесы в Турции не любят.
Неужели Рыжеволосая Женщина хотела, чтобы я ревновал ее к Махмуду-усте?
– Он сердился, потому что в той пьесе сын женится на матери.
– А вот вчера он не сердился, когда в конце спектакля отец убивает сына, – сказала Рыжеволосая Женщина. – Наоборот, ему понравились старинные истории и легенды.
Интересно, встречались ли они с Махмудом-устой после представления? Я никак не мог поверить, что Махмуд-уста, после того как я уснул, ходил вечером в Онгёрен в театр, как солдат в увольнительную.
– Махмуд-уста на самом деле очень строгий, – сказал я. – Он только и думает о том, чтобы найти воду. Он и меня в театр не пускал. Если он узнает, что я сегодня вечером пришел сюда, то рассердится.
– Не волнуйся, я с ним поговорю, – сказала Рыжеволосая Женщина.
Я испытывал такую ревность, что некоторое время даже не мог говорить. Неужели Махмуд-уста и Рыжеволосая Женщина подружились?
– Твой мастер очень к тебе придирается? – спросила Рыжеволосая Женщина.
– На самом деле он относится ко мне как отец. Но он ожидает, что я буду выполнять каждый его приказ и во всем его слушаться.
– Слушайся его, конечно, – сказала Рыжеволосая Женщина, улыбнувшись. – Он же не насильно тебя держит в своих учениках… У твоей семьи совсем плохо с деньгами?
Неужели Махмуд-уста рассказывал Рыжеволосой Женщине, что я «маленький бей»? Неужели они разговаривали обо мне?
– Нас бросил отец, – признался я.
– Значит, тебя отец не воспитывал, – сказала Рыжеволосая Женщина. – Тогда найди себе другого отца. В этой стране у всех по нескольку отцов. Государство-отец, Аллах-отец, отец-командир, в мафии отец… Здесь никто без отца не живет.
Рыжеволосая Женщина казалась мне и красивой, и умной. Я сказал:
– Мой отец был марксистом. – (С чего я вдруг не сказал «он и сейчас марксист»?) – Его пытали на допросе. Когда я был маленьким, он много лет сидел в тюрьме.
– Как звали твоего отца?
– Акын Челик. Но наша аптека называлась не «Челик», а «Хайят».
Рыжеволосая Женщина погрузилась в раздумья. Она ушла в себя и долгое время молчала. Почему на нее так подействовало, что мой отец был марксистом? А возможно, я ошибался: она просто устала и задумалась. И я рассказал ей об отце, который дежурил в аптеке «Хайят», о том, как я носил ему в аптеку еду, и о рынке в Бешикташе. Она внимательно выслушала мой рассказ. Но мне почему-то неприятно было говорить об отце, так же как и о Махмуде-усте. Мы недолго помолчали.
– А мы с мужем живем здесь, – сказала она, показывая на дом, мимо которого я столько раз проходил и на окна которого столько раз смотрел.
Я расстроился и даже рассердился, словно меня обманули. Но, несмотря на опьянение, я был в состоянии представить, что женщина в ее возрасте, которая к тому же работает в бродячем политическом театре, переезжающем по всей Турции из города в город, конечно же, должна быть замужем. Почему я не подумал об этом раньше?
– На каком этаже ваша квартира?
– Наших окон с улицы не видно. Мы живем на первом этаже в квартире одного старого маоиста, который позвал нас в Онгёрен. Родители Тургая живут наверху. Наши окна выходят в сад. Тургай сказал, что ты все время ходишь здесь и смотришь на окна.
Мне стало стыдно, что тайна моя оказалась известна. Но Рыжеволосая Женщина мило улыбалась. Ее полные красивые губы были очень притягательными.
– Спокойной ночи, – сказал я, – спектакль был очень хорошим.
– Нет, давай-ка пройдемся немного. Мне интересно послушать тебя.
Молодым читателям, которые сейчас, много лет спустя, читают эту историю, я должен сообщить следующее: в те годы, если привлекательная женщина в синей красивой юбке, тридцати с лишним лет, накрашенная (пусть даже и для театра), в пол-одиннадцатого вечера предлагала кавалеру: «Давай пройдемся», для большинства мужчин смысл ее слов был понятен. Конечно же, я к ним не относился. Я был просто лицеистом, который не мог скрыть свою наивную любовь. К тому же женщина была замужем. Правда, мы находились не в Анатолии – то есть в Азии, а в Румелии – то есть в Европе. Да еще и разговор наш зашел о социалистах, которые придерживались другой морали, совсем как мой отец.
Мы шли какое-то время, ни о чем не разговаривая. В небе над Онгёреном не было звезд. На привокзальной площади кто-то оставил прислоненным к статуе Ататюрка свой велосипед.
– Он говорил с тобой о политике? – спросила Рыжеволосая Женщина.
– Кто?
– Отец.
– Нет.
– Разве друзья твоего отца не приходили к вам домой? – продолжала выпытывать она.
– Отца часто не бывало дома. Но и отец, и мать не хотели, чтобы я вмешивался в политику.
– Почему отец не привил тебе левые взгляды?
– Я хочу стать писателем.
– Напишешь и нам пьесу? – сказала она, загадочно улыбнувшись. – Я бы хотела, чтобы кто-то написал пьесу или книгу обо мне, чтобы в этой книге была вся моя жизнь.
– На самом деле я хочу стать драматургом, – сказал я. – Но сначала мне нужно прочитать много пьес. Первая классическая пьеса, которую я прочту, будет «Царь Эдип».
Привокзальная площадь поздним вечером казалась смутно знакомой, словно воспоминание. Ночная тьма скрывала бедность и неухоженность Онгёрена, в свете бледно-рыжих уличных фонарей здание вокзала и площадь превратились в загадочную картину, которую можно было бы печатать на открытках. Военный джип, медленно круживший по площади, ярким светом фар осветил в сторонке стаю собак.
– Они ищут тех, кто устраивает беспорядки и нарушает закон, – сказала Рыжеволосая Женщина. – Почему-то здешние солдаты ведут себя очень неприлично.
– Вы играете для них что-нибудь особенное по пятницам и воскресеньям?
– Нам нужно зарабатывать деньги, – сказала она, глядя мне прямо в глаза. – Мы народный театр, а не государственный, от правительства деньги не получаем.
Внезапно она протянула руку и сняла соломинку, прицепившуюся к моему воротнику.
Ни о чем больше не говоря, мы подошли к ее дому. Когда мы стояли под миндальными деревьями, черные глаза Рыжеволосой Женщины, казалось, изменили цвет и стали зелеными. Я не находил себе места.
– Муж говорил, что ты для своего возраста хорошо пьешь ракы, – сказала она. – А твой отец пил?
Я утвердительно кивнул. Мысли мои были заняты тем, когда и как мы оказались с ее мужем за одним столом. Я не мог этого вспомнить. Но спрашивать не хотелось. Сердце мое было разбито, и я хотел обо всем забыть. К тому же мне уже сейчас было по-детски больно при мысли о том, что, когда мы закончим колодец, я больше не смогу ее видеть.
Она вновь, в который раз, мягко и нежно улыбнулась мне. В тот момент меня посетило чувство раскаяния, которое я испытал, когда смотрел в театре на плачущих отца с сыном.
– Тургай сегодня уехал в Стамбул, – сказала она. – Если ты любишь ракы, как твой отец, я могу налить тебе стаканчик.
– Буду рад, – сказал я. – Заодно и с твоим мужем познакомлюсь.
– Тургай и есть мой муж, – сказала она. – На днях вы пили с ним.
Она недолго помолчала, чтобы я переварил услышанное.
– Тургай иногда стесняется, что женат на женщине старше себя на семь лет, и скрывает, что мы женаты, – рассказала она. – Не смотри, что он такой молодой, он очень умный и хороший муж.
– А я-то думаю, где же мы могли пить с твоим мужем.
– Дома есть полбутылки. Есть еще и коньяк местного производства, подарок нашего старинного друга-маоиста. Он скоро вернется, так что мы выпьем и уйдем. Ты же знаешь, мы последние дни здесь, скоро уедем. Я буду скучать по тебе, маленький бей.
– Я тоже буду скучать по тебе.
Вытащив ключи и открыв дверь она сказала:
– А для твоей ракы у меня есть лед и каленый горох.
– Каленый горох мне не нужен, – ответил я.
Зажигая свет в прихожей, женщина повернулась ко мне:
– Бояться нечего. Смотри, я тебе в матери гожусь.
19
То была первая ночь, что я провел с женщиной. Это было потрясающе и чудесно. В одно мгновение все мои мысли о жизни, женщинах и самом себе совершенно изменились. Рыжеволосая Женщина показала мне самого себя и научила меня счастью.
Ей было тридцать три года. Иными словами, она прожила на свете в два раза дольше, чем я, но мне казалось, что она прожила в десять раз больше меня. В тот день я не особо задумывался о нашей разнице в возрасте, хотя именно она обычно вызывала у моих школьных друзей и приятелей по кварталу большой интерес и восхищение. Я знал, что не смогу рассказать никому подробности того, что переживаю, еще когда это происходило. Поэтому не буду вдаваться в детали, которые вызвали бы любопытство моих друзей, но которые бы они назвали враньем, если бы только я рассказал о них. То, что тело у Рыжеволосой Женщины было прекрасным, как я и предполагал, а во время занятий любовью она вела себя спокойно, смело и даже, может быть, чрезмерно раскованно, делало мои впечатления еще более невероятными.
Я допил ракы Тургая, а в последний момент перед уходом пропустил стаканчик коньяка старого маоиста, который занимался изготовлением вывесок и превратил дом в мастерскую. Сильно за полночь я отправился из Онгёрена, но ровно идти не мог, был словно во сне воспринимая все происходящее со мной как со стороны.
Когда я поднимался к кладбищу, я вдруг испугался реакции на мое возвращение Махмуда-усты. Мне хотелось защитить то приподнятое поэтическое состояние, в котором я пребывал, от его возможной ругани. К тому же мастер мог начать ревновать. Миновав кладбище (даже сова уже спала), я, чтобы срезать путь, пошел пустырями, но на одном из них споткнулся о кочку, мягко упал и увидел, как сияет небо.
Я только сейчас заметил, как прекрасен мир вокруг. Куда я спешил? Почему так боялся Махмуда-усту? Если слова Рыжеволосой Женщины правда, он тоже ходил в желтый шатер смотреть представление. При одной мысли о том, что после представления они где-то встретились, во мне просыпалась ревность. С другой стороны, то, что я провел ночь с такой женщиной, усиливало мою уверенность в себе, и я чувствовал, что мне все по плечу. Пусть вода так и не появится в колодце, но я возьму свои деньги, вернусь домой, поступлю на курсы, сдам экзамены в университет, стану писателем, – одним словом, у меня будет блестящая жизнь. Ясно, что моя судьба была предопределена, я это видел и принимал. Возможно, я бы даже написал когда-нибудь о Рыжеволосой Женщине роман.
С неба упала звезда. Чувствуя всей кожей, что зримый мир смешался с внутренним миром в моей голове, я со всем возможным вниманием сосредоточился на июльском небе. Мне казалось, что если я прочитаю его историю, то расположение звезд на небе откроет все тайны моей жизни. Мир вокруг был прекрасен. Той ночью я глубоко почувствовал, что буду писателем. Для этого требовалось всего лишь умение смотреть, видеть, понимать и выражать увиденное и понятое словами. Мое сердце было полно благодарности к Рыжеволосой Женщине. Все стало единым целым, все приобрело единый смысл.
С неба упала еще одна звезда. Возможно, я был единственным, кто видел эту звезду. Я подумал: «Я существую». Это чувство было прекрасным.
Я вспоминал прикосновения Рыжеволосой Женщины. Мы занимались с ней любовью в гостиной, на диване, при неярком свете. Я не мог не думать о теле Женщины, о ее большой груди. Я вспомнил свет, освещавший ее медного цвета кожу, как она целовала меня своими роскошными губами, как касалась каждой точки моего тела, и мне хотелось вновь и вновь заниматься с ней любовью. Но завтра из Стамбула должен вернуться ее муж Тургай, и наша встреча, конечно же, станет невозможной.
Нельзя сказать, что я был полностью счастлив. Тургай вел себя со мной по-дружески. А я предал его в тот вечер, когда он уехал в Стамбул, проведя ночь с его красавицей-женой. Своей затуманенной головой я искал различные оправдания совершенному мной преступлению, чтобы доказать себе, что я вовсе не злой человек, которому нельзя доверять. Я сказал себе, что стрела давно уже была выпущена из лука. К тому же Тургай вовсе не был мне старым товарищем – я всего-то виделся с ним три или четыре раза. Я подумал в свое оправдание, что бродячие актеры без дома и крова, заставлявшие своих женщин танцевать танец живота перед солдатами, вряд ли верят в семейные ценности. Наверняка Тургай обманывал жену с другими женщинами. А может быть, они даже рассказывали друг другу о своих приключениях. Возможно, Рыжеволосая Женщина завтра расскажет Тургаю о том, как провела со мной время. Но, скорее всего, она просто забудет меня.
У меня испортилось настроение. Я начал испытывать раскаяние, которое чувствовал, когда смотрел представление в театре. Тогда я не очень понимал причину этого чувства. Я ревновал из-за того, что Махмуд-уста тоже видел представление. Интересно, встречался ли Махмуд-уста с Рыжеволосой Женщиной вне театра?
Мастер спал. Я уже тихонько ложился, как он позвал меня:
– Где ты был?
– В городе.
– Ты оставил меня одного за столом. Ты что, в театр ходил?
– Нет.
– Время четыре утра. Как ты будешь завтра работать на жаре, не выспавшись?
– Мне было грустно, меня угостили ракы, – сказал я. – Было очень жарко, на обратном пути я прилег посмотреть на звезды и заснул. Я долго спал, уста.
– Сынок, не ври мне. Колодец шуток не любит. Ты ведь знаешь, что вода вот-вот появится.
Я не ответил. Махмуд-уста поднялся и вышел из палатки. Я надеялся, что забуду о Махмуде-усте и засну, но мысли о нем не давали мне покоя.
Почему он спросил меня, ходил ли я в театр? Может, Махмуд-уста ревнует меня? Наверняка такую культурную театральную актрису, как Рыжеволосая Женщина, никогда бы не заинтересовал такой деревенщина, как Махмуд-уста. Но что было в голове у Рыжеволосой Женщины, никому не известно. Признаться, поэтому я в нее и влюбился.
Я выглянул из палатки и не поверил своим глазам – мастер направлялся в Онгёрен. Я почувствовал бешеную ревность и гнев. При свете звезд я с трудом различал его темный силуэт.
Неожиданно он остановился, постоял немного, словно о чем-то раздумывая, и вернулся к ореховому дереву. Я видел, как он закурил сигарету и сел под него. Я лег в траву и долго смотрел, как Махмуд-уста курит. Я видел только красноватый огонек его сигареты.
20
Утром я проснулся, как всегда, спозаранку – в тот момент, когда солнце вонзило в меня сквозь узенькую щель в палатке свой луч, похожий на меч. Я спал, должно быть, всего часа три, но чувствовал себя хорошо отдохнувшим. А кроме того, после вчерашнего ночного опыта гораздо сильнее.
– Ты выспался? Хорошо соображаешь? – спросил Махмуд-уста, попивая чай.
– Да, уста. Я силен как лев.
Мы ни слова не сказали о моем позднем приходе. Как и в последние четыре дня, первым в колодец спустился Махмуд-уста. Маленькая черная точка далеко внизу быстро наполняла лопатой крошечное ведро.
Мастер был на глубине двадцати пяти метров, но в узком просвете бетонной трубы казалось, что он находится еще глубже. Глаза мои слепли на солнце, иногда я терял его из виду, начинал волноваться и, чтобы лучше его разглядеть, опасно наклонялся.
Тянуть наружу полное ведро было уже очень трудно. Веревка моталась из стороны в сторону, ведро то и дело начинало биться о стены. Мы не могли понять причины этого явления. Так как я крутил лебедку в одиночку, я не замечал, что ведро опять принимается выплясывать свой танец, и тогда Махмуд-уста, боявшийся, что оно упадет ему на голову, начинал кричать изо всех сил.
По мере погружения Махмуд-уста кричал все чаще и громче. Когда я опускал ведро, он сердился, что я кручу слишком медленно; когда я высыпал ведро, он вопил, что я слишком долго хожу; раздражался он и из-за того, что от сухого песка поднималась пыль. Я постоянно испытывал чувство вины. Крики моего мастера, отражавшиеся от стен колодца, поднимались наверх со странным гулом.
Я все время думал о нежной улыбке Рыжеволосой Женщины, о ее прекрасном теле, о том, как мы страстно любили друг друга. Думать обо всем этом было очень приятно. А что, если в обеденный перерыв взять да и сбегать в Онгёрен, чтобы ее повидать?
Я благодарил небеса за то, что стою наверху, хотя из-за жары мне было тяжелее, чем Махмуду-усте. Я привык вращать лебедку в одиночку, но иногда силы все-таки изменяли.
Когда я, снимая ведро с ручки, чуть наклонял его, в колодец высыпалось немного песка, камней и ракушек. Через несколько секунд со дна колодца раздавались крики и ругань Махмуда-усты. Мастер часто твердил о том, что если с большой высоты упадет даже маленький камень, то он может сильно поранить, а то и убить. Поэтому наполнял ведро не до краев, а это еще больше затягивало нашу работу.
Когда я высыпал ведро в отдаленном углу участка, то жутко потел. И, возвращаясь к колодцу, теперь всякий раз слышал ругань Махмуда-усты. Правда, чаще всего до меня долетал только гул, и я толком не понимал слова. Мне казалось, будто из-под земли до меня доносится гневный крик какого-то дэва или джинна.
С такой высоты было невозможно разглядеть, где сейчас ведро, на дне ли или застряло где-то на весу. Когда я интуитивно чувствовал, что ведро добралось до дна, то останавливал лебедку, запирал ее распоркой и ждал, когда мастер крикнет: «Тяни!» Каким маленьким и каким беспомощным казался мне Махмуд-уста на дне колодца.
Мы работали уже два часа. Вдруг внезапно у меня закружилась голова. Я испугался, что упаду в колодец. Когда я повез высыпать очередное ведро, то на минутку прилег на траву и, должно быть, сам не заметил, как уснул.
Когда я вернулся к колодцу, со дна слышалось какое-то странное бормотание Махму-да-усты. Я опустил пустое ведро, но голос не стих.
– Что случилось, уста? – крикнул я вниз.
– Подними меня наверх!
– Что?
– Говорю же, подними меня наверх!
Ведро было тяжелым, должно быть, он наступил на него ногой.
У меня кружилась голова, но я изо всех сил налегал на лебедку, представляя, что Махмуд-уста наконец-то передумает рыть этот колодец и освободит меня, выдав мне деньги. Как только я получу свои деньги, я сначала отправлюсь к Рыжеволосой Женщине, скажу ей, что я в нее влюблен, что ей нужно бросить Тургая и выйти замуж за меня. А что скажет мама? Вот Рыжеволосая Женщина непременно улыбнется: «Я в матери тебе гожусь». Может быть, перед обеденным перерывом я на десять минут прилягу под ореховым деревом. Когда ты очень устал, десятиминутный сон может придать тебе сил, как сон, продолжавшийся несколько часов. Я где-то об этом читал. А потом я непременно отправлюсь к Рыжеволосой Женщине.
Голова Махмуда-усты показалась над поверхностью колодца.
– Сынок, ты сегодня совсем не шевелишься, – сказал он. – Ты знаешь, я все равно найду здесь воду. А ты, пока я ее здесь не найду, не перестанешь меня слушаться. И не вздумай тормозить работу.
– Хорошо, уста.
– Я не шучу.
– Конечно, уста.
– Если где-то на земле существует цивилизация, если где-то существуют города и села, то это только потому, что там есть колодцы. Без воды не будет цивилизации, а без мастера не будет колодца. Тот, кто не может склонить голову перед своим мастером, не сможет стать хорошим учеником. Когда появится вода, мы с тобой разбогатеем.
– Даже если мы не разбогатеем, я все равно буду с тобой, дорогой мой уста.
Махмуд-уста принялся долго наставлять меня, как школьный учитель: я должен быть очень внимательным, я должен во все глаза следить за тем, что происходит. Интересно, когда он смотрел в театре на Рыжеволосую Женщину, он не думал о том, чтобы наставлять меня? Я слушал слова моего мастера как во сне, не чувствуя необходимости отвечать. Образ Рыжеволосой Женщины вновь стоял у меня перед глазами.
– Иди переоденься, – сказал Махмуд-уста, – вниз спустишься ты, там работать легче.
– Хорошо, уста.
21
Работа внизу была намного легче работы наверху. Сложность заключалась не в том, чтобы наполнить песком и отправить наверх ведро, а в том, чтобы суметь находиться на глубине двадцати пяти метров.
Стоя одной ногой в ведре и крепко держась двумя руками за веревку, я видел в сгущавшейся тьме колодца довольно скоро появившиеся на бетонных стенах трещины, паутину и какие-то странные пятна. Я видел, как испуганные ящерки снуют вверх по направлению к свету. Казалось, что подземный мир о чем-то предупреждает нас. Иногда до меня доносились странные глухие звуки.
Когда я поднял голову, чтобы посмотреть вверх, то отверстие колодца показалось таким далеким и таким маленьким, что мне сделалось страшно и сразу захотелось подняться. Но так как Махмуд-уста торопился, я быстро насыпал песок в ведро и крикнул:
– Тащи!
Махмуд-уста, который был намного сильнее меня, быстро крутил лебедку.
Когда мастер отходил в сторонку, чтобы высыпать ведро, в отверстие колодца виднелся крохотный круглый кусочек неба. Какого чудесного цвета оно было! И при этом очень далеко, словно мир, увиденный в перевернутый бинокль.
До тех пор, пока Махмуд-уста не показывался вновь в отверстии колодца и не начинал привязывать ведро, я, замерев, смотрел вверх, на небо.
Однажды, когда крошечный силуэт Махмуда-усты на какое-то время исчезла, сердце мое охватил страх. А если наверху он споткнется или с ним что-нибудь случится? А если он уйдет, чтобы наказать меня? Интересно, если бы Махмуд-уста знал о моей ночи с Рыжеволосой Женщиной, захотел бы он меня наказать?
Я в несколько приемов насыпáл ведро. Песчаная земля была слишком мягкой и белой. Было ясно, что здесь воды не найдется. Мы напрасно тратили силы, нервы и время.
Как только я выберусь из этого колодца, то отправлюсь в Онгёрен, к Рыжеволосой Женщине. Что на это скажет Тургай, совершенно неважно. Я все расскажу Тургаю. Он может меня избить, даже может попытаться убить. Интересно, что подумает Рыжеволосая Женщина, когда увидит меня средь бела дня?
Так успокаивая себя, я отправлял ведро наверх, а после меня всякий раз охватывал страх. Махмуд-уста стал все реже показываться у отверстия колодца, из-под земли продолжали раздаваться глухие звуки.
– Уста, уста! – закричал я.
Голубое небо было размером с монету. Где Махмуд-уста? Я принялся кричать изо всех сил.
Наконец мастер показался.
– Уста, подними меня наверх! – крикнул я ему.
Но он не ответил. Подойдя к лебедке, молча поднял ведро. Неужели он меня не слышал? Пока ведро медленно поднималось, я не отрывал от него взгляда.
Когда ведро достигло верха, в отверстии вновь показался Махмуд-уста. Как сейчас он был далек! Я крикнул ему изо всех сил, но мой голос не достиг его. Высыпав из ведра землю, он схватился за ручку лебедки. Пустое ведро опустилось.
Я еще немного покричал, но он меня не слышал.
Прошло много времени. Я думал, что вот сейчас Махмуд-уста везет тачку, сейчас он ее переворачивает, высыпает песок, сейчас возвращается, сейчас вот уже должен наклониться над колодцем, но Махмуд-уста не приходил. Может, он стоял где-то в сторонке и курил?
Когда Махмуд-уста вновь показался наверху, я опять крикнул изо всех сил. Но он делал вид, что ничего не слышит. Я тут же принял решение: наступил ногой в ведро и, держась за веревку, крикнул:
– Тащи!
Махмуд-уста, медленно вращая лебедку, тащил меня наверх. Я дрожал, но был рад.
– Что случилось? – спросил он, когда я, благодаря небесам, достиг деревянной рамы колодца.
– Уста, я больше не полезу вниз.
– Я сам буду решать.
– Конечно сам, уста, – ответил я, тут же устыдившись своего страха.
– Молодец. Если бы ты с первых дней вел себя так, мы бы уже давно нашли воду.
– Уста, я с первых дней веду себя недостойно. Но разве я виноват в том, что нет воды?
Подняв брови, он пытался придать лицу подозрительное выражение. Я увидел, что мои слова ему не понравились.
– Дорогой уста, я не забуду тебя до конца своих дней. Работа рядом с тобой стала для меня школой жизни. Но давай уже оставим этот колодец, пожалуйста. Дай я поцелую тебе руку.
Руки Махмуд-уста мне не протянул.
– Больше никогда не смей говорить так. Ты понял?
– Понял.
– А сейчас опусти-ка вниз своего мастера. До обеда остается больше часа. Сегодня мы сделаем длинный перерыв. Ты ляжешь под орехом, хорошенько выспишься и отдохнешь.
– Награди тебя Аллах, уста.
– Давай крути.
Я крутил лебедку, мастер постепенно скрылся из виду в колодце.
Я старался высыпать ведро побыстрее, прислушивался к едва доносившемуся голосу мастера и прикладывал все силы к тому, чтобы быстрее вращать лебедку. Пот тек с меня градом, я еще успевал время от времени бегать к палатке и пить из бутылки воду. Когда я готов был уже упасть от усталости, перед моими глазами вновь возник образ Рыжеволосой Женщины, цвет ее кожи, ее тело.
Любопытная бабочка с белыми крыльями пролетела радостно и беспечно мимо нашей палатки, мимо лебедки и скрылась из виду.
Глядя вслед бабочке, я подумал, что во время обеденного перерыва быстренько сбегаю в Онгёрен повидать Рыжеволосую Женщину. Мне хотелось расспросить ее о Махмуде-усте. Я запер лебедку распоркой, чтобы та не вертелась. Когда я держал поднятое ведро за ручку и тянул его к краю, я услышал, что Махмуд-уста опять что-то кричит снизу.
Мои уставшие руки уже привычно пристраивали полное ведро на краю колодца – неожиданно ручка выскользнула из потных пальцев, ведро покачнулось и упало вниз.
Я замер в ужасе.
– Устааааа! – в следующее мгновение заорал я.
Послышался крик, а затем воцарилась тишина. Тот крик я не забуду никогда.
Я отпрянул. Из колодца больше не доносилось ни звука, и я не мог заставить себя подойти к его краю. Может быть, это был вовсе не крик, просто Махмуд-уста выругался?
Казалось, мир смолк. У меня дрожали колени. Я не мог решить, что делать.
Огромный шершень сначала покружился вокруг лебедки, затем подлетел к отверстию колодца, заглянул внутрь и тут же исчез.
Я бросился в палатку. Снял с себя мокрые от пота штаны и рубашку. Переоделся. Я почувствовал, что дрожу, немного поплакал, но заставил себя замолчать. Если я буду реветь при Рыжеволосой Женщине, мне будет стыдно. Она обязательно придет на помощь. А может быть, подсобит и Тургай. Может быть, они позовут военных, или кого-то из мэрии, или пожарных.
Я бежал напрямик через поля в Онгёрен. Цикады смолкали в выгоревшей траве, когда я пробегал мимо них. Когда я несся мимо кладбища, то, повинуясь странному внутреннему голосу, повернулся и увидел, что вдалеке над Стамбулом сгущаются черные грозовые тучи.
Если Махмуд-уста ранен, если он теряет кровь, нужно успеть. Но я не знал, к кому обратиться.
Вбежав в городок, я сразу направился к дому, в котором жили Рыжеволосая Женщина с Тургаем. Дверь квартиры на первом этаже открыла тощая дама средних лет – судя по всему, жена маоиста, изготовителя вывесок.
– Они уехали, – сообщила она, хотя я еще не успел даже толком задать вопрос, и дверь дома, в котором я впервые в жизни провел ночь с возлюбленной, закрылась перед моим лицом.
Задыхаясь, я метался по площади. В кофейне «Румелия» никого, зато на почте толпилось много солдат, ожидавших телефонных переговоров.
На месте шатра Театра Назидательных Историй остались лишь обрывки билетов и колышки.
Не соображая, что делаю, я бросился бегом из Онгёрена обратно к проклятому колодцу. Медленно собиралась гроза. С моего лба, шеи ручьями тек пот. На кладбище, деревья которого по ночам раскачивались от прохладного ветра, сейчас стояла адская духота. Среди надгробных камней паслось несколько довольных жизнью баранов.
Возле участка я окончательно выдохся и пошел шагом. Я очень хорошо понимал – то, что я предприму в ближайшие полчаса, определит всю мою будущую жизнь, но я не мог решить, что же мне делать. Я был не в состоянии размышлять, что с Махмудом-устой: потерял ли он сознание, ранен ли он, умер ли он. Может быть, все произошло из-за сильной июльской жары? Солнце светило прямо мне в макушку, обжигая затылок.
Я очень хотел услышать голос Махмуда-усты и его стоны. Но у колодца стояла гробовая тишина. Слышен был только треск цикад. Я заметил двух ящериц, бежавших по лебедке. Сделал шаг по направлению к колодцу. Потом мне стало страшно. Подойти ближе и посмотреть вниз я не смог. Мне казалось, что если бы я посмотрел, то ослеп бы.
«Аллах Всемогущий, смилуйся надо мной!» Что мне следовало делать?
Вернувшись в палатку, я вновь заплакал. Сразу бросились в глаза чайник Махмуда-усты, старая газета, которую он читал сто раз, голубые резиновые шлепанцы мастера, перевязанные скотчем, ремень от штанов, которые надевал мастер, когда ходил в город, его будильник…
Руки сами собой принялись собирать вещи. У меня не заняло и трех минут запихать в старый чемодан все, что я привез с собой, и даже кеды, которые я так ни разу и не надел.
Если останусь здесь, то меня арестуют по меньшей мере за то, что я причинил смерть по неосторожности. Долгие годы будет идти судебное разбирательство, и тогда – какие там курсы, какой университет! Вся моя жизнь пойдет под откос – и, пока я буду сидеть в тюрьме для несовершеннолетних, мать умрет от горя.
Я молил Аллаха, чтобы Махмуд-уста остался жив. Я вновь подошел к колодцу, чтобы услышать голос мастера или его стон. Но колодец молчал.
Когда до стамбульского поезда оставалось совсем немного времени, я вышел из палатки, сжимая в руках чемодан отца, и, не оглядываясь, побежал в Онгёрен. Я знал, что если обернусь, то из глаз снова хлынут слезы. Черные грозовые тучи окончательно сгустились над городом, и от них все приобрело пугающий сизый цвет.
Здание вокзала было заполнено крестьянами, приезжавшими на выходные, и военными. В окружении корзин, мешков, коробок крестьяне и солдаты ожидали опаздывающий поезд. Я решил, что когда сяду в вагон, то сразу же займу место слева у окна и буду смотреть в сторону участка – туда, где мы рыли колодец с Махмудом-устой. Я уже целый месяц представлял, что сяду именно с левой стороны вагона, когда в один прекрасный день поеду в Стамбул с деньгами и подарками от Хайри-бея за то, что в колодце появилась вода. Но сейчас я был беглецом, невольным виновником катастрофы.
Пока не пришел поезд, я внимательно всматривался в лицо каждого, кто входил в здание вокзала. Вероятно, именно этим поездом в Стамбул возвратились Рыжеволосая Женщина и ее театральная труппа. Когда поезд наконец подошел к перрону, я бросил последний взгляд на площадь и Онгёрен и торопливо поднялся в вагон.
Часть II
22
Все, что я увидел из окна – кладбище возле дороги, кипарисы, наш участок с колодцем, – превратилось в картину, которую я уже не забуду никогда: казалось, то место вот-вот растворится в темноте. Вдалеке прозмеилась молния. Прежде чем донесся звук грома, все скрылось из виду – колодец, участок, словом, все. Меня охватило чувство свободы.
Стамбульский экспресс проезжал мимо старых заводов, складов, пустырей, мечетей, кофеен и мастерских.
На станции Сиркеджи я сошел с него и сел на автомобильный паром в Харем. Паром никак не мог отчалить; все смешалось – водители, семьи, плаксивые дети, миски со сладким йогуртом, доносившийся шум моторов с автомобильной палубы… Я чувствовал себя дикарем, который вернулся в цивилизацию. Я сидел не двигаясь и смотрел сквозь покрытое каплями дождя стекло, как по обеим сторонам Босфора медленно проплывает Стамбул. Я пытался разглядеть вдалеке Бешикташ за дворцом Долмабахче и высокий жилой дом напротив здания курсов.
Прежде чем сесть на автобус, в одной закусочной я купил упаковку салфеток и вытер лицо. Я много часов ничего не ел, но мне даже в голову не приходило купить чурек или сэндвич с донером. Вот, оказывается, как чувствует себя убийца.
Я сел на автобус в Гебзе в три часа. Я очень волновался из-за того, что скоро увижу маму, согрелся в лучах солнца, светившего прямо на меня, и тут же уснул.
Мама нисколько не изменилась. Сначала она немного поплакала, а затем принялась готовить обед, радостно болтая и рассказывая, что на самом деле очень довольна жизнью в Гебзе. Потом она сказала, что у нее не было никаких трудностей, кроме того, что она беспокоилась за меня и скучала, и вновь расплакалась. Мы обнялись еще раз.
– Как ты вырос за этот месяц, какие у тебя большие руки! – сказала мать. – Ты повзрослел, стал совсем мужчиной. Хочешь, я, как раньше, нарежу тебе помидоров в салат?
Я долго бродил по холмам в окрестностях Гебзе, издали глядя на Стамбул. Иногда мне казалось, что я вижу участок, похожий на наш, и волновался, будто мне предстояло встретиться с Махмудом-устой.
Я не сказал матери и о том, что спускался в колодец. Так как я был рядом с ней живым и здоровым, в этих подробностях уже не было никакой необходимости.
Мы не говорили об отце. Я понимал, что он не звонит матери. Но почему он не пытался разыскать меня?
Часто у меня перед глазами вставала одна и та же картина: Махмуд-уста спускается в колодец. Я верил, что он все еще терпеливо продолжает его рыть, совсем как фруктовый червь, который прогрызает насквозь огромный апельсин.
На деньги матери на рынке в Гебзе мы купили новый телевизор и будильник. А деньги, которые я скопил у Махмуда-усты, я положил в банк. Три дня подряд я отсыпался дома. Мне снился Махмуд-уста и какие-то злые люди, которые охотились за мной, но в Гебзе меня никто не искал; никто меня не преследовал. На четвертый день я поехал в Стамбул, записался в Бешикташе на подготовительные курсы в университет и со всей серьезностью приступил к занятиям.
Когда я оставался один, у меня не выходили из головы мастер и колодец. Я был счастлив, когда разыскал в Бешикташе своих прежних приятелей по школе и по кварталу: мы стали дружить, как и прежде. Пару-тройку раз мы ходили в пивнушки на рынке. Но я стеснялся курить и пить ракы и не обращал никакого внимания на их подколки.
Меня одно мучило. Может ли стать писателем бессовестный человек, который оставил умирать своего мастера на дне колодца? Я часто успокаивал себя: в колодце ничего плохого не произошло, Махмуд-уста жив, приехал хозяин и вытащил его. Просто я не выдержал слишком тяжелой работы и, бросив ее, взял свои деньги и вернулся домой, как поступил бы на моем месте любой нормальный человек. Я теперь ненавидел эти слова – «нормальный человек».
Некоторые мои приятели по кварталу, которые учились в Стамбульском университете, отпустили бороды и усы и даже участвовали в столкновениях с полицией во время каких-то демонстраций. Они со смехом и гордостью рассказывали о своих приключениях. Я знал, что они испытывают уважение к моему отцу. Однажды вечером я случайно заговорил с ними о Рыжеволосой Женщине.
– Джем, да ты хотя бы раз в жизни девушку за руку держал?! – воскликнул один такой студент после моего рассказа о том, как два месяца тому назад мой дядя отправил меня на стройку под Эдирне (стройка была солиднее колодца) и там в городке Онгёрен я пережил любовную историю с одной женщиной.
– Кто-нибудь знает, где находится Онгёрен? – спросил я приятелей, сидевших за столом.
Они растерялись, никак не ожидая такого поворота. Один ответил, что его старший брат проходил в Онгёрене службу в армии. Однажды приятель с родителями ездил навестить братца, и этот городок Онгёрен показался ему скучным и унылым.
– Там я полюбил прекрасную женщину, актрису. Я встретил ее на улице. Она отвела меня к себе домой.
Мои приятели изумленно смотрели на меня: было видно – они мне не верят. Я сказал, что провел с той женщиной ночь.
Меня забросали вопросами:
– Ну и как?
– Тебе понравилось?
– Как ее звали?
– Почему вы не поженились?
Тот, кто ездил в Онгёрен навестить своего старшего брата, вспомнил:
– Там чего только не бывает! Всякие бродячие театры с танцами живота, кабаре – и все это ради ушедших на выходные в увольнительную солдат.
Тем вечером я понял, что смогу избавиться от боли и угрызений совести, только если буду держаться подальше от своих приятелей. Я также осознавал: Махмуд-уста и его колодец до конца моих дней будут отдалять меня от радостей обычной жизни. «Самое лучшее – вести себя как ни в чем не бывало», – постоянно твердил я себе.
23
Но разве можно было вести себя как ни в чем не бывало? Мастер оставался в колодце, находившемся в моей голове, в руках у него был заступ, и он продолжал долбить землю. Если он продолжал это делать, значит был жив и здоров.
Поначалу я с содроганием думал, что труп Махмуда-усты кто-нибудь найдет, например Али; дело попадет к прокурору; об этом сообщат в Гебзе; мать моя от слез лишится чувств; полиция отыщет меня на курсах или в книжном магазине и арестует. Правильнее всего было разыскать моего отца и все ему рассказать, но он не искал встреч со мной, из чего я делал вывод, что, даже если он мне и позвонит, то помочь не сможет. К тому же, если бы я рассказал о произошедшем, я бы только усугубил ситуацию. Короче, я постоянно ждал стука в дверь, поэтому каждый прошедший день был для меня доказательством того, что я невиновен, но я боялся, что на следующий день обязательно постучат. Иногда мне казалось, что тот или иной покупатель, спрашивавший меня в книжном магазине «Дениз», где стоит та или иная книга, – полицейский в штатском, и понимал, что мне хочется тут же признать свою вину. Иногда я уверял себя: мастер самостоятельно смог выбраться и, должно быть, давно забыл о своем подлом ученике.
Я преуспевал в книжном магазине. Хозяин «Дениза», которому очень нравились мои предложения по новому дизайну витрин, подборке книг и скидочным акциям, разрешил мне зимой ночевать на диване и даже использовать маленькую подсобную комнатку по вечерам для чтения. Моя мать, конечно, расстроилась, что я буду далеко от нее, но она была уверена, что если ее любимый сын продолжит работу в Кабаташе и учебу на курсах в Бешикташе, то получит хорошие оценки на вступительных экзаменах в университет.
На курсах я трудился как вол, вызубривая формулы наизусть, потому что знал – экзамены станут самым важным поворотом в моей жизни. В напряженные минуты занятий, когда я полностью погружался в уроки, во мне распускался теплый, словно солнце, образ Рыжеволосой Женщины, и я думал о цвете ее кожи, животе, груди и глазах. Но вообще-то, именно уроки помогали мне вести себя так, будто ничего не произошло.
После того как я оставил усту в колодце, мое внутреннее желание стать писателем быстро угасало. Моей матери очень хотелось, чтобы я стал инженером. Я выбрал инженерную геологию.
В конце лета 1987 года стало известно: я прошел по конкурсу в Стамбульский Технический университет на факультет инженерной геологии. Здание университета в последний период Османской империи служило оружейным складом и казармой солдатам. В 1908 году, когда в Стамбул из Салоник прибыли войска, подконтрольные младотуркам, чтобы свергнуть с престола султана Абдул-Хамида, здесь располагались верные султану части. Я узнал обо всем этом из книг. Мне нравились аудитории с высокими потолками, бесконечные лестницы и коридоры, нравилось, что я учусь в десяти минутах ходьбы от Бешикташа и книжного дома «Дениз».
В книжном магазине меня повысили из продавца в управляющие. Хозяин никак не мог примириться с тем, что я не буду писателем. Он упрямо твердил, что из инженера тоже может получиться хороший литератор. А я в общежитии университета почти каждый вечер прочитывал по книге.
Однажды старый сонник с сюжетом «Эдипа» вновь попал мне в руки. Именно в нем в свое время я прочитал историю о несчастном греческом царе. Я вспомнил о Зигмунде Фрейде, который писал, что в каждом мужчине живет желание убить отца.
Несколько месяцев спустя в отделе старых книг мне попался перевод пьесы Софокла, изданный в 1941 году министерством образования. Книга была библиографической редкостью. Я проглотил ее так, словно хотел узнать тайну собственной жизни.
Эдип убил своего отца, пытаясь избежать предсказания оракула, изменить уже написанную историю. Если бы царевич Эдип посмеялся и не придал значения предсказанию оракула, то, может быть, ему и не пришлось бросить свой дом, свою страну и отправиться в странствие и на одной из дорог он бы не встретился со своим отцом-царем и не убил бы его. То же самое можно было сказать и об отце Эдипа. Если бы царь не предпринимал никаких мер, чтобы уберечься от злого рока, то с ним бы не произошло несчастье. Таким образом, если я хочу жить обычной, нормальной жизнью, как все, я тоже должен поступать прямо противоположно Эдипу и вести себя так, как будто ничего не произошло. Эдип, который старался быть хорошим человеком, стал убийцей из-за того, что не хотел становиться убийцей, и узнал, что является убийцей собственного отца, из-за того, что задался этим вопросом. Пьеса Софокла была построена на расследованиях любопытного героя, который в конце ее узнает, что убийцей является он сам.
А вот я не был уверен не только в том, что я убийца, но и в том, что вообще совершил преступление. У меня не было никакого намерения становиться преступником. Махмуд-уста, возможно, целым и невредимым выбрался из колодца. Если бы это было не так, полиция давно бы постучалась в мою дверь.
24
Я бродил по коридорам университета, посещал кино с однокурсниками, которые, как и я, прогуливали лекции по металлургии, смотрел сериалы по телевизору в общежитии и думал, что в конце концов сумел стать таким же, как все.
В университете училось очень мало девушек. А тех нескольких девушек, что все же учились, преследовали все мужчины. Поэтому, когда однажды на выходных в Гебзе мама сказала, что дочь родственников моего дяди из Гёрдеса по линии его жены поступила в Стамбульский университет на факультет аптечного дела и будет жить в общежитии, я весьма заинтересовался.
У Айше были светло-русые волосы, но она напоминала мне Рыжеволосую Женщину. Особенно верхней губой и формой подбородка. С первого дня я почувствовал, что влюбляюсь в нее и что она неравнодушна ко мне. По субботам после обеда мы вместе ходили в кино, в городские театры, где шли пьесы Чехова и Шекспира, а также ездили на автобусе в Эмиргян пить чай. «Ходить», как выражались некоторые мои приятели, с умной и красивой девушкой было очень приятно, и жизнь казалась такой прекрасной, что я почти позабыл о Махмуде-усте.
Чтобы иметь возможность продолжать вести ту же жизнь, я подал заявление в магистратуру по инженерной геологии, и меня приняли, так как я был одним из лучших учеников на курсе. На второй год нашей дружбы с Айше в кинотеатрах и в парках, когда вокруг никого не было, мы начали держаться за руки и целоваться, но, так как Айше была из строгой семьи, я с самого начала понял: она никогда не согласится провести со мной ночь до свадьбы.
Послушав совета приятеля-бабника из Бешикташа, который был постоянным посетителем домов свиданий, я взял у него ключи от холостяцкой квартиры и как-то после полудня пригласил туда Айше. Свидание закончилось настоящей катастрофой. Айше, несмотря на мои двухчасовые уговоры, покинула поле боя вся в слезах и долгое время даже не подходила к телефону в общежитии.
В конце концов мы помирились, продолжили отношения и наконец решили обручиться. Мне нравилось, что после помолвки Айше по субботам приходила в книжный магазин за мной. Хозяин вместе с молодыми продавцами считали, что «девушка из Гёрдеса» – настоящая красавица, и это мне тоже нравилось. Я любил рассказывать ей о книгах, которые прочитал, о геологической истории, о своих политических взглядах, которые не очень-то отличались от взглядов окружающих меня студентов, а также о своих футбольных страстях. Я узнал, что Айше хранит и даже иногда перечитывает мои письма, в которых я рассказывал о невыносимых условиях работы шахтеров в Козлу, в Соме, куда я летом ездил на практику, и в которых я также делился с ней своими яростными и претенциозными мыслями о жизни и о мире. Я тоже хранил ее письма.
В эти счастливые дни иногда некое смутное воспоминание омрачало мое счастье. Стояло засушливое лето, Стамбул страдал из-за недостатка воды. Моя невеста сказала, что если министерство сельского хозяйства, вместо того чтобы нести глупости про молитвы о дожде, распорядится в каждом саду Стамбула вырыть по колодцу, то проблема с водой будет тут же решена, и эти ее слова заставили меня надолго замолчать. Когда я прочел в газетах, что в окрестностях Онгёрена была торжественно, с приездом премьер-министра, открыта фабрика по производству холодильников, которая стала самой большой на Балканах и Ближнем Востоке, я тут же вспомнил духовные притчи, которые рассказывал мне Махмуд-уста. Увидев, что предисловие нового перевода книги «Братья Карамазовы», которую я решил было подарить моей невесте на день рождения, написано Фрейдом, а речь в нем идет об Эдипе и Гамлете, я, содрогнувшись, прочел эту статью, а затем, отложив книгу, купил вместо нее «Идиота», герой которого – наивный и безгрешный человек.
Иногда по ночам я видел Махмуда-усту во сне. Он продолжал рыть колодец на огромном синем шаре, медленно вращавшемся в космосе среди других планет. Значит, он не умер и я понапрасну терзал себя угрызениями совести.
Иногда мне хотелось рассказать моей невесте, что я стал инженером-геологом из-за Махмуда-усты, но я всякий раз сдерживался. Потребность сознаться я испытывал больше всего тогда, когда рассказывал Айше о прочитанных книгах. Но вместо Махмуда-усты я всякий раз говорил о тайнах и странностях геологии: я рассказал моей возлюбленной, что тайну появления морских ракушек и скорлупок от мидий в расселинах, ущельях, пещерах и на вершинах самых высоких гор раскрыл в XI веке китайский ученый Шень Ко. Я рассказывал ей о том, что, оказывается, спустя сто пятьдесят лет после Софокла Теофраст написал книгу «О камнях» и тысячи лет люди верили тому, чтó он написал о минералах. Я не сумел стать талантливым писателем, но, по крайней мере, мне бы хотелось создать книгу, которой будут все верить! Я мечтал, что напишу книгу «Геологическая структура Турции», в которой помещу все: от Таврических гор до таинственных земель Фракии, состоящих из глины и мелкого песка.
25
Я знал, что мой отец находится в Стамбуле, сердился, что он мне не звонит, но сам не искал его. В конце концов я повидал отца сразу после того, как мы поженились с Айше. После свадьбы мы встретились с ним вечером в ресторане одного отеля на Таксиме. Увидев его, я мгновенно почувствовал себя счастливым.
– Ты нашел себе девушку, похожую на твою мать, – сказал он.
За ужином Айше с отцом мгновенно нашли общий язык и принялись подшучивать надо мной.
Отец постарел, но выглядел хорошо. Я заметил, что у него водятся деньги, но ему все же стыдно, что он начал новую жизнь. Я испытывал угрызения совести, ибо все это время размышлял об историях отцеубийства.
Рядом с отцом мне всегда было трудно оставаться самим собой, хотя он не приставал ко мне и внушал доверие. Хотя с Махмудом-устой я провел рядом всего месяц, я верил, что сам, по собственной воле восстал против него. Не знаю, насколько правильными были такие мысли.
– Тебе очень повезло, я поручаю тебя чудесной девушке, – сказал отец на прощание, глядя на Айше. – Сердце мое спокойно.
Когда мы с женой возвращались домой с Таксима в Пангалты, я был рад, что история с отцом закончилась. На дороге, спускавшейся из Фёрикёя в Долапдере, мы снимали однокомнатный домик. Почти все время мы занимались с Айше любовью, шутили, болтали; я был счастлив. Иногда я думал о Махмуде-усте и задавался вопросом, что с ним случилось.
После службы в армии я нашел скромную должность чиновника в стамбульском отделении Агентства геологоразведки. Мои однокурсники шутили, что в Турции инженер-геолог с дипломом либо кебабочную откроет, либо займется стройкой. Иными словами, с их точки зрения, мне здорово повезло, что я отыскал подобную работу. Турецкие строительные фирмы строили в арабских странах, на Украине и в Румынии дамбы и мосты; им требовались инженеры для геологических изысканий. Поначалу я нашел работу в Ливии, но нам нужно было каждый год жить там по меньшей мере шесть месяцев. К тому же нас с женой начал беспокоить тот факт, что Айше до сих пор не могла родить, и мы решили обратиться в Стамбуле к знакомым врачам. Так что в конце концов мы вернулись обратно в Стамбул.
В 1997 году я поступил на работу в фирму, у которой были проекты в Казахстане и Азербайджане. И пятнадцать лет провел в самолетах, сумев скопить кое-какие деньги.
Мы переехали в более дорогой дом в Пангалты. По выходным, если я бывал в Стамбуле, мы отправлялись с женой за покупками в торговые центры или ходили в кино. По вечерам, сидя у телевизора, мы ужинали, глядя на выступление первых лиц государства и слушая заявления военных. Мы много говорили о том, что бездетность не должна отравлять наш счастливый брак.
Иногда, бывая в Бешикташе, я заходил в книжный магазин «Дениз». Его владелец Дениз-бей давно понял, что я не стану писателем, и предлагал мне партнерство. Жизнь моя была такой же, как у всех, может быть даже чуть более успешной. Иногда я говорил себе, что мне удается вести себя так, будто ничего не произошло. Иногда вспоминал Махмуда-усту. Я очень расстраивался, что у меня нет ребенка.
Сразу после взлета из аэропорта Ататюрк в Йешилькёе самолеты, словно перелетные птицы, разворачивались над городом на запад, так что внизу было прекрасно виден Онгёрен. Он лежал недалеко и от Черного моря, и от Мраморного, и от прибрежных пляжей, и от новых курортов, и от казавшихся огромными даже с воздуха стамбульских нефтехранилищ. Притом он был далеко от деревьев и зеленой травы на побережье, от плодородных вспаханных желтых, оранжевых, разноцветных полей: земля в нем по-прежнему казалась серой и бесплодной.
Картина, которую я видел из окна, в одно мгновение исчезала, когда самолет начинал разворот и ложился на крыло.
Мы старели, ребенка у нас все не было, а земли между Стамбулом и Онгёреном постепенно покрывались фабриками, складами и мастерскими. Владельцы некоторых фабрик писали названия огромными буквами на крышах зданий, чтобы пассажиры самолетов могли их прочитать. Вокруг фабрик располагались маленькие мастерские, фирмы, которые производили какие-то полуфабрикаты, – облезлые некрашеные маленькие здания. По мере того как самолет поднимался, показывались и кварталы лачуг гедже-конду, которыми быстро обрастали окрестности. Маленькие городки и деревни вокруг Стамбула быстро разрастались. Во время каждого нового полета я видел, что руки Стамбула дотягиваются теперь до самых отдаленных пригородов и что по постепенно расширяющимся дорогам, словно бесчисленные терпеливые муравьи, ползут сотни тысяч машин. Я полагал, что скорость развития технологий давно уничтожила профессию Махмуда-усты.
Дело рытья колодцев, продолжавшееся столетия при помощи лопаты, заступа и деревянной лебедки с привязанным к веревке ведром, в середине восьмидесятых годов XX века в Стамбуле быстро умерло. Когда летом мы с Айше ездили в Гебзе навестить мою маму, я впервые увидел артезианские скважины. Шумные буровые установки, похожие на нефтяные вышки, стоявшие в кузовах грузовиков, проходили за день пятьдесят метров, и мастера очень быстро вгоняли в глубину земли трубы, через которые насос начинал качать воду.
Новые, облегчающие жизнь изобретения создали временное водное изобилие в некоторых районах Стамбула, но подземные озера, близкие к поверхности земли, исчерпались так же быстро, как были найдены. В начале 2000-х годов в Стамбуле остались водохранилища только на глубине семидесяти – восьмидесяти метров. Махмуд-уста, копая в день по метру, больше не мог бы добывать воду для городских садов.
26
Спустя двадцать лет после моей поездки в Онгёрен по приглашению своего однокурсника из Технического университета я отправился в Тегеран, чтобы встретиться с представителями одной нефтяной компании. Через несколько минут после взлета, когда самолет встал на крыло, чтобы развернуться с запада на юго-восток, я увидел, что Стамбул и Онгёрен уже соединились. Теперь они стали единым морем улиц, домов, крыш, мечетей и фабрик.
Однокурсник Мурат говорил, что в Иране, который является нефтедобывающей страной, можно получить хорошие строительные заказы и что мы выгодно продадим туда буровые установки, тем более что конфликт Ирана с Западом открывает перед нами хорошие возможности.
В то время в западных газетах обсуждалась необходимость бомбить Иран, а светские и националистические газеты Стамбула задавались следующим вопросом: «Неужели Турция будет походить на Иран?» Я с первого дня своей поездки почувствовал, что вести дело с Тегераном мы не сможем.
Но меня очаровало то, насколько иранцы похожи на турок. Я не торопился вернуться в Стамбул и бродил по улицам Тегерана, заглядывая то на рынки, то в книжные магазины. На улицах иранцы вели себя точно так же, как мы: многие стояли без дела или курили в кофейнях, убивая время. Движение в Тегеране было таким же ужасным. Мы, турки, обратившись к Западу, совершенно забыли про Иран. На проспекте Революции я зашел в несколько книжных магазинов и поразился их изобилию.
За короткое время я познакомился и с разгневанным модернистским «светским классом», запертым в своих домах. Мурат водил меня на званые ужины, где все пили алкоголь и мужчины сидели вместе с женщинами. Головы женщин были непокрыты.
Многие люди в подобных компаниях, узнав, что я турок, начинали говорить мне очень милые вещи. Они любили Стамбул, ездили туда, иногда они просили меня заговорить по-турецки и, услышав мою речь, смеялись, как будто я сказал что-то веселое. Одна семья пригласила нас к себе на дачу на берег Каспийского моря. Мурат немедленно согласился.
Глядя из окна на темно-синюю бархатную тегеранскую ночь, я почувствовал, что за желанием моего старого университетского приятеля развивать ирано-турецкие отношения стоит не столько искренний порыв, сколько некая решимость, а может быть, и тайное поручение. Возможно, мой приятель занимался шпионажем, а возможно, хотел извлечь пользу из удачного момента и заработать денег в стране, живущей под эмбарго.
У меня слегка кружилась голова от фруктового алкогольного напитка, который я пил, я тосковал по Айше и Стамбулу. Совершенно неожиданно в какой-то момент мне вспомнился наш с Махмудом-устой ночной поход в Онгёрен.
Я был уверен, что воспоминания накрыли меня, когда на стене в гостиной хозяев я увидел одну картину. На картине отец обнимал сына и плакал. Думаю, что рисунок был заимствован из какой-то старинной книги.
Пожилой хозяин дома, заметив, что я засмотрелся, подошел ко мне. Я спросил его, что это за картина. Он сказал, что это сцена из «Шахнаме», в которой Рустам, убив Сухраба, плачет по нему. Лицо хозяина дома светилось удивлением, будто он спрашивал: «Как же вы не знаете таких вещей?» Я подумал, что иранцы все же отличаются от турков, из-за европеизации совершенно позабывших своих старинных поэтов и старинные сказания.
– Если вам интересно, то пусть вас завтра сводят во дворец Голестан, – произнес хозяин дома. – Там много рукописей с миниатюрами и старинных книг.
В последний день пребывания в Тегеране мы с Муратом посетили дворец Голестан. В большом саду раскинулось много маленьких павильонов. Мы вошли в павильон Нигяр-хане, который напоминал Павильон Лип неподалеку от отцовской аптеки «Хайят». В этом сумрачном здании, выделенном под коллекцию старинной персидской живописи, кроме нас, никого не оказалось. Хмурые смотрители оглядывали двух посетителей с подозрением.
Вскоре я увидел рисунок, на котором был изображен некий отец, рыдающий над мертвым сыном. Отец был главным героем персидского национального эпоса «Шахнаме». Звали его Рустам. Я любил книги, но, как типичный современный турок, не знал ни «Шахнаме», ни Рустама с Сухрабом. Чувство, внушаемое рисунком, заключалось в том, что когда я смотрел на него, то в глубине души ощущал себя на месте отца.
В музейном магазине я не смог найти ни копий с того рисунка, ни других изображений Рустама с Сухрабом. Это меня огорчило.
– Братец, что тебе в том рисунке? Скажи мне, чтобы я тоже понял, – поинтересовался Мурат.
Я не стал ничего ему объяснять, но мой друг пообещал, что достанет репродукцию и отправит ее мне в Стамбул.
На обратном пути, когда самолет уже начал снижаться, я во все глаза смотрел в окно, пытаясь разглядеть Онгёрен. Тщетно. Сквозь облака виднелся только огромный Стамбул. Я ощутил неодолимое желание поехать туда, где видел Махмуда-усту в последний раз.
27
В тот раз мне удалось воспротивиться желанию вновь поехать в Онгёрен. Я пытался забыть мастера, убивая время по выходным перед телевизором или в кинотеатрах Бейоглу.
В стамбульских книжных магазинах было непросто найти перевод «Шахнаме», написанного Фирдоуси тысячу лет назад. Раньше большинство османских образованных людей прекрасно знали хотя бы некоторые легенды персидского национального эпоса. Но сейчас, после двухсотлетних попыток европеизации Турции, никто персидскими легендами не интересовался. Перевод «Шахнаме» на турецкий язык в четырех томах, без соблюдения размера и рифмы, был выполнен в сороковые годы и опубликован в пятидесятые министерством национального образования. Я быстро его проглотил.
Повествование, начавшись в жанре страшной сказки, продолжалось как назидательное произведение, поднимающее вопросы управления государством, семьи и нравственности. На меня произвел большое впечатление труд Фирдоуси, посвятившего всю свою жизнь творению, которое заняло полторы тысячи страниц.
Собственная потеря помогла ему очень глубоко и искренне изобразить в своем произведении тему гибели сына на руках у отца. Если бы я смог стать писателем, то я хотел бы написать что-то вроде подобной бесконечной легенды, которая бы охватывала все, судила о каждой детали, удивляла, волновала и печалила своей человечностью. Книга «Геологическая структура Турции», которую я задумывал, должна была получиться именно эпической энциклопедией! Я собирался рассказать обо всех подземных морях, о горных цепях и обо всем, что есть под землей, перебирая слой за слоем, породу за породой.
Читая «Шахнаме» и перейдя после легенд про дэвов, чудовищ, джиннов и шайтанов к приключениям смертных шахов и смелых героев, к повседневным проблемам отцов, детей, семей и государств, я внезапно почувствовал, что нахожусь среди хороших знакомых. Волей-неволей я начал думать и о Махмуде-усте.
28
В историях о Эдипе и о Сухрабе было много общего, но было и различие: Эдип убивает своего отца Лая, а Сухраба убивает его отец Рустам. В первой истории сын является отцеубийцей, а во второй отец является сыноубийцей.
Но эта разница лишь сильнее подчеркивала сходство. В «Шахнаме» читателю многократно напоминали о том, что Сухраб не знал своего отца (точно так же, как Эдип). И читатель думал: если Сухраб не знает, что тот, кого он собирается убить – его отец, то он не виноват.
Битва отца и сына затягивалась, таким же образом затягивалось и расследование Эдипа, который пытался выяснить, кто убил прежнего царя. В первый день Рустам и его сын Сухраб сражались на пиках, а когда пики обоих сломались о доспехи, они продолжили поединок на кривых мечах. Всякий раз, когда отец с сыном скрещивали мечи, воины обеих армий видели, как искры разлетаются вокруг. Долго ли, коротко ли, но и мечи они сломали и после этого вынули палицы. От силы ударов палицы и щиты погнулись. Лошади падали от усталости. В Онгёрене в бродячем театре Рыжеволосой Женщины был коротко представлен только конец той битвы.
Молодой Сухраб схватил отца, швырнул его на землю и сел сверху. Сухраб уже собирался отрубить отцу голову блестящим, как вода на солнце, мечом, но Рустам в страхе сумел уговорить молодого витязя.
– Не убивай меня с первого раза, сбрось меня на землю второй раз, – сказал отец Рустам своему сыну Сухрабу. – Тогда ты заслуженно убьешь меня. Наш обычай именно таков. Если ты меня послушаешь, то тебя будут считать настоящим храбрецом.
Сухраб, повинуясь голосу сердца, подарил жизнь старому витязю. Тем же вечером друзья сказали Сухрабу, что он совершил ошибку – никогда не стоит недооценивать врага, но молодой и сильный воин не прислушался к их мудрым речам.
На третий день, когда битва только началась, Рустам внезапно сбросил сына наземь, выхватил меч, вонзил Сухрабу в грудь и убил своего сына. Читая это, я ужаснулся, как много лет назад в шатре театра в Онгёрене.
Точно так же и Эдип убил отца, которого не знал, поддавшись минутному гневу.
Могли ли мы считать Эдипа, убившего своего отца, и Рустама, убившего своего сына, невиновными, потому что они не сознавали, что делают? Когда древнегреческие зрители смотрели пьесу Софокла «Эдип», они, вероятно, думали, что грех Эдипа заключался только в том, что он пытался избежать предначертанной ему Аллахом судьбы, как много лет назад говорил мне Махмуд-уста. Точно так же и грех Рустама заключался не в том, что он убил своего сына, а в том, что он зачал сына во время случайной встречи и не смог быть ему настоящим отцом.
Древние греки думали: Эдип наказан за то, что противостоял посланной ему богами судьбе, и находили это справедливым. Согласно той же логике, я думал, что необходимо было наказать Рустама, убившего своего сына. Однако в случае с Рустамом отец не понес никакого наказания, потому что на Востоке важнее быть победителем, чем отцом.
Иногда по ночам я просыпался и, лежа рядом со спящей женой, думал об этом. Из-за неплотно задвинутых занавесок на прекрасный лоб Айше и на ее выразительные губы падал свет уличных фонарей, и я чувствовал, как счастлив со своей женой, несмотря на то что у нас нет детей. Я вставал с кровати и подходил к окну.
Однажды ночью я привычно выглянул в окно. Над Стамбулом висел дождливый смог, водосточные трубы старого дома, в котором мы жили, тоскливо гудели, а по темной улице проезжал встревоженный полицейский автомобиль с синей мигалкой. То были годы, когда в Турции шла борьба между сторонниками Европейского Союза, националистами и исламистами. Стороны использовали друг против друга турецкий флаг в качестве средства войны, и во многих районах Стамбула развевались гигантские флаги.
Иногда ночью над городом пролетал самолет. Мне казалось, что он посылает мне какой-то особенный знак. Я думал о мастере и о колодце, о том, что мне нужно поехать в Онгёрен, чтобы узнать, виновен я или нет, и избавиться от угрызений совести. Но вместо этого я довольствовался лишь тем, что вновь перечитывал «Шахнаме» и «Царя Эдипа».
29
В те годы я обзавелся привычкой сравнивать всех отцов и сыновей, с которыми меня сводила жизнь, с Эдипом и Рустамом. Задумчиво шагая домой с работы и наблюдая за тем, как владелец закусочной распекает своего помощника, я думал, что такой никогда не будет Рустамом. Когда Айше уходила в гости к самой близкой подруге на празднование дня рождения ее сына, я размышлял о том, что строгий и нетерпимый муж подруги вообще-то является прекрасным кандидатом на роль неразумного Рустама.
Был период, когда я читал газеты, в которых большое внимание уделялось скандалам и расследованиям. В Стамбуле очень любили такое чтиво, и бульварные газеты выходили огромными тиражами. Первый тип описываемых преступлений был следующим: пока сын находился в армии, или в тюрьме, или где-то в отъезде, отец соблазнял молодую красивую невестку, а сын, вернувшись и узнав о произошедшем, убивал отца. Второй тип, имевший многочисленные и часто повторявшиеся варианты, заключался в том, что изголодавшийся по физической любви сын в момент безумия насильничал над матерью. Некоторые насильники убивали своих отцов, пытавшихся их остановить или наказать. Подобных «Эдипов» общество строжайшим образом осуждало. Отцеубийц впоследствии часто убивали тюремные надсмотрщики, бандиты или наемные убийцы. Ни государство, ни тюремное начальство, ни газетчики, ни общество не возражали против такого восстановления справедливости.
Я начал делиться с Айше своими мыслями об Эдипе и Рустаме. Жена прониклась интересом к пьесе Софокла и легенде, рассказанной Фирдоуси. Иногда мы между собой разделяли всех людей по двум типам – Рустам или Эдип. Отцы, которые, несмотря на доброту и нежность, вызывали страх у своих сыновей, являлись для нас Рустамами.
Фирма, в которой я работал, имела хорошие отношения с мэрией и с партией власти и поэтому получала участки, у которых в скором времени менялись планы застройки, или разрешенная этажность, или по которым прокладывались новые дороги, и мы с легкостью пользовались государственной ипотекой. Я не думаю, что фирма занималась какими-то неподобающими делами. Но иногда я задумывался над тем, что сказал бы мой отец, если бы узнал, что его сын прекрасно устроил свою жизнь благодаря партии власти. Я много лет в глубине души сердился на отца за то, что он пропал, но теперь чувствовал, что не в обиде на него хотя бы потому, что отцу решительно не понравилось бы то, что я делаю.
30
После сорока лет меня начала мучить бессонница. Просыпаясь посреди ночи, я шел к себе в кабинет и принимался разбирать документы, просматривать каталоги стройматериалов и вчитываться в договоры. Эта работа в конце концов так портила мне настроение, что я окончательно терял сон. И тогда вспоминал Махмуда-усту: в потаенном уголке моего сознания постепенно уменьшавшийся человечек рыл колодец из одного конца Земли в другой.
Один знакомый профессор литературы, которого я знал по книжному магазину «Дениз» и который был в курсе моего увлечения историей Рустама и Сухраба, рассказал обо мне директору библиотеки дворца Топкапы Фикрие-ханым. Эта достойная женщина ответила профессору:
– Пусть приходит ко мне, и я покажу ему красивые старинные рукописи «Шахнаме» с миниатюрами.
В Стамбуле все еще очень много хороших людей.
Коллекция иранских рукописей с миниатюрами и орнаментами, принадлежащая библиотеке дворца Топкапы, считается одной из лучших в мире и настолько же богата, насколько коллекция рукописей XV–XVI веков в павильоне Нигяр-хане тегеранского дворца Голестан. Первыми экспонатами коллекции стали книги, которые султан Селим Грозный привез в 1514 году, захватив их в Тебризе после победы над шахом Измаилом. В казне шаха находились невероятно красивые, украшенные драгоценностями и миниатюрами рукописи «Шахнаме» из сокровищниц династии Ак-коюнлу и узбекского Шейбани-хана, которые потерпели поражение от рук шаха Измаила. В последующие два столетия Османы многократно сражались с Сефевидами, и Тебриз много раз переходил из рук в руки. Когда после очередной войны Сефевиды направляли к Османам послов с мирными переговорами, они часто посылали в подарок прекрасные, украшенные драгоценными камнями рукописи «Шахнаме», красотой которых очень гордились, и рукописи эти скапливались в сокровищнице дворца Топкапы.
Фикрие-ханым щедро раскрыла передо мной страницы самых красивых из «Шахнаме» (их возраст пять веков), и мы вместе внимательно рассматривали миниатюры, на которых Рустам, убив Сухраба, горько рыдает над телом сына. На лучших миниатюрах по глазам отца читались безысходность и стремление вернуть назад последние мгновения.
В один из дней Фикрие-ханым показала мне очень много рисунков.
– Никто сейчас не интересуется старинными историями, – сказала она. – Мне понравилось, что вы так много занимаетесь Рустамом и Сухрабом. Что вы нашли в этой сказке?
– Мне запало в душу то, что отец убивает сына, а затем раскаивается, – сказал я. – Много лет назад я видел похожую сцену в одном бродячем театре.
– У вас плохие отношения с отцом? – спросила Фикрие-ханым. И не дождавшись ответа, продолжила: – Мы, турки, незаслуженно позабыли о «Шахнаме». К тому же мир, в котором мы сейчас живем, не любит старинные истории о великих воинах. Книгу Фирдоуси давно забыли, но истории из «Шахнаме» продолжают жить. Они до сих пор бродят среди нас, меняя обличье. Вот только позавчера вечером мы с моей помощницей смотрели по седьмому каналу старый фильм с Ибрагимом Татлысесом[13]. Это была адаптация легенды о любви из «Шахнаме» наложницы Гюльнар и Ардашира[14]. Мы с моей ассистенткой Тугбой смотрим старые турецкие фильмы для того, чтобы увидеть старинный Стамбул, и для того, чтобы рассмотреть в новых сюжетах старые, пришедшие из «Шахнаме» и других книг. Насколько изменился Стамбул, не так ли, Джем-бей? Но глаза все равно узнают старые улицы и площади. Точно так же происходит и с историями «Шахнаме». Недавно мы посмотрели один фильм и смогли выявить все сюжеты, заимствованные из «Хосрова и Ширин»[15]. Мне кажется, что если эти книги забудут, то истории из них все равно продолжат жить в пересказах. Когда мы смотрим мелодрамы киностудии «Йешильчам», то вспоминаем легенды прошлого. Многие сценаристы, вновь и вновь перечитывая «Шахнаме», пишут затем сценарии для турецкого и персидского кино. Эти сказания очень любят в Пакистане, Индии и во всей Средней Азии и постоянно снимают по ним фильмы, как и у нас на «Йешильчаме».
Я рассказал Фикрие-ханым, что я не сценарист, а инженер-геолог, а старинными историями интересуюсь потому, что езжу в Иран. Слышала ли она, что в наши дни государство Иран пытается приобрести миниатюру, на которой Рустам оплакивает сына Сухраба? Чтобы вернуть миниатюру в Иран из нью-йоркского музея «Метрополитен», правительство страны привлекло опытных агентов и предложило за нее целое состояние.
– Книга с всемирно известной миниатюрой, о которой вы говорите, хранилась у нас, в Топкапы, – вздохнула Фикрие-ханым. – Когда падишахи покинули Топкапы, она была украдена и отправлена на Запад. Сначала попала в руки Ротшильда, затем была продана в Америке. Эта книга, как и ее несчастные герои, всю жизнь проводит в скитаниях по чужим странам, по чужим рукам и, к сожалению, является орудием и в национальных вопросах, и в политике. Вы никогда не думали о том, что именно мы, турки, изображены в «Шахнаме» в качестве тех, от кого воротят нос и кого называют врагами? А ведь в наших хранилищах полно «Шахнаме».
– В девятьсот девяносто девятом году, когда была написана «Шахнаме», турки еще не пришли из Азии, – сказал я с улыбкой.
– Вы знаете больше, чем какой-нибудь профессор, но все равно вы любитель, – проговорила Фикрие-ханым.
Слово «любитель» меня не обидело. Я от души поблагодарил многознающую Фикрие-ханым, уделившую мне несколько часов своего драгоценного времени. Мы просидели тем осенним вечером до темноты. Туристов больше не было, музей закрылся. Фикрие-ханым, совершенно не интересовавшаяся современной политикой, рассказала, что происходило с самыми ценными из старинных рукописей «Шахнаме», увязав свой рассказ с политическими событиями, и это мне напомнило еще об одном сходстве между Эдипом и Сухрабом, о котором я прежде не думал, – о политической ссылке, о жизни вдали от родины… Отец всегда искренне интересовался этой темой. После военного переворота многие его приятели-единомышленники сбежали в Германию, предвидя, что их ожидает. А такие, как мой отец, либо те, кто не смог сбежать, в конце концов оказались в руках полиции и подверглись пыткам.
Пока Эдип и Сухраб искали своих отцов, они отдалялись от городов и земель, к которым принадлежали, враги принимали их как гостей и использовали в своих целях. В обеих драмах эта дилемма не подчеркивалась, так как связь с семьей, с царем, с отцом из династии была для Софокла и Фирдоуси более важной, чем связь с народом. Но в поисках своих отцов и царевич Эдип, и Сухраб вели дела с врагами своих стран.
31
Когда мне исполнилось сорок, а Айше тридцать восемь лет, мы начали понимать, что наша мечта иметь ребенка не осуществится. Можно сказать, мы сдались после того, как потратили большое количество времени и средств на турецких врачей и на американские и немецкие клиники.
Самой большой нашей победой было то, что усталость и разочарование сблизили нас. Мы стали близкими друзьями. То, что мы в конце концов осознали, что у нас не будет ребенка, отдалило нас от других семейств и обогатило нашу интеллектуальную жизнь. Айше была недовольна тем, что плодовитые, как крольчихи, подруги-домохозяйки жалели ее. Теперь она с ними почти не встречалась. Одно время она искала работу. Позднее я решил основать собственную фирму, занимающуюся мелкими строительными работами, и предложил жене возглавить бизнес. Она быстро научилась управлять инженерами и рабочими. Признаться, всем процессом из-за ее спины управлял я. Фирму мы назвали «Сухраб».
Вскоре мы переехали в дорогую четырехкомнатную квартиру в Гюмюшсую с видом на море и, подобно счастливым супружеским парам, путешествовавшим в медовый месяц, отправились смотреть мир. После того как самолет взлетел над Стамбулом, я через жену потянулся к иллюминатору и разглядел из окна самолета, что наш бывший участок на возвышенности покрылся домами и фабриками. Почему-то от этого я ощутил покой.
В наших поездках по миру мы останавливались в лучших отелях, открывали много неизведанного, ходили по музеям; периодически то в Лондоне, то в Вене демонстрировали тому или иному специалисту по женской репродукции наши документы. Эти походы поначалу давали нам небольшую надежду, но затем всякий раз заканчивались все более тяжелым разочарованием.
Мы испытали счастье посмотреть на миниатюры в старинных рукописях «Шахнаме» в дублинской библиотеке Честер Битти, благодаря протекции одного знакомого дипломата, а год спустя увидели их в Британском музее, отправившись по совету Фикрие-ханым в библиотечный отдел, где хранились старинные иранские рукописи. Посетители редко имели возможность лицезреть эти миниатюры выставленными в залах музея. Когда я смотрел на рисунки и наброски, то поддался воспоминаниям о моей юности и Рыжеволосой Женщине, и это опять разбудило во мне чувство раскаяния. Чрезмерно вежливые научные сотрудники библиотек, освещенные желтым светом комнат, белые перчатки, которые они иногда надевали, напоминали нам, насколько человечным и хрупким является то, что мы видим на страницах. Признаться, во время своих частных визитов мы не могли глубоко разобраться ни в исламской живописи, ни в мотивах истории «Шахнаме», ни в такой важной теме, как взаимоотношения Востока и Запада. Но миниатюры, тонко прописанные в старинных рукописях, научили мимолетности жизни, тому, что прошлое не воскресить и что наша уверенность в том, что, запомнив несколько деталей, мы постигнем настоящий смысл жизни и истории, является не чем иным, как пустой самонадеянностью. Когда мы с Айше выходили из сумрачных коридоров музейных библиотек на улицы больших европейских городов, то чувствовали: увиденные нами миниатюры сделали нас еще более внимательными, еще более тонко чувствующими.
Меня потрясло известное полотно Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». На этой картине, которую мы с Айше с восторгом рассматривали в Третьяковской галерее, Иван, как и Рустам, заключил сына в объятия. Казалось, что картина, впитавшая в себя лучшие образцы персидских миниатюр с убийством Сухраба Рустамом, была выполнена после эпохи Ренессанса персидским художником, уже знакомым с техникой исполнения перспективы и тени. Отец-правитель обнимает обагренное кровью тело; царевич лежит на руках у родителя, покорно предавшись его воле, а на лице у отца отразились ужас и раскаяние. Сила этого раскаяния, простота и тематическая выдержанность сюжета странным образом заставили меня ощутить суровую силу государства.
В Париже в Музее Гюстава Моро я увидел «Эдипа и Сфинкса». Художник изобразил не грехи и преступления Эдипа, а его победу. Копию картины мы уже имели честь разглядывать в Нью-Йорке в музее Метрополитен. В том же Метрополитене на том же этаже находился отдел исламского искусства, в котором выставлялись миниатюры из «Шахнаме». Полутемный отдел был пустым и напоминал: мы интересуемся давно забытой темой.
Во время недели фильмов Пазолини, организованной в Стамбуле при поддержке итальянского консульства, я и Айше посмотрели его «Царя Эдипа». Зрительный зал Итальянского дома, забитый стамбульскими киноманами и интеллектуалами, затаил дыхание.
Фильм Пазолини снимал в Марокко, для съемок он использовал местные пейзажи, красноватую землю и старинную призрачную крепость из красного камня.
– Хочу еще раз посмотреть этот красный фильм, – сказал я. – Интересно, можно ли найти его на DVD?
– У актрисы Сильваны Мангано, игравшей мать Эдипа, даже волосы были красноватыми, – сказала моя жена.
32
По утрам Айше выходила со мной из дому и отправлялась руководить нашей фирмой «Сухраб». Я по вечерам заезжал за ней в офис «Сухраба» в Нишанташи, где народу с каждым месяцем становилось все больше. Мы работали допоздна, а потом, перекусив где-нибудь в ресторане, возвращались домой.
В конце 2011 года я уволился из прежней фирмы и посвятил все свое время «Сухрабу». Теперь я сам целый день контролировал объекты по всему Стамбулу и, пока фирменная машина «Сухраба» под управлением водителя из Самсуна медленно продвигалась по стамбульским пробкам, вел по телефону деловые переговоры. Почти все специалисты по закупкам, прорабы и агенты по недвижимости, с которыми я разговаривал, точно так же, как я, стояли в пробках или, что еще хуже, пропадали где-нибудь в новом районе Стамбула. Город рос с невероятной скоростью.
Иногда я засматривался на нищих, на молодежь, на уличных торговцев, на охранников и думал о том, что теперь я немолод и богат и, что самое главное, привык к этому своему положению. А затем задавался вопросом: «Что еще есть прекрасного в моей жизни, кроме хороших отношений с женой и моего любительского интереса к истории Сухраба и Эдипа?» Я размышлял об отце, звонил жене и старался поверить, что счастлив в городской толпе. Бездетность научила меня быть грустным и смиренным, иногда я представлял себе, что если бы у меня был ребенок, то сейчас ему было бы двадцать лет.
На заработанные деньги мы с Айше накупили дорогой одежды, безделушек, османского антиквариата, старинных рукописей, красивых ковров, роскошной мебели из Италии, но показной достаток счастья нам не приносил. Мы чувствовали себя пустыми и ненастоящими. Хотя наше благосостояние быстро росло, мы по-прежнему ездили на старом «рено мегане», покупая на бóльшую часть заработанных денег в качестве капиталовложения либо новые участки под застройку, либо старые дома в тех районах, где должны были вырасти цены. Когда мы приобретали участки на окраинах города, я чувствовал себя падишахом, который, присоединяя к своей империи все новые государства, пытается забыть, что у него нет наследника. «Сухраб» развивался с такой же стремительностью, как и Стамбул.
Мы повесили в машину спутниковый навигатор и ездили с женой по совершенно незнакомым районам, рассматривая новые места с точки зрения возможности еще более улучшить свое благосостояние. Айше каждый день читала в офисе «Официальный вестник», в котором публиковались судебные решения и объявления об аукционах, а также тщательно следила на сайте газеты «Хюрриет» за публикациями в разделе недвижимости.
Однажды Айше положила передо мной объявление об одном аукционе, условия которого ей очень понравились. Не слишком вчитываясь в объявление, я заглянул в гугл-карты и, увеличив изображение на экране, прочитал слово «Онгёрен». Сердце мое забилось. Но, как опытный убийца, я хранил хладнокровие. Подвигав мышкой по экрану, я приблизился к самому важному городку в моей жизни.
Я смог разглядеть некоторые улицы, но узнал очень мало, потому что в Гугле были написаны официальные названия улиц, а не те, которые употребляли жители Онгёрена тридцать лет назад (например, «улица столовых»). Сначала я нашел на карте вокзал, потом кладбище, потом, предположительно, место нашего участка, но разобрать названия не смог. Да, все было застроено.
– Мурат говорит, здесь пройдет новая дорога и имеется свободный участок с хорошим видом под жилой квартал. Давай в воскресенье заедем туда? – щебетала Айше.
Мурат был тем самым старинным университетским приятелем, который возил меня в Тегеран. Во время бума недвижимости он тоже забросил остальные дела и занялся строительством. Благодаря своим религиозным друзьям в партии власти, он проворачивал дела больше наших, нам же по-дружески помогал, сообщая те места, где поднимутся цены на землю.
Я сказал Айше:
– Отложи сейчас этот участок Онгёрене. Я уверен, что лучший вид там – ночное звездное небо.
33
Тем летом в Стамбуле не хватало воды. Весна прошла без дождей, в водохранилищах запасы были небольшими, и обветшавшие водопроводные трубы давали городу половину обычной нормы. В некоторых кварталах люди прислушивались по ночам к шуму воды в трубах, дожидаясь подходящего часа, чтобы вымыться, а затем наполнить водой ванну. Повсюду шли политические споры и дискуссии по поводу того, где, когда и сколько дадут воды.
В конце лета прошли грозы со шквалистым ветром; некоторые кварталы были залиты селями. Мой отец неожиданно пригласил нас на ужин. Его новая жена прислала Айше приглашение по электронной почте. Я подумал: «Неужели отец не мог написать мне сам?»
Они жили в одном из недавно построенных жилых комплексов на окраинах Сарыйера, обращенных в сторону Черного моря. Дорога туда на машине заняла два часа. Маленькая съемная квартира, из которой виднелось море, казалась старой, словно довоенная. Она была забита вещами отца. Некоторые из них я помнил с детства. Крыша протекала. После первых приличествующих случаю фраз, натянутых шуток и извинений я заметил, что отец мой стар, устал и испытывает денежные проблемы, и это ранило меня.
Человек, которым в детстве я восхищался во всем, внимание которого я старался завоевать, сейчас утратил весь свой блеск, стал медлительным, ссутулился, сгорбился и, что самое плохое, признал свое поражение перед жизнью. Некогда изысканный щеголь сейчас был небрежно одет, не следил за своим здоровьем и отделывался шутками вроде: «Настоящий социалист придает значение не внешности, а содержанию!»
Однако он постоянно заигрывал со своей женой, у которой по-заячьи выступали зубы, но была большая грудь, и выдавал шуточки, намекавшие на их насыщенную сексуальную жизнь. Через короткое время Айше начала им подыгрывать; завязалась беседа про любовь, женитьбу, молодость, про то, как мы живем. Я сидел молча в стороне, у книжного шкафа, в руках у меня был стаканчик ракы, я читал корешки отцовских старых социалистических книг, которые помнил с детства, и одновременно слушал застольную беседу. Когда жена отца сказала, что этим летом они долго сидели без воды, я вспомнил Махмуда-усту.
– Здесь, на холмах Сарыйера, можно дедовскими методами вырыть хороший колодец, – вставил я в какой-то момент. – Нужно по желобку в деревянную опалубку залить бетон.
– А ты-то откуда это знаешь? – спросил отец.
– Летом тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, через год после того, как ты нас бросил, я целый месяц рыл колодец с одним мастером, чтобы заработать на курсы в университет, – сказал я. – Я даже Айше этого не рассказывал.
– Почему? Устыдился рабочей жизни? – спросил отец.
Поддавшись волнению, я попытался рассказать ему, что после того, как я рыл колодец, у меня пробудился интерес к историям о царе Эдипе и о Рустаме с Сухрабом, поведать о книгах, которые читал, о музеях, в которых мы с Айше были, доказать, что у меня есть собственные политические взгляды.
– Эти темы уже давно описал Виттфогель[16], – перебил меня отец. – Но кто его теперь читает? Все давно забыли… Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что в библиотеке одного старого социалиста в Стамбуле стоит его книга?
Я выпил еще стаканчик ракы. Женщины беседовали между собой, а отец молча сидел у стола.
– Отец, – внезапно спросил я, – среди твоих прежних политических знакомых были революционеры-маоисты. Что это была за группа?
– О, я многих из них знаю! – сказал отец. – Среди них и девушек много, – прибавил он с видом школьника.
На мгновение мелькнула мысль, которую я старательно скрывал от себя много лет: отец наверняка прекрасно знал всех, кто играл в труппе Театра Назидательных Историй, и даже, по всей вероятности, видел на сцене революционного театра Рыжеволосую Женщину. Интересно, что он думал по поводу моей первой в жизни женщины?
В какой-то момент, когда мы остались одни, отец спросил меня о матери. Я рассказал ему, что купил матери дом в Гебзе и раз в две недели по воскресеньям мы с Айше ездим к ней на машине. Выслушав это, отец произнес:
– Я очень рад, что твоя мать счастлива, – и сменил тему.
Я выпил, и поэтому на обратном пути машину вела Айше. Когда мы проезжали по Белградскому лесу, мимо лужаек и плотин, я уснул на переднем сиденье, надышавшись прохладного, пахнущего душицей воздуха, в котором разносились голоса цикад.
В руках я держал книжку Виттфогеля «Восточный деспотизм». Но дома не стал листать ее, а полез в компьютер. Там я открыл гугл-карты и приблизился к Онгёрену. Я увидел, что на привокзальной площади есть реклама кондитерской, банка и одной заправки, находившейся на дороге к Стамбулу. Я попытался подробно вспомнить те места и, закрыв глаза, представил, как иду там следом за Рыжеволосой Женщиной.
Если Рыжеволосая Женщина не обманула меня насчет своего возраста, то сейчас ей должно быть шестьдесят лет, как и жене моего отца. Я мог с легкостью представить себе, как отец живет с Рыжеволосой Женщиной в маленькой квартирке с видом на Черное море.
Я запретил себе искать ее. Иногда в рекламе по телевизору я видел какую-нибудь актрису ее возраста, которая рекламировала стиральный порошок или изображала счастливую мать семейства, пользующуюся банковской картой, и задавался вопросом, где она сейчас. Иногда с затуманенной от ракы головой всматривался в экран: не моя ли первая любовь в сериалах про Фатиха, Сулеймана Кануни и Хюррем учит новую наложницу будущего падишаха интриговать в гареме. Иногда мне казалось: один из голосов, озвучивавших по телевизору иностранный сериал, принадлежит Рыжеволосой Женщине, и я пытался вспомнить ее голос, который однажды вечером тридцать лет назад слушал с таким вниманием в желтом театральном шатре Онгёрена.
Однажды на мою почту пришло сообщение о продаже недвижимости в Онгёрене. Сообщение прислал опытный сотрудник «Сухраба», отвечавший за работу с недвижимостью. Неподалеку от участка, на котором мы с Махмудом-устой копали колодец, продавались старый склад и старая мастерская. Не говоря ничего Айше, я написал сотруднику «Сухраба», что проект нам интересен.
34
В тот же вечер жена отца позвонила Айше по мобильному телефону и сказала, что отцу плохо. Мы моментально сели в машину, но смогли доехать только через три с четвертью часа. Увидев, что в окнах их квартиры нет света, я всерьез забеспокоился и, когда жена отца в слезах открыла дверь, в первый момент подумал, что они поссорились. Но как только вошел в квартиру, то сразу понял, что отец умер. Потом кто-то зажег свет. Отец лежал на диване.
Я сразу же начал пить ракы, которую нашел в холодильнике. Пришел врач и написал результат осмотра: отец умер от сердечной недостаточности. Его жена рыдала так громко, что моих всхлипываний даже не было слышно.
35
Отца похоронили на кладбище Ферикёй. У могилы собрались три группы пришедших проститься: впереди заплаканная жена, мы с Айше и родственники, близкие и дальние; затем группа строителей, инженеров и наших партнеров, пришедших скорее из уважения ко мне. За ними – старые друзья отца по политическим кружкам.
Я не хочу вдаваться в подробности похорон, они не имеют отношения к теме. Когда толпа расходилась с кладбища Ферикёй, меня крепко обнял незнакомый человек.
– Я тебя знаю много лет, Джем-бей, – сказал он.
Заметив, что я по-прежнему его не узнаю, он, извинившись, положил мне в карман свою визитку.
Я нашел визитку только две недели спустя, когда вернулся к повседневным делам. Я попытался вспомнить лица людей, встречавшихся мне, чтобы понять, кем может быть этот Сырры Сияхоглу, который жил в Онгёрене и занимался «типографскими изданиями, визитками, приглашениями и рекламой».
Так и не вспомнив Сырры-бея, я отправил ему письмо по электронной почте, указанной на визитке. Я хотел спросить Сырры-бея о прежних жителях Онгёрена, а также выудить у него информацию об участке, который собирался купить.
Мы встретились десять дней спустя в закусочной «Сарай» в Нишанташи, и насколько короткой была эта встреча, настолько же она и потрясла меня.
Сырры-бей знал моего отца, очень уважал его и был счастлив, что пришел на похороны выразить свои чувства. Увидев меня на похоронах, он сразу меня узнал. Ведь я был точной копией отца: машаллах, я был таким же красивым, светлолицым и добрым, как он. Мой отец был большим патриотом и очень самоотверженным человеком. Он пожертвовал себя своей стране. Он делал это от чистого сердца. Он перенес пытки, но никогда не сдавался; сидел в тюрьмах, но от идей своих не отказался. К сожалению, моего отца оклеветали его собственные приятели.
– Что значит – оклеветали, Сырры-бей?
– Джем-бей, я не хочу время нашей встречи тратить на старые политические сплетни и прочие грустные глупости. У меня есть к вам просьба. Ваша компания «Сухраб» интересуется моим скромным участком, но ваши специалисты по недвижимости и инженеры обращаются со мной несправедливо. Вы – сын отца, который не терпел несправедливости, и я подумал, что вам нужно об этом знать.
Оказывается, ему не заплатили по установленной цене, как платили всем, потому что на его участке обнаружились совладельцы, претендовавшие на долю, а он был уверен, что участок принадлежит только ему.
– Сырры-бей, я могу узнать кадастровый номер вашего участка?
– Я даже принес ксерокопию свидетельства о праве собственности. Но, пожалуйста, не делайте ложных выводов, узнав о совладельцах.
Взяв копию, я попытался рассмотреть план участка и, задумавшись, проговорил:
– Видите ли, Сырры-бей, я ведь тоже был в Онгёрене очень давно. Я немного знаю те места.
– Конечно, Джем-бей. Вы еще приходили к нам в театр. В тот месяц Тургай-бей с женой жили у меня в квартире, выходившей окнами в сад, а родители Тургай-бея – в квартире на верхнем этаже.
Так это был тот самый мастер по вывескам, в доме которого я занимался любовью с Рыжеволосой Женщиной! Именно его жена, открыв дверь, сообщила мне, что актеры уехали. Почему я сразу не догадался?
– Вы копали с Махмудом-устой колодец, – сказал он. – Мой участок находится рядом с вашим колодцем. Когда Махмуд-уста, спасибо ему, нашел воду, там вскоре все застроили коммерсанты. Я толком ничего не зарабатывал в мастерской вывесками, но через год-два года мы с женой, насобирав денег, тоже купили землю. Сейчас этот участок – все для моей семьи.
Так я узнал, что с Махмудом-устой ничего не произошло, оказывается, он продолжал и дальше копать колодцы. Чтобы успокоиться, я принялся рассматривать посетителей закусочной: студентов, женщин, мужчин в галстуках, но все мои мысли были в прошлом.
Почему я тридцать лет верил, что мог нечаянно убить Махмуда-усту ведром?
Конечно же, потому, что читал об Эдипе и поверил в ту историю.
В действительности Махмуд-уста остался жив, нашел воду, и Хайри-бей осыпал его подарками и новыми заказами. Так как мастер сильно повредил левое плечо из-за того, что на него с большой высоты упало ведро, все проявляли к нему особую почтительность. Хайри-бей заказал Махмуду-усте вырыть еще два новых колодца, соединить их и сделать цистерны. А потом и другие владельцы фабрик и различных мастерских заказали Махмуду-усте строительство цистерн и рытье колодцев. В конце концов мастер поселился в Онгёрене. Он умер несколько лет тому назад.
Сырры-бей сказал, что Махмуда-усту похоронили на том самом кладбище по дороге к холму. На похоронный намаз пришли все в Онгёрене – его подмастерья, мастера, фабриканты.
– Я любил Махмуда-усту как отца, – сказал я.
По ответному взгляду Сырры-бея я понял, что ему кое-что известно. Но я также чувствовал, что Сырры-бей не хочет раздувать эту историю, так как теперь ему была нужна моя помощь.
Как Махмуд-уста сумел выбраться из колодца? Я испытывал огромное желание выспросить все и задать вопросы о Рыжеволосой Женщине, но сдерживался.
– Махмуд-уста всегда говорил о вас, что вы были самым образованным его учеником, – заметил Сырры-бей, явно желая сказать что-то хорошее.
Наверное, Махмуд-уста добавлял к этим словам нечто вроде знаменитой поговорки «Бойся ученого» и, конечно, был прав. Ведь я был виноват в том, что он повредил плечо.
Сырры-бей не знал, что именно в его доме я провел первую ночь с женщиной. Так и не задав вопроса о том, что меня беспокоило, а просто продолжая слушать его, я узнал следующее. Сырры-бей с женой давно уже переехали из дома на привокзальной площади. Тот дом с большими окнами был снесен, а на его месте построили торговый центр. Теперь там собиралась молодежь. Если я захочу своими глазами посмотреть на участок и приеду в Онгёрен, Сырры-бей обязательно пригласит меня к себе домой на ужин. Он давно оставил движение маоистов, но с друзьями не порвал. Он изредка покупал газету «Революционная родина», но уже не читал ее с таким вниманием, как прежде.
– Если бы они, вместо того чтобы заниматься американским империализмом, писали о мошенничестве и обмане при строительстве домов, было бы лучше, – сказал он.
Была ли в этих его последних словах угроза?
– Сырры-бей, я прикажу своим сотрудникам, чтобы они не допускали к вам несправедливости. Но у меня есть одна просьба. Расскажите, пожалуйста, о клевете на моего отца, про которую вы упоминали.
Сырры-бей рассказал. Дело в том, что у старых добрых марксистов-социалистов, а уж в особенности у приезжих из Анатолии, были сильны пережитки феодализма. Им не нравилось, когда в партийных ячейках возникали любовные отношения между парнями и девушками. Руководители ячеек не позволяли таких вещей, потому что они вели к ревности и ссорам. И любовная история моего отца в одной из таких ячеек закончилась скандалом.
– Девушка была очень красивая, и на нее, кроме твоего отца, запал один человек из редакции «Революционной родины», – сказал Сырры-бей.
Поэтому отец в конце концов был вынужден уйти из той ячейки и присоединиться к другой. Товарищ, который положил глаз на девушку, на ней женился. Затем, когда он был убит жандармами, молодая вдова вышла замуж за его брата. Отец вскоре совершил умный поступок – женился на моей матери, и родился я. Сырры-бей надеется, что эти старые истории, иншаллах, не расстроили меня, ведь отца уже нет в живых.
– Что было, то прошло, Сырры-бей, расстраиваться не из-за чего. Это всего лишь старые любовные истории.
– Джем-бей, ведь и вы на самом деле их знаете.
– Кого?
– Брат, за которого потом вышла замуж прежняя любовь вашего отца, – это Тургай-бей. Любимой вашего отца была та молодая актриса, что жила у меня в доме.
– Как?
– Да, та рыжеволосая Гюльджихан-ханым. В те времена она была шатенкой. Она была возлюбленной вашего покойного отца.
– Неужели? Где сейчас она и Тургай?
– Они приезжали еще два лета подряд со своим шатром, чтобы играть перед солдатами, но потом больше не появлялись. А вот их сын стал бухгалтером – и занимается моими делами.
Больше я не спрашивал о Рыжеволосой Женщине. Сырры-бей, чтобы меня не расстраивать, приукрасил историю. Он перенес все события, касающиеся отцовской интрижки, на десять лет, сделав упор на то, что все это случилось до женитьбы отца на моей матери. А ведь отец исчез на два года, когда мне было восемь лет. Мы с мамой знали – в его исчезновении есть, конечно, политическая сторона, но в то же время в нем был и личный мотив. Я понимал тогда, что гнев моей матери направлен не на государство.
Мы вышли из закусочной вместе с Сырры-беем. Все, что я узнал, потрясло меня.
36
Я еще долго бродил по улицам, испытывая не столько чувство вины или раскаяния, сколько ощущение того, что меня обманули как ребенка. Что бы сказал обо всем этом мой покойный отец, если бы узнал, что сын спал с его прежней возлюбленной?
«Сухраб» развивался очень быстро. Отделом, который занимался продажей и покупкой недвижимости, теперь заведовал племянник Айше. Нам очень нравилось говорить: «Мы купили столько участков на окраинах Бейкоза, что до сих пор их даже не видели». «Сухраб» был нашим сыном.
Айше обнаружила – моя привязанность к ней проистекает из моей потребности быть рядом с сильной, умной женщиной. Она знала, что я никогда ее не обману, что у меня никогда не будет тайной духовной жизни, что я никогда ничего не буду скрывать от нее. Когда мы не видели друг друга в кабинетах офиса «Сухраба» больше часа, то перезванивались и одновременно спрашивали: «Где ты?» Излишняя уверенность в себе привела к тому, что в начале 2013 года мы совершили большую ошибку, касающуюся нашего бизнеса.
Многие крупные строительные фирмы, пользуясь тонкостями новой редакции закона о строительстве, давали рекламу по телевизору и в газетах, чтобы продать квартиры, которые они строили. Мы тоже договорились с одной из рекламных фирм.
В рекламах обычно снимались сами застройщики, рассказывающие о своих зданиях. Это делалось для того, чтобы заставить всех почувствовать – жилье для стамбульцев создает надежная фирма: вот, пожалуйста, перед вами стоит седовласый солидный господин в галстуке; он вовсе не похож на человека, который вас обманет, всучив дешевый непрочный дом!
Рекламисты считали – рекламная кампания, в которой мы с Айше покажемся вместе, символизируя молодость, компетентность и современные технологии, сразу выделит «Сухраб» на фоне банальных трюков с пожилыми господами и выведет наше детище в авангард.
Еще во время съемок мы почувствовали, что совершаем ошибку, изображая богатую, европеизированную, полную излишеств жизнь, которой на самом деле не жили. Реклама, сделанная для газет, билборда и телевидения, с одной стороны, оказалась очень успешной, а с другой, как мы и предполагали, уронила нас в глазах знакомых. В те дни «Сухраб» быстро распродал в трех различных районах Стамбула (Каваджик, Картал и Онгёрен) по довольно высоким ценам еще не достроенные квартиры. Однако наши добропорядочные друзья стали спрашивать:
– Разве правильно так себя выставлять?
Какое-то время мы не выходили из дому и не включали телевизор, ожидая конца этого рекламного ужаса. Мы ощущали себя рабами «Сухраба».
Ко всему прочему, нас доставали гневные письма, связанные с рекламной кампанией. Я сразу их открывал и выкидывал, едва прочитав. Но одно из них спрятал в карман. Оно гласило:
Джем-бей!
Я хочу тебя уважать, ты мой отец.
«Сухраб» делает плохие вещи в Онгёрене.
Я хочу тебя предупредить, как твой сын.
Если ты ответишь мне, я все тебе расскажу.
Не бойся своего сына.
ЭнверПод текстом был указан адрес электронной почты. Я подумал, что наверняка кто-то из жителей Онгёрена пытается с помощью сплетен и угроз получить что-то от нашей фирмы. Но мне понравилось, что меня называли отцом. Мне было любопытно, что за «плохие вещи» отправитель письма имеет в виду, и поэтому я проконсультировался с адвокатом «Сухраба» Неджати-беем.
– Все в Онгёрене знают, что вы рыли там колодец тридцать лет назад, – ответил он. – В свете недавней рекламной кампании эта страница вашей биографии превратилась в легенду. Жителям Онгёрена нравится, что важный застройщик, который сейчас снимается в красивой рекламе, в юности жил рядом с ними и помогал рыть колодцы. Поэтому когда они продают «Сухрабу» свои участки, то заламывают непостижимые цены. И при любых попытках торговаться их любовь мгновенно превращается в глубокую ненависть. Ситуацию усугубляет еще и то обстоятельство, что они приняли вашу жизнь в рекламе за настоящую. Кроме того, злопыхатели поговаривают, что между вами и вашим мастером Махмудом-устой много лет назад произошло что-то очень плохое. Махмуд-уста в Онгёрене считается чуть ли не святым – ведь он нашел там воду! Вы должны немедленно туда поехать и изменить ошибочное мнение о вас местных жителей.
37
Я никак не мог принять решение поехать в Онгёрен. Причина заключалась в том, что, читая и размышляя многие годы над историями Эдипа и Сухраба, я наполнил свое сердце страхом.
Пять недель спустя Неджати-бей попросил меня переговорить с ним в офисе с глазу на глаз.
– Есть человек, который утверждает, что он ваш сын, Джем-бей.
– Кто он?
– Его зовут Энвер. Ему двадцать шесть лет. Он утверждает, что вы были с его матерью летом тысяча девятьсот восемьдесят шестого года в Онгёрене.
Над Стамбулом висели свинцовые облака. Мы с адвокатом сидели в моем кабинете в центральном офисе «Сухраба», который занимал три последних этажа высокого торгового и офисного центра, расположенного в конце проспекта Валиконак в Нишанташи.
– Тогда вам было шестнадцать лет, – продолжал Неджати-бей. – В подобных ситуациях судья раньше даже не стал бы слушать ни мать, ни сына, если бы они обратились в суд. Как известно, у нас, согласно закону, до недавнего времени открыть дело по признанию отцовства было возможно только в течение года после рождения ребенка… Насколько мне удалось выяснить, мать молодого человека забеременела, когда была замужем за одним актером. Ради сохранения семьи и ради того, чтобы не поколебать авторитет и положение в семье, муж мог признать свое отцовство, если его жена находилась замужем за ним на момент рождения ребенка, кто бы что ни говорил. Впрочем, другой вариант был невозможен: в противном случае, согласно прежним законам, жена отправлялась в тюрьму по обвинению в прелюбодеянии.
– Эти законы сейчас изменились?
– Прежде чем изменились законы, изменилась медицина, Джем-бей. Сегодня добросовестному судье не надо вызывать отца с сыном в суд, сажать их рядом, смотреть им в лица и задавать вопросы. Теперь берут кровь, делают тест ДНК и совершенно точно устанавливают, кто кому отец и сын. Прежде подобные вещи были невозможны, поскольку считались подрывом основ общества.
– Почему общество должно быть потрясено из-за того, что кто-нибудь признает отцовство?
– Джем-бей, вы были вместе с матерью этого парня, Гюльджихан-ханым, летом тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, когда вам было шестнадцать лет? – спросил Неджати-бей, глядя мне прямо в глаза.
– Всего один раз, – ответил я. – Но что-то я сомневаюсь, что за один раз может получиться ребенок.
– Говорят, этот самый Энвер нашел самого зубастого адвоката по делам отцовства, который если берется за дело, то уж его не упускает.
– А Гюльджихан-ханым еще жива? – спросил я осторожно.
– Жива.
– Когда мне было шестнадцать лет, у нее были рыжие волосы.
– Волосы у нее до сих пор рыжие. Она до сих пор красивая. После того как она развелась со своим мужем Тургай-беем, он умер. Их брак был несчастливым, но она по-прежнему полна жизни и мечтает о театре. Ясно, что ее заставило об этом заговорить не желание отомстить, а скорее потребность обеспечить своего сына. Ей должно быть известно о тестах ДНК и о том, что «правило одного года» более недействительно…
– А чем парень занимается?
– Энвер изучал бухгалтерское дело в каком-то университете. Он холост. Имеет свою маленькую бухгалтерскую контору в Онгёрене. Говорят, он связан с молодежными националистическими группировками, ненавидит курдов и «леваков». Обижен на отца и на жизнь.
– На отца – вы имеете в виду на Тургай-бея?
– Да.
– Неджати-бей, если бы вы были на моем месте, что бы вы сделали?
– Я не могу быть на вашем месте, Джем-бей, потому что вы гораздо лучше меня знаете, что произошло тридцать лет назад. Но, судя по тому, что вы вспомнили, что действительно были с упомянутой женщиной, самым правильным для вас решением будет сдать кровь. Я начну судиться, и на первом же заседании, чтобы не затягивать процесс, мы попросим Энвера тоже сдать анализ, а после ответа я заставлю суд объявить дело закрытым, чтобы пресса не публиковала подробности вашей интимной жизни и не позорила владельца «Сухраба».
– Айше-ханым не должна ни о чем знать, иначе она очень расстроится. Встретьтесь сначала с Энвер-беем. Может быть, удастся все решить без суда.
– Адвокат той стороны сказал, что его клиент не хочет с вами встречаться.
Я с изумлением заметил, что это меня задело.
38
Два месяца спустя я сдал кровь на медицинском факультете Стамбульского университета в Фатихе. Справку, которую больница подготовила для суда, мне по телефону до заседания зачитал Неджати-бей. Неделю спустя судья вынес решение признать Энвера моим сыном согласно всем требованиям закона. Во время всех этих перипетий в суде, сдачи анализов, зачитывания решения, записи в акт гражданского состояния, в больнице и в зале суда, я втайне мечтал, что мы можем встретиться с моим сыном. Интересно, какой была бы наша первая реакция, когда мы увидели бы друг друга?
По словам адвоката Неждати-бея, нежелание сына встречаться со мной на самом деле было хорошим знаком. В такой ситуации, вне зависимости от возраста, сыновья обычно испытывают к отцам неприязненные чувства. Как только происходила запись акта гражданского состояния, у «пострадавшей стороны» сразу появлялось право открыть иск о возмещении родительских затрат, так как мой сын мог заявить, что они с матерью много лет жили в трудных материальных условиях. Хорошей новостью было то, что Энвер такого дела не открыл. Может быть, он и не собирался тянуть с нас деньги. Адвокат избавил меня от излишнего оптимизма, предупредив – все судебные дела по признанию отцовства в конце концов становятся экономическими делами. В истории еще не было примеров, когда бы сын открывал дело об отцовстве, имея отца-бедняка. Неджати-бей, который занимался еще и инвестициями «Сухраба», предложил под предлогом обретения сына устроить в Онгёрене народное слушание и представить компанию населению.
– Оказывается, у меня есть сын, – внезапно сказал я Айше вечером за ужином, выпив перед признанием два стаканчика ракы. Затем рассказал ей все как было, без утайки. В то же мгновение я ощутил, как с моих плеч свалился гигантский груз, но насколько легче стало мне, настолько тяжелее – Айше.
Она долго молчала, а потом произнесла:
– Конечно же, ты несешь ответственность перед сыном, но меня эта новость сделала несчастной.
Моя жена задала следующие вопросы: хочу ли я увидеть Рыжеволосую Женщину? хочу ли подружиться с сыном? хочу ли установить с ним близкие отношения? Не поэтому ли мы много лет искали различные толкования истории о царе Эдипе и о Рустаме с Сухрабом?
Той ночью мы напились, но успели обсудить еще и главный вопрос: так как в турецком праве не признаются завещания, то после моей смерти две трети «Сухраба» должно будет перейти признанному мной сыну.
После того как мы поговорили на такие темы, как наследство, право, адвокат, вакф[17], Айше сказала:
– Если бы твоего сына звали Сухраб, было бы очень символично.
Некоторое время после нашего ночного разговора она пыталась выяснить у меня, не встречался ли я с ним тайком. Ради того, чтобы успокоить ее, я сказал:
– Этот парень не хочет со мной встречаться. Мне кажется, он какой-то странный.
– А ты хочешь с ним встретиться? Хочешь увидеть его лицо?
– Нет, – соврал я жене.
Прошло три месяца. Однажды из Афин позвонил Мурат. Он сказал, что ждет меня в афинском отеле «Гранд Бретань». Когда через два дня мы встретились с ним в Афинах, он взволнованно сообщил мне, что Грецию вот-вот объявят банкротом. В помпезном вестибюле отеля, в котором во время гражданской войны, начавшейся после Второй мировой, англичане устроили свою ставку, он сообщил, что цены на недвижимость в Афинах упали вполовину, что половина постояльцев отеля – это немецкие коммерсанты, которые готовятся по дешевке скупать недвижимость, и принялся показывать цветные фотографии зданий в центре города, выставленных на продажу.
Два дня мы ходили с Муратом и с агентом недвижимости, просматривая здания. На третий день я взял такси и отвез моего друга в город Фивы, который находится на расстоянии часа езды от Афин. Там мы увидели ржавые железнодорожные пути, старые вагоны, заросшие паутиной и плющом, заброшенные фабрики и ангары. Город, в котором жил царь Эдип, находился прямо на вершине холма, в точности как на картинах Энгра и Гюстава Моро. За кофе Мурат сказал мне, что ему нужны деньги и он хочет продать мне свои участки в Онгёрене.
В Стамбуле наши адвокаты, которые продумывали все в деталях гораздо быстрее меня, сообщили, что цена, которую просит Мурат-бей, высокой не является. Они добавили: было бы неплохо, прежде чем мы совершим эту весьма выгодную для «Сухраба» сделку, провести в Онгёрене общественные слушания, во время которых мне стоит напомнить тамошним жителям о проведенных там днях, сообщить, что намерения фирмы добрые, и подтвердить свое уважение к покойному Махмуду-усте.
Я попросил Неджати-бея узнать, как поживают Гюльджихан-ханым и Энвер-бей.
Две недели спустя Неджати-бей сообщил: у Рыжеволосой Женщины с сыном всегда были очень близкие, дружеские отношения. Однако после судебного дела о признании отцовства они стали реже встречаться. Рыжеволосая Гюльджихан-ханым живет в Стамбуле, в Бакыркёе, в квартире, оставшейся ей от покойного супруга Тургай-бея, и зарабатывает на жизнь тем, что озвучивает телесериалы.
По словам адвоката Неджати-бея, мой сын Энвер очень плохо отнесся к нашей рекламной кампании и не собирается приходить на общественные слушания. По всей вероятности, он не был успешным бухгалтером, однако вел финансовые документы многих ремесленников и завоевал в Онгёрене хорошую репутацию, помогая беднякам платить налоги. Со слов адвоката, мой сын обладает раздражительным и неуживчивым характером и поэтому до сих пор не женат. Он встречается с компанией молодых друзей, которые верят в самоотверженную преданность его матери театру, и публикует стихи собственного сочинения в умеренно-консервативных литературных журналах «Хиляль» и «Пазар», которые Неджати-бей мне привез. Когда я дома тайком от Айше прочитал стихи, то спросил себя: интересно, что подумал бы мой отец, если бы был жив, узнав, что его внук пишет стишки в религиозные журналы?
В те же дни я поручил рекламному отделу «Сухраба» устроить общественные слушания в Онгёрене.
Чтобы не ехать в Онгёрен самому, я выдумал себе поездку в Анкару. Но в субботу, оказавшись в офисе и поддавшись минутному настроению, отменил свое решение. Неджати-бея я попросил предупредить сотрудников «Сухраба», которые уже уехали на слушания, чтобы они скрыли мое участие от Айше-ханым. Затем сказал оставшимся в офисе подчиненным, что хочу поехать в Онгёрен на поезде. Прежде чем выйти из офиса, я взял с собой пистолет «кырыккале» и государственное разрешение на изыскательские и строительные работы. За пятнадцать дней до этого я опробовал свой пистолет на пустой строительной площадке «Сухраба», стреляя по бутылкам, которые поставил на мешки с цементом. Конечно, я боялся каких-то непредвиденных событий.
39
Пока поезд, шедший в Онгёрен, неторопливо следовал мимо крепостных стен, Мраморного моря, столетних обшарпанных домов, новых бетонных отелей и парков, закусочных, кораблей, машин, я чувствовал все возраставшее волнение. Неджати-бей еще раз в тот день предупредил меня, что Энвер-бей не придет на собрание – его не будет в Онгёрене, но я не мог не думать о нашей с ним возможной встрече.
Как только я вышел из здания вокзала, то сразу же понял – прежнего Онгёрена не существует. Дом, в котором жила Рыжеволосая Женщина, был снесен, на его месте построили оживленный торговый центр. Вся площадь была заполнена толпой молодежи, поедавшей гамбургеры и попивавшей пиво и айран. На первых этажах зданий, выходивших на площадь, расположились банки, кебабочные и кафетерии. Я побрел туда, где некогда была кофейня «Румелия» и где на тротуаре некогда стоял столик, за которым мы сидели с Махмудом-устой.
Проходя по «улице столовых», я не увидел ни солдат, ни жандармов, стерегущих их, хотя был выходной день. Я не увидел ни скобяную лавку, ни мастерскую кузнеца, ни бакалею, в которой Махмуд-уста каждый вечер покупал сигареты. Все двух– или трехэтажные дома, стоявшие некогда в садах, были снесены, а на их месте высились похожие один на другой пяти-, шестиэтажные блоки.
Наконец я убедился в том, что слишком большое значение придавал возвращению в Онгёрен. На месте прежнего городка высился обычный бетонный квартал Стамбула, утыканный высокими бетонными зданиями. Я заглянул к Сырры Сияхоглу, где выпил вместе с супругами чаю. Наконец в условленное место подошли Неджати-бей и прочие руководители отделов «Сухраба». Когда мы поднимались к холму мимо кладбища, на котором покоился Махмуд-уста, я окончательно пришел к выводу – обо мне в Онгёрене забыли все, кроме тех, кто занимался недвижимостью и строительством, и бояться особенно нечего. Наш участок наверху холма, который тридцать лет назад представлял собой пустырь, теперь до отказа заполнился складами, мастерскими, заправками, шести-, семиэтажными жилыми домами, на нижних этажах которых располагались закусочные, кебабочные и супермаркеты. Я так и не смог понять, где именно мы с мастером рыли колодец.
Трудолюбивые работники «Сухраба» провели меня в зал, который они арендовали для общественных слушаний и обеда. Я пытался сообразить, в какой части холма мы находимся и в какой стороне сейчас казармы. Наш колодец должен был быть на расстоянии полукилометра от казарм. Мне хотелось оставить все дела и пойти туда.
Так как четырехполосная трасса, связывающая Онгёрен с аэропортом и окружной дорогой через Босфорский мост, подходила к прежнему Онгёрену не со стороны вокзала, а со стороны колодца, стоимость участков и квартир на нашем холме возросла. Большинство людей, принявших участие в общественных слушаниях, были не жителями Онгёрена, а недавно разбогатевшими людьми, собиравшимися обзавестись квартирой в этом быстро развивавшемся районе. Я не мог понять из-за беспокойства, охватившего меня, проявили ли они интерес к макетам, которые им показывали работники «Сухраба», к видам с верхних этажей, к размеру бассейнов и детских площадок. Мои работники привели на собрание две семейные пары, купившие квартиры в новых домах, построенных «Сухрабом» в Бёйкозе и Картале, чтобы те поделились своим восторгом с нашими будущими клиентами. В толпе находились люди, которые просто пришли послушать рассказы на тему «Образ жизни от компании „Сухраб“», иными словами, поразвлечься.
Я никого не извещал о своем прибытии, но прежние жители Онгёрена меня все-таки ждали. Я произнес краткую речь. Я рассказал, что в юности приехал в этот прекрасный район Стамбула вместе с моим мастером, чтобы рыть колодец. Я с уважением вспоминал в своей речи Махмуда-усту, который нашел здесь воду и благодаря усилиям которого сюда пришли промышленность, торговля и новые жители. Дома от компании «Сухраб» являются продолжением роста в развитии цивилизации, случившегося в Онгёрене тридцать лет назад, с появлением Махмуда-усты.
Как и во время прежних выступлений, мне задавали множество вопросов. Прозвучал вопрос по поводу условий оплаты, на который ответил работник, занимающийся рекламной кампанией. Я заметил, что одна пожилая женщина настойчиво тянет руку. Сердце мое забилось.
Это была Рыжеволосая Женщина. Наши взгляды встретились. Она старалась выглядеть дружелюбной и мило улыбалась. Я дал ей слово.
– Мы давно следим за успехами «Сухраба», Джем-бей, – сказала она. – Мы ждем от вас, что в одном из этих зданий вы устроите театр.
Несколько человек зааплодировали. Но я не видел никого, кто проявил бы особенный интерес ко мне и Рыжеволосой Женщине, усмотрев в ее словах скрытый смысл или намек.
После вопросов присутствовавшие стали осматривать макеты, и мы с Женщиной подошли друг к другу.
Я видел ее впервые за тридцать лет. Она не выглядела усталой или сердитой. Она была спокойной или, по крайней мере, хотела такой казаться.
– Надеюсь, я не удивила вас, Джем-бей, своим появлением. Мы пытаемся создать театральную труппу из молодых людей, которые являются друзьями моего сына. Я бы хотела их познакомить с вами. Никто не говорил, что вы приедете, но я была уверена, что вас сегодня здесь увижу.
– А Энвер-бея нет?
– Нет.
Неджати-бей усадил нас с Рыжеволосой Женщиной за столик в скрытый от посторонних глаз уголок, заказал чая и оставил одних.
– Джем-бей, я многие годы не знала, кто является отцом моего сына Энвера – вы или Тургай. Если бы я пошла в суд, то ничего не смогла бы доказать, но только бы всех расстроила, а вас и себя – опозорила. Вы прекрасно знаете, что такого намерения у меня не было.
Я слушал каждое слово Рыжеволосой Женщины, затаив дыхание. Ее руки опять совершали быстрые движения; ее наряд был такого же темно-синего цвета, как и тогда; ее лицо было таким же ухоженным.
– Конечно же, я ни одному из вас не дала понять, что сомневаюсь относительно отцовства ребенка, – продолжала она. – Тургай и так обращался со мной и с моим сыном плохо, потому что прежде я была замужем за его старшим братом. После того как мы разошлись и Тургай скончался, мне было очень сложно рассказать Энверу, что его биологическим отцом на самом деле может быть такой успешный и блестящий человек, как вы, и убедить сына открыть судебное дело. В конце концов дело он открыл, но из-за этого мы с ним сильно поссорились. Энвер еще не очень успешен в жизни, но он творческий человек. Он пишет стихи.
– Я читал их. Стихи очень хорошие, но идеи тех журналов, в которых они опубликованы, я не признаю. Очень жаль, что в журналах нет фотографий молодого поэта.
– Ах, конечно, я вам отправлю фотографию нашего сына, – сказала Рыжеволосая Женщина. – Сегодня он шлет стихи в религиозные журналы, а завтра будет писать об армии и флаге… Он очень гордый и упрямый. Ему нужен сильный отец, который направит его. Энвер непременно познакомится с вами и вас полюбит. Я сегодня приглашала его сюда, но он не пришел. Я сумела пробудить интерес к театру у тех молодых людей, которые собрались здесь. По воскресеньям мы встречаемся в Стамбуле и ходим в театр.
40
Устроить после общественных слушаний в свадебном зале ужин с алкогольными напитками было идеей работников отдела рекламы. Ужин организовывала закусочная «Куртулуш», которая все еще работала на «улице столовых». Когда я разговаривал с ее пожилым владельцем о том, что было в Онгёрене тридцать лет назад, я вспомнил, что однажды вечером мы сидели вместе с ним и Рыжеволосой Женщиной в «Куртулуше» за одним столом. За ужином я решил держаться подальше от Рыжеволосой Женщины и ее молодых театралов и как можно быстрее вернуться в Стамбул. Единственным моим желанием было перед отъездом увидеть колодец, который мы рыли с Махмудом-устой. Неджати-бей сказал, что желание легко исполнимо, однако вместо того, чтобы позвать в качестве сопровождающего кого-нибудь из старых жителей Онгёрена, он направился к Рыжеволосой Женщине.
– Серхат самый умный и самый зрелый из моих друзей – любителей театра, – сказала Рыжеволосая Женщина, подведя ко мне молодого человека. – Он мечтает однажды сыграть в Онгёрене пьесу Софокла.
– Откуда вы знаете, где был колодец? – спросил я Серхат-бея.
– После того как там появилась вода, этот колодец стал очень известным местом, – сказал Серхат-бей. – Махмуд-уста любил нам рассказывать истории о колодцах и старинные сказки.
– Вы помните эти сказки сейчас?
– Почти все помню.
– Садитесь рядом со мной, Серхат-бей, – сказал я. – Мы еще немного выпьем, затем незаметно покинем зал, и вы покажете мне колодец.
– Конечно.
Передо мной стояли ракы, белый сыр, а за другим концом стола сидела Рыжеволосая Женщина. За тридцать лет я научился любить ракы, как мой отец. Я наполнял стакан молодого человека, сидевшего рядом со мной, сам быстро пил и старался не смотреть в сторону Рыжеволосой Женщины и молодых театралов.
В какой-то момент я спросил вежливого Серхат-бея, какую из историй Махмуда-усты он лучше всего помнит.
– Лучше всего я помню историю о воине Рустаме, который, сам того не зная, убил своего сына, – сказал внимательный Серхат-бей.
Да, конечно, мастер ходил в театральный шатер раньше меня. Кроме того, эту историю могла рассказать ему Рыжеволосая Женщина. Может быть, он знал ее с рождения.
– А почему вы запомнили именно историю о Рустаме? Из-за того, что вам было страшно?
– Махмуд-уста не был моим отцом, – сказал сообразительный Серхат-бей. – И с чего бы мне бояться?
– Однажды летом тридцать лет назад я начал считать Махмуда-усту своим отцом, – сказал я. – Мой отец меня бросил. Какие у вас отношения с вашим отцом?
– Отдаленные, – сказал Серхат-бей, глядя перед собой.
Может быть, он хотел вернуться к Рыжеволосой Женщине и своим друзьям-театралам? Может быть, я слишком много вопросов задавал этому юноше? В зале стоял непрестанный гул голосов, который бывает на встречах земляков и в барах после матча.
– Как ты познакомился с Махмудом-устой?
– Он собирал вокруг себя детей и рассказывал истории. Я сам пошел к нему домой. Правда, испугался, когда впервые увидел его сломанное плечо.
– Я боялся историй Махмуда-усты, – пробормотал я, – в конце концов его истории становились реальностью.
– Что значит – становились реальностью? – спросил Серхат.
– Все, что было в рассказах Махмуда-усты, потом случилось со мной в жизни. А еще я боялся колодца Махмуда-усты. В конце концов я не выдержал и убежал от него. Ты знал об этой истории?
– Знал, – сказал он, пряча от меня глаза.
– Откуда?
– Мне рассказал об этом сын Гюльджихан-ханым Энвер. Он работает здесь бухгалтером. Махмуд-уста был ему как отец. Они долгое время были очень близки.
– А этот Энвер-бей сегодня был здесь?
– Нет. Он не собирался сюда приходить.
– Почему?
41
Я долго думал, почему мой сын не пришел сюда. Я рассердился на него. В то же время я чувствовал, что мой гнев может быть несправедлив, и хотел увидеть сына, а к тому же мне хотелось как можно скорее уехать из Онгёрена.
– Серхат-бей, пока не поздно, покажите мне этот наш колодец, – попросил я.
– Конечно.
Он поднялся и вышел. Рыжеволосая Женщина внимательно следила за мной с другого края стола. Я сделал еще несколько глотков ракы, съел кусочек брынзы и, выйдя на улицу, в начале темного подъема увидел Серхата.
Мы с моим провожатым молча шли мимо теней, темных закоулков и воспоминаний. Я никак не мог понять, в какой стороне холма находится дорога, по которой мы поднимались, и в какой стороне колодец, и винил во всем свою затуманенную ракы голову.
Мы шли вдоль некрашеного забора, мимо сада с бетонными дорожками, деревья которого окрасились в розовый цвет из-за света неоновых вывесок, мимо какого-то склада. Увидев в темной витрине парикмахерской наши с моим провожатым тени, я заметил, что мы с ним одного роста.
– Как давно вы знаете Энвер-бея? – спросил я у театрала-любителя.
– С тех самых пор, как я знаю себя. Я коренной житель Онгёрена.
– Что он за человек?
– Почему вы спрашиваете?
– Я знал его отца, Тургай-бея, – сказал я. – Тридцать лет назад они тоже были здесь.
– По-моему, самая большая проблема Энвера не его отец, а его отсутствие, – сказал смышленый Серхат. – Он необычный человек, этот наш Энвер.
– Я тоже рос без отца, но не могу сказать, что чем-то отличаюсь от других, – сказал я.
Серхат за словом в карман не лез:
– Конечно же, вы не такой, как все, потому что вы богатый. Наверное, Энвер заботится о том, чтобы не стать таким богатым, как вы.
Может быть, умница Серхат пытался сказать мне, что Энвер беден и поэтому с ним так сложно? Или же Энверу не нравятся такие люди, как я, которые в жизни думают только о том, чтобы заработать деньги, и поэтому он не пришел сегодня на собрание?
Я переваривал в голове второй вариант и неожиданно увидел, что мы приблизились к заветному месту. Вновь колючки и сорняки, которые были здесь тридцать лет назад, только сейчас они торчали по краям асфальтовой дороги.
Интересно, рассказывала ли Рыжеволосая Женщина нашему сыну Энверу о том, что его дед, то есть мой отец, был романтическим идеалистом, который за свои политические воззрения сидел в тюрьме? Сердце мне жгло предположение, что она представляла и отца своего сына, и его деда плохими и поверхностными людьми. Я сердился на сообразительного Серхата-эфенди, который заставил меня все это переживать.
– Вот! – выпалил я. – Последний поворот перед нашим колодцем.
– В самом деле? – спросил внимательный Серхат. – Какая случайность! Ведь здесь находится и дом, где одно время жил Махмуд-уста.
Он указал на склад, фабрику и группу домов, очертания которых терялись во тьме. Я заметил в стороне старое ореховое дерево, под которым я некогда дремал после полудня. Оно разрослось за тридцать лет и оказалось за забором одной из фабрик. Между тем в том направлении, куда я смотрел, загорелись бледные огни в окнах сохранившейся с прежних времен лачуги.
– Махмуд-уста долго жил здесь с семьей, – сказал Серхат. – Энвер с Гюльджихан-ханым часто приходили к нему на праздники. Я познакомился с Энвером в саду Махмуда-усты.
Меня забеспокоило, что парень опять говорил об Энвере.
– Махмуд-уста в этом доме рассказал нам историю из священного Корана о принце, который бросил своего отца в колодце на смерть, – не унимался Серхат-бей.
– Такой истории нет ни в Коране, ни в «Шахнаме», – сказал я.
– Откуда вам знать? – спросил Серхат. – Вы что, верующий человек, читаете Коран?
Я понял по его агрессивному тону, что юноша находится под большим влиянием моего сына Энвера.
– Я любил Махмуда-усту. Тем летом он заменил мне отца, – сказал я.
– Если хотите, я покажу вам дом Энвера, – сказал мой провожатый.
Мы свернули в боковую улицу. Проходя мимо жилых домов, у входных дверей которых не горело ни одного фонаря; мимо тут и там припаркованных фургончиков и мини-автобусов; мимо маленькой клиники «первой помощи» и аптеки; мимо гаража и складов, в дверях которых курили хмурые охранники, я изумился тому, как все это сумело уместиться на нашем холме.
– Вот здесь дом Энвера, – сказал Серхат. – Его окна на втором этаже слева.
Я почувствовал, что не смогу сдержать охватившее меня желание увидеть сына и желание дружить с ним.
– У Энвер-бея горит свет, – сказал я со спокойствием пьяного человека. – Пойдем позвоним ему.
– Если у него горит свет, это не означает, что он дома, – сказал проницательный Серхат. – Энвер избрал в жизни одиночество. Когда он по вечерам выходит на улицу, он всегда оставляет включенным свет, чтобы и воры, и злые люди видели, что дома кто-то есть, и чтобы, когда он вернется домой, не чувствовать, как он одинок.
– Очевидно, вы хорошо знаете своего приятеля. Если Энвер увидит вас сейчас, то не удивится.
– Никогда не известно, что от Энвера ждать.
Я пошел прямо к двери.
– С чего ему быть одиноким? – сказал я. – Ведь у него есть мать, которая так его любит, близкие друзья вроде вас…
– Нет, он ни с кем не сближается…
– Из-за того, что вырос без отца?
– Может быть. Но вы все же хорошенько подумайте, прежде чем позвонить, – сказал предусмотрительный приятель моего сына.
Я не обращал на него внимания и быстро читал имена над дверными звонками. В какой-то момент я застыл, словно очарованный.
Кв. 6. ЭНВЕР ЙЕНИЭР
(Частный бухгалтер)
Я три раза нажал на звонок.
– Если он дома, то откроет, – сказал Серхат.
Но никто не открыл. Я подумал, что мой сын дома, что он знает о том, что я пришел сюда его увидеть, но из упрямства не открывает мне, и раздражался и на него, и на Серхата.
– Почему вы так хотите увидеть Энвер-бея? – спросил любопытный Серхат.
– Покажи мне колодец, я не хочу больше здесь задерживаться, – попросил я. И подумал, что могу сюда приехать в другой день, втайне ото всех, чтобы увидеть сына.
– Если ты вырос без отца, то тебе не ведомо, что у мира есть центр и границы, и думаешь, что можешь делать все, – процитировал кого-то Серхат. – Но через какое-то время ты уже не знаешь, что делать, пытаешься найти в мире какой-то смысл, какой-то центр, а потом начинаешь искать человека, который сумеет сказать тебе «нет».
Я не отвечал ему, потому что чувствовал, что мы приближаемся к нашему колодцу и что мои многолетние поиски подошли к концу.
42
– Ваш колодец вот здесь, за воротами, – сказал Серхат и внимательно посмотрел мне в глаза.
Мы стояли перед ржавыми воротами какой-то фабрики.
– После смерти Хайри-бея его сын перенес прачечные и красильные вместе со швейными мастерскими в Бангладеш, и производство здесь полностью остановилось. Сын Хайри-бея уже пять лет использует это место под склад, но, конечно же, планирует договориться с застройщиком вроде вас и понастроить высотных жилых домов.
– Я приехал сюда не ради новой стройки, а ради своих воспоминаний.
Когда Серхат пошел к будке охранника, я засмотрелся на вывеску из плексигласа на некрашеном заборе, на которой было написано: «ЗАО АЗИМ ТЕКСТИЛЬ». Единственным доказательством существования здесь когда-то участка Хайри-бея были близкие звезды, смотревшие со своих обычных мест.
Я услышал гневный лай собаки. Серхат вернулся.
– Охранника нет на месте, – сказал он. – Сейчас он придет.
– Мы уже сильно задержались.
– Здесь в заборе была одна дыра, надо посмотреть, – сказал Серхат и скрылся.
За забором было не так уж темно, и неоновый свет, падавший на крыши строений и столбы забора, успокаивал меня, несмотря на настойчивый лай собаки; я думал, что быстро посмотрю на колодец и сразу вернусь. Но от Серхата не доносилось ни звука. Я уже злился от нетерпения, что мой молодой провожатый запаздывает. В кармане зазвонил телефон. Это была Айше.
– Так ты, оказывается, в Онгёрене, – сказала она. – Ребята с фирмы сказали.
– Да.
– Ты соврал мне, Джем. Ты обидел меня. Ты совершаешь ошибку.
– Здесь нечего бояться. Все прошло хорошо.
– Бояться есть много чего. Где ты сейчас?
– Я пошел с молодым провожатым к колодцу, который мы вырыли с Махмудом-устой.
– Что еще за провожатый?
– Один парень, коренной житель Онгёрена. Он сообразительный малый и помогает мне.
– Кто нашел его тебе?
– Рыжеволосая Женщина, – ответил я и, на мгновение протрезвев, задумался.
– Сейчас рядом с тобой? – почти прошептала Айше в телефон.
– Кто? Рыжеволосая Женщина?
– Нет, парень, с которым она тебя познакомила, – он рядом с тобой?
– Нет, не рядом. Он ищет проход в заборе. Он проведет меня на заброшенную фабрику.
– Джем, немедленно возвращайся.
– Почему?
– Держись подальше от этого парня. Спрячься.
– Чего ты так боишься? – спросил я, но страх из телефона уже подействовал на меня.
– Ты, конечно же, поехал в Онгёрен, чтобы увидеть своего сына, поэтому не захотел брать меня с собой. Кто тебя познакомил с этим провожатым? Рыжеволосая Женщина! Теперь ты понял, кто этот парень?
– Кто? Серхат?
– По всей вероятности, это твой сын Энвер! Беги оттуда, спасайся, Джем!
– Успокойся, всё под контролем.
– Слушай меня внимательно, – сказала Айше. – Если тебя сейчас кто-нибудь, используя любой предлог, ударит ножом или на тебя нападут хулиганы, просто потому, что ты пьяный, то что будет?
– Тогда я погибну, – засмеялся я.
– Тогда вся наша фирма достанется Рыжеволосой Женщине и ее сыну, – сказала Айше. – И ради этого люди могут убить кого угодно, не стесняясь.
– Ой, ну кто меня может убить сегодня вечером из-за наследства? Никто не знал, что я сюда приеду, даже я сам.
– Этот парень рядом?
– Нет, я же сказал.
– Я тебя умоляю. Пожалуйста, немедленно спрячься куда-нибудь.
Я сделал так, как велела жена. Я спрятался на затемненном пороге одного магазина на противоположном углу.
– Сейчас слушай меня, – сказала Айше. – Если этот парень – твой сын, то он убьет тебя! Просто потому, что он бунтует против всего западного.
– Если он попытается сделать что-нибудь подобное, я поведу себя как азиатский отец-деспот: сумею опередить неуважительного сына и сам убью его, – сказал я с улыбкой.
– Ты никогда не сделаешь ничего подобного, – сказала Айше, всерьез восприняв мои слова. – Не двигайся с места. Я немедленно сажусь в машину и еду.
Я не смог понять причину беспокойства моей супруги. Но долгое время не двигался с места. Серхат по-прежнему не подавал голоса, и я начал опасаться. Может ли в самом деле он оказаться моим сыном? Молчание затягивалось, и я сердился на парня, который меня здесь забыл.
В конце концов с другой стороны забора меня позвали:
– Джем-бей, Джем-бей!
Я заволновался и не издал ни звука. Парень продолжал меня звать.
Он показался там, где недавно исчез из виду. Начал медленно приближаться. Да, он был моего роста, и в его походке, и в том, как он размахивал руками, было что-то, напоминавшее моего отца. Это меня напугало.
Он снова позвал:
– Джем-бей!
Я не видел его лица. Мне хотелось вновь посмотреть на него с близкого расстояния. В том, что я сейчас боялся этого парня и прятался от него только потому, что он – мой сын, было что-то от ночных кошмаров. В конце концов я вспомнил, что у меня в кармане пистолет, и решительно шагнул из тени.
– Где вы были? – спросил он. – Если хотите увидеть колодец, следуйте за мной.
Он зашагал вдоль забора. Мне подумалось, что парень ведет меня в укромное местечко, чтобы перерезать мне горло. Как бы я хотел сейчас с близкого расстояния внимательно рассмотреть его лицо! Я следовал за звуками его шагов. Серхат быстро отодвинул доску забора и пролез. Потом протянул мне свою горячую влажную руку. Я оказался на территории фабрики. Да, это был наш участок. Сторожевой пес лаял как безумный, натянув цепь.
Я решил, что если порвется цепь и собака на нас бросится, то я в нее выстрелю, и поэтому, не обращая внимания на ее лай, шагал мимо фабричных зданий. Покойный Хайри-бей и его сын, который недавно принял дела отца, навтыкали на этом участке прачечных и красилен гораздо больше, чем планировали. За последние десять лет, прежде чем перенести производство в Бангладеш, они построили и другие здания, которые использовались как склады.
Наш колодец оказался внутри рабочей столовой, про планы постройки которой Хайри-бей некогда рассказывал во время каждого своего визита. При неясном свете неоновой вывески на каком-то доме за оградой мы наконец подобрались к колодцу, затерянному среди ржавых железок и труб.
Мой провожатый, наклонившись, принялся дергать ржавый замок на крышке люка.
– Ты очень хорошо здесь все знаешь, – сказал я.
– Энвер меня часто сюда водил.
– Почему?
– Не знаю, – сказал он, продолжая возиться с замком. – А вы почему захотели прийти сюда?
– Я так и не смог забыть, как мы здесь работали с Махмудом-устой, – сказал я.
– Не сомневайтесь, он тоже все время о вас помнил.
Был ли это намек на то, что я сделал Махмуда-усту инвалидом?
На лицо молодого человека упал свет, и я внимательно всмотрелся в него.
Да, возможно, черты и выражение лица этого парня и походили на мои, совсем как его рост и телосложение, но мне не нравился его характер. Айше обманулась. Это не мог быть мой сын.
Сообразительный провожатый сразу догадался, что он мне не нравится. Воцарилась тишина. Теперь он враждебно смотрел на меня.
– Дай-ка я посмотрю, – сказал я и опустился на колени, пытаясь открыть замок.
43
То, что я стоял на коленях, на мгновение облегчило все возраставшее во мне ощущение угрызений совести. Зачем я пришел сюда? Замок внезапно поддался.
Я поднялся и протянул парню отломившуюся дужку.
– Подними крышку, – попросил я.
Он постарался открыть крышку, но железо не поддалось. Какое-то время я смотрел на Серхата, но потом не выдержал и начал ему помогать. Крышка наконец со скрипом отвалилась, словно дверь в тысячелетнее византийское подземелье.
В бледном свете все той же неоновой вывески я увидел паутину, под ногами блеснули спины испуганных ящериц. Сильный запах плесени ударил мне в нос. Вскоре глаза привыкли к темноте. Я разглядел на дне нашего колодца воду либо грязь, отражавшую свет. Глубина не только пугала; волей-неволей она заставляла почувствовать восхищение человеком, который вырыл подобную яму лопатой и заступом. Перед моими глазами ожил образ Махмуда-усты.
– Кружится голова, – произнес мой молодой провожатый. – Можно упасть. Этот колодец затягивает.
– Не знаю, почему-то я подумал об Аллахе, – сказал я доверительно. – Махмуд-уста был не из тех, кто пять раз в день совершает намаз. Но тридцать лет назад, по мере того как мы рыли колодец, мне казалось, что мы не спускаемся под землю, а поднимаемся наверх, в небо, к звездам, чтобы быть с Аллахом и его ангелами.
– Все создал Всевышний Аллах! – откликнулся сообразительный Серхат. – К тому же Он повсюду – и на небе, и на земле, и на севере, и на юге.
– Да, это так.
– Тогда почему ты не веришь в Аллаха? – неожиданно перешел он на «ты».
– В кого?
– В Аллаха Всевышнего, – сказал Серхат, – в Аллаха, создавшего небо и землю.
– А ты откуда знаешь, что я не верю в Аллаха?
– Это по твоему виду и так ясно.
Мы помолчали, внимательно разглядывая друг друга. Гнев парня заставил меня почувствовать, что он может на самом деле оказаться моим сыном. Меня порадовало, что у моего сына неуживчивый характер.
– Европеизированные турецкие богатеи охраняют свой атеизм под тем предлогом, что берегут свои личные отношения с Аллахом, – продолжил Серхат. – Но на самом деле их атеизм вызван тем, что они хотят со спокойным сердцем, совершенно позабыв об Аллахе, совершать любые европейские непристойности.
– А чем тебе так мешают европейцы?
– Лично я никем и ничем не интересуюсь, – сказал Серхат, заставив себя успокоиться. – Я не причисляю себя ни к правым, ни к левым, ни к исламистам, ни к модернистам. Я хочу быть самим собой и, не вторгаясь в душу человека, писать стихи. Некоторое время назад ко мне в дверь постучали, но я не открыл. Я писал стихи.
Я не до конца понял, что он сказал, но почувствовал: если мы поведем беседу, юноша умерит гнев.
– Тебе кажется, что быть европеизированным – это плохо? – спросил я.
– Современный европеизированный человек – это человек, потерявшийся в лесу города. А потеряться – значит остаться без отца. Поиски отца – напрасные поиски. Если человек европеизированный и современный, то он не сможет найти себе отца в городской толпе, а если найдет, то перестанет быть личностью. Изобретатель европеизации и модернизованности – Жан-Жак Руссо – очень хорошо это знал и поэтому сознательно покинул своих четверых детей, он не пожелал быть для них отцом. Руссо даже не интересовался своими детьми и ни разу их не искал. А ты меня бросил только для того, чтобы я стал европеизированным? Если так, то ты прав!
– Что?
– Почему ты не ответил на мое письмо? – спросил он, приблизившись ко мне.
– На какое письмо?
– Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю.
– Не взыщи, я не могу вспомнить из-за ракы. Скажи, что за письмо.
– Я говорю про то письмо, в котором я подписался как твой сын. Почему ты на него не ответил? Я ведь внизу и адрес электронной почты приписал.
– Что ты, говоришь, приписал?
– Хватит прикидываться! – сказал Серхат. – Ты давно понял, кто я.
– Я не понял, Серхат-бей.
– Меня зовут не Серхат. Я твой сын Энвер.
Мы долгое время молчали.
Я смотрел ему в глаза. Энвер смотрел в глаза мне и пытался понять, о чем я думаю. Во мне медленно поднималось разочарование. Я давно понял, что не смогу воскликнуть: «Сынок!» – и броситься к нему на шею, как в турецких мелодрамах.
– Так, значит, главный притворщик – это ты! – наконец произнес я. – С чего бы моему сыну Энверу изображать какого-то Серхата?
– Отец очень важен для меня.
– Что означает для тебя отец?
– Отец – это нежный, сильный человек, который оберегает и направляет жизнь своего сына с того момента, как отцовское семя попало в лоно матери. Отец – это начало и центр мира. Если ты знаешь, что у тебя есть отец, даже если ты его не видишь, то чувствуешь себя уверенно, ибо понимаешь: он где-то там и в любой момент придет с нежностью защитить тебя. У меня такого отца не было.
– У меня, к сожалению, тоже не было такого отца, – сказал я хладнокровно. – Но если бы отец был рядом, он бы в свою очередь ожидал от меня покорности и своей силой и нежностью заставил бы меня утратить индивидуальность.
Энвер внимательно слушал меня, и я обрадовался.
– Интересно, если бы я слушался своего отца, стал бы я счастливым человеком? – продолжал я размышлять вслух. – Может быть, я бы стал хорошим сыном, но я не стал бы индивидуальностью.
– Из-за этого стремления сохранить индивидуальность европейские богатеи позабыли о том, кто они. А европеизированные турецкие богатеи в Аллаха не верят, потому что считают себя выше простых людей, – неожиданно сказал Энвер. – Для них очень важна индивидуальность. Большинство из них не верят в Аллаха, чтобы доказать, что они не такие, как все. Ведь, чтобы поверить в Аллаха, нужно стать простым человеком. Вера – это рай и утешение для смиренных.
– Я согласен.
– То есть ты говоришь, что ты веришь в Аллаха. Это дело трудное для европеизированного турка.
– Да.
– Если ты и в самом деле читаешь Коран, если ты веришь в Аллаха, то почему ты оставил Махмуда-усту одного в этом бездонном колодце? Как ты мог его здесь оставить? Ведь верующий человек имеет совесть.
– Я об этом долго размышлял. Я тогда был ребенком.
– Ну и что. Ты уже тогда встречался с женщинами и делал им детей!
– Ты все знаешь, – пробормотал я.
– Да, Махмуд-уста обо всем мне рассказал, – злобно сказал Энвер. – Ты оставил мастера на дне колодца потому, что возгордился, потому, что считал себя выше его. Для тебя твоя учеба, твой университет, твоя жизнь оказались важнее жизни простого бедняка.
– Ты прав, – сказал я, отходя от колодца.
Воцарилось долгое молчание. Собака вновь залаяла.
– Ты боишься? – спросил мой сын.
– Чего?
– Упасть в колодец.
– Гости уже, наверное, заволновались, – ответил я. – Давай вернемся. Я не ожидал, что мой сын будет разговаривать со мной столь неуважительно.
– А как я должен был разговаривать с вами, папочка? Если я буду покорным сыном, то не смогу быть европеизированным человеком. А если я стану европеизированным человеком, то не смогу быть покорным сыном. Так помогите же мне!
– Мой сын мог бы быть развитой личностью и по собственной воле подчинялся бы отцу, – сказал я. – Сила нашей личности происходит не только от нашей свободы, но также от пережитого нами и от наших воспоминаний. Этот колодец для меня – настоящая личная история и настоящие воспоминания. Спасибо тебе большое, Энвер-бей, что ты привел меня сюда. Но теперь этот разговор окончен.
– Почему ты хочешь вернуться? Ты боишься?
– Чего мне бояться?
– Ты боишься не того, что случайно упадешь в колодец, а того, что я тебя сейчас схвачу и брошу туда, – сказал он, глядя мне в глаза.
Я выдержал взгляд:
– С чего бы тебе поступать так с отцом?
– Чтобы отомстить за Махмуда-усту. Чтобы отомстить за то, что ты меня бросил. За то, что ты соблазнил мою замужнюю мать. За то, что годы спустя ты не удосужился ответить на письмо родного сына. И кроме того, я хочу стать такой личностью, какая тебе нравится. Ну и конечно, я готов убить тебя потому, что твое состояние достанется мне.
Длина списка причин меня испугала.
– Но ты же попадешь под суд. Тебя сгноят в тюремной камере, – осторожно и мягко попытался убедить его я. – Твоя жизнь пройдет в тюрьме. К тому же восстание против отца либо бунт против государства считаются почетным делом не у нас, а в Европе. Государство лишает наследства человека, убившего отца.
– Обычно такие вещи делают, не думая о последствиях, – сказал мой сын. – Если ты будешь думать о последствиях, то не сможешь быть свободным. Свобода означает умение позабыть о пережитом и о нравственности. Ты когда-нибудь читал Ницше?
Я решил промолчать.
– К тому же если я тебя сейчас брошу в колодец и всем скажу, что отец случайно оступился, никто не докажет противоположного.
– Ты прав.
– Когда я злился на тебя, мне хотелось тебя ослепить, – добавил мой сын. – А самое главное, что я просто не могу тебя видеть.
– Видеть отца должно быть всегда приятно.
– Если это настоящий отец! А настоящий отец должен быть справедливым. Так что ты даже не настоящий отец. Сначала мне хотелось тебя ослепить.
– Зачем?
– Я поэт, и мое дело – играть словами. Но я знаю, что настоящая идея происходит не из слов, а из образов. Бывает так, что какую-нибудь важную мысль я не могу высказать словами, но могу лишь представить ее в виде рисунка. Если я тебя сейчас лишу зрения, то только тогда я смогу стать такой личностью, какой ты хочешь, чтобы я стал. Ты знаешь почему? Потому что тогда я стану самим собой и, записав свои собственные слова, расскажу свою собственную историю.
Мне было больно от того, как враждебно и саркастически он разговаривает со мной. А ведь я должен был обнять его, расцеловать его как родной отец.
– Ты ненастоящий сын, – сказал я. – Ты слишком злой и безвольный.
– В чем же проявляется моя безвольность? Объясни!
Он сделал нервное движение, и тогда я, испугавшись отступил на шаг. Он двинулся на меня.
Я совершил еще одну ошибку, достав из кармана пиджака пистолет «кырыккале».
– Сынок, стой-ка там, где стоишь. Не вынуждай меня, а то он выстрелит.
– Да ты даже пользоваться им не умеешь, – ответил он и, бросившись на меня, попытался вырвать пистолет у меня из рук.
Мы принялись кататься по пропахшей плесенью…
Часть III
Рыжеволосая Женщина
Лет тридцать назад, то есть в первой половине восьмидесятых годов, в одном из маленьких провинциальных городков, где мы давали представление, однажды вечером, когда мы большой компанией, состоявшей из нашей театральной труппы и местного политического кружка, сидели за вечерней трапезой и выпивали, за другим концом стола появилась женщина с такими же, как у меня, волосами. Мгновенно все собравшиеся принялись разговаривать об этом совпадении: за столом сидят две рыжеволосые женщины, случайно ли это. Все задавались вопросами, какова вероятность такой встречи, к счастью ли она и знаком чего она является. Неожиданно рыжеволосая женщина сказала:
– У меня натуральный цвет волос.
Она сказала это так, будто бы извинялась, но в то же время гордилась.
– Смотрите, у меня на руках и на лице есть веснушки, как обычно бывает у рыжих. К тому же у меня светлая кожа и зеленые глаза.
Все повернулись ко мне, ожидая, что я отвечу ей.
– Ваши волосы рыжие от рождения, а мои – мое собственное решение, – мгновенно ответила я. – У вас это дар Аллаха, предначертанная от рождения судьба. А у меня – сознательно сделанный выбор.
Я не стала дальше продолжать этот разговор, чтобы веселая компания не сочла меня заносчивой, потому что, пока я говорила, начались насмешливые многозначительные улыбки. Если бы я не ответила, то мое молчание означало бы поражение. Все бы сделали неправильные выводы о моей натуре и подумали бы, что я просто кому-то подражаю.
После этого я решила, что, выбрав рыжий цвет для своих волос, выбрала и свою судьбу. Один раз выкрасив их в рыжий цвет, я на всю жизнь сохранила к этому цвету привязанность.
Прежде я была не театральной актрисой, занятой созданием назидательных образов из старых сказок и легенд, а довольной жизнью яростной социалисткой, исповедующей современные взгляды уличной комедианткой. После трехлетней тайной связи меня бросил мой возлюбленный, женатый красавец и революционер, старше меня на десять лет. А ведь мы были так романтично настроены и так счастливы, когда вместе взволнованно читали революционные книги! По правде, я и злилась на него, и признавала его правоту, потому что наши тайные отношения всплыли наружу и из нашей ячейки в них не сунул свой нос только ленивый. Все говорили, что всё это приведет к ревнивым разборкам, что кончится это всё для нас очень плохо, но вдруг в 1980 году произошел очередной военный переворот. Некоторые ушли в подполье, некоторые бежали на лодках в Грецию, а оттуда в Германию, где получили политическое убежище. Попавшиеся властям оказались в тюрьме под пытками. Мой возлюбленный Акын в тот же год вернулся к себе домой, к жене и ребенку и к своей аптеке. А Турхан, на которого я злилась за то, что он положил на меня глаз и порочил моего возлюбленного, понимал, как я страдаю, и начал очень хорошо заботиться обо мне. Так что вскоре мы поженились, решив, что это будет очень хорошо для нашей «Революционной родины».
Но мой муж все никак не мог забыть, что я некогда любила другого мужчину. Ему казалось, что из-за этого он теряет авторитет, но при этом не обвинял меня за мое легкомыслие. Правда, и мой возлюбленный Акын был не из тех, кто быстро влюбляется, но и быстро забывает. Поэтому он стал тяготиться общением с прежними товарищами. Ему казалось, что ему начали говорить двусмысленности и высказывать колкие намеки в неподходящих ситуациях. Вскоре он обвинил товарищей по ячейке «Революционная родина» в бездействии и уехал в Малатью, чтобы организовывать вооруженную борьбу. Я не буду рассказывать о том, как тамошние граждане, которых он пытался расшевелить, донесли на этого смутьяна и как был убит мой муж, в очередной раз попав к жандармам.
Эта вторая потеря, произошедшая за короткое время в моей жизни, заставила меня охладеть к политике. Иногда я говорила себе, что, может, стоит вернуться домой, к матери и к отцу-пенсионеру, бывшему некогда губернатором, но я не могла на это решиться. Если бы я вернулась домой, мне бы пришлось признать свое поражение и забыть о театре. Но теперь мне также было очень трудно найти труппу, которая приняла бы меня в свои ряды. Тем более что мне хотелось заниматься не политизированными уличными представлениями, а самим театром.
В конце концов я вышла замуж за младшего брата моего мужа, совсем как в османские времена, когда жены воинов, не вернувшихся с очередной войны, выходили замуж за их братьев. Именно я предложила Тургаю, когда мы поженились, создать бродячую драматическую труппу. Так что поначалу наша семейная жизнь была неожиданно счастливой. После того как я потеряла двоих мужчин, молодость и чистота Тургая были доказательством его надежности. Мы начали ездить и ставить наш шатер зимой по большим городам, таким как Стамбул и Анкара, выступать в помещениях «левацких» организаций, в комнатах для собраний, которые даже отдаленно не напоминали сцену, а летом – в небольших городках, куда нас приглашали наши друзья, в военных гарнизонах, неподалеку от недавно построенных фабрик и заводов. Встреча двух рыжеволосых женщин за одним столом произошла на третий год таких переездов. За год до того я выкрасила волосы в рыжий цвет.
На самом деле я не очень долго размышляла, прежде чем приняла подобное решение.
– Я хочу изменить цвет волос, – сказала я, оказавшись как-то днем в Бакыркёе у квартальной парикмахерши средних лет, но тогда у меня не было никаких идей по поводу будущего цвета.
– Вы шатенка, вам пойдет рыжий.
– Ну тогда и покрасьте мне волосы в рыжий, – тут же решилась я, – так будет хорошо.
Получилось очень вызывающе, но в моем окружении никто не возражал, а прежде всего мой муж Тургай. Может быть, все решили, что я готовлюсь к новой пьесе. Я также замечала, что все объясняют мой новый рыжий цвет тем, что я пережила одну за другой две горькие любовные истории. В то время ко мне все относились снисходительно, что бы я ни сделала.
Однако по реакции окружающих я постепенно поняла, что означает мой поступок: подлинник и подделка – это любимые темы турок для разговоров. После горделивого ответа той рыжеволосой женщине я начала покупать хну на рынке и краситься сама.
Я уделяла большое внимание юным лицеистам, искренним и впечатлительным студентам, страдавшим от одиночества солдатам, захаживавшим в наш театральный шатер; я искренне открывала себя навстречу их чувствительности и фантазии. Они намного быстрее взрослых мужчин замечали тона красок, что подделка, а что – настоящее, что – искренние чувства, а что – обман. Если бы я сама не выкрасила себе волосы хной, то, возможно, Джем бы меня и не заметил.
Я заметила его потому, что он заметил меня. Красотой он напомнил мне своего отца, поэтому мне очень нравилось на него смотреть. Потом я обратила внимание, что он увлекся мной и смотрит в окна дома, где мы остановились. Он был очень стеснительным, и, наверно, это тоже произвело на меня впечатление. Меня пугают развязные мужчины. У нас таких слишком много. Так как развязность заразительна, я иногда чувствую, что задыхаюсь в этой стране. Почти все они хотят, чтобы и вы стали развязной. А Джем был вежливым и робким. Я поняла, кто он, в тот день, когда он пришел в театр посмотреть на пьесу, а потом гулял со мной по привокзальной площади и рассказал о себе.
Я была поражена, но краешком сознания, оказывается, давно догадывалась, кто он. В театре я научилась понимать, что те события, что кажутся случайными, на самом деле имеют скрытый смысл. Не было простой случайностью то, что и мой сын, и его отец хотели стать писателями. Также не случайно и то, что тридцать лет спустя мой сын здесь, в Онгёрене, встретился с отцом. Не случайно и то, что мой сын страдал от отсутствия отца, как и его отец. Не случайно и то, что после того, как я много лет проплакала на подмостках, я превратилась в женщину, которой пришлось в жизни плакать на самом деле.
После военного переворота 1980 года мы изменили манеру представления, чтобы не навлечь на себя беду. Для привлечения публики в шатер я взяла себе в качестве коротких сценок сентиментальные фрагменты и диалоги из «Месневи»[18], из старинных суфийских притч и сказок, из «Хосрова и Ширин», из «Керема и Аслы»[19]. Но самого большого успеха мы добились монологом женщины, взятым из истории о Рустаме и Сухрабе, который предложил один старинный приятель-сценарист, писавший мелодрамы для «Йешильчама».
Все те развязные мужчины, которые, с восхищением посмотрев на то, как я танцую танец живота, предавались сексуальным мечтам (самые бесстыжие из них кричали: «Раздевайся! Раздевайся!»), после того как я на сцене в образе Тахмины, матери Сухраба, принималась оплакивать смерть сына, внезапно погружались в глубокое и пугающее молчание.
А между тем я начинала плакать сначала тихонько, а потом принималась рыдать изо всех сил. Когда я плакала, я ощущала свою власть над толпой и чувствовала себя счастливой оттого, что посвятила жизнь актерскому делу. Пока я стояла на сцене в длинном красном платье с разрезами, в старинных украшениях, металлических браслетах и поясе и плакала, предаваясь материнским страданиям, я чувствовала, как зрители, сидящие в зале, дрожат, глаза их увлажняются и их охватывает раскаяние. Я понимала, что провинциальные молодые мужчины отождествляют себя, сами того не замечая, не с сильным авторитарным Рустамом, а с его сыном Сухрабом. Когда они начинали за него болеть, я чувствовала – на самом деле они проливают слезы из-за своей будущей смерти.
Я также видела, что очень многие мои поклонники, переживая все эти страдания, заглядываются на мои губы, на мою шею, на мою грудь, на мои ноги и, конечно, на мои рыжие волосы. Всякий раз, когда я склоняла голову, всякий раз, когда делала горделивый шаг, всякий раз, когда я смотрела на зрителей, я видела, что мне удавалось обратиться и к их разуму, и к их чувствам, и воззвать к их молодости, но эти прекрасные моменты я переживала нечасто. Иногда какой-нибудь молодой человек принимался громко всхлипывать, и это увлекало за собой остальных. Вдруг кто-то другой начинал аплодировать, между зрителями вспыхивала ссора. Несколько раз я видела, как толпа в нашем шатре теряла разум, схватывались между собой те, кто рыдал в голос, и те, кто плакал тихонько, те, кто аплодировал, и те, кто бранился, те, кто вскакивал и кричал, и те, кто молча сидел и смотрел. Почти всегда мне нравилось это волнение и возбуждение, я жаждала его, но в то же время боялась силы толпы.
Через какое-то время я уравновесила образ Тахмины. Я стала тихонько плакать за кулисами во время сцены, в которой пророк Ибрагим готов расправиться с собственным сыном, чтобы доказать покорность Аллаху, а потом в этой же сцене появлялась в роли ангела с барашком в руках. Затем я переписала для собственного монолога речь матери Эдипа – Иокасты. История о том, как сын по ошибке убил своего отца, особенных эмоций у зрителей не вызывала, но ее идея воспринималась с интересом. Наверное, этого было бы достаточно. Возможно, мне не стоило рассказывать то, что сын возлег со своей рыжеволосой матерью. Сегодня я могу сказать, что это навлекло на меня несчастья. А Тургай предупреждал меня. Но я не слушала ни его, ни разносчика чая, который возмущался на репетициях: «Сестрица, что это такое ты показываешь!», ни режиссера Юсуфа, который время от времени вздыхал: «Мне это совершенно не нравится».
В деревне Гудул под Анкарой, где я сыграла мать Эдипа Иокасту, на следующий же день наш шатер просто подожгли – мы едва успели его потушить. Месяц спустя в Самсуне после монолога матери Эдипа шатер, который мы установили неподалеку от одного из прибрежных рыбачьих кварталов, забросали градом камней. В Эрзуруме из-за разгневанных молодых националистов я не выходила из отеля, а шатер охраняли полицейские. Мы думали, что, возможно, провинция еще не готова к откровенному искусству, но когда в Анкаре показали нашу пьесу на крошечной сцене пропахшего ракы и кофе «Кружка Прогрессивных Патриотов», ее тотчас запретили как не соответствующую моральным устоям народа. Мне не показалось несправедливым решение судьи в стране, в которой самое распространенное ругательство мужчин начинается со слова «мать».
Эти темы мы часто обсуждали с дедом моего сына Акыном, когда мне было двадцать с лишним лет и я любила его. Мой возлюбленный наполовину с изумлением, наполовину со стыдом вспоминал, что мужчины учатся ругательствам либо в лицее, либо в армии, и со смехом повторял их мне, после этого всякий раз приговаривая: «Фу, какая гадость!», а затем начинал рассуждать об униженном положении женщин и говорил, что когда мы достигнем рая господства рабочего класса, то избавимся от всей этой грязи. Я должна была потерпеть, я должна была поддерживать мужчин, чтобы они совершили революцию. Но, пожалуйста, не думайте, что я собиралась рассуждать на тему неравенства мужчин и женщин в турецких социалистических кругах. Мои последние монологи должны были стать не только яростными, но и полными поэзии и изящества. Надеюсь, что в книге моего сына будет именно такое настроение и люди испытают эти чувства в книге, точно так же как испытывают их, когда видят меня на сцене. Именно я подала моему Энверу мысль написать книгу обо всем, что случилось с нами, и начать с его деда и отца.
Признаться, я собиралась не отправлять моего Энвера в школу, а обучать его дома самой, чтобы он не потерял свои лучшие духовные качества и человечность, особенно в первые годы школы, и чтобы он не научился всяким гадостям от других мужчин. Тургай не принимал мои мечты всерьез. К тому времени, когда наш сын пошел в начальную школу в Бакыркёе, мы уже оставили театр и зарабатывали озвучиванием набиравших большую популярность иностранных сериалов. В Онгёрен я в то время ездила только ради Сырры Сияхоглу. Хотя воодушевление юных лет и левых настроений давно прошло, мы продолжали встречаться как старые друзья. Много лет спустя именно он в Онгёрене вновь свел нас с Махмудом-устой.
Наш сын Энвер обожал истории, которые рассказывал колодезных дел мастер Махмуд-уста. Мы часто ходили вдвоем к нему в гости, в саду за его домом был устроен прекрасный колодец. После того как Махмуд-уста нашел воду в Онгёрене, он разбогател на заказах во время строительного бума и жил в достатке, так как купленные им участки быстро росли в цене. Жители Онгёрена женили его на очень красивой вдове с ребенком. Махмуд-уста усыновил мальчика и стал для него хорошим отцом. Энвер подружился с этим мальчиком, его звали Салих. Я приложила много усилий, чтобы заставить Салиха полюбить театр, однако успеха не имела. Но я составила свою собственную театральную труппу молодых актеров, которые были приятелями моего Энвера и коренными жителями Онгёрена. Увлечение театром заразительно. Большинство этих мальчиков часто бывали дома у Махмуда-усты. Махмуд-уста и в своем саду, благоухавшем жимолостью, вырыл колодец, а чтобы дети туда не упали, закрыл его тяжелой железной крышкой и повесил замок. Но я все равно выходила на балкон второго этажа, обращенный к саду, и кричала детям: «Не подходите к колодцу!» Ведь обычно то, о чем повествуют старинные сказки и легенды, с вами случается в реальности.
Я помогла вытащить Махмуда-усту из колодца. Вечером накануне мой любовник-лицеист, выпив ракы, неумело занялся со мной любовью, оставив меня в положении (такое мы оба себе даже и представить не могли), а после поведал, что уста слишком сильно притесняет его, что теперь он хочет вернуться домой, к матери, что не верит в то, что в колодце появится вода, и остается в Онгёрене не ради колодца, а ради меня.
На следующий день я увидела, что он торопливо бежит на привокзальную площадь с маленьким чемоданом в руках.
Я очень расстроилась, потому что поняла, что, по всей вероятности, никогда больше не увижу Джема. Он очень мало рассказывал мне о своем отце, возможно, потому, что уже тогда что-то почувствовал. Мы собирались уехать на следующем поезде, но я не смогла понять, почему Джем ни с того ни с сего внезапно покидает Онгёрен, как преступник. За вечер до того Тургай привел в шатер Махмуда-усту, который очень уважительно и тихо смотрел пьесу. Наши знали, что помощник мастера Али перестал работать – его хозяин, заказавший колодец, отказался платить. Когда я рассказала своим о подозрительном бегстве другого подмастерья, они забеспокоились и отправили Тургая на холм, пропустив наш поезд. Затем мы все вместе, как в старых сказках, пошли к колодцу и вытащили Махмуда-усту в полубессознательном состоянии, опустив туда Али.
Мастера отвезли в больницу. Впоследствии мы услышали, что Махмуд-уста снова принялся копать колодец, не успела толком его ключица срастись. Кого он взял в подмастерья, кто стал ему помогать – эти подробности нам так и не удалось узнать, потому что наш театр покинул Онгёрен. Мне хотелось забыть, что там я провела ночь с сыном своего возлюбленного. Мне еще не исполнилось тридцати пяти лет, но я уже хорошо знала, какими гордыми и слабыми бывают мужчины и какой индивидуализм сидит у них в крови. Я знала, что они способны убить и своих отцов, и своих сыновей. Если отцы убьют своих сыновей, если сыновья убьют своих отцов, то для мужчин это означало стать героями, а мне, женщине, оставалось только рыдать. Возможно, мне следовало уехать куда-то далеко, забыв обо всем, что я знаю.
По мере того как Энвер рос и по мере того как становилось ясно, что ни его глаза, ни его брови, ни, в особенности, его нос не похожи на глаза, брови и нос Тургая, я начала думать, что отцом моего сына является мой любовник-лицеист. Интересно, думал ли об этом Тургай?
Отношения Энвера и Тургая никогда не были хорошими. Всякий раз, когда Тургай смотрел на нашего сына, он наверняка думал, что я раньше жила с его старшим братом, а до того еще и с женатым мужчиной. Откровенно он мне об этом не говорил, но я все это чувствовала. Мои рыжие волосы, хоть и об этом он молчал, тоже его раздражали, потому что напоминали ему обо всем этом. Я прочитала Тургаю несколько страниц из французских и английских пьес и романов, которые мне удалось найти и в которых рассказывалось, что на Западе рыжеволосая женщина обычно была яростной, неуемной скандалисткой, но он не принял все это во внимание. В одном женском журнале мне попалась статья, перепечатанная из какой-то европейской газеты, под названием «Женские типы глазами мужчин». Под красивой репродукцией портрета рыжеволосой женщины было написано: «темпераментная и загадочная». Ее губы, ее вид очень напомнил мне меня саму. Я осторожно вырезала эту репродукцию и повесила на стену, но муж не обратил на нее никакого внимания. Несмотря на все свои левацкие и интернационалистские замашки, муж мой в душе был самым обычным турком. В нашей стране, с его точки зрения, рыжие волосы означали, что у женщины по тем или иным причинам было слишком много мужчин. К тому же если женщина сознательно красит волосы в рыжий цвет, то она и сознательно выбирает для себя роль шлюхи. Профессия театральной актрисы лишь немного облегчала мою вину.
Так что в те годы, когда мы занялись озвучкой, мы с Тургаем постепенно отдалились друг от друга. Мы жили в Бакыркёе, в квартире, доставшейся Тургаю от отца. Муж занимался озвучиванием рекламы и постоянно находил другие подработки. Я знаю, что такое растить ребенка, ожидая отца, который либо приходит очень поздно, либо не приходит совсем.
Так что мы стали очень близки с Энвером. Я наблюдала, как развиваются его чувствительная душа и чуткое сердце и каким разным он может быть. С той ясностью, с которой я видела его страхи, его молчание, его настороженность, я чувствовала и его гнев, одиночество и утрату надежды. Мне нравилось прикасаться к бархатным рукам, ногам и шее моего малыша, и, с удовольствием наблюдая, как он растет, как становятся больше его плечи, уши, детородный орган, я гордилась тем, как происходит обогащение его разума, логики и фантазии.
Иногда мы очень здорово проводили время, весь день болтали и шутили, играли дома в прятки, разгадывали ребусы, вместе ходили на рынок, а иногда на нас сваливалась тоска и одиночество, и нам обоим делалось страшно, тоскливо, и мы оба уходили в себя. В такие минуты я понимала, как сложно сблизиться с другим человеком, проникнуть к нему в душу. К тому же этим человеком оказывался мой сын Энвер – тот, кого я любила в жизни больше всех. Взяв его за руку, я показывала ему улицы, дома, картины, парки, море, корабли – словом, весь мир. Насколько мне хотелось, чтобы он играл на улицах со своими товарищами в Бакыркёе, а позднее и в Онгёрене, чтобы он, падая и поднимаясь, научился себя защищать, настолько же мне хотелось, чтобы он держался подальше от бессовестной шпаны и не стал одним из тех мужчин, которые позволяют себе скабрезности в нашем театральном шатре.
По сравнению со своими сверстниками Энвер проводил на улице гораздо меньше времени. Но при этом он не был успешным учеником и не стал первым в классе, что меня очень огорчало. Иногда я спрашивала себя, почему я из-за этого расстраиваюсь. Мне бы хотелось, чтобы у моего сына вместо успешной деловой жизни и даже большого количества денег была натура, склонная к поиску истины и счастья. Мой сынок должен был стать и счастливым человеком, и героем. Я много мечтала о его будущем. Я говорила себе: пусть он никогда не будет человеком, который думает о мелочах. Когда младенцем он подолгу плакал, широко раскрыв розовый ротик и покрасневшие глаза, я молилась про себя: «Пусть мой милый Энвер в жизни никогда не прольет ни слезинки».
Внимательно глядя в его прекрасные глаза, я рассказывала ему, что он особенный, что он не такой, как все, что он – бриллиант. Вместе с ним мы читали детские книги, старинные сказки, стихи, вместе смотрели по телевизору передачи с детским театром, мультфильмы. Я видела, что он глубже и чувствительнее, чем его отец и дед. Именно я однажды сказала ему, что он непременно станет драматургом.
Вскоре после окончания начальной школы в Энвере проявились злоба и строптивость, упрямство, которых я не видела ни у его отца, ни у его деда. Я уважительно относилась к его темпераменту, считая, что, возможно, он получил его от меня. Ведь в детстве мой Энвер был очень счастлив, когда я мыла его в теплой воде, ласкала его изящное и красивое тельце в теплой пенке, осторожно мылила его ручки, его прекрасную голову, затылок, который был похож на дыню, его крохотный, похожий на фасолинку член, его нежные, как клубнички, сосочки. Иногда я сама мылась в теплой воде, оставшейся после него. Пока Энверу не исполнилось десять лет, мы вместе мылись в холодной ванной комнате нашей квартиры в Бакыркёе. Позднее я научила его самостоятельно мыть голову и не открывать при этом глаза.
Я думала, что всплески гнева, продолжительность которых все удлинялась, начались именно в те годы, когда он учился в лицее, а Тургай вовсе не появлялся дома. То, что Энверу удалось поступить только в непрестижный университет, несколько разочаровало меня. Я неудачно пыталась скрыть разочарование, и это сильно задело его. Он начал получать удовольствие от споров со мной. Когда я заглядывала в комикс, который он читал, или переключала канал, который он смотрел, он всегда ругался: «Да что ты понимаешь!» Он коротко обстриг свои волосы, стал похож на сбежавшего из тюрьмы преступника, отпустил бороду, словно заядлый исламист. Ему нравилось видеть, что мне тревожно, и он часто устраивал ссоры. Иногда мы оба кричали друг на друга, затем он уходил, хлопнув дверью.
В университетские годы Энвер начал чаще ездить в Онгёрен, так как искал общения с друзьями детства. Там он, бывая у Махмуда-усты, сошелся с молодыми людьми, половина которых была безработными, половина идеалистами. Одно время он бывал на скачках на ипподроме «Велиэфенди», где пристрастился играть в карты, но затем бросил, так как ему стало стыдно, хотя денег он у меня ни разу не просил. Когда он служил в армии в анатолийском городке Бурдур и по выходным ходил в увольнительную, то звонил мне и по телефону плакал от одиночества. Когда он вернулся в Стамбул и я увидела его остриженную голову, почерневшую на солнце, шею, истончившуюся, как абрикосовый прутик, то от тоски и материнской любви слезы навернулись мне на глаза. Ссоры наши продолжились, мы обижались друг на друга и по нескольку дней друг с другом не разговаривали. Он часто возвращался домой поздно или не возвращался совсем. Тогда я всю ночь не смыкала глаз. Иногда я думала о том, что мой сын может увлечься какой-нибудь чванливой девчонкой или темпераментной и отчаявшейся женщиной, и мне делалось страшно. Но мы совершенно неожиданно кидались друг другу в объятия, принимались целоваться и мирились. Я понимала, что не вынесу, если сын отдалится от меня, и не смогу жить, если не буду видеть его.
А вот от его отца (по крайней мере, от человека, которого он считал отцом) мы отдалились уже достаточно сильно: ни наш официальный развод с Тургаем, ни даже его скорая смерть не потрясли Энвера. Вспышки ярости и беспричинной злости у моего мальчика я объясняла тем, что он вырос без отца и стал чувствительным, но я догадывалась, что главная причина этого кроется в безденежье. Поэтому когда в газетной рекламе увидела фотографии Джема и в той же газете прочла статью о том, что благодаря инновационным медицинским технологиям, пришедшим с Запада, можно даже в турецком суде доказать, кто является настоящим отцом человека, в голове у меня все помутилось.
В молодости я бы никогда не решилась на такое судебное разбирательство. Заставлять насильно, с помощью власти и полиции, отца, который не желает слышать о ребенке, его признать; требовать у него денег под угрозой судебного разбирательства; приходить без приглашения, чтобы показать себя, на собрание, которое он устроил… Сыну было стыдно за меня. Но он понимал, что я делаю это не ради себя, а ради него, и после нескольких вспышек гнева смягчился.
Самое сложное было убедить не себя, а сына. Я много месяцев просила и умоляла его пойти в суд; мы ссорились и кричали друг на друга. Я согласна, что ему было нелегко принять то, что его мать, будучи замужней женщиной, изменила отцу, забеременела от другого мужчины, знала это и скрывала измену столько лет. Много раз со стыдом, в ярости задавал он мне вопрос: «Ты уверена?» – и я отвечала ему: «Сынок, если бы я не была уверена, разве бы я тебе все рассказала?»
Мы всегда шумно спорили.
– Ради твоего же блага! – кричала я.
Эти слова были самыми действенными. В какой-то момент он сорвал со стены портрет рыжеволосой женщины, порвал на мелкие клочки и выкинул. Уже потом я посмотрела в Интернете – автором вырезанного мной из журнала портрета был Данте Россетти. Он влюбился в свою красивую модель с полными губами и женился на ней. Склеив порванную репродукцию, я вновь повесила ее на стену.
Сын был в состоянии говорить о судебном деле против отца, только выпив ракы, и по мере того, как он пил, он успокаивался и с ним можно было поговорить обо всем. Правда, иногда он становился грубым, несговорчивым и, бросив матери в лицо те гадкие слова, которые она слышала от солдат в провинциальных городах, уходил, хлопнув дверью. Всякий раз после наших ссор, совсем как в первые годы жизни в Онгёрене, когда он закончил университет, он покрывал меня ругательствами, клялся, что такой шлюхи, как я, нигде не встретить (он употреблял и много других, более гадких слов), вновь хлопал дверью, но день или два спустя раскаивался и возвращался.
– Хорошо, что ты пришел! – всякий раз говорила я ему. – Я пожарила тебе измирских котлет.
Мы тут же принимались болтать о том о сем, словно бы и не ссорились, а потом садились бок о бок и включали телевизор, как это делали по вечерам в его детстве и в школьные годы. Когда кино заканчивалось, он всегда спрашивал:
– Интересно, есть ли у этого фильма продолжение?
Затем включал другой канал, который принимался смотреть с самым серьезным видом.
Ночью, когда он засыпал, свернувшись на диване перед телевизором, я тихонько разглядывала своего сына и жалела, что не нашла ему хорошую девушку и не женила его. Так как я знала, что девушка, которая понравится мне, не понравится ему, а девушка, которая понравится ему, не понравится мне, то вскоре успокаивалась. К тому же у моего сыночка не было на хорошую свадьбу ни денег, ни связей.
С того дня как я решила выкрасить волосы в рыжий цвет, я не раскаялась ни в одном из принятых решений. Единственное, о чем я сожалею, – так это о том, что я хотела, чтобы сын узнал, кто его настоящий отец, познакомился с ним, сблизился с ним, и о том, что я настаивала на их встрече. Энвер и проявлял интерес к моим устремлениям, и презирал их. Иногда он обвинял меня: я увлеклась иллюзиями и устраиваю эти интриги только ради денег. После гибели Джема все газеты в один голос обвинили во всем моего сына. Но мой сын убил своего отца непреднамеренно. На самом-то деле Энвера нельзя считать отцеубийцей, но благодаря газетам это пятно осталось на нем навсегда.
Мой сын только хотел защитить себя от человека, который, не совладав со своим гневом, на краю колодца вытащил пистолет. Единственной причиной, по которой Энвер там оказался, было желание увидеть наконец своего отца и познакомиться с ним. Это желание пробудила в нем именно я, и теперь я раскаиваюсь. Но я совершенно не раскаиваюсь в том, что в детстве рассказывала ему о Рустаме и Сухрабе, об Эдипе и его матери, о пророке Ибрагиме и его сыне.
То, что мой сын знал эти старые истории, вовсе не является доказательством его вины, в противоположность тому, что заявлял прокурор. Энвер очень хотел уйти от колодца, не причинив зла отцу. Но ему пришлось схватиться с Джемом. Сын мой убил своего отца по неосторожности. Мне было несложно прийти к таким выводам после всего того, что сын мне рассказал. Это поняли все газетчики, но не стали честно сообщать об этом читателям.
Величина компании «Сухраб», богатство Джема, правда, которая открылась сыну спустя годы благодаря медицине, о том, кто его настоящий отец, и последовавшее убийство… Газетчики прекрасно знали, что читатели обожают такие истории. В газетах много писали о том, что я пришла на место преступления и долго плакала. Любители мелодрам красочно описали страдания бывшей актрисы. Грязные газетенки, получавшие от «Сухраба» деньги на рекламу, утверждали: все это вовсе не несчастный случай; мы – мать с сыном – тщательно планировали убийство; не следует верить моим слезам; действовать нас заставило состояние Джема, у которого не было наследников; нами двигала жажда как можно скорее овладеть фирмой. Они говорили, что мои рыжие волосы являются доказательством моего низкого характера. Но ведь не мой сын, а именно его отец приехал в Онгёрен с пистолетом марки «кырыккале» и вытащил оружие…
Пистолет Джема был куплен официально и зарегистрирован. Судья непременно должен был сделать вывод, что мы с сыном имели добрые намерения и ничего заранее не планировали. Но газеты даже на минуту не задержали внимания на этой детали. Так что в историю Стамбула мы с сыном вошли в образе преступников, убивших владельца «Сухраба», чтобы завладеть его состоянием. Низость газетчиков выбила меня из колеи. Всякий раз, когда я хожу навестить сына в тюрьму Силиври, то обязательно какой-нибудь особенно грубый заключенный говорит мне какую-нибудь гадость вслед. На меня недобро смотрят охранники, и сердце мое разбивается на куски, которые невозможно склеить. Так как терпеть все эти слова и взгляды невероятно сложно, а годами слышать от низких, бесстыжих людей крики «Раздевайся! Раздевайся!» просто невыносимо, я попросила Энвера, чтобы он написал роман о том, как он случайно убил своего отца. Я сказала, что когда судья прочитает книгу, то сразу вынесет оправдательный приговор, так как Энвер не превысил мер самозащиты. Но книга должна начинаться с того самого дня, как его отец отправился рыть колодец.
Я же продолжаю историю с места, на котором она прервалась.
Когда мой сын с Джемом не вернулись за общий стол, я побежала за ними. Следом бросились и остальные.
В здание бывшей столовой нас привел охранник. Когда мы проходили через проходную, шелудивый пес нас облаял как мог. Я видела моего сына, сидящего неподалеку от колодца, у которого была открыта крышка, и сразу поняла, что произошло. Я побежала к Энверу и изо всех сил обняла его. Мне хотелось, чтобы он почувствовал, что я его понимаю, что я хорошо знаю его, что мои нежность и любовь способны защитить. Сначала я плакала, затем начала рыдать, а после – кричать, как мать Сухраба, Тахмина. Да, совсем как в театре!
Я кричала и думала: вот почему самые бессовестные солдаты, самые безудержные пьяницы, самые бесстыжие насильники затихают, увидев плачущую женщину, – логика мира построена на материнских слезах.
Работники компании «Сухраб» тут же сообщили в полицию. Раньше полиции приехала жена Джема Айше; ее отвели к колодцу. Ей, как и всем, не хотелось верить, что ее супруг сейчас лежит на самом дне. Я хотела обнять ее, поплакать вместе с ней, как женщина с женщиной, но мне даже не разрешили к ней приблизиться.
Газеты написали о глубине колодца, о том, что на дне его находится грязная глинистая вода. Журналисты удивлялись факту, что много лет назад кто-то смог вырыть такой глубокий колодец простой лопатой и заступом. Я не верила в злой рок, в предопределение, о котором писали некоторые из них.
После того как сын был арестован, я собиралась поговорить с Айше-ханым, утешить ее, уменьшить ее ненависть к нам обоим. Я желала ей сказать, что во всех произошедших событиях мы, женщины, не виноваты, просто всем легендам и историям предначертано заканчиваться именно так. Но Айше-ханым не захотела меня видеть. Работники «Сухраба» дали в газеты материал о том, что мой сын убил супруга Айше-ханым ради состояния и что за всем этим на самом деле стою я. Полиция нашла у колодца единственную гильзу. Но пистолета нигде не было. Полиция опустила на дно колодца водолаза, и несчастное тело Джема, ставшее совершенно неузнаваемым за два дня, было поднято наверх. Было произведено вскрытие. Так как в легких покойного воды не оказалось, врачи сделали вывод, что Джем умер прежде, чем упал в колодец.
То же вскрытие установило причину смерти. На следующий день все газеты опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы: «Сын выстрелил отцу в глаз». Как рассказал мой сын в суде, он был вынужден себя защищать и пистолет выстрелил случайно, когда сын пытался забрать его у отца.
Судья постановил, чтобы водолаз спустился в грязный колодец еще раз. Теперь водолаз вернулся с пистолетом «кырыккале». Пуля, попавшая Джему в левый глаз, была выпущена из этого пистолета, и наше положение в суде изменилось. Во мне зародилась вера в оправдательный приговор. Произошедшее было самозащитой. Конечно же, не сын принес пистолет к колодцу, а боявшийся сына отец.
После того как пистолет был найден, отношение ко мне сотрудников фирмы и Айше-ханым изменилось. Они поняли, что мой сын не планировал заранее убить своего отца, следовательно Энвер является наследником Джема, то есть самым крупным акционером «Сухраба».
Во время первой нашей встречи в офисе «Сухраба» Айше-ханым держалась хладнокровно и достойно. Насколько она поверила в те грязные сплетни, что писали обо мне в газетах? По ее глазам я видела, что она старается сдержать свою ненависть, свой гнев. По всему ее виду было ясно, что она похоронила глубоко в сердце боль от страданий по своему любимому супругу (по крайней мере сейчас), решила наладить со мной хорошие отношения и использует для этого всю свою волю.
Я хотела ее успокоить: конечно же, я не могла говорить от имени сидевшего в тюрьме Энвера, судебное дело которого все еще продолжалось, но ни моей целью, ни целью моего сына не являлось разорить эту огромную строительную компанию «Сухраб», созданную с помощью большого ума и творческих способностей покойного Джема, и лишить работы сотни человек, работавших там. Как раз наоборот, нам хотелось, чтобы «Сухраб» стал еще более успешным. Сегодня я считаю днем основания «Сухраба» тот день, когда тридцать лет назад Махмуд-уста начал копать колодец с покойным отцом моего сына.
После того как я осторожно все это проговорила, я поведала Айше, как однажды вечером 1986 года Джем пришел в шатер Театра Назидательных Историй и очень впечатлился, увидев трагедию Рустама и Сухраба. Между моими слезами, которые я проливала в шатре в тот день, и слезами, которые я проливала тридцать лет спустя у колодца по отцу и сыну, существовала связь, такая же точно, как между легендами и жизнью.
– Жизнь повторяет легенды! – сказала я взволнованно. – А вы так не считаете?
– Считаю, – вежливо ответила Айше-ханым.
Я видела, что ни она, ни другие директора «Сухраба» не хотят сделать ничего, что обидело бы или огорчило меня или моего сына.
– Не забывайте, что, когда Джем помогал Махмуду-усте копать тот колодец, я была в Онгёрене. Название вашей фирмы «Сухраб» связано с моим заключительным монологом из пьесы, которую я играла в те дни.
Айше-ханым растерянно заморгала, словно бы удивилась моим словам.
– Сухраб – имя героя произведения Фирдоуси «Шахнаме», – сказала она.
Оказалось, что они с мужем годами читали на эту тему книги, проводили исследования, ездили по миру, разглядывая персидские миниатюры в музеях, и встречались со специалистами. Глядя из окон центрального офисного здания «Сухраба» на высотные дома Стамбула и на море, Айше вспомнила немало сцен из счастливого прошлого и рассказала мне с отчетливым удовольствием, наслаждаясь воспоминаниями, о музее в Санкт-Петербурге, о доме в Тегеране, об Афинах, о следах истории, разбросанных по всему миру, о знаках и образах. Эта женщина жила с отцом моего сына и была счастлива с ним. Главным акционером фирмы, которую они создали с помощью бог ведает каких трудов, теперь мог оказаться мой сын, но «Сухраба» вырастили и подняли на ноги именно эта женщина со своим мужем.
В те же самые дни, бывая в тюрьме Силиври, я начала рассказывать моему сыну то, что слышала от Айше-ханым. Совершив три пересадки на автобусе, я добиралась из Бакыркёя до тюрьмы. Там меня каждый раз ощупывали опытные руки женщин-охранниц, отпускавших острые словечки по поводу моих рыжих волос. Затем следовали комнаты ожидания, открывающиеся двери, закрывающиеся двери, открывающиеся замки, закрывающиеся замки – я проходила такое количество комнат и коридоров, что забывала, где и в каком времени нахожусь. Ожидая появления сына за звуконепроницаемым стеклом, я иногда начинала дремать, иногда теряла терпение, а в большинстве случаев злилась, но держала себя в руках.
Если со мной был адвокат, то мы говорили о последних деталях дела и новых документах, о новых глупостях, появившихся в газетах, о трудностях, с которыми сын сталкивается в камере. Сын жаловался на то, что его унижают те, кто верит, что он убил отца из-за денег, что еда в тюрьме плохая и что разговоры о помиловании безрезультатны. Он рассказывал грустные истории об оппозиционных журналистах и курдах, которые сейчас сидели в камерах, прежде предназначенных для солдат, участвовавших в перевороте, и просил меня написать очередное бесполезное заявление с просьбой чаще выводить его на свежий воздух. Часовая встреча заканчивалась для нас прежде, чем мы успевали толком сказать друг другу что-нибудь особенное и нежное.
Самым тяжелым было расставание после того, как время истекало. Даже если сын решительным движением в ответ на предупреждение охранника и поднимался со стула, то он долго не мог повернуться ко мне спиной. Я вспоминала, как в детстве, еще до школы, он не отпускал меня из дома, когда мне нужно было сбегать на пять минут в бакалейную лавку. «Я через минуту приду», – говорила я, но он не верил. Он изо всех сил повисал на мне, когда я стояла на пороге, хватая за рукав и за подол юбки, умолял: «Мама, не уходи!»
Во время открытых встреч, которые проводились раз в месяц, мы были очень счастливы, потому что тогда задержанным и посетителям разрешалось дотрагиваться друг до друга. Мы расстраивались, если открытые встречи откладывались по причине того или иного наказания, и радовались, когда по приказу министра из Анкары в честь праздника или по какому-либо другому поводу объявляли о новой открытой встрече. Так как среди заключенных и осужденных было очень много «леваков» и курдов, то в тюрьму было запрещено приносить книги и мобильные телефоны. Во время открытых встреч я платила охранникам некоторую сумму и передавала моему сыну тетради с его стихами из Онгёрена. Увидев, что писательство является сильнодействующим лекарством, которое лечит его боль и успокаивает его гнев, я сказала ему, чтобы он записал все, что с ним произошло.
В комнате свиданий в отделении обычных преступников, переполненной контрабандистами, убийцами, ворами, мошенниками, насильниками и их семьями и посетителями, мы, мать с сыном, садились в угол и обнимали друг друга. Как только я прикасалась к Энверу, на его лице появлялось выражение счастья, какое бывало у него в детстве, когда я его мыла. Он рассказывал мне, что на самом деле здесь не так уж и тяжело, и весело говорил о знакомых заключенных, о взяточниках-охранниках, обо всех тюремных интригах. А затем принимался читать своей матери стихи о небе над их прогулочным двором и о том, что он видит из окна своей камеры.
Я от всего сердца хвалила прекрасные стихи моего сына, а после этого переводила разговор на будущую книгу. Он должен был написать эту книгу не только для того, чтобы защитить себя перед судьей, но и потому, что история оказалась назидательной. Иногда я делилась с ним своими мыслями, иногда рассказывала истории об Эдипе и Сухрабе, о том, как его покойный отец ездил в Тегеран, о моих годах в театре, о том лете, когда мы познакомились с его отцом, о пьесах в желтом театральном шатре и о смысле длинного монолога в конце каждого моего спектакля.
– Все те спектакли я играла ради того монолога, который рвался у меня из груди, – говорила я, искренне глядя в глаза сыну.
Во время последней открытой встречи на Курбан-байрам мы сели рядом, долго смотрели друг другу в глаза и, обнявшись, молчали. Наконец сын сказал, что уже начал работать над романом, который «расскажет обо всем». Теперь у него в голове мыслей было словно звезд на небе, что заглядывало летними ночами в его тюремное окно. Эти мысли очень сложно выразить словами. Но сыну помогали книги. В тюремной библиотеке, закрытой для политических публикаций, оказались роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», рассказы Эдгара Аллана По, старые томики поэзии и сонник под названием «Ваши сны – ваша жизнь». Сын собирался прочесть их, как и его отец, понять, о чем думал его отец в молодости, и поставить себя на его место. Он задал мне много вопросов об отце. Я взволнованно ответила на все его вопросы, радостно обняла его и в очередной раз счастливо заметила, что его шея пахнет, как в детстве, смесью дешевого мыла и печенья. Когда время посещения подошло к концу, я стала умолять Аллаха, чтобы в этот праздничный день мой сын смог без труда расстаться с матерью.
– Я в понедельник приеду снова, – улыбнулась я на прощание. Потом я вытащила из сумки помятую, склеенную репродукцию с портретом рыжеволосой женщины Данте Россетти.
– Ты очень обрадовал меня тем, что решил писать роман, сынок, – сказала я. – Когда ты закончишь работу, ты поместишь на обложку вот эту картину и расскажешь о молодости своей красавицы-матери. Смотри, эта женщина похожа на меня. Конечно, ты лучше меня знаешь, как начать роман, но книга должна быть точно такой же, как мой заключительный монолог на сцене, – и искренней, как сказка. Она должна быть реалистичной, как история, которая была на самом деле, и узнаваемой, как легенда. И тогда тебя поймет не только судья, но и все остальные. Не забывай, ведь твой отец хотел стать писателем.
Январь – декабрь 2015 г.Романы Орхана Памука как театр времени
Благодарю супруга Александра за плодотворный совместный труд.
Аполлинария АврутинаИдеи многих турецких писателей XX века, в романах которых мы находим сочетание традиционных черт классической восточной литературы мусульманского мира и традиционных канонов европейской словесности, определили облик современной Турции – страны, которая мечется между Востоком и Западом, стремительно меняя курс на противоположный. Еще совсем недавно Турция, имея официальный статус страны – кандидата в члены ЕС, ставила во главу угла европейские культурные ценности. Европейские ценности в определенной степени доминировали и в турецкой литературе XX века: различные виды свобод, равенство и права женщин, секуляризация общества – главные темы ведущих турецких романов.
Орхан Памук – один из самых молодых нобелевских лауреатов и самый известный турецкий писатель конца XX – начала XXI века, либерал и сторонник европоцентризма. В своих ранних интервью он проповедовал модернизм, европеизацию и евроинтеграцию, а в начале своего творчества по сути выступил в роли продолжателя дела целой плеяды турецких авторов, взоры которых, несмотря на разницу в политических убеждениях, были устремлены только к Западу и его культуре.
Об этом повествует один из первых романов писателя «Дом тишины» (1983). Главный герой романа стремится к достижениям западной науки и культуры, но противостоит ему собственная жена, дочь богатых придворных, которая всю жизнь провела в ссылке из-за политических воззрений мужа и проклинала его творческие увлечения. В этом произведении автором использован интересный прием, который будет не раз проявляться в дальнейшем творчестве: об одном и том же событии рассказывается от лица нескольких героев, что создает у читателя впечатление пьесы, которую читают разные актеры.
Российскому читателю Памук надолго запомнился как литератор-художник, без конца экспериментирующий с цветом. Излюбленным вопросом читателей на пресс-конференциях автора в России был вопрос о том, какому цвету будет посвящен следующий роман. В самом деле, первые опубликованные в России романы, переведенные В. Б. Феоновой, были связаны с символикой цвета, ставшего основой декорации действия. Памук, несостоявшийся художник, красками задавал направление и настроение сюжета. Именно такими романами являются его легендарные «Черная книга», «Имя мне – Красный», «Белая крепость».
Тут, конечно, следует отдельно упомянуть первый роман Памука «Джевдет-бей и его сыновья» (1982), за который совсем еще юный автор получил ряд национальных премий. В то же время этот роман стоит особняком в творчестве турецкого писателя, представая по сути экспериментом синтеза традиций европейской семейной саги с восточным этнографическим материалом. Многие критики недолюбливают этот роман за то, что он является турецкой версией «Будденброков» Томаса Манна.
Этого не скажешь о романе «Черная книга» (1990), с которым Памук буквально ворвался в мировую литературу – настолько ярко, что об этом романе писали в своих произведениях многие европейские авторы (например, герой романа Эрленда Лу «Наивно. Супер» читает «Черную книгу», сидя в аэропорту в ожидании рейса). О цвете в романе нет почти ни слова, но атмосфера повествования, судьбы героев и, главное, нависающий над ними огромный Стамбул, с его многовековой историей и бездонным Босфором, изображены Памуком так, что читатель воспринимает их как черно-белый фильм. Надо ли говорить, что финал у романа не самый радостный?
Более жизнерадостным предстает роман «Имя мне – Красный» (1998). В этом романе главным героем является цвет, доминировавший в миниатюрах мастеров гератской школы в Иране XV века (несмотря на постоянное политическое противостояние между Ираном и Османской империей, персидское культурное влияние в османском государстве было велико). С читателем разговаривают картины, их персонажи, как одушевленные, так и неодушевленные, а главное – цвета. Детектив и любовный роман, история персидской и османской миниатюры, сложные исторические и этнографические подробности со всей мощью погружают читателя в атмосферу османского города XVII века.
Примерно в тот же период происходит действие романа «Белая крепость» (1985), который стал доступен русскоязычному читателю позже вышеназванных. Этот роман в определенной степени является антиподом «Черной книги»: «Черная книга» объемна, а «Белая крепость» достаточно коротка; действие «Черной книги» происходит практически в наше время, а события «Белой крепости» – в XVI–XVII веках. Белый цвет здесь служит символом недостижимой цели, к которой оба героя стремятся через все повествование, крепость из белого камня, которую не удается взять османской армии, символизирует таинственный Запад со всеми его культурными и научными достижениями. Читатель словно бы видит черно-белые изображения, но в случае «Черной книги» это черно-белое кино, а в «Белой крепости» – скорее гравюры знаменитого французского архитектора и художника Антуана Игнация Меллинга (1763–1831), бывавшего в Стамбуле и участвовавшего в возведении многочисленных зданий. Финал этой книги гораздо более оптимистичный, а поэтому и сама она кажется более светлой и радостной, белой. Читатели часто по ошибке называют ее «Белой книгой».
Один из героев «Белой крепости» говорит о том, что разделение Востока и Запада призвано не подчеркнуть различия людей и культурных традиций, а искусственно разобщить их. Эта мысль не раз высказывается в сборнике эссе «Другие цвета» (1999), в котором автор обращается к проблемам отношений писателя и читателя, Турции и Европы, Востока и Запада. Этот сборник несколько выделяется в творчестве Памука. Во-первых, его название как бы завершает цветовой цикл произведений и намекает на начало нового цикла. Во-вторых, в этих эссе затронуты не только проблемы литературы и искусства в жизни европейца и восточного человека, но и политические темы. Некоторые статьи сборника посвящены вопросу вступления Турции в Европейский Союз.
За все время своей писательской деятельности Памук несколько раз выступал с публицистическими произведениями. Здесь можно упомянуть ряд не переведенных в России книг. Прежде всего, сборник Нортоновских лекций под названием «Наивный и сентиментальный автор», прочитанных Памуком в Гарвардском университете в 2011 году. Кроме того, в 2010 году в Турции была опубликована американская версия «Других цветов», существенно отличающаяся от первоначальной, где много места уделено турецкой литературе и культуре. В этом варианте книга получила название «Фрагменты пейзажа» и содержит большое количество эссе на политические темы.
Проблема отношений Востока и Запада предстает в «Новой жизни» (1994), которая кажется отступлением автора от экспериментов с цветом, хотя тематически этот роман продолжает «Черную книгу», а визуально – фильм «Скрытое лицо» режиссера Омера Кавура, который снят по сценарию, созданному Памуком по мотивам одной главы «Черной книги». Главный герой «Новой жизни» пребывает в поиске своей возлюбленной, совсем как герой «Черной книги», но географией его поисков становится не Стамбул, а вся страна. Жизнь персонажей романа полностью меняется после прочтения некой загадочной книги. И читателю, и критику предстоит долго гадать – что же за книгу читают герои? На этот вопрос нет ответа, но среди мнений, высказанных читателями Орхана Памука, лидирует одно – герои читают Коран. Конфликт Востока и Запада высказан словами персонажа по имени Нарин, который коллекционирует часы потому, что часы помогают верующему приблизиться к Аллаху. Дело в том, что в исламе жизнь верующего строго регламентирована обязательными обрядами, для отправления которых требуется точное знание времени. С точки зрения доктора Нарина, изобретение, которое Запад считает своим, – часы, для Востока стало инструментом для обретения внутренней гармонии.
Самым политизированным романом Памука считается «Снег» (2002), который в России из-за бескрайней любви турецкого писателя к Достоевскому и Толстому мгновенно окрестили «самым русским его романом». Тетрадь Ка ассоциируется у читателей с тетрадью Юрия Живаго, русско-армянский город Карс – с российской архитектурой и русским снегом, а общее развитие событий напоминает роман «Бесы» Достоевского. Ка – классический герой русской литературы. Он чем-то напоминает Онегина, Чацкого, может быть даже Печорина. Вокруг Ка происходят определенные события, жизнь диктует ему свои условия и создает вокруг него различные ситуации, он действует под впечатлением от тумана и снега – но противопоставить всему происходящему целостную личную концепцию он оказывается не в состоянии. Все, что делает Ка, он, подобно Раскольникову, который «убить-то убил, а душу человеческую не учел», как бы не доводит до конца. Ужасает в «Снеге» сходство сцены военного переворота и захвата власти в Карсе, произошедшего во время спектакля, с реальными событиями октября 2002 года, когда террористы захватили 912 человек во время спектакля «Норд-Ост» в московском театре. Театр в романе становится центром всех событий, актеры – главными действующими лицами в жизни, а сценическая постановка – реальностью, которая руководит судьбами людей.
Если в произведениях первого периода творчества Памук экспериментировал с цветами, а во второй увлекся политическими темами, то третий период, очевидно, следует считать периодом увлечения этнографией города и его пространством, которое выступает как декорация к событиям новых романов.
В вымышленных мемуарах «Стамбул: город воспоминаний» (2003) реальным действующим лицом выступает город, а не альтер эго автора, хотя читатель до последнего воспринимает книгу как историю жизни самого Памука. Город является одушевленным персонажем, имеющим все атрибуты живого лица – эмоции, настроения, мысли, воспоминания. Город – это декорация и музей своего времени, который проживает собственную жизнь, не слагающуюся из жизней населяющих его людей, лишь позволяя им появиться в своей истории. «Стамбул: город воспоминаний» – не мемуары и не историческое исследование, а иллюстрация к состоянию города в определенный исторический момент, что подчеркивается большим количеством фотографий из личного архива автора.
Похожий прием повторяется в псевдолюбовном романе «Музей невинности» (2008) – Памук разыгрывает перед зрителем мелодраму, в которую читатель охотно верит. В этом спектакле присутствуют традиционные для народного театра действующие лица – влюбленный, потерянная возлюбленная, добрая старушка, мудрый советчик, злодей-разлучник и многие другие. В заключение любовной истории с грустным концом писатель приводит список действующих лиц, как в театральной пьесе. Живой иллюстрацией к событиям романа является музей, открытый писателем в Стамбуле, в котором хранятся вещи, описанные в романе и принадлежавшие героине. По действию книги музей, посвященный памяти героини, открывает в ее доме главный герой, страдающий от неразделенной любви после ее гибели. На самом деле музей задуман и стал этнографическим памятником жизни Стамбула 60–70-х годов XX века и демонстрирует современному посетителю и читателю часто уже исчезнувшие из обихода предметы, которые выступают в роли памятника времени. В музее и в романе Памук экспериментирует с пространством, превращая обычные предметы в арт-объекты. Стамбул и его время здесь являются не только фоном и декорацией всех событий, но и некоей незримой силой, определяющей судьбы героев и ход событий. Памук не раз говорил, что «Музей невинности» – это попытка создать энциклопедию времени, подобно «Анне Карениной» Л. Н. Толстого. Место и время и соответствующие им правила жизни общества задают границы возможного в предлагаемых обстоятельствах.
В произведениях текущего периода творчества Памук демонстрирует скорее разочарование автора в европейских ценностях и ностальгию по традиционному Востоку. Герои романов «Музей невинности», «Мои странные мысли» (2014) и «Рыжеволосая Женщина» (2016) в конце жизни и в финале повествования, как правило, устают от модернизма, современного темпа жизни и ее ценностей, возвращаются к ценностям традиционным, а главное, ностальгируют по прошлому.
Главный герой романа «Мои странные мысли» Мевлют – представитель исчезающей профессии, уличный торговец традиционным напитком из проса – бузой. Он бродит по улицам растущего и меняющегося города, пытаясь остановить время. Люди приходят и уходят, а город остается и продолжает жить, неподвластный времени, хотя и становится неузнаваемым. Город и в этой книге выступает декорацией, на фоне которой проходят жизни действующих лиц. В этом романе Памук впервые отчетливо заявляет прямо противоположное тому, с чего началась его писательская карьера. Если предыдущий роман, «Музей невинности», еще только проявляет сомнения в симпатиях между Востоком и Западом, то здесь авторский взгляд очевидно благосклонен к демонстративно традиционному Мевлюту, человеку из народа, который придерживается исламских ценностей и совершенно не намерен меняться. Все происходящие с Мевлютом жизненные неурядицы никак не влияют на его душевное равновесие, укорененное в восточных традиционных ценностях. Напротив, все, кто впустил перемены и отступления от обычаев в свою жизнь, в этом романе сильно страдают, как страдают и оба главных героя романа «Музей невинности», нарушившие устоявшуюся традицию.
Новый роман Памука «Рыжеволосая Женщина» также отличается от ранних произведений автора. Он представляет собой «роман в романе», написанный сыном главного героя, отбывающим срок в тюрьме за убийство отца. Главный герой (отец) долгое время считал себя частью западной традиции, олицетворяемой античным мифом об Эдипе. На самом деле он в душе проходит путь от увлечения европейской моделью отношений отца и сына до разочарования в ней, проникаясь во второй половине жизни традиционной для Востока историей Рустама и Сухраба. Но раскаяние героя в пристрастии к европейским ценностям приходит слишком поздно: он жестоко наказан – убит, не успев реализовать себя ни в качестве творца-писателя, ни в качестве творца личности – отца. Его единственный сын, твердый приверженец традиционных мусульманских взглядов, убивает его, перед этим упрекая в безбожии и в потере себя. И если в «Снеге» кара следует за предательство, то в «Рыжеволосой Женщине» уже сама склонность к западному образу жизни является поводом для наказания.
Совершив убийство, сын, хоть и оказывается в тюрьме, фактически наказания не несет, реализовав себя и свою давнюю страсть к писательству, которую отцу реализовать было не суждено. Исповедуя традиционные ценности, он не ощущает себя наказанным за убийство человека, всю жизнь изменявшего себе, в душе верившего в незыблемость традиционных взглядов, но внешне исповедовавшего европейские. Для убийцы тюрьма становится прекрасной возможностью начать новую жизнь.
Как и в романе «Снег», в повествовании важную роль играет театр. Но если в «Снеге» театральная пьеса, режиссер которой неудачно попытался поставить спектакль в жизни, являлась только частью текста, то в «Рыжеволосой Женщине» весь текст является пьесой, за разыгрыванием которой мы наблюдаем, сами того не зная.
Новый роман Орхана Памука демонстрирует эволюцию настроений, которые нашли свое выражение в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. По мере роста восточной пассионарности, в нынешних исторических обстоятельствах мы видим не только подъем исламского фундаментализма (что было показано в романе «Снег»), не столько умеренное порицание отошедших от традиционных ценностей героев, чья жизнь сложилась несчастливо (что показано на примере судеб героев романа «Музей невинности»); не столько легкую грусть по безвозвратно ушедшему традиционному прошлому (что изображено в романе «Мои странные мысли»), сколько уже четко выраженное в романе «Рыжеволосая Женщина» агрессивное стремление справедливо наказать тех, кто и так уже жизнью наказан за отступление от важных для Востока семейных ценностей.
Мир знает Орхана Памука как экспериментатора с неотъемлемыми элементами театра – с цветом, с формой, с пространством. Истории, рассказанные в ранних романах, вполне могли произойти в другом месте и в другое время. Начиная со «Снега» они жестко привязаны к месту и ко времени. Памук, словно опытный художник-постановщик, обставляет реквизитом свои истории. И если первые его романы лишь иллюстрации этих историй, то последующие становятся их полноразмерной инсценировкой. В конце концов театр полностью поглощает текст.
Театр романов Орхана Памука меняется вместе со временем. Остается гадать, какую пьесу нам покажут в следующий раз.
Аполлинария АврутинаСноски
1
Павильон Лип, иначе Павильон Ыхламур – бывшая летняя резиденция султанов Османской империи, построен в 1849–1855 гг., расположен неподалеку от стамбульского района Бешикташ.
(обратно)2
Фалака – традиционное для Ближнего Востока средневековое пыточное орудие для наказания ударами по босым стопам.
(обратно)3
Гебзе – город, расположенный на западе Турции, под Стамбулом.
(обратно)4
Кючюкчекмедже – удаленный район современного Стамбула, на момент действия романа пригород.
(обратно)5
Дёнюм (дунам) – единица измерения площади в странах, находившихся под властью Османской империи, составляет 918,393 кв м.
(обратно)6
Семь уровней неба. – В исламской эсхатологии считается, что Рай (Небеса) состоит из семи уровней, семи ступеней.
(обратно)7
Гедже-конду – досл. «построенные за ночь», лачуга. Подобные хижины «за одну ночь» строили нищие выходцы из Анатолии, как правило приезжавшие в большие города на заработки, на окраинах и в бедных кварталах турецких городов до самого недавнего времени.
(обратно)8
Ялы – старинный прибрежный особняк, как правило деревянный и с собственной пристанью.
(обратно)9
Легенда о пророке Юсуфе и его братьях – имеется в виду ветхозаветная притча о Иосифе Прекрасном и его братьях, продавших Иосифа в рабство из зависти. Эта притча вошла в Коран и легла в основу многочисленных героико-романтических поэм под традиционным названием «Юсуф и Зулейха», повествующих о приключениях Юсуфа и о любви к нему прекрасной Зулейхи, жены фараона.
(обратно)10
Шехзаде – сын правителя, принц в Османской империи.
(обратно)11
Дот – долговременная огневая точка, укрепленный опорный пункт.
(обратно)12
Дастан – эпическое произведение в фольклорной и авторской литературе стран Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)13
Ибрагим Татлысес – популярный турецкий эстрадный певец и актер.
(обратно)14
Гюльнар и Ардашир – герои поэмы «Шахнаме», история любви которых со временем стала самостоятельным сюжетом ближневосточной мусульманской литературы.
(обратно)15
Хосров и Ширин – также герои поэмы «Шахнаме», история любви которых, выделившись из основного текста «Шахнаме», со временем стала самостоятельной и популярнейшей на мусульманском Востоке поэмой.
(обратно)16
Виттфогель Карл Август (1896–1988) – германо-американский социолог и синолог, увлекавшийся социалистическими идеями. Автор ирригационной концепции развития общества.
(обратно)17
Вакф – в мусульманском праве движимое или недвижимое имущество, переданное на религиозные, а также благотворительные цели государством, юридическим либо частным лицом; имуществом в таком случае можно управлять по усмотрению создателей вакфа, но оно не отчуждаемо, то есть его нельзя, например, отсудить в качестве наследства. Герои обсуждают возможность перевода компании «Сухраб» в вакф, чтобы нежеланные наследники не могли ее отсудить.
(обратно)18
«Месневи», «Месневи-и манаеви» – «Поэма о скрытом смысле», главное произведение персоязычного мыслителя, мистика и поэта Джалаладдина Руми (1207–1273), состоящее из множества притч и сказок.
(обратно)19
«Хосров и Ширин», «Керем и Аслы» – популярные на всем мусульманском Ближнем Востоке героико-романтические поэмы о приключениях и страданиях двух влюбленных.
(обратно)
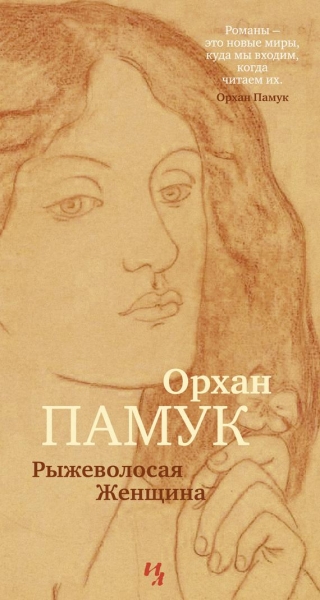










Комментарии к книге «Рыжеволосая Женщина», Орхан Памук
Всего 0 комментариев