Йозеф фон Вестфален НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
Глава 1
Как Гарри фон Дуквицу становится неуютно в его адвокатской конторе, и как он все больше и больше сомневается в смысле собственной профессии. Про зеленые, черные и серые телефонные аппараты, про то, что думает Гарри по поводу отсутствия своей подруги Хелены, и как его доверители становятся для него все более подозрительными, включая некоторую информацию о его происхождении, о том, чем он занимался в студенчестве, о его привычках за завтраком и предпочитаемых им средствах передвижения.
Так не годится! Так больше не может продолжаться. Гарри фон Дуквиц встал из-за письменного стола и подошел к открытому окну. Не для того он потратил годы на изучение юриспруденции, чтобы теперь сидеть в офисе и диктовать какие-то письма, называемые «документами, подготовленными стороной в ходе процесса». Да еще и в семь вечера, в мае, в такую погоду.
Франкфурт, середина 70-х. Точнее сказать, 1975-й, но какое значение имеют конкретные даты по сравнению с погодой и временем года. Этот переход поздней весны в раннее лето, да к тому же теплым вечером, когда сумерек нет и в помине, нагонял бесцельную тоску, и душа вновь давала о себе знать.
Почти год Дуквиц работал в этой конторе. Разумеется, не ад, но надолго тоже не годится. Не то, чтобы он ожидал рая на земле. Он уже вышел из этого возраста. Он вообще ничего не ожидал. Чего ждать от жизни? Собственно говоря, совершенно разумный вопрос, но стоит только его проговорить или услышать, и он становится скабрезным. Нужно уж совсем дойти до ручки, чтобы не воспринимать этот вопрос как чересчур навязчивый. Вопросы подобного рода можно задавать разве что себе самому, но тоже не слишком часто. Ждать самореализации, да еще и на службе — смех да и только.
При этом ему еще повезло. Преуспевающая адвокатская контора в хорошем месте, на краешке делового центра Франкфурта. Здание старой застройки, это важно. Прекрасный паркет. Ничего против высотных домов в панораме города он не имел, но ни в одном из них работать не хотел. Он не насекомое. Здесь отлично распланированные окна, которые можно открывать во всю ширь. Снизу доносился успокаивающий шум уличного движения. По меньшей мере, на улице что-то происходит. Даже деревья растут перед окнами. Липы. Сейчас они цветут. Их деревенский сладковатый аромат приятно смешивается с запахами города.
В пять часов, как обычно, обе секретарши удалились. «До свидания, до завтра, господин Дуквиц!» В шесть с ним распрощались оба его коллеги и девушка-стажер, облегченно и дружелюбно, с оттенком уважения и сожаления: «Не зарабатывайся до смерти!»
Вот и уборщица исчезла, проверив напоследок костяшками пальцев землю в кадке с пальмой: «Поливать не нужно. Пока хорошо!» Сейчас она этажом выше, в помещении частной практики этого дерматолога. Слышно, как она пылесосит и двигает мебель. Наверно, она работает часов по 11, 12 или 13 ежедневно, как Дуквиц. Предположительно, зарабатывает он раза в четыре или в пять больше, чем она. А этот кожник сверху, халтурщик, загребает в десять раз больше. Однако, проблема не в безразмерной разнице. Это раньше против несправедливости выходили на улицы. Бывало так когда-то.
Дуквиц закрыл окно. Франкфурт называли уродским городом, но он не мог с этим согласиться. С недавних пор стали раздаваться голоса, говорящие о честном городе. Если уродство повернули в сторону честности, тогда ложь должна стать чем-то прекрасным.
Он вернулся к письменному столу и сосредоточился на требовании возмещения ущерба некоего домовладельца по отношению к фирме, устанавливающей электрооборудование, и на уголовном деле о смехотворной краже со взломом, совершенной алкоголиком-рецидивистом. Дуквицу захотелось наговорить письма на диктофон, ходя туда-сюда, но, странное дело, хотя он был один в помещениях конторы, ему это показалось чванством. Ему еще нет тридцати, он не желает со значением выхаживать взад-вперед, как актер, исполняющий на сцене роль знаменитого адвоката, который вот-вот должен найти спасительное решение.
Вот что кстати было большей проблемой по сравнению с заработком уборщицы — его собственный имидж. Проблема эта не то чтобы мучила, она скорее занимала его. Он был молодым преуспевающим адвокатом, то есть как раз из тех, кого еще недавно вместе с Хеленой от всей души презирал. Успех — это ведь хуже некуда, дело ясное. Имеющий в этом обществе успех должен быть с гнильцой.
Кто знает, может как раз поэтому Хелена ушла от него. Скорее всего, ей больше не хотелось жить с молодым преуспевающим адвокатом, который уделял ей все меньше и меньше времени. Гарри был не совсем уверен в этом. Однако что было делать? Альтернатива отсутствовала. Он просто скользнул в успех. Другие соскальзывают куда похуже. Скользишь туда-сюда, потом выскальзываешь. Ноги разъезжаются. И все же изъяны успеха переносить легче, чем изъяны неудач.
Впрочем, Гарри делал все возможное, чтобы не производить впечатление молодого преуспевающего адвоката. Он тщательно заботился о том, чтобы ничего не менять. Никаких костюмов, а широкие поношенные пиджаки, к тому же старая проржавевшая машина и неновая квартира. Это еще вопрос, можно ли таким образом задержать изменение вещей. Пока у него еще было достаточно времени, чтобы скептически наблюдать за собой. Лучше бы за ним наблюдала Хелена. Это было бы не так утомительно. Во всяком случае, нужно быть осторожным и не выглядеть благоденствующим, хотя ты уже на самом деле такой. Или он вовсе не был таким?
Однако когда-нибудь сопротивление станет глупостью. Почему бы не купить себе хоть машину получше? Неужели сразу превратишься в чудовище, если станешь ездить на «мерседесе» или «вольво», как ему уже давно рекомендует его советник по налогам. Что может быть плохого в новом пиджаке, и почему, собственно, костюмы так предосудительны? Что стало бы с фотоальбомами из прежних времен или старыми фильмами, не будь в них костюмов? Великолепных опустившихся детективов 30-40-х годов невозможно представить себе ни в чем другом, кроме костюмов. Несомненно, ребячеством было так противиться костюму или исправной машине. А носить галстук хоть и хуже некуда, но так же плохо и категорически избегать его носить. Словно станешь свиньей, если его наденешь.
Все это были серьезные вопросы. На них сразу не ответишь. Их следовало обсудить с Хеленой. Каким нахальством было с ее стороны удрать. Гарри взял лист бумаги и написал: «Дорогая Хелена, мне нужна консультация по имиджу. Хорошая оплата. Не хочешь ли ты поступить на это место?» Неоконченное письмо он положил в ящик стола с частными бумагами. Потом он взял с полки тома с комментариями по уголовному и строительному праву, чтобы наговорить на диктофон несколько писем. «Порядок подряда в строительстве» назывался один из комментариев. В начале красовалось посвящение издателя: «С глубокой благодарностью моей дорогой супруге, и в особенности за многолетнее терпение и снисхождение, посредством которых стало возможно это седьмое издание».
Комментарий был венцом юридической карьеры. Так далеко он не зайдет, сказал сам себе Гарри, он не будет комментировать ни порядок подряда, ни что-либо другое, или вовсе впадать в бесстыдство и посвящать такие пошлые глупости каким-нибудь возлюбленным. Он поставил книги обратно на полку. Надо выбрать специализацию. Тогда работы будет меньше. Только сначала стоит попробовать, что ему ближе. Уголовное или гражданское право и какие именно отрасли.
Вопреки всему что-то не ладилось. Что касается успеха, это больше походило на шутку. Пока еще он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы смеяться над подозрением в этаблированности. Лучше бы смеяться вместе с Хеленой. В смехе в одиночку всегда есть что-то горькое. Имиджа молодого преуспевающего адвоката, пожалуй, еще можно избежать, в отличие от правил игры в судопроизводстве. Вот недавно, один классный тип в ярости поддал ногой по машине, потому что водитель чуть не переехал его, он никогда бы не выиграл дела, хотя и имел полное право на подобное деяние. Водитель выпендрежного лимузина, разумеется, тут же подал жалобу в суд по поводу повреждения имущества. Помятая дверь. Удар ногой на 7000 марок. Оценка приведенным к присяге экспертом. Тут даже сам судья усмехнулся: такой тонкий слой металла на такой дорогой машине? И все-таки, ногами по дверям не бьют. Только если на тебя уже наехали, адвокат может дать ход делу по акту производного деяния. Или еще лучше: превышение пределов необходимой обороны. Если бы Дуквиц иногда имел возможность орудовать такими понятиями в суде, ему бы нравилась его профессия. Однако обвинитель забрал свою жалобу назад, он не хотел называть свидетельницу, сиречь свидетеля, который сидел у него в машине. Ага!
То-то и оно. Вместо того, чтобы поставить обвиняемому памятник за его замечательный поступок, вместо того, чтобы предписать водителю тридцать ударов плетью по пяткам, дело закрыли без всякого триумфа. Если бы противника не обуял идиотский страх перед расспросами его жены о спутнице в машине, тогда бы Дуквиц поспособствовал обвиняемому в его же правах. Только как? Какой судья был бы готов оправдать своего героического доверителя с обоснованием: разрешается в подобных случаях колотить ногой по двери! Но тогда и только тогда в юстиции было бы чуть больше смысла.
Итак, дело двигалось дальше с уловками и замалчиваниями, с укрываниями и отклонениями. В ход шли хитрости и увертки, упреки в формальных ошибках, поиски истины велись с помощью полуправды, без всякого интереса. Никакого блеска, никакого понятия права, никакой концепции, только эти поигрульки в разнюхиванье, ощупыванье, перерывание. Дурацкий задумчивый вид спорта для ремесленников. Студентом, стажером и асессором он имел время, чтобы подготовиться ко всей этой чуши. Но одно дело — самому приводить в движение эту бессмыслицу, а совсем другое — всего лишь знать о ней.
Он понятия не имел о том, что сами доверители могут быть исчадьем ада. Их нельзя прогнать, ведь благодаря им существуешь, а они отвратительны. Возмущенные, они приходили в качестве обвинителей, в слезах — в качестве обвиняемых. Контора славилась левацким уклоном, поэтому здесь появлялись главным образом оскорбленные, обделенные и неплатежеспособные.
Сегодня утром он защищал интересы одной кассирши, уволенной из супермаркета. Совершенно ясно, что этой бедняжке требовалась активная деятельная помощь. На заседании суда выяснилось, что она была непунктуальна, медлительна, глупа, болтлива, неуклюжа, не могла ничего запомнить, не умела считать, словом, совершенно не годилась для этой работы. Она относилась к тому типу женщин, на которых безмерно сердишься, стоя в очереди в кассу, потому что они не знают цен и из-за каждой пачки масла справляются у коллеги, а дело не движется. На нее пожаловались клиенты. Рассказ директора филиала оказался совершенно правильным. Он был справедлив. Увольнение соответствовало положению вещей — жестко, но такова жизнь. Только, к сожалению, дружелюбный директор филиала послал уведомление об увольнении не заказным письмом, и Гарри пришлось вдалбливать своей подзащитной, что она получила его только 2 января, а не 31 декабря, как это было в действительности. Дуквиц без труда добился для этой бездарной дурынды 12000 марок отступных. Ее шеф, ко всему прочему итальянец, был наказан, потому что не знал, что в таких случаях из немецкого почтового отделения отправляется немецкое заказное письмо. И ради этой дешевой победы Дуквиц выгреб у него из кармана еще 2000 марок за адвокатские услуги. Так дальше не могло продолжаться.
Однако самым большим злом были разводы. Похоже, Дуквиц обладал тайной силой притяжения того типа мужчин, которые чувствовали себя обманутыми их женами эротически и экономически.
После скольких-то лет семейного ада они не желали — еще чего! — засовывать в глотку лживой бестии половину добра, разумеется, нажитого с большим трудом.
Дуквиц неизменно кивал и думал: кто женится, сам виноват. Если дело доходило до процесса, выяснялось, что противники — соответственно противницы — очаровательнейшие создания. Его же подопечные превращались в суде в отвратительных вонючек, чего и ожидала любая разумная женщина. Почему эти женщины не приходили к нему в контору? Было ли в этом тайное противоречие: красавица-подзащитная и левацкая контора? Все же образ левацкого адвоката из левацкой конторы имел нечто романтическое. Но если следствием этой сомнительной славы оказывалось то, что на нее попадались только жалкие личности, тогда спасибо, не надо. Тогда лучше судиться без идеологии в пользу красивых женщин и пожизненно вытаскивать деньги из жмотов-мужиков. Ради красоты стоит постараться, черт подери!
Недавно в суде напротив него сидела представительница противной стороны с такими зелеными глазами, что он без возражений принял все ее доводы, от которых волосы вставали дыбом. И перед лицом этой дамы ему пришлось облачать гадкие обвинения его гнусного подопечного в юридически применимые формы. Зеленые глаза, полные нежного презрения, были устремлены на его доверителя. Вот бы она вытащила из кармана пистолет и застрелила его, подумал Дуквиц. Он тут же взял бы на себя ее защиту. Дуквиц отодвинулся от подопечного насколько было возможно, чтобы не попасть в радиус действия этого великолепного зеленоглазого презрения. Во время своих выступлений он попытался заслать противнице тайные сигналы симпатии, потом, правда, оставил свои попытки, потому что заметил, что по законам риторики это шло на пользу его подзащитному. Ему надо было бы так скверно вести защиту, чтобы противница выиграла по всем пунктам. Только она бы никогда не узнала, кого благодарить за победу. Дуквиц присутствовал бы там в роли проигравшего, а такие женщины не любят неудачников. Ее адвокат должен бы сам сказать, что она выиграла благодаря усилиям его коллеги. Потом она позвонила бы Дуквицу, чтобы поблагодарить, и Гарри сказал бы ей двусмысленное «Я вас умоляю!» Разумеется, потом он пошел бы вместе с зеленоглазой ужинать, вскоре после этого глубоко заглянул бы в ее глаза и спросил: «Скажите, пожалуйста, что во мне такого, отчего мне всегда достаются такие ужасные доверители?»
Идти в кино было уже поздно. Опять четверть десятого. Фамилия зеленоглазой была Вагнер. Вагнер — очень распространенная фамилия. Дуквиц нашел в документах ее адрес и номер телефона. Дело Вагнер. Потом он справился по телефонному справочнику. Там мирно значились рядышком те, кто уже пребывал в разводе. Зибилла и Хубертус. А где собственно живут люди после развода? Звонок Зибилле Вагнер значил бы сейчас настоящий промах. А ему хотелось совершить что-нибудь из ряда вон.
Дома Гарри принялся разглядывать свой телефон. Он не пошел ужинать. В одиночку. Невесело. За едой нужно общаться. В противном случае можно впихнуть в себя жратву и рядом с холодильником. Так он и сделал. Все-таки странно рассматривать тело как машину, просто заполнил бак и опять дальше. Вот только куда?
Хелене он звонить не будет. Она должна позвонить сама. Она же от него ушла. Кстати, нет никаких оснований для спешки. Ему еще не исполнилось тридцати.
Гарри гордился своим старым телефонным аппаратом черного цвета. Из бакелита. Въедливому прогрессу не следует давать допуска куда ни попадя. Нельзя сдаваться в борьбе против бессмысленных новшеств. Из-за них навыдумывали новые телефоны, хотя старые хороши и красивы. Тяжелая, как гантель, трубка. Вилка — это именно вилка, на которую в зависимости от ситуации трубку можно положить или швырнуть. А не укладывать ее в смехотворное углубление. Когда вращался диск с цифрами, раздавался звук, как в детективном радиоспектакле, когда вскорости должен появиться спасительный инспектор. Великолепный телефон достался ему от прежнего жильца. В трубке потрескивало. Телефонный техник хотел было заменить аппарат. «Так, сейчас вы заполучите, наконец, кое-что поновей!» — сказал он весело и достал отвертку. «Да вы с ума сошли!» — завопил Дуквиц с таким возмущением, что техник немедленно собрал свои инструменты и исчез.
Досадно, что в конторе не имелось старых черных телефонов. Но по сравнению со злосчастными клиентами это была досада постольку поскольку. Однако Гарри считал, что и телефоны небезразличны тому, кто воспринимает себя как существо рефлектирующее. Офису без черных телефонов не хватает весомости, так же как новым телефонам веса. Уж если сидишь в офисе ежедневно по многу часов, то по меньшей мере нужен телефон, за который можно прочно удержаться, а не игрушка, ускользающая прочь при наборе номера.
Когда год назад оборудовали контору, он мог высказать свое мнение. Монопольный проходимец от Зименса хотел всучить им кнопочные телефоны. Кнопочные телефоны — это новейшее изобретение. Именно тогда, летом 1974, первый экземпляр был установлен у президента страны, и вот уже наладили их серийное производство. «Об этом не может быть и речи,» — сказал Дуквиц. Он не бухгалтер, он не щелкает по цифрам. И в телефонном вопросе он настаивает на своем праве выбора, он не желает права щелка или нажима. Потом надо было принять еще одно решение, насчет цвета. Предлагались серый, зеленый и не подлежащий обсуждению оранжевый. Человек от Зименса рекомендовал зеленый. Папоротниковый. Приятный. Если не черный, тогда уж серый, таково было мнение Гарри. К чему в офисе папоротниковая зелень? К чему этот вздор? Офис — не лесная почва. Это выдумки производственных психологов и хозяйственников, которые хотели доказать председательствующим свое право на существование. Зеленый воздействует дружелюбно, говорили они, чем его больше на рабочем месте, тем прилежней работает служащий. И самое лучшее: против приятных рабочих мест даже производственный совет ничего не мог возразить.
И теперь у них в конторе все-таки зеленые телефоны, потому что когда их устанавливали, здесь были только секретарши, и они, разумеется, согласились на зеленый. Хелена однажды прервала дифирамбы Гарри его черному телефону ехидным замечанием, что как ни крути, а этот предмет напоминает ей гестапо и ставку Гитлера. «Умеешь же ты все испоганить,» — ответил Гарри.
Гарри обходился без будильника, он спал крепко и всегда просыпался отдохнувшим. Поэтому он не выносил людей, которые по утрам часами зевали и жаловались на то, что тяжело выбираться из постели. Сегодня он проснулся еще когда не было шести, сияние солнце наполняло комнату. Рубашка свежая, брюки и пиджак вчерашние. Хорошо, что он мужчина, это упрощало дело. И на улицу. Квартира была неплоха, а лестницы еще лучше. Красивые широкие деревянные лестницы из тех времен, когда дома строили не идиоты. И никакого подземного гаража, куда тебя выпихивает лифт. Майское утро. Прогулка. Вдоль реки. У тебя есть голова не плечах, и в ней кое-что. Этого достаточно, чтобы вспоминать, чтобы отключаться, чтобы воспринимать. А могло бы быть хуже. Глаза остры, волосы густы, он не шепелявит, чего еще надо.
Если не смотреть на всю эту мелочную возню, на этот гнусный круговорот, через который в одиночку доказываешь свою правоту, соответственно помогаешь своему недостойному поручителю в его незаслуженном праве, тогда приятно использовать свою голову, чтобы пускать пыль в глаза, вызывать сочувствие, смотреть в упор на судей-мужчин и судей-женщин и доводить до того, что рот у прокурора начинает двигаться как у карпа. Собственно, это и есть триумфы.
Отвратительные рясы, называемые таларом[1]. Они были еще одной причиной, чтобы отказаться от работы. С другой стороны, уже опять было почти хорошо оттого, во что превращало себя право, когда его представители наряжались, словно на карнавал. Благодаря тому, что большинство приговоров выносилось судьями в таларах, они казались ненастоящими. Не взаправду же вот такой клоун в униформе отправляет других людей на семь лет в настоящую тюрьму. Это было как-то неправдоподобно и может быть потому абсолютно переносимо.
В Америке не было таларов, но это американцам не помогло, они остались глупым народом. Не принимая во внимание блюз и джаз, не так уж много они породили. Еще парочку дюжин сладеньких шлягеров, про них нельзя забыть. И, конечно, некоторые фильмы. И песни протеста. По-настоящему хорошие песни поп-музыки всегда против чего-нибудь протестовали, если не против войны, тогда против безразличия, с которым американские обыватели одобряли военную политику своего президента, и против наивного жвачного послушания, с которым американские солдаты поджигали людей в совершенно чужих местах земли и давали поджигать себя. И вот война во Вьетнаме уже два года назад кончилась, во всяком случае на бумаге. В 73-м американеры и вправду ушли оттуда. Напалм уже стал прошлым, Хо Ши Мин — теперь лишь отзвук боевого клича демонстраций, и глубоко в мозгу засели воспоминания о нескольких жутких фотографиях. Остались пара песен Боба Дилана и Джоан Баэз, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикса и «Дорз», пара-тройка диких звуков и гитарных аккордов. Сначала они считались убийственно бунтарскими. Потом выяснилось, что бунтарский дух поп-музыкантов был или надуманным или вовсе бесцельным, ничего кроме выдумки фэнов и эйфорически настроенных журналистов. И все-таки в них было что-то очень настоящее, несмотря на замарихуаненность, потому что хотя не так давно все это происходило — протесты, сопротивление — некоторые старые песни несли в себе удивительную силу. Они выбрасывали звуки наружу настолько убедительно, что ты становился как прежде — жестким, и мягким, и гордым, и способным сопротивляться.
Гарри прошагал вдоль реки до художественного музея и повернул обратно. Пришло время встроить в машину радио с магнитофоном, пришло время вернуться к игре на трубе. И еще нужно было отремонтировать проигрыватель.
Если верно то, что разбойничья политика будит к жизни причудливую музыку, тогда удивительно, что во времена нацистов не родился популярный музыкальный протест. Почему никому из музыкантов-изгоев не пришо в голову пересочинить слащавую «Лили Марлен» в фуриозную песню, в которой покусительница мечтает отправить на воздух всю банду нацистов? Вот так, в деталях:
У ворот барака, в свете фонаря Гитлера-собаку, встретил я не зря: как хорошо у этих стен ему в лицо пальнуть свинцом ради Лили Марлен, ради Лили Марлен.[2]Музыкальное видение справедливого покушения. И все это парафразируется убийственно-чувственным звучанием трубы. А потом с этим зонгом через БиБиСи в окопы. Почему такая музыка не появилась ни во время войны, ни после? Сопротивление было малодейственным занятием офицеров и коммунистов, а осмысление прошлого — занятием по обязанности ораторов и интеллектуалов. У историков и психоаналитиков наготове огромное количество объяснений происшедшему в немецкой истории. Но чего действительно не хватало — так это парочки грандиозных зонгов, которые хотел слушать и мог насвистывать каждый, зонгов, которые с яростью, обращенной назад, взывали против национал-социализма и мощью своих ритмов разбили бы целое прошлое.
Гарри подумал о своей трубе, о школьной джаз-банде и о том, что здесь, во Франкфурте, еще не поздно тоже против чего-нибудь сыграть. West End Blues у него еще получится. Во всяком случае, контора, контора и только контора, так дальше не может продолжаться.
Недалеко от его квартиры была маленькая булочная, которая открывалась уже в семь утра.
Он завтракал здесь почти всегда, и каждый раз боролся сам с собой, не заговорить ли с продавщицей. Вы свободны сегодня вечером? Каждое утро он ее любил. Но он был достаточно взрослым, чтобы понимать, что это бессмысленно. Эта любовь срабатывала только в кофейне-булочной или в теплые весенние дни, как сегодня, когда столики стояли на тротуаре.
Карола. Разумеется, он ее Каролой не называл и не выкрикивал ее имени. Он ее вообще не звал. Он скромно поднимал палец, когда хотел заплатить или сделать заказ. Каждое утро одно и то же. Кофе и булочка с маслом. Он любил Каролу еще и за то, что она не спрашивала «Как всегда?» и не приносила ему, как постоянному посетителю, одно и то же. Нет, каждое утро она подходила к нему и улыбалась, словно ожидая особенного заказа. И он говорил: «Кофейник доверху и булку с маслом.»
Гарри не любил слова «кофейничек». Это загородный ресторан. Сказать «кофейничек» было так же скверно, как спросить кого-нибудь, чего он ждет от жизни. Поэтому он говорил «кофейник». И слово «булочка» он не любил. Он говорил «булка», как южные немцы. Гарри вырос в южной Германии. Северная Бавария, подножие Альп, чудесно. От такого детства не откажешься. Там говорили «булка» и смеялись над тем, кто называл ее «булочка». Пруссаки. Хорошо сейчас сидеть во Франкфурте, имея прусское происхождение и называя булочку булкой. Во всем этом Гарри был доволен своей жизнью.
Карола терпеливо сносила его желание отказа от россказней про «булочки» и «кофейнички». Если она была в хорошем настроении, она говорила не без иронии: «Вот ваш кофейник и ваша булка». Сегодня она опять так сказала. Секунду они заговорщически смотрели друг на друга, и Гарри спросил себя, не попробовать ли. Гарри и девушка из булочной. Если бы на нем не висел этот абсурд с титулом. Покажи-ка свой паспорт, скажет она в быстро ставшем реальностью путешествии в Венецию или Париж. «Доктор Гарри Фрайхерр фон Дуквиц». Смех да и только. Раньше было сословное чванство. С этим покончено. Сегодня другие преграды.
Целоваться, нежиться, заниматься любовью, молчать — отлично. Еще в кино хорошо ходить, но критическим может оказаться уже один стакан пива или бокал вина потом. Куда после этого со всеми ассоциациями? Это еще вопрос, понравятся ли Кароле его наблюдения. И весьма слабо представляемо пойти с нею в музей и смотреть там старые полотна. Разумеется, в хорошую погоду, когда в здании пусто. Может быть, она пойдет, может быть, она проявит интерес и любопытство, но потом он чего доброго начнет ее поучать. Мерзость какая. В картинные галереи можно ходить только в одиночку. Или с Хеленой. Молча мимо всего современного искусства. Замечательно, не удостоив и взглядом весь этот хлам, зная, что он ни на что не годится. С высоким чувством, что ты не попал впросак оттого, что директора музеев и критики искусства дозволяют себе вкручивать. И потом поспешить к старым мастерам. И здесь тоже нельзя быть падким на все подряд, тут достаточно дешевой чепухи. Только никакого благоговения, а хихикая над плохо нарисованными фигурами, над смехотворными сценами из мифов, над христианской чушью, над убогими святыми. То, что ему больше всего нравилось, удавалось старым мастерам между делом: подоконник с полотенцем и вазой на нем, собачонка в уголке, и позади голубеют горы у горизонта — край земли. То, что казалось им самым неважным, стало сегодня лучшим. Здесь нечего объяснять.
Такой была жизнь с Хеленой. Словно волна. Несколько лет все-таки. Студенчествовать значило иметь время. Раз в году пашешь в поте лица, а потом у тебя опять много времени. Хелена изучала то одно, то другое. Языки, театроведение и прежде всего искусство. Спали вместе. Говорили и занимались любовью, ели и пили. Денег было немного, но их хватало. Ходили в кино. Ходили на выставки. Слушали пластинки. В возрасте чуть за 20 считали себя уже слишком старыми для посещения поп-концертов. Не могли себе представить, как это будет — когда заимеешь профессию и надо будет зарабатывать деньги. Откуда-то они всегда появлялись, чтобы наполнить бак. Сколько стоил бензин до кризиса в 73-м? Меньше 60 пфеннигов? Гарри получал пенсию. Пенсию ребенка, осиротевшего во время войны. Родители умерли. Он их не знал. Ничего страшного. Хотя Хелена была другого мнения: «В подобной ситуации нельзя стать нормальным. Если ты растешь без матери, без невроза не обойдешься!»
Гарри рассказывал ей о своих тетушках. Вилла Хуберта. Прекрасное детство у подножья Альп, вблизи австрийской границы. Время от времени в Зальцбург за шоколадом, и кажешься себе контрабандистом. Позже 80-градусный ром, и надежда, что от него не станешь импотентом, как некоторые говорят.
Одна тетушка подарила Гарри на день рождения в октябре 66-го (ему исполнилось 21) старый мотоцикл, от которого он был в восторге еще ребенком. Мотоцикл принадлежал одному теткиному любовнику, не вернувшемуся с войны. На мотоцикле он был королем, а Хелена — королевой. Два огромных цилиндра справа и слева. Оппозитный двигатель. Низкое рычанье. Неизбежные починки. Торговец запчастями был важнее, чем университет. Он был так же важен, как демонстрации против войны американеров во Вьетнаме.
Гарри в то время несколько семестров учился в Берлине. Чтобы не ходить в армию. Бундесвер, идти в Бунд, сидеть на пайке — уже от этих выражений его тянуло блевать. Отказ от военной службы, отказ от призыва в армию, все словеса, об этом не могло быть и речи. Избежать комиссии, подлавливавшей на злокозненных вопросах, было невозможно. Кстати, долгие месяцы ухода за больными тоже не были альтернативой.
Его, должно быть, зачали в Берлине, если все шло нормально. Как только можно было в то время прийти к мысли заниматься любовью, оставалось загадкой. Его отец был врачом в берлинской больнице. Наверняка, не член партии[3]. Тетки позже клялись ему в этом. В начале февраля 1945-го он погиб во время одной из самых сильных бомбежек. 3000 тонн бомб, 22000 убитых. Предположительно, до этого он зачал Гарри. Может, даже, в день смерти. Потому что Гарри появился на свет в Берлине в мирный октябрь.
В 1946-м родился Фриц, его приемный брат — непостижимое желание жизни у матери. Она умерла при родах. Фриц рос в Рейнланде у приемных родителей. Гарри отправили в Баварию к теткам. Забота лучше не бывает. Зимой горы снега, летом — пышные луга.
Воспоминания о детстве притушили очарование Каролы. Гарри снял с крючка газету. 16 мая 1975 года. Кобыле по имени «Халла» исполнилось 30 лет. Невероятно. Лошадь, а на полгода старше его. В 1956-м героический наездник Винклер, несмотря на разрыв мускулов живота, завоевал с Халлой золотую медаль. Тогда — большая тема для разговоров. «Сильно, парень,» — сказала тетка Фрида, которая раньше тоже наездничала. Похоже, как черт. До войны. Причем, до первой. Другая тетка Урзула. Она повышала свой сильный прокуренный голос. «Идиот!» — кричала она. — «Дерьмовый Сталинград! Позиция выдержки!» Тетка Хуберта добавляла: «Сам виноват, чванистый болван!» Молчание тетки Фриды перевешивало. Одноклассники Гарри и классный руководитель были склонны к уважительным объяснениям а la тетка Фрида. И Гарри, который больше держался мнения тетки Урзулы, нравился сам себе, обзывая прославленного победителя засранцем и самодовольным идиотом. В свои десять лет Гарри отчетливо ощущал, как импонируют другим его ругательства. Ругаться он научился от теток. Они были исключительно графини и баронессы, а говорили только о засранцах, стервецах, негодяях, кретинах, дураках и трусах.
Карола рассчитывала за соседним столиком. Пока гость отрывался от стула и искал в заднем кармане брюк кошелек, Карола независимо стояла с большим портмоне рядом с ним и без определенной цели глядела вдоль улицы, насколько хватало взгляда. Стоит начинать, подумал Гарри, только с женщинами, с которыми чувствуешь себя более или менее уверенно, так что после второго номера с ними, если больше ничего пока что не выходит, можно целый час сплетничать, например, о глупости наездника, о живодерстве и об отвратительности наезднических сапог и шпор.
Через несколько дней, писали газеты, в Штуттгарте начнется процесс над террористами из RAF[4]. Гарри было горько оттого, что он не успел объявиться там в качестве адвоката. Выступить против этих собак государственных прокуроров — это бы его удовлетворило. И подзащитными были бы те, кого ему хотелось защищать. Как они были правы, говоря о «государстве свиней»[5]. Содержание в изоляции, высокая надежность[6]. А старым нацистам позволительно гулять на свободе.
Дуквиц расплатился. В своем гневе он не улыбнулся Кароле. Нельзя обращаться с горсткой делавших важное дело, которым стоит вменять во благо, что они в своей вере в лучшее общество палили направо и налево, как с буйно помешанными, в то время как массовые убийцы из концлагерей разгуливают на свободе и продолжают быть судьями государственной службы, выносившими во времена наци жутчайшие приговоры. Факт известный, известный, ничего не поделаешь. Однако произносить темпераментные речи в суде было бы бессмыслицей. Судья и госпрокурор начнут зевать. Только журналисты левацкой прессы, понятия не имеющие о судопроизводстве, будут записывать эти популярные указания в свои сообщения из сала суда. И Хелена при случае прочтет о нем в газете. Адвокат Дуквиц продолжает вызывать в суд новых свидетелей. Судья такой-то по ходатайству адвоката Дуквица исключен за предубежденность. Может быть, Хелена будет сидеть среди слушателей во время заключительной речи, срочно прибыв из своего странного северо-английского университета, куда она, глазом не моргнув, поступила на преподавательскую работу. «Я думаю, что разлука пойдет нам на пользу,» — сказала. она. Не заметил ли Гарри, что они оба уже давно живут вместе лишь постольку поскольку.
Нет, он этого не заметил. И, кстати, ему казалось, что жить вместе постольку поскольку не так уж плохо.
«Огромное спасибо,» — сказала Хелена, — «но не со мной.» И потом ушла от него. Увы, не без замечания: «У тебя своя жизнь, а у меня своя.» Что за уродская фраза под занавес многолетней истории.
Гарри пошел к своей машине. «Жук»-ФВ. Разумеется, ничего новомодного. Раньше Хелена все время мечтала о «Жуке-Кабрио». Может быть, сегодня они бы все еще из-за этого спорили. Для чего Гарри работать и столько зарабатывать, если он ни разу не обзаводился приличной машиной? Не выпендривайся, на кой тебе «кабрио»? Слишком шикарно, считал Гарри. Молодой адвокат, с шумом приезжающий на «кабрио». Нет, благодарствуйте. Абсолютно неправдоподобно. Гарри сам себе казался совершенно неправдоподобным, но в другом смысле.
Больше всего ему хотелось приезжать в контору на мотоцикле. Но он стеснялся. Между тем, об этом писали — многие врачи, предприниматели и адвокаты ездили на работу на мотоциклах. Даже жирные премьер-министры принимали в подарок мотоциклы, усаживались на них и, походя при этом на жуков-навозников, разъезжали круг за кругом. Несколько лет назад это было непривычно, убого, по-пенсионерски, и вот вдруг стало модно. Народ при езде толпами бился до смерти или полусмерти, а страховка дорожала. Гарри ждал, пока эта мода не кончится.
Солнечное, теплое, сухое утро начала лета — а машина не заводилась. Она была самой новой. Но что толку, если не умеешь расставаться со старыми вещами. Если бы Гарри состоял в ADAC[7], ему бы сейчас помогла аварийная служба. Но Клуб автомобилистов был, понятное дело, мафией. Если нормальный шофер уже самое распоследнее, а что же тогда клуб, объединявший миллионы ему подобных.
Половина восьмого. В девять у него была встреча в суде. Путь пешком до офиса займет 20 минут, через реку, мимо ратуши — и он уже на месте. Вопрос только в том, по какому мосту перейти Майн. С автомобильным движением или по старой «Железной тропе». Это были реальные решения. Бытие определяет сознание, и мост, по которому идешь, определяет настроение. Пешеходный мост способствует скорее созерцательному состоянию духа. Гарри считал, что у него на душе и так уже чересчур созерцательно, и выбрал шумный, заполненнный транспортом мост. Ненавидя, испытывая отвращение к ухаживающим, лелеющим и разбирающимся в машинах немецким выродкам, он не имел ничего против утренних машин и их запаха. Пусть не на пользу здоровью и все-таки — это примета жизни и движения. В лишенных машин безмолвных уголках старого города есть что-то мертвое.
Около восьми он был в конторе. Секретарши еще не приходили. Вчера последний, сегодня первый. Так не годится.
Дуквиц сосредоточился на деле, разбирательство которого назначалось на девять утра. Некий строитель судился с фирмой, устанавливающей электрооборудование. Неправильно поставленные розетки. Следовало опасаться, что под фирмой-виновником подразумевалась небольшая безобидная ремесленная артель, в которой неточно восприняли должное, и Дуквицу придется разбирать по косточкам милую небрежность, поскольку эта строительная сволочь не желает оплачивать наценку за исправление дефектов. Зачем ему, в таком случае, вообще строить?
Послышался шум, сначала на лестнице, потом у дверей. Брякнули ключи, и в прихожей кто-то заговорил. Это были самая симпатичная секретарша и девушка-стажер. Дуквиц хорошо слышал их через неплотно прикрытую дверь. «Сплошное притворство напоказ, — сказала секретарша, — поверьте мне, это бессредечный тип.» Дуквиц представил себе хама из дискотеки, безуспешно пытавшегося вчера вечером снять одну из девчонок. Он услышал, что роются в сумочке, потом все стихло, наверное, подкрашивали губы. Затем началaсь обязательная возня с кофеваркой.
«А как он был вчера одет!» — сказала стажер.
Дуквиц предствил себе этих ухмыляющихся юнцов, которые рекламировали безналичный расчет.
— Позавчерашняя рубашка, — сказала секретарша.
— Вы все-таки преувеличиваете, — отозвалась стажер.
— Я не слепая!
— Что, от него уже пахнет?
— Этого еще не хватало!
Сомнений почти не оставалось — они говорили о нем. Насчет рубашек секретарша правильно заметила. Надо же, на что они обращают внимание. Секретарша принялась усаживаться на рабочее место, девушка-стажер, безобидное лояльное создание, удалилась в свой кабинет. Кофеварка тихонько заурчала-забулькала, похоже, их беседа закончилась. И тут стажер крикнула из своего офиса:
— Меня рассердило, что он не был на нашей последней экскурсии.
«И ты туда же,» — подумал Дуквиц.
Секретарша шумно налила себе кофе, помешала его и сказала:
— Думаете, он хоть раз за все эти месяцы поинтересовался тем, как идут мои дела? — Она отпила глоток. — У него в голове только его собственнная карьера. Не выношу таких мужиков.
Глава 2
Как Дуквиц обнародует свое решение поступить на дипломатическую службу, как он сдает для этого разные экзамены и вскоре начинает ценить преимущества нового жизненного пути.
Как-то раз у него задрался ноготь, который он слишком сильно и неровно подрезал. Те времена, когда можно было не спеша полировать себе ногти, уже прошли. В этот момент Гарри вспомнил школу. На вопрос учителя, что происходило на Венском конгрессе, один его одноклассник ответил: «Там посиживали себе несколько дипломатов, полируя ногти. Вот и все.» Это милая картинка врезалась ему в память. А потом он вспомнил про визит консультанта по профессии незадолго до абитуриентских экзаменов. Гарри понятия не имел, что ему изучать, потому что жизнь не имела смысла, и консультант сказал, что в данных обстоятельствах и с его именем он рекомендует Гарри пойти по дипломатической линии.
Вспомнив обо всем этом, Гарри забавы ради позвонил в Бонн, в министерство иностранных дел и попросил выслать ему информацинные материалы. Он просмотрел брошюру под названием «Указания для поступающих на дипломатическую службу». Опять же, забавы ради он заполнил анкету. Это произошло в рядовой рабочий день, полный рутины, похожий на многие в последнее время. Он зарабатывал деньги, не зная, куда их употребить. Он так и не отнес свой проигрыватель в ремонт, так и не поставил в свой старый «Жук» радио с кассетником. Он по-прежнему завтракал в булочной, а Хелена оставалась в Северной Англии. Бездействие становилось угрожающим, и не сулило никаких перемен.
Чуть позже он получил уведомление о том, что ему необходимо явиться 12 сентября 1976 года во Франкфурт на письменный экзамен. Гарри любил экзамены. Они всегда ему легко давались. На сей раз особенно приятно было чувствовать необязательность появления на экзамене, просто по прихоти, как если бы он купил лотерейный билетик, по которому выиграть было нечего или почти нечего. В конторе он никому ничего не сказал.
Потом он быстро узнал, что выдержал письменный экзамен. Он, по-видимому, хорошо справился с прямым и обратным переводом французских и английских текстов о политике гибких цен и французской атомной бомбе. И вздор об отношениях между Китаем и Советским Союзом, который он нес в ответ на одну из тем сочинениий, кажется, тоже никого не задел. А вот экзаменационную анкету было нелегко заполнять. «Обоснуйте, почему Немецкий Рейх не был ликвидирован как субъект публичного права?» — это еще туда-сюда. Но потом: «Назовите четыре темы, которые дебатировались на международной конференции по морскому праву.» Или: «С помощью какого инструментария Европейское Сообщество защищает аграрные рынки от проникновения дешевого импорта?» Это было скверно. Однако, даже если в конторе у Дуквица не было времени, он все-таки успевал читать газеты. Он читал основательно и хорошо запоминал. Таким образом, он был проинформирован о вещах, которые его особо не интересовали. И поскольку он ко всему прочему знал, кто такие Пауль Клее и Карл Ясперс, кто сочинил «Четыре времени года» и «Cosi fan tutti», он набрал больше баллов, чем требовалось.
В целом, в этом году письменный экзамен сдавали 300 человек, 100 из них выдержали, как ему сообщили. Будьте любезны явиться на второй этап, коллоквиум, в Центр Обучения и Развития министерства иностранных дел в Иппендорфе. Там будет проходить дальнейший отбор на основе «полной и дифференцированной картины индивидуальности и интеллектуальных способностей поступающих», после чего «министру иностранных дел», так напыщенно называли они своего министра, будет рекомендована для поступления на службу элита из 30–40 человек.
Оба его коллеги по работе не могли поверить, когда Дуквиц посвятил их в свои планы. «Ты чокнулся!» Все остальное еще туда-сюда, но дипломатическая служба — ничего хуже быть не может. В эту лавочку! К этим пижонам! Гарри взглянул на секретаршу, которая так придиралась к нему за глаза, которой так не хватало его коллегиального рвения. Похоже, даже она сожалела о его уходе.
Когда коллеги заметили, что намерения его серьезны, они попытались прибегнуть к другим средствам. Контора не может от него отказаться. Его понимание сути дел. Он — жемчужина среди адвокатов, коею непозволительно метать перед свиньями дипломатического ведомства.
Они еще некоторое время спорили с ним, приводя его же аргументы против его решения. Но ему не хотелось дискуссий. Не хотелось их обижать. Что же до его прежнего раздражения по поводу таких понятий как достижение и честолюбие, это его коллег не касается.
Он сказал лишь:
— Другие отправляются в Индию к разным гуру, а я все-таки пойду в министерство иностранных дел.
— А как насчет легиона наемников? — спросил один из коллег.
— Лучше поиграть в представителя этой странной демократической республики Германии, чем дальше защищать в суде своенравных подопечных, — ответил Дуквиц. Впрочем, еще ничего не решено.
Устная часть коллоквиума была рассчитана на несколько дней. Он поехал поездом в Бонн. В дороге у него было время обдумать свое странное заигрывание с дипломатической карьерой. В конце концов, наметилась решающая перемена в жизни. Или это все-таки тетки, которым он, в силу отсутствия отца, хотел что-то доказать? Подобные психоанатилические вопросы были, собственно говоря, особенностью Хелены. Или, чего доброго, это было, при всей его бедности, отмеченное-таки феодальными следами детство, которое сейчас дало о себе знать? Или он больше связывал с именем Фрайхерр фон Дуквиц чуть декадентского дипломата, чем убогого адвоката? Едва ли поверишь, что его воспитание оставило за собой нечто от подобных представлений, а впрочем, это все равно. Если что-то утомляло, так это поездка, и Дуквиц задремал в своем купе.
Такси покинуло столицу, и на подъезде к «Центру Образования и Развития министерства иностранных дел» в Иппендорфе у Дуквица на душе заскребли кошки. Можно избегать людей, которых не любишь, однако с архитектурой сложнее. Помимо расположения на периферии само угловатое бетонное сооружение в его жуткой мешанине из стилистических элементов 50-х и 60-х годов вызывало самые отвратительные ассоциации. Такие по злобе слепленные гигантские бунгало могли служить прибежищем фанатикам-иезуитам, или ярко-розовым мальчуганам из колледжей Коннектикута, или штабным офицерам НАТО, или предприимчивым выпускникам какой-нибудь трансцендентальной менеджерской школы. Пустые парковые пространства с беспомощными растениями, наружные стены здания покрыты дождевыми потеками с темными водяными кляксами. Не хватало только красной надписи, сделанной из пульверизатора: «Вы покидаете Западный сектор.»
В приветственной речи руководитель обучения увлеченно говорил об этом наконец-то выстроенном здании. Годами дипломатическая элита получала образование в недостойных их бараках, теперь с этим покончено. К тому же, теперь здесь будут учиться привилегированные служащие, «то есть те господа, пардон, дамы и господа, которые приходят к нам после выпускных экзаменов, не пройдя университетского курса, а позже в консульствах и самом министерстве становятся их обычной частью.» В наше время следует устранять преграды и предубеждения.
Система приема была для Дуквица поучительной. Он окончательно понял то, о чем, глядя на громаду-бунгало, лишь подозревал, и то, что за пять дней нашло подтверждение в форме безвкусных галстуков и кисловатой напускной приветливости: здесь боязливо избегают даже намека на то, что обыкновенно понимается под дипломатией.
Вельможное поведение, футляры для сигарет, флирт с немногочисленными поступающими другого пола в стиле фильмов Любича и специально заказанное «Пикколо» к совместному обеду — все это было неуместно. Поощрялись уверенное скромное поведение, неброская одежда и послушный ум, заполненный политологическими, этническими, историческими и народнохозяйственными знаниями, желателен был тип деятельного активиста, какого обычно ищут директора отделов кадров всех крупных фирм, здоровые, готовые работать в качестве заместителей, ну может быть не столь жесткие как в «Эссо» или «Хехсте». Бестактным образом от поступающих не утаивалось, что работники высшего класса здесь редкость, поскольку их — увы! — забирают промышленность или крупные банки. Как и следовало ожидать, все чувствовали себя здесь незначительными, принадлежащими ко второму сорту. Прежде всего, это относилось к лишенным мест учителям французского, английского и истории, которые из-за непредсказуемого переизбытка преподавателей отважно взяли курс на дипломатическую карьеру, и теперь смущенно елозили на стульях.
Дуквицу тоже было нелегко. Благодаря своей аристократической фамилии и юридическому образованию, он соответствовал именно тем клишированным представлениям о дипломате, от которых министерство иностранных дел как раз хотело избавиться. В различных разговорах ему все же удалось серьезно убедить собеседников в том, что он считает дипломатическую службу «принадлежащей исключительно к сфере обслуживания». «Не только», — улыбаясь, вставил руководитель курса в его образцово-показательный ответ, ему абсолютно ясно, что в наше время имеют значение не бокалы с коктейлями, а кое-что другое. Вопреки некоторым очень умным ответам, Дуквиц не был уверен в благоприятности своего положения. Ситуация постепенно становилась захватывающей.
Замечательными экземплярами среди поступающих были один агроном в джинсово-кроссовочном облачении и один бородатый молодец, отказавшийся от службы в армии. Поскольку дипломатическое ведомство могло продемонстрировать свою терпимость и открытость на этих экзотических примерах, было ясно, что оба войдут в число принятых.
Дуквицу удалось, наконец, во время одной открытой дисскуссии отвести от себя предвзятое мнение, лежавшее на нем тяжким грузом. Тема была с оскоминой — американская интервенция во Вьетнаме, и разговор не клеился, поскольку все, похоже, держались одного и того же мнения, что это вмешательство в государственном и демократическом аспектах, не говоря уже о моральном, было абсолютно правильным. Дискуссия замерла, агроном, который должен был играть роль зачинателя, потел. Он забросил в ряды участников заковыристую приманку: не может ли военная интервенция все-таки иметь какие-то недостатки, и с извиняющимся видом покосился в сторону экзаменационной комиссии, сидевшей в последнем ряду зала. Никто не клюнул. Тогда Дуквиц набрался духу и прошелся насчет Никсона. Он увидел перед собой кухню жилищной коммуны и заговорил яростными фразами Хелены. «Мы все-таки не можем, — заключил он, — заниматься ограниченным толкованием международного права там, где речь идет о вещах, эмоционально осуждаемых населением. Сила эмоций вынуждает нас говорить о них, а не об абстрактном праве!»
Наконец-то в дискуссию вдохнули жизнь, аргументы Дуквица были взяты за основу, но при этом размышляли над тем, что нельзя забывать о равновесии сил, а уклонист сказал, что он всегда будет выступать за свободный Запад, а именно без насилия и оружия. Каждый обращал на себя внимание, каждый должен был сейчас доказать психологу и руководителю курса свои дух и жизнеспособность, каждый на одну, две, три минуты превращался в министра иностранных дел, в канцлера федерации. Однако до Дуквица в тот день им всем было далеко. В заключение психолог похвалил Дуквица за мужество и искусное умение в подходящий момент взять на себя руководство дискуссией, а руководитель курса, ухмыляясь, пригрозил: «Мы надеемся, что на самом деле вы не придерживаетесь предложенной вами точки зрения.»
После экскурсии в абсурдный круг проверки на пригодность к обучению Дуквиц вернулся во Франкфурт. Несколько процессов, которые он еще провел, доконали его окончательно. Как бы по-детски ни вели себя новоиспеченные и еще не испеченные дипломаты в Бонне, его все больше и больше привлекала возможность проникновения в этот чужой мир.
В период обучения ты называешься «атташе». Бойкое словцо находилось в странном противоречии с пластмассовыми стульями в большой аудитории, где проходили лекции по юриспруденции, международному праву и иностранным языкам. У каждого была своя комната в здании Центра Обучения, не исключая семейных людей, которые однако чаще жили дома, если в семьях возникали проблемы. Когда госсекретарь министерства иностранных дел приезжал в Иппендорф поболтать на часок, даже агроном надевал свой костюм.
Большинство атташе были люди, измерявшие свою отвагу длиной бакенбардов. Даже в то время, когда бакенбарды некоторых председателей партий отличались изрядной клочковатостью, среди атташе царил неписаный закон: не ниже мочек ушей. Это было вульгарно. В то время когда свободный мир разговаривал о клиторах, в Иппендорфе общались на тему мочек ушей. А высшим проявлением оригинальности оказалось то, что во время летнего праздника в Бад-Годесберге один атташе в полночь прямо в смокинге прыгнул в бассейн. От подобного уровня Гарри без труда держался подальше.
Разумеется, в это время Дуквиц поддерживал контакт с Хеленой в Северной Англии. Время от времени письмами, почтовыми открытками, телефонными переговорами. Однажды они повидались, Хелена оказалась здесь проездом в Южную Францию, она получила в Авиньоне лучшее место в фирме, занимающейся подготовкой праздничных увеселений. Встреча прошла вяло. Гарри вооружился против хелениных выпадов, он был готов к беспорядочным обвинениям. Не сошел ли он с ума, если пошел в эту хамскую лавочку. Он разработал стратегию защиты и был разочарован, что со стороны Хелены никакого нападения не последовало. Она нашла эту затею несколько странноватой, но не более. «Идеальных профессий не бывает,» — сказала она, прежде чем скрыться в авиньонском направлении.
Гарри и не думал прекращать пение дифирамбов блаженству безответственности. Ибо это ему действительно нравилось до глубины души. Вся говорильня преподавателей и руководителя курса о важности и значимости дипломатической работы могла убедить разве что полоумного. Было абсолютно ясно, что эти разговоры доказывали ее незначительность. Подобной болтовней о колоссальной ответственности дипломатов они только хотели затушевать то, насколько мала была ответственность на самом деле. И как раз это было хорошо. Он нес ответственность, будучи адвокатом, и это обременяло.
Гарри наслаждался целый год. Конечно, абсурдным было существование в условиях, похожих на годовые курсы повышения квалификации в выходные, однако, что приятно, не нужно было ни о чем беспокоиться. Наконец-то у него появилось время. Он отдал в починку проигрыватель и стал слушать старую музыку. С начала 70-х не появилось, в сущности, ничего нового. Ничто из того, что родилось в поп-музыке за последние годы, не заслуживало внимания. 30 процентов ненужных отходов, 70 процентов чистого свинства. Соотношение наконец прояснилось.
Время от времени он почитывал старый роман, курсы французского и английского доставляли ему удовольствие, между делом он поучивал испанский. Иногда встречался со своим братом Фрицем, поэтом. Хотя тот жил в Кельне, виделись они редко. Братья не слишком много могли сказать друг другу. У Гарри просто не было никакого желания проявлять интерес к тем вещам. которые сочинял Фриц.
Фриц нашел решение Гарри не таким уж неразумным. Гарри сперва подумал, что Фриц его дурачит. Нет, с чего бы это, сказал Фриц, ведь быть дипломатом неплохо. Многие дипломаты были поэтами и наоборот, здесь должна быть какая-то связь. Кроме того, Фриц считал красивым слово «чужеземный», то, что в нем заключалось, было почти достойно стихотворения. Если приходишь из чужих земель, тогда ты нездешний. Чужеземец — это великолепная символическая фигура, так сказать, не слишком патетический вариант затасканного «аутсайдера».
Непосредственно после этого комментария Фриц, как водится, тут же удалился, а Гарри улегся в постель в детской спаленке Центра Обучения в Иппендорфе, и его вдруг охватило нечто сродни братскому чувству. Может, ему действительно требовалось ощущение чужеземного обстояния для хорошего самочувствия? Уже в школе было приятно ощущать себя так называемым экстерном. Нездешний. Единственной гимназией вблизи от виллы Хуберта был интернат. 200 изолированных учеников, и Гарри единственный, кому после уроков разрешалось уходить домой. Его не загоняли в постель, не принуждали съедать все до крошки, его поглощала свобода.
Может быть, потому он чувствовал себя на адвокатском поприще так неудобно, что не мог исчезнуть. Надо было все время находиться в тылу у своих подопечных. А сейчас его поглотит деятельность, от которой он может получать выгоду и которую с чистым сердцем не будет воспринимать серьезно. Он расцвел. Ожидаемые от Дуквица достижения были для него парой пустяков. Чувство превосходства над вещами было бесподобным. Истинной роскошью были не деньги, а возможность предаваться своим идеям. И поводов для этого имелось предостаточно.
Он написал Хелене в Авиньон открытку: «Бонн — это моя Индия. Здесь я нахожу просветление.» Маркс был совершенно не прав в своей бесконечной хуле отчужденного труда. Как раз наоборот, неотчужденный труд ведет к оглуплению. «Хелена, — написал он, — посмотри, пожалуйста, на менеджеров, адвокатов, имеющих успех, тупых, как пули думдум. И чем они занимаются? Они с жадностью реалируются в своем неотчужденном труде.»
Хелена прислала ему в ответ открытку с прекрасной бесстыдной цитатой, к сожалению без ссылки на источник: «Мое бескультурье многосторонне.» Гарри повесил открытку над кроватью.
Когда срок обучения подошел к концу, и предстояло первое распределение, работник отдела кадров спросил: «Куда вы хотите?»
Дуквиц покачал головой: «Все равно куда, лишь бы подальше.»
«Если бы со всеми было так просто!»
За неделю до отъезда Дуквиц узнал, что что его направляют секретарем посольства по экономическим и правовым вопросам в столицу Камеруна Яунде.
«Уж там вы справитесь,» — сказал ему кто-то.
Глава 3
Как Гарри фон Дуквиц осрамился за едой в посольстве камерунской столицы Яунде, и как на него обиделись исключительно те люди, от которых он меньше всего ожидал подобного. Как он отказался подать одной даме зажигалку, и насколько неважно для него распространение немецкой культуры за границей. Кроме этого, некоторые неожиданные выводы о смысле религий, о церковных колокольнях и пирамидах и художественной ценности картинок Занеллы. Далее еще немного о его коллеге Хеннерсдорффе, о преимуществах иерархии, а также кое-какие воспоминания о старой подруге Хелене, и как Дуквицу, в конце концов, пришлось защищаться от подозрений в тривиальности.
Для немецкого посольства в Яунде визит боннского депутата послужил поводом к торжественному обеду. Депутат путешествовал в сопровождении полной дамы, которая должна была оживить деятельность Гёте-институтов. Ее, в свою очередь, сопровождал другой мужчина, как говорили, значительная величина в литературоведении, выглядевший однако подозрительно поджарым и жилистым. Гарри фон Дуквиц, советник и третье лицо в посольстве, сидел рядом с гётевской дамой и спрашивал себя, почему нужно носить платье, отделанное рюшками, словно у девчушки из деревенской слободы, исключительно здесь, в Африке, платье, которое в любом уголке земли будет производить впечатление нездешности и неблагоприятно подчеркивать полноту фигуры. Однако не обращая внимания на это заблуждение во вкусе, с ней можно было славно поболтать. Легкий венский оттенок в ее произношении отдавал в общении на прусское ухо Дуквица обманным глянцем прошедшей эпохи.
Дуквиц галантно отсоветовал гётевской даме посещение африканского фольклорного мероприятия, когда наступило время десерта. Участники обеда один за другим отклоняли назад спины, как птицы шеи, уступая место рукам чернокожих официантов. Подавали клубнику со взбитыми сливками, ничего особенного, но здесь, в далеком Камеруне, все же словно бы привет с родины, который сидевшие за столом среднеевропейцы восприняли с детской радостью.
После того, как Дуквиц проглотил первую ложку лакомства, его подвижное лицо на секунду окаменело. Соседка справа подарила ему полную ожидания улыбку, ибо после того как сладкий кусочек был проглочен, а рот свободен для разговора, подобная мимика сулила новое красное словцо остроумного дипломата. Но вместо этого из беззвучного рта Дуквица, словно лава, обратно на тарелку вылилась непроглоченная еда, что возможным образом осталось бы незамеченным, не сделай он это так громко, что произведенный шум заставил остальных участников обеда насторожиться. «Засранцы!» — воскликнул Гарри, и все глаза устремились на него. Оба министра и их жены наверняка решили, что Дуквиц собирается произнести речь, они отложили ножи и вилки в сторону, вытерли рты и с вежливым вниманием облокотились на стульях. «Фасованное дерьмо! Дрянь полуфабрикатная!» — продолжал Дуквиц рассерженно. — «Не иначе как опять этот доктор Оэткер!» Он был, действительно, самым последним из тех, кто оплакивал прежние времена, когда заокеанские посольства снабжались доставляемыми по воздуху хельголандскими омарами и свежей клубникой. На смену мерзкой мании величия прошлого пришла не менее отвратительная идеология полуфабрикатов и быстрого питания. Ни один нормальный человек не в состоянии съесть этот пудинг.
Четверка камерунских правительственных чиновников, должно быть, не поняла ни единого слова. В 1916 году Камерун покинули последние немецкие колонисты. Теперь лишь несколько дряхлых стариков разговаривали по-немецки, раньше они подавали холодные напитки господам из Бибераха и Бреслау и сегодня грезили о прежних временах, поскольку за шесть десятилетий вновь окрепло чувство человеческого достоинства. Темнокожие гости из местных были молоды. Они говорили на том красивом французском и английском, который звучит убедительнее, чем в Париже или Лондоне. Они захлопали в ладоши, кое-кто тоже присоединился, с облегчением или иронией, все неудобство вскоре пропало без следа. — «Такое у меня больше не повторится», — с оттенком благодарности сказал посол после еды. «Все зависит оттого, что вы подадите к столу», — отозвался Дуквиц.
Кофе пили на террасе. Посол беседовал с депутатом о климате. В Доуале, южнее, на море, влажный зной практически невыносим. Бедные коллеги там, в представительстве. Он предостерегал от визита. Дуквицу ни с кем не хотелось общаться, он уселся за угловой столик и ухватился за газету. Гётевская дама и литературовед в синих джинсах из этой неслыханно прогрессивной высшей школы потерянно топтались на месте, а потом, в равной степени со смелостью и смущением подсели за столик к Дуквицу. Плетеный стул застонал под весом гетевской дамы, которая с сигаретой во рту принялась рыться в своей чудовищной сумочке в поисках зажигалки. Дуквицу показалось, что, прикурив, она тут же захочет обсудить с ним происшествие за десертом. Профессор-литературовед по-птичьи озирался по сторонам. Когда гётевская дама нашла, наконец, зажигалку и выпустила в африканское ночное небо первые облачка дыма, она и вправду начала: разве Дуквиц считает свое поведение за столом правильным? Кажется, ее тон был особенно раздраженным, потому что Дуквиц на правах хозяина не выказал особого рвения и не предложил ей огня. Австрийский выговор, еще недавно распространявший вокруг себя приятную небрежность, вдруг приобрел менторский оттенок. Дуквиц не имел ни малейшего желания давать ей какие-либо объяснения, он сказал: «Знаете, почему я не предложил вам прикурить?» Ответ последовал мгновенно: «Вероятно, вы казались себе при этом эмансипированным мужчиной!» «Ничуть, — ответил Дуквиц, просто вы курите «Мальборо»!»
Тот, кто курит эти американские сорняки, задействованные в рекламе содомитов с лошадьми, не получит огня от Дуквица.
Теперь шумно завздыхала гётевская дама: ей совсем не нравятся полуфабрикаты, видит Бог, видит Бог, не нравятся, но нельзя же так выражать свое неприятие, это было отвратительно. Ему же никто не поверил, этими глупыми аристократическими ужимками он ничего не добьется, это ведь было не что иное как — она поискала подходящее слово и нашла его — не что иное как птидесерт. Она выговорила это словцо так, словно речь шла о печеньицах в венских кофейнях, которыми она сама с удовольствием бы полакомилась. Дуквицу не хотелось вступать в спор с этой гётевской кофейной тетей-мотей. Да и дело было вовсе не в десерте. Ей этого не понять. Наверно, она была искренней социал-демократкой, пребывавшей в сумасшедшем убеждении, что с помощью партийной работы и образования для взрослых можно чего-то достичь. С каждым ремесленником, с каждым рабочим легче прийти к взаимопониманию, чем с этими интеллектуальными обывателями, у которых, как у любого обывателя, в голове засел страх перед тем, что они могут осрамиться.
Но тут в разговор вмешался профессор-литературовед в синих джинсах и сказал, что он отнюдь не считает поведение Дуквица скандальным, но фривольным, и последнее наводит на размышления, поэтому он спрашивает себя, верный ли это путь для сопротивления политическому аппарату. Он тоже совершенно недоволен положением вещей, однако считает, что этой форме критики не хватает политической перспективы. Дуквиц был глубоко тронут. Как никак, профессор воспринял его провокацию как политический акт.
А профессор поучительно сказал гётевской даме, так, словно Дуквица это совершенно не касалось и как будто бы он не смог понять: «Тошнота есть старая метафора отрицания, но в данном случае она была совершенно неуместна.» Этот человек наверняка считает Дуквица фигурой романа, которую можно интерпретировать по своему усмотрению. И кстати, что на нем за куртка, до смешного спортивная? «А вот ваша куртка, наверняка даже больше, чем ваши брюки, — тоже метафора,» — сказал Дуквиц как можно резче, — «и, если позволительно спросить, что означает сия метафора?» Но профессор-литературовед не дал сбить себя с толку, наоборот, он стал благосклонен и принялся рассказывать, что это парашютная куртка из Калифорнии, она класснее всего смотрится именно там, он скоро опять поедет туда брать курс прыжков с парашютом.
Играющих в футбол интеллектуалов и так уже предостаточно, считал Дуквиц, однако, прыгающий с парашютом профессор-литературовед — это просто чересчур. Он не позволит, чтобы его осуждали обыватели и спортсмены, называющие себя прогрессистами и зарабатывающие достаточно денег на академических должностях и путешествующие за казенный счет, да еще и курящие «Мальборо» и прыгающие с парашютом оптимисты по жизни. Да, он еще им всем покажет! Нет, он им никогда ничего не покажет. Позавчерашние консерваторы, вроде посла и его жены, никогда не поймут, что он был не только клоуном-бодрячком. А эти экспансивно-похотливые прогрессисты, которые считают нарушение правил помрачением ума, никогда не поймут, что ситуацию можно сделать переносимой только благодаря беспрестанным промахам и нарушениям правил и манер, нравов и традиций.
Между тем гётевская дама и профессор пили кофе и жаловались друг другу шепотком на состояние современной европейской культуры. В Латинской Америке писатели культивируют совершенно другую мифическую традицию, сказал профессор, внезапно сделавшись похожим на продавца стиральных машин, который высокомерно указывает на непревзойденную мощность новой «Miele 2000». Дуквиц вмешался с вопросом, отчего же тогда, если культура эта и впрямь дошла до ручки, они хотят развезти ее по всему миру с помощью гётевских институтов?
Профессор как-то особенно громко засмеялся и заскреб себя по бедру. «Прагматизм!» — воскликнул он, а гётевская дама тотчас пустилась в долгие объяснения, которые и в самом деле оказались очень прагматическими. Дуквиц ненавидел вот такие ответы, ничего не прибавляющие к тому, до чего можно самому додуматься. Отвечать надо шутливо. Разумные ответы можно давать себе самому, если ты не полный идиот. Этим представителям прагматического разума не хватало шутливости. Наверно, они знали толк в искусных литературно-разговорных забавах, которых Дуквиц не понимал и не желал понимать. С ужасом он вспомнил о непонятной ему литературной продукции братца Фрица.
Во всяком случае, этот парашютный профессор вкупе со своей птидесертной тетей-мотей ничего не поняли в дуквицских забавах. Не говоря уже о неудавшихся. История с выплюнутым пудингом могла бы стать неудачной шуткой, но эти мастера интерпретаций, которые как раз горячились по поводу отсутствующего авангарда, ничего не понимали в отчаянных шутках. Они явно кое-что понимали в инновациях. Сейчас это было их темой. Современная литература не инновативна. И это были люди, профессионально занимавшиеся языком, однако абсолютно бездумно использовавшие такие невыносимые словечки как «хобби» и «инновация». Чем они, собственно, отличаются от руководителя отдела «Дойчебанка», инженера «Мерседеса» или болванов-компьютерщиков «Сименса»? Тем тоже вечно не хватает инноваций! Поэтому они постоянно изобретают новые формы машин или все более кретинские телефоны. Именно поэтому изобретается и все более дурацкая литература. Поскольку ни один придурок не может разговаривать нормально, поскольку писатели не отваживаются придерживаться нормального языка в своих наблюдениях, невозможно наслаждаться все этими новыми книжками. А если кто-нибудь и пишет нормально, тогда ему не достает умения наблюдать. Поскольку поэты хотят отличаться от журналистов, они используют лишенный естественности язык и обижаются, если никто больше не интересуется их книгами.
«Гарри, ты не понимаешь!» — возразил ему братец Фриц, когда он во студенчестве как-то раз ночевал у Хелены и Гарри во Франкфурте и привез в подарок книгу. Гарри открыл ее и прочел вслух: «Живое желто или нет. Не будь покорным! Закрывайся! Вновь это «Я» вошло в игру! Тони по вертикали, как ты можешь, тогда наружу выйдет все.» «Значит так,» — сказал Гарри своему братцу, — «тот может переночевать при условии, что утром он заберет эту книжицу с собой,» — а потом зачитал попавшееся на глаза предложение: «Чувство безопасности мне критически опротивело.» «Все не так, не так!» — гневно воскликнул Гарри, хоть это и не так скверно по сравнению с напалмом, но это и все. Такого не поймет ни один человек, литераторы пускают в дело дымовые шашки, а другим приходится потом в это внюхиваться. И поскольку никто ничего не понимает, дыму воздают хвалу как чему-то из ряда вон выходящему. Он, Гарри, уже в школе знал наверняка, где литература хочет тебя окрутить. И, обладавший великолепной памятью, Гарри процитировал с презрительным удовольствием пару строк из стихотворения Гессе, которое вызубрил еще в школе:
Странно брести в тумане, по жизни по безымянной где каждый так одинокЗдесь все еще есть принципиальное поэтическое чувство, крикнул он, раньше это был чистой воды кич, а теперь все стали такими утонченными, что делают кич немножечко непонятным. Ему намного больше нравится кич без примесей, настоящий кич. А теперь, годы спустя, эти двое собираются экспортировать в Камерун инновативный западно-германский культурный кич, и Дуквиц должен им помогать. Он должен позаботиться об аренде дополнительных помещений для гётевского института в Доуала, чтобы гётевская дама на замечание какого-нибудь делопроизводителя или другого клерка у себя на родине: «ведь даже подходящего места для нашего института пока не имеется», — могла бы непринужденно отреагировать: «Господин Дуквиц, отвечающий за вопросы права и экономики в немецком посольстве, уже позаботился, и недорогое здание будет предоставлено в наше распоряжение». Он был слишком хорош для того, чтобы прислуживать этим умникам. Он и палец о палец не ударит для этого вздорного института. Немецкая культура, инновативна она или нет, должна оставаться там, где она есть. Нужно противостоять этому миссионерскому пылу. А то здесь еще начнут устраивать театральные вечера с уволенными немецкими актерами. Европейцы с их непереносимым христианством достаточно помиссионировали, теперь нужно пощадить остаток развивающихся стран от новейших продуктов культуры.
Дуквиц заверил профессора и гётевскую даму в том, что он постарается. Нет смысла объяснять им, что это бессмылица. И уж вовсе нет смысла говорить им, что он отвергает их план, так сказать, из идеологических соображений. Ведь это тоже не так. Он отказывается, потому что оба действуют ему на нервы. Если бы здесь сидели красивая женщина и способный иронизировать мужчина, тогда бы они поняли друг друга, и он, может быть, даже нашел сносным экспорт немецкой культуры.
Гарри снова затосковал по Хелене, которая бог знает чем занималась в далекой Германии. Он всегда любил выслушивать хеленину критику. Она бы не стала критиковать его выходку с пудингом, но горе ему, если бы он потом утверждал, что это была «шутка отчаяния». За такое выражение она бы его по головке не погладила. А этим двум невозможным культуртрегерам, которые тем временем договорились до того, что следует почтить вниманием столетний юбилей какого-то дадаиста или сюрреалиста, во всяком случае некоей мертвецки авангардной персоны в следующем году или через два по всем гетевским институтам мира, — им бы Хелена смогла дать понять, что настоящее выблевывание пудинга в наши дни возможным образом имеет больше смысла и искусности, чем ревностное пережевывание идиотских бородатых шуток об искусстве.
Все остальные ушли в дом, двери остались открытыми. Как разумно звучат голоса людей, если только время от времени улавливать обрывки фраз. Словно мир в полном порядке. К сожалению, стало пасмурно. Ребенком Гарри верил в то, что в Африке всегда ясное небо. Предаваться своим мыслям лучше, когда видишь звезды. Или летучих мышей. Следить за ними в сумерках было не так уж плохо. Здесь они должны водиться. Он недавно спрашивал об этом одного зоолога. Но их не видно, потому что здесь, вблизи от экватора, быстро наступает ночь.
Стало прохладно. Гарри поднял воротник и закутался в куртку. Было приятно ощущать себя не связанным никакими обязанностями. Здесь находились гости, которым следовало уделять внимание, а он этого не делал. Еще более досадным, чем отсутствие звезд и летучих мышей было то, что среди более чем 30 человек не нашлось ни одной женщины, которая бы его привлекала. Было бы еще лучше сидеть здесь, на террасе, если бы имелся шанс, что некая женщина, с которой он во время еды может быть долго бы обменивался взглядами, вдруг неожиданно зашла бы сюда, как бы невзначай, чтобы потом сказать: «Ах, вот вы где! И что вы здесь делаете?» — «Вы не поверите, мадам, — ответил бы он, — я как раз собирался обобщить свою теорию искусства.»
Что касается вопросов искусства, здесь Дуквиц обладал лишь скудными, но, по его мнению, определенными базовыми знаниями. Он чувствовал себя компетентным и не испытывал при этом угрызений совести. В отличие от природных явлений или техники, говорил он всякому, кто был готов его выслушать, об искусстве лучше может судить неспециалист. Здесь поощрительна познавательная дистанция. Большое преимущество произведений искусства по отношению к техническим открытиям состоит в том, что суждение дилетанта имеет больше ценности, чем суждение специалиста. Будучи неутомимым читателем газет, Дуквиц был в некоторой степени информирован о происходящем в современном искусстве. Этого хватало, чтобы рассыпаться в пышноцветных тирадах по поводу бессмылицы искусства. Если в подобных случаях культурно-консервативные любители старого доброго искусства впадали в восторг, Дуквиц тут же обрушивался на их надежные святыни.
Благодаря прежним поездкам по стране с Хеленой, он знал, что такое различные стили архитектуры отдельных эпох. Он никогда бы не смог больше минуты пробыть в готическом соборе, ему бы наверняка стало после этого дурно. Это был его верный во всех случаях аргумент против готики. Готика возбуждает отвращение и презирает человека, произносил он с удовольствием, ее цель не что иное как превратить его в улитку или червя. Резиденции в стиле барокко были, по его мнению, не более гуманны, с «фашистоидными» масштабами сооружений, конечно, так должен он был тогда говорить. И потом, во время художественно-исторических рейдов с Хеленой в конце 60-х и к началу 70-х, ему в глаза бросилось, что церкви либо были недостаточно светлыми или чересчур высокими, так что самостоятельно, имея хорошее зрение, невозможно было разглядеть росписи на потолках. Короче, вся история искусства была с самого начала историей вздора. И Хелена изучала этот научный вздор. Тут уж, если сравнивать, его изучение юриспруденции имеет смысл, сказал Гарри, хотя при этом бессмыслица искусства имеет свои преимущества, ибо чем бы были Кельн и Страсбург без своих мрачных Мюнстеров, а Мюнхен без своей гнусной Женской церкви. Чем был бы Вюрцбург без своей резиденции, да даже самые жалкие захолустья в провинции, мимо которых они проезжали, им бы тоже чего-то не хватало без их колоколен. Насквозь продажная лицемерная церковь все-таки создала колокольни, и это ей зачтется.
Еще более скверным по сравнению с христианством был, безусловно, ислам, считал Гарри, в силу его отвратительной живучести. Единственными благами в христианстве были его выхолощенность, его лживость, его совершенно прогнившее состояние, его уже давно серьезно не воспринимаемые католические папы и смехотворные кардиналы. Христианство было трухлявым реликтом, не имеющим большого значения. Во всяком случае, Гарри не знал никого, кто бы говорил о себе «я верующий христианин». От словосочетания «верующий христианин» можно было умереть от хохота, считал Гарри. А вот проклятые мусульмане не лицемерили, они заявляли о своей принадлежности к этой вере с собачьей преданностью богу, они со всей серьезностью пунктуально кидались на колени и склонялись в сторону Мекки и вели себя как тараканы в течке. Было уже не смешно, а отвратительно и ужасно смотреть на то, как они преклоняются перед монстром по имени Аллах, выдуманном их кривлякой пророком. Право на свободное отправление религии было ошибкой демократической конституции, хотя к религиям, дело известное, нельзя было подступать с запретом, поскольку от этого они стали еще более твердолобыми. Религия, однажды давшая запал, была прочной, как отбросы особого сорта. Прошла вечность, пока она не потеряла ауру, христианство достигло своей агрессивной фазы только по прошествии 1200 лет с приходом инквизиции, и уже потом, через 1700 лет, с просвещением, оно стало хиреть. Ислам был моложе на добрые 500 лет, и если в монотеистических религиях бывают времена упадка, тогда нужно считаться с тем, что, так, 1700 плюс 500 будет 2200, стало быть, понадобятся еще лет двести, пока ислам не потеряет злокачествености, и мусульмане не разовьются в нормальных людей, с которыми можно будет посудачить о боге и мире.
И все же, хотя ислам и превращал людей в насекомых, чем был бы восточный, арабский город без минаретов и нытья муэдзинов, раздающегося либо из громкоговорителей, либо из натуральной глотки фанатика. Гарри первым выступил бы в защиту сохранения мечетей и минаретов. Поскольку в этом тоже есть бессмылица. Бессмыслица образует декорацию. А без декорации жизнь была бы еще более безрадостной.
Камерун был не так сильно пропитан исламом, как другие государства черной Африки. Если доверять статистике, христиан здесь имелось чуть ли не в два раза больше, чем мусульман. Когда консул соблаговолял показать немецким гостям столицу, он проводил их и мимо церковного сооружения, последнего мерзкого памятника миссионерскому пылу, который считался современной достопримечательностью Яунде.
Как всякое ведомство, которое хочет навязать своим сотрудникам уважение к себе, министерство иностранных дел сообщало своим работникам в последнюю минуту, в какое представительство они будут направлены на ближайшие три года. Дипломаты возмущались подобной каверзой, однако принимали сие без излишнего ропота, скорее с видом независимой беспомощности, с которым хорошо воспитанные дети, хихикая в кулачок, следуют абсурдным указаниям своих родителей. Дуквиц тоже принял это, пожав плечами. Так, разумеется, с людьми не обходятся, но это спасло его от принятия по меньшей мере одного решения. Впрочем, лишь немногие противились этой диктаторской практике назначений постольку, поскольку момент неожиданности несколько скрашивал серую жизнь дипломатов. Дуквиц успел купить несколько книг про Камерун. Его успокаивало то, что почти половина камерунского населения не поддалась чужой вере и осталась верна природной религии. И вообще он ощущал себя все более счастливым от того, что был направлен именно в Камерун. Политические отношения были довольно катастрофическими, президент был, разумеется, жадный до власти субъект. Режим контролировал бессильную оппозицию, наводя железный порядок и организуя обязательный обман при выборах. Но по сравнению с другими африканскими странами здесь было меньше помпы, меньше давления, меньше обмана, проливалось меньше крови, властители бесновались не настолько безумно, как в соседней Центрально-Африканской Республике, не было религиозных войн, как в Судане, массовых уничтожений политических противников, как в Уганде. На севере страны недавно была устроена кровавая баня, убили несколько сотен человек, но здесь не было истребления тысячами целых племен, как в Руанде и Бурунди. Уганда, Руанда, Бурунди — что за райские названия, и какой ад на самом деле царил в этих странах. Даже природа благоволила к Камеруну — здесь не было опустошительных периодов засухи и голода, как в Чаде или Эфиопии. Военные не так жадно стремились к власти, как рядом в Нигерии, никакая гражданская война не оставляла за собой такие моря жертв, как провалившаяся попытка отделения Биафры. Коррупция была велика, но не безмерна.
«Положение стабильно.» Этим успокаивающим предложением посол заканчивал свои регулярные отчеты для центрального управления в Бонне. И в общем-то даже был прав в такой наивной оценке. С тех пор, как Дуквиц стал третьим человеком и советником по экономическим вопросам, обеспечивающим посла информацией, критические придаточные предложения то и дело затесывались в его отчеты. «Положение сравнительно стабильно,» — так звучала новая заключительная фраза посла. Это было хороше, лучше прежнего. «Сравнительно,» — так осторожнее, дипломатичнее, да, впрочем, и правильнее.
«И откуда вы все это знаете?» — недавно впервые спросил посол после того, как Дуквиц передал ему свой анализ экономического положения страны. Это были цифры и прогнозы, которые дома, в Германии, можно было найти в любой приличной брошюре о странах третьего мира на любом приличном книжном столе в любом приличном университетском городе. Дуквиц позвонил одному чернокожему служащему министерства народного хозяйства, отстраненному от дел, проверил цифры и привел их к современному состоянию. Всегда стоило обращаться к выдворенным, лишенным власти, не имеющим ее и пребывающим во фрустрации. Они лучше всех знали положение дел, и поскольку были озлоблены, охотно делились информацией.
«Нужно знать подходящих людей», — сказал тогда Дуквиц послу с как можно более неопределенной улыбкой. Посол был в восторге: Дуквиц исключительный человек. Такой может понадобиться. Такой в курсе дел. Правда, жена посла считала Дуквица красным, а красные были и для консула кошмаром. Но лучше один красный, чем этот второй в посольстве, ответственый за связи с прессой и культурные вопросы, который не интересовался ничем, кроме своих негритянских скульптур и которого, кстати, звали Майер. Что за фамилия для относящегося к высшему слою иноземного ведомства.
Камерун, считал Дуквиц, имел что-то от уютного гнездышка. Иногда в душе просыпалось этакое домашнее чувство. Может быть, потому, что здешняя Африка, несмотря на свои непредсказуемые современные стихии, все еще напоминала о картинках маргарина Занелла начала 50-х. Теперь уже 70-е клонились к своему концу. Прошла уже четверть века. Первые великие моменты счастья в жизни 6-8-летнего Гарри фон Дуквица: страстное желание получить разрешение и купить в ЭДЕКА-магазине пачку маргарина, а потом к ней новую картинку для коллекции. Зебры и антилопы-гну на водопое. Ритуальный танец одержимых. В гостях у чернокожего короля Муа-Минго. А потом, конечно, вылазка к профессору Альберту Швейцеру. И опять и опять самолет, который несет детского героя этого маргаринового путешествия через Африку над привлекающими темнотой чащами континента, двухмоторный, уютный, как шмель. А эти городские сцены в Капштадте и Аддис-Абебе, это достоинство, с которым черные и белые светски прохаживаются по пыльным улицам мимо американских авто. Что за счастье после полудня стать обладателем такой картинки, и наивысшее счастье — наклеить в альбом все сто штук. Безымянный автор коллекционных картинок Занеллы наверняка был большим художником, проникший в суть Африки. Художник, в тысячу раз более значительный, чем знаменитый в те же времена портач Рауль Дюфи, парижские виды которого, похожие на виниловые шлягеры типа «бум-бум», не имели ничего общего с настоящей Францией. Или картинки Занеллы так повлияли на него в детском возрасте, что он уже совершенно не мог воспринимать Африку иначе? Картинки картинками, но в Камеруне были уголки, которые странным образом напоминали Дуквицу родные ландшафты. Одна частичка горного края у подножья горы Камерун при особом освещении выглядела словно часть рейнского берега, которую было видно из поезда вблизи Кобленца. А местность на окраине Яунде напоминала Штуттгарт.
Разумеется, никто не замечал этого сходства. Хелена была единственным человеком, с кем он поделился бы подобными наблюдениями. В объявлениях раздела знакомств никогда не прочтешь: ищу женщину, с которой можно обмениваться наблюдениями замеченного сходства. Не в пользу желающих жениться говорило то, что они никогда не требовали ничего подобного. Однако после занятий любовью и наряду с ними это и было самым замечательным. Будучи маниакальным читателем газет, Дуквиц принимал к сведению, разумеется, и объявления о женитьбе — это единственное подлинное отражение страстной тоски буржуазного общества. Обмен наблюдениями о сходстве во всяком случае принадлежал к наиболее радующим моментам человеческого существования. Любить и понимать друг друга означает гадать вместе с женщиной, кого напоминает тот или иной человек.
Дуквиц поднялся с плетеного стула. Хватит уже. Достаточно подумал, достаточно подремал. Его братец Фриц был стихотворцем, а Гарри — соней. Оба они родились в стране стихотворцев и сонь. Посольский коллега Дуквица Хеннерсдорфф, общавшийся в другом уголке зала с депутатом и чернокожим министром, выглядел, кстати, как почтальон, который когда-то, семь, восемь, нет, ровно десять лет назад доставлял письма в жилищную коммуну франкфуртской квартиры Хелены, то есть не столько письма, сколько «Peking Rundschau» на такой прозрачной заокеанской бумаге, но даже самые закоренелые марксисты общины ее уже тогда больше не читали. Наблюдения сходства имели больше значения, если ими поделиться. Пусть бессмысленные, они все-таки носили характер небольших познаний. Помогали жить дальше. Наполняли жизнь. Ему стало легче, когда он, наконец, сообразил, на кого похож военный атташе, эта патронная гильза: ну конечно, на того актера с ежиком, который так часто играл во французских фильмах 60-х, может даже уже и 50-х и еще начала 70-х абсолютно незначительные, но заметные побочные роли, он никогда не знал, кто это. Здесь стоял его дубль в смехотворной военной форме. Дублю тут нечего было делать, его следовало бы вымести из помещения поганой метлой. Его единственным достоинством было то, что он напоминал этого загадочно знакомого актера, а Хелены здесь не было, и она не могла разделить его забавных воспоминаний.
Милый Хеннерсдорфф, этот воскрешенный почтальон из прошлого. Дуквиц готов был его обнять. Хеннерсдорфф не кончал университета. Сразу после выпускных экзаменов он подал заявку на дипломата. Поскольку он не учился в университете, то и относился не как Дуквиц к так называемому «дипломатическому корпусу особого ранга», а к «рангу отвественных», что для непосвященных звучало хорошо, но означало меньшее влияние и, прежде всего, более низкую зарплату. То есть, принадлежащие к особому рангу смотрели свысока на ранг ответственных. Бывало так, бывало и иначе. Во время получения образования они были более или менее на равных. Способ, которым преподаватели наставляли атташе не относиться снисходительно к сотрудникам ответственного, среднего и, пожалуйста, также самого низшего ранга, был уже образцом снисходительности. Однако дипломатическая рутина многое нивелировала и почти не давала повода к большому высокомерию. Немногие интеллигентные люди, где бы ни служили, быстро понимали, что все они мелкие сошки. Это сближало. Но все же говорильню о снисходительном поведении дипломатов более высокого ранга Дуквиц считал настолько постыдной, что встречал всех сотрудников более низких рангов с самым изысканным дружелюбием. Это было что-то вроде оправдания за привилегии, обладание которыми он ощущал незаслуженным. Привилегией было расти сиротой, без мелочной опеки невротика-отца и без страхов изводящей саму себя матери. В высшей степени приятно было взрослеть в старом доме с красивым названием «Вилла Хуберта», в более чем прекрасной местности, лишь небрежно опекаемым тетками, которые курили, пили, играли в карты, и фривольно чертыхались. Привилегией было финансировать свою учебу в университете сочетанием сиротской и военно-полусиротской пенсий и никого этим не обременять, менее всего себя, только это государство, это чудище, благодарность к которому проявлять было незачем. Привилегией было пребывать в состоянии раздумья о себе самом и воспринимать ежедневные события словно фокусы.
Будучи привилегированным таким образом еще в студенческие времена, он страстно желал помочь людям, которых судьба одаривала не столь щедро. Наверно, из-за этого он изучал юриспруденцию и стал адвокатом, симпатизировал левачке Хелене и левацким субъектам в самой разудалой жилищной коммуне Франкфурта, где годами грелся, словно у костра. Позднее, уже адвокатом, он будет помогать лишенным гражданских прав в их правах. Студентом много не сделаешь. Можно было, к примеру, в пять утра раздать листовки перед какой-нибудь фабрикой. Дуквиц сделал это лишь однажды. Он верил в то, что ему необходимо стать участником такого ритуала посвящения, чтобы иметь в какой-то степени право на то, чтобы его терпели в этой коммуне в качестве хелениного друга и частого гостя. В пять утра перед фабрикой он казался себе чем-то искусственным, словно сошедшим с волнующей социалистической ксилографии 20-х годов или нарисованным Кёте Кольвиц. Гарри фон Кольвиц раздает листовки, красный барон. Нет, ничего не поможет, не смешно. Он считал чванством просвещать рабочих по поводу их якобы ужасного положения. Он скорее инстинктивно решил никогда-никогда больше не делать этого. Только годы спустя, будучи адвокатом, после того, как он взялся защищать в суде одного рабочего против его эксплуататора-работодателя и заметил, с каким счастьем и пылом он начинал процесс и как по ходу дела становилось все более явным, что рабочий этот лодырь, а работодатель — любезный обходительный человек, проигравший после пламенной заключительной речи Гарри, он постиг всю меру подобного извращения.
Помимо этого, они с Хеленой как нельзя лучше сходились во мнении, отмечая похожесть пассажиров омнибуса на актеров и политиков. До начала 70-х они вздорили о способах улучшения их положения. Гарри упрекал Хелену в том, что она с ее историей искусства и интересом к французским соборам только болтает и бездельничает. Хелена упрекала его в том, что он после короткого периода революционного образа мыслей опять вернулся к бюргерской вселенской тошнотворности, из которой пришел. К этому прибавилось еще и внезапно подкравшаяся непривычная сексуальная неудовлетворенность. Годами, семестрами они занимались любовью всегда, когда их охватывало желание. И вот Хелена как-то раз заявила, что чувствует, как обременяют ее попытки Гарри к сближению. Она произнесла «попытки к сближению», что означало катастрофу. Все, что до этого получалось само собой, стало теперь «попыткой к сближению» и тем самым чем-то грязным. Она придиралась к его манере соблазнять, он, мол, слишком много шутит, так что всякое желание пропадает. Стоило ему любовно погладить ее по узким голубым джинсам или бесподобным кожаным брюкам, на следующий же день она в качестве наказания надевала безликое складчатое платье, в котором выглядела как боец Армии спасения или девка гуру, и потому как он до нее, разумеется, больше не дотрагивался, упрекала его в том, что для него имеет значение только внешность. Нет, он не относится к тем, у кого в голове лишь мысли о собственных преимуществах, раз-два — готово, и свалил — нет, этого еще не хватало, но в последнее время он ласкает ее механически.
Гарри сказал, что от таких упреков любой нормальный мужчина импотентом станет, слава богу, он крепкий. Надо было сразу начать аферу с другой женщиной, чтобы доказать Хелене, что дело не в нем, а в ней самой, читающей слишком много этих женских книжек. Скоро он больше не сможет слышать такие слова как «эмансипация», «женщина», «женщины», «женская литература» и «женские пивные», «женская солидарность».
«Вот-вот, — крикнула Хелена, — в тебе все больше реакционности.» Это их разлучило.
В его адвокатские времена не было иерархии. Были коллеги, компаньоны, были противники в процессе, подопечные, судьи, но никакой иерархии, никаких начальников и подчиненных. Секретарши в конторе не желали выслуживаться до адвокатов[8]. Теперь он был чиновником, теперь для него имелись уровни и ступени рангов и высшие по рангу сотрудники и различные ранги карьеры на различных уровнях. Здесь существовала иерархия, здесь наконец-то можно было показать, как мало значения она для него имеет. Иерархия всегда была врагом, ибо она противоречила антиавторитарным представлениям о равноправии и справедливости. Внутри иерархии он понял, что вечные жалобы на нее неверны. Иерархия была врагом, но идеальным и необходимым. Она была годной к использованию системой порядка, дающей возможность себя игнорировать. Поскольку каждому внутри иерархии она сама была отвратительна, этот каждый создавал себе доброе имя тем, что по возможности часто и непосредственно нарушал неписанные законы. Иерархия выдвигала вперед подхалимов и приспособленцев, но никто не жаловал ни тех ни других. Дуквиц наслаждался тем, что обращался со своим начальником как с равным по рангу. Это же отличало чиновников от лосей: они не гнали других яростно с места прочь, нет, они тут же допускали равного по рангу, что давалось им легко, поскольку они не забывали, что они начальники, что другие для них не опасны. Поскольку ты вел себя не по-собачьи, они и обращались с тобой не как с собакой. Это было негласным правилом иерархии, которое, правда, срабатывало только тогда, когда имелось достаточно людей, в полупоклоне проскальзывающих через коридоры и с почтением заходивших в офисы более высокого ранга. Консул во время приемов скупился на виски. Словно платил за него из свого кармана. Немецкое пиво, немецкие вина, а вот самого обычного шотладского виски не было. Дуквиц достал из холодильника в маленькой кухне рядом с помещением для приемов два кусочка льда и пошел в подсобку, где за ведром была припрятана бутылка виски. Потом он довольный, с полным стаканом вернулся к гостям. Супруга Хеннерсдорффа своим оглушительным голосом просвещала австрийского внештатного консула по поводу красоты венских лошадей липицкой породы. Эта женщина была феноменом. Несмотря на прекрасную фигуру — совершенно лишена эротики. Как-то утешает, считал Гарри, что дело не только лишь в породистых ногах. Хеннерсдорфф все еще беседовал с депутатами и чернокожим министром, вид у него был немного измученный. Он работал больше, чем Дуквиц, а зарабатывал меньше. Поначалу Дуквиц попытался откорректировать эту несправедливость тем, что в рамках своего бойкота иерархии по отношению к Хеннерсдорффу проявлял особое дружелюбие, которое сдерживалось лишь беспокойством о том, что такое поведение может показаться преувеличением. Со временем пропали и эти эти надуманные идеи. Хеннерсдорффа и Дуквица связывала сдержанная, но сердечная дружба.
Хеннерсдорфф словно заметил, что Дуквиц смотрит на него, и в то время как депутат что-то ему говорил, бросил ответный взгляд, однозначно демонстрировавший беспомощность. Он подвигал двумя пальцами перед ртом, словно клювом, это означало, он должен переводить и как только освободится, подойдет к Дуквицу. Этот сигнал уже подготовил депутата к тому, что Хеннерсдорфф скоро удалится, ему необходимо обговорить с господином фон Дуквицом еще что-то важное.
Дуквиц считал, что Хеннерсдорфф вообще-то должен зваться «фон» Хеннерсдорфф, фамилия просто требовала дворянской частицы, во всяком случае больше, чем фамилия Дуквиц. Дуквиц — совершенно не аристократическая фамилия, это «фон» просто смешно, оно должно принадлежать Хеннерсдорффу. Вскоре после прибытия в Яунде он сказал об этом Хеннерсдорффу, будучи у него в гостях, и его жена, с хорошей фигурой и нулевой эротической аурой, просто не знала, как расценивать это замечание.
Хеннерсдорфф был лоялен. Это было поддержкой в случае нелояльности других. Когда Дуквиц назвал посла ослом, а его жену индийским буйволом, кто угодно, но не Хеннерсдорфф умильно заулыбался. Чтобы внести ясность в дело с «высокопоставленными» и «привилегированными» дипломатическими службами, Дуквиц с самого начала попытался иронически «стереть» это различие. Я считаю, что слово «привилегированный» намного более возвышенное по сравнению с «высокопоставленным», сказал он, и Хеннерсдорфф на следующий день положил на его письменный стол свою визитную карточку, приписав на ней: ««Выдающийся» еще лучше чем «привилегированный» и «высокопоставленный». С сего момента «фон» Хеннерсдорфф, член выдающейся дипломатической службы.» С тех пор Дуквиц его полюбил. Ему хотелось перейти с ним на «ты», но такой выпад против все еще принятого обращения на дипломатической службе был бы слишком похож на желание втереться в доверие.
Дуквиц считал, что Хеннерсдорфф неудачно женился, потому что с такой женщиной счастливым быть невозможно. Она не разговаривала, а рычала и выкрикивала предложения, в которых речь шла преимущественно о трех ее детях или о разведении лошадей. Однажды Дуквиц решился спросить Хеннерсдорффа, почему его жена так громко говорит. Тот никогда ничего подобного не замечал. Она долго жила с глухой матушкой, вероятно, привыкла, ответил он. Иногда Дуквиц, холостяк, проводил вечерок у Хеннерсдорффов, и как было бы хорошо без этой ужасной женщины по имени Роза, которую Дуквиц окрестил про себя «штокроза», потому что она была как торчащая палка.
Вот Хеннерсдорфф оставил депутата в обществе чернокожего министра. Оба не могли продолжить беседу, потому что без переводчика не получалось, и со смущенными лицами разошлись.
— Ну, что скажете? — обратился Хеннерсдорфф к Дуквицу.
— Простите меня, — сказал Дуквиц. — Прошу извинить за эту совершенно дурацкую историю с пудингом.
Хеннерсдорфф засмеялся. Франкфуртский почтальон, на которого он так походил, был немного ниже ростом. Хеннерсдорфф сказал, что это невероятно, депутат и вправду совершенно не владел им, не говоря уже о французском.
— А о чем был разговор? — спросил Дуквиц.
— Ни о чем, — ответил Хеннерсдорфф.
Они оба некоторое время рассматривали гостей на этом никчемной приеме, в здании, похожем на коробку из-под обуви, которое могло бы находиться и где-нибудь на истощенном побережье Югославии. Комнаты внаем. Ни размера, ни размаха. У красивых построек всегда кровавая история. Хеннерсдорфф покачал головой и сказал, что Дуквиц, должно быть, сошел с ума, если бросил работу адвоката. «Ради вот этого!» — горько добавил он. Его жена уже беседовала с консулом. Было слышно каждое слово, произнесенное ее трубным голосом. «Великолепный, очаровательный прием», — гудела она на консула. Дуквиц сказал, что адвокатом он работал намного больше и всегда с ощущением, что это коту под хвост.
— Все это, — показал он на окружающих, — тоже коту под хвост, однако не нужно так напрягаться.
Хеннерсдорфф молчал. Сам он работал больше. У него было чувство долга. Он хотел продвинуться. Он должен был продвинуться. Если хочешь продвинуться, нужно напрягаться.
— Без работы нельзя, — сказал он.
Дуквиц подумал: Если бы я был женат на твоей жене, я бы тоже засел в офис и работал.
— А как вы распоряжаетесь своим временем? — спросил Хеннерсдорфф.
— Разгадываю мировые загадки, — ответил Дуквиц. — Точнее, работаю над их разгадкой.
— Например?
— Например, церковный налог.
— Что? Вы имеете в виду, почему за границей вам не надо его платить?
— Нет, почему я все еще плачу церковный налог, будучи дома.
— Потому что вы принадлежите церкви.
— А почему я все еще принадлежу церкви?
— Из-за обычных мыслей об искуплении грехов.
— Ах, я вас умоляю!
— Но что же тогда?
— Чтобы платить церковный налог.
— Вы сумасшедший, — сказал Хеннерсдорфф, — если решение мировых загадок выглядит таким образом, тогда я лучше буду и дальше сидеть в офисе и решать загадки паспортов, утерянных немецкими туристами в Африке.
А Гарри сказал, что соль в следующем: невозможно терпеть церковь, если ее не поддерживать, только увы! имеют значение церковные звонницы. Хотя он не выносит ни церковь как институт, ни ходит в нее, однако считает правильным, что в каждой деревне есть церковь с колокольней. Которую видно издалека. Церковь это кошмар, однако деревня без церкви не деревня. И поездка по окрестностям мимо деревень не приносит удовольствия, если бы не акцент в форме колокольни, оживляющей ландшафт. Своим церковным налогом он помогает сохранению колоколен. «В роли пудингоненавистника вы производите более сильное впечатление, чем философ по церковным налогам», — сказал Хеннерсдорфф.
— Когда я был адвокатом, у меня голова была так забита, — ответил Дуквиц, — что я просто запрещал себе подобные мысли. Возьмите, к примеру, пирамиды, эту бессмылицу, этот гигантский кошмар. Никто не знает, насколько жутко это было на самом деле. Кто знает, насколько ужасным и унизительным было рабовладение в древности. Возможно, что только при строительстве одной пирамиды от бесконечных пыток и мук погибало больше людей, чем в концлагере.
— Поострожней! — сказал Хеннерсдорфф.
— Вполне возможно. Из миллионов каменных кубов, каждый из которых весит тонны, заставить людей воздвигать пирамиды! В наше время перед ними стоят и восклицают О! и А! и думают, ну как же пустыня и без пирамид. Даже обертка моих сигарет была бы вполовину менее красивой без пирамид, — сказал Дуквиц и скрутил себе сигаретку. К ним подошел консул. «Господа!» — сказал он. Это всегда было уместно. Он пронаблюдал, как Дуквиц сворачивал сигаретку, и сказал с уважением:
— Мы тоже так делали раньше.
Можно было выблевать пудинг на тарелку, можно было будучи дипломатом скручивать сигареты, словно студент, — чем больше выбиваешься из рядов, тем меньше выделяешься.
Жена Хеннерсдорффа громко позвала своего мужа, и он — ничего не поделаешь — последовал на ее призыв.
Дуквиц стал размышлять, стоит ли ему начать беседу о взаимосвязи между пышностью и брутальностью, об искусстве и аморальности с профессором и гётевской женщиной. Радоваться надо, что иногда находится человек, с которым можно про такое словом перемолвиться. Немцы, жившие здесь или попадавшие сюда, были ничуть не меньшими обывателями, чем какой-нибудь торговец болтами из Зиндельфингена или продавец автомобилей из Вольфсбурга. А приемы, которые устраивались послом из-за отсутствия нормальной резиденции в этой коробке из-под обуви в абсолютно неподходящих канцелярских помещениях, производили такое же впечатление как провинциальные вечеринки членов строительного кооператива в честь освящения новостройки.
Синеджинсовый профессор-литературовед и гётевская дама как раз беседовали с чудовищем из «Сименса». Кажется, они хотели узнать, готов ли «Сименс» к принципиальному «спонсорингу» авангардного искусства, и, насколько Дуквиц знал этого электронщика, тип ни разу не слышал слова «спонсоринг» и, видимо, понимал под этим вид новый тип кольцевой связи электронных соединений. Так ведь оно и звучало.
Дуквиц направился к литературно-электронной группе, однако потом повернул обратно. Что они в этом понимают! Что они понимают в произведениях искусства и их возникновении из глубочайшего сумасшествия: как из самых низин и мерзостей возникает высокое и присущи ли ему впоследствии черты его происхождения. Гарри предпочитал сохранить эту загадку для себя. Ему не хотелось, чтобы проворный профессор испортил ее своим умным ответом. Такие вещи должны оставаться под вопросом. Поэтому было лучше ходить в кругу размышлений в одиночку, чем общаться со специалистами, которые своим многознанием только палки в колеса вставляют.
Однако в последнее время он слишком много размышлял в одиночку. Он то стоял, то сидел, то лежал, умея заставить себя себя двигаться в такт своим мыслям.
Завтра он будет работать. Завтра будет чем заняться. В случае, если чудовище военный атташе появится на утреннем совещании, Дуквиц его оскорбит. Этих идиотов офицеров убедили в том, что только благодаря им можно поддерживать свободу и демократию, и они в это верят своими глупыми, мелкими офицерскими мозгами. Они с таким видом ходят вокруг, словно ждут от всех какой-то благодарности.
Дуквиц посмотрел на часы. Было 11. Через 12 часов он забросает скабрезностями офицерскую душонку этой бестолочи. Он назовет солдат дрочилами во всеоружии. Он спросит его, кто дает ему взятки. Что? Никто не дает? Будто он никогда не слышал о связях между военной промышленностью и министерством обороны. Что, никогда? Мы не знали. Ага! Потом Дуквиц скажет ему, зачем он здесь: чтобы в обход дипломатических служб давать ход военным контрактам.
Что, какая неправда? Вы довольно наивны, господин старший лейтенант! Ах, вот оно что, вы подполковник, ах, пардон! В этой сыпи на ваших плечах я совершенно не разбираюсь! В конце концов вы здесь для того, чтобы обходить закон о контроле над военным оружием, мой господин! Вы и не знали? Вы просто наносите дружественный визит местным войскам. У вас нет никаких коварных замыслов. Вы болтаете со своими коллегами-мясниками об оружии. Вот так вы приглашаете одного мясника-капитана и другого мясника-полковника в Германию. Вы показываете им несколько красивеньких казарм и фабрику по производству оружия. Фабрика по случаю предлагает что-то вроде пробной упаковки с оружием, как серийные наборы хлопушек. Всего сотня стволов по сходной цене, под видом поставки строительных комплектующих, поскольку в Германии имеют место пара-тройка странных предписаний. Это значит, что стволы приходят из Англии. С ума сойти, разумеется, да. А магазины из Австрии. Нужно только соединить одно с другим. Монтировщика мы пришлем. Так оно все и происходит, будет кричать Дуквиц военному атташе. Вы здесь для того, чтобы нас не замечать, и даже понятия об этом не имеете!
Дуквиц радовался предстоящему. Экое наслаждение. Если ситуация станет щекотливой, посол просто покинет помещение. Военный атташе пожалуется послу, тот ответит «да-да», но не даст хода делу. Хотя он и был на войне офицером и считал, что это было недурно. Однако он не любит бундесвер. А министерство обороны еще меньше. Никто из дипломатического корпуса не питал любви к министерству обороны, равно как никто из министертства обороны не жаловавл дипломатический корпус. И те, и другие были отвратительны и отзывались о противоположной стороне только отрицательно. А назавтра после обеда он посвятит себя этому проекту строительства дорог, занимаясь проверкой контрактов немецких фирм, в конечном итоге, он использует свои юридические знания в противовес тому, что, собственно, ему предписывалось, а именно: заботиться об интересах немецкой экономики. Он встанет им поперек дороги, используя все средства, этим тупицам, экспортирующим строительные машины и техникам, и всем этим дуроломам, разъезжающим по всему миру и не понимающими сути дела.
Вот человек «Сименса» склонился в шутовском прощальном поклоне перед обоими интелями, которые каждый сам по себе направились к Дуквицу. Они были немного невеселе, и Дуквиц тоже слегка поднабрался. Внезапно ему стало непонятно, что он имел протих этих двоих. Этот в синих джинсах был в полном порядке, хотя чересчур сильно назвал самого себя в разговоре с одним швейцарским банкиром «радикальным демократом». Да и платье у гётевской дамы не было причиной для беспокойства, скорее смешно и гротескно. Оба раскритиковали происшествие с пудингом, но почему бы и не покритиковать подобное? Завтра он возьмется за работу. Завтра он будет делать разумные вещи.
— И как вы только терпите все это? — дружелюбно обратилась к нему гётевская дама.
— Такое можно вытерпеть, если быть влюбленным, — ответил Дуквиц.
— Влюбленный дипломат, — сказал профессор-литературовед и непонятно засмеялся, — может, это слегка тривиально?
— Лучше тривиально, чем радикально, — ответил Дуквиц.
— Это хорошо, — сказал профессор литературы. В его согласии было что-то придирчивое. Дуквицу не нравилось, как этот человек выставляет ему оценку.
— Кстати о тривильном, — тут же подхватила гётевская дама, — дипломатический круг имеет в лучшем случае уровень занимательного романа с претензией.
С этим нельзя было мириться. Дуквиц сказал:
— Что касается меня, я так часто говорю «дерьмо», что я больше не занимателен и без претензий. Вы имеете дело с художником-хулителем, моя госпожа, не пройдите мимо моих авангардистских черт.
Дуквиц покинул посольские помещения для приема, прошел в свой офис и уставился на телефон. Завтра вечером он позвонит Хелене. Он достал с полки пачку от сигарет, в которой лежали листочки с его заметками. Он приспособил сигаретную пачку для этих целей во время прохождения курса в Иппендорфе. Он клал туда листочки, на которых были отмечены названия старых джазовых пьес с соло на саксофоне, которые он когда-нибудь хотел проиграть на трубе. Все это можно было выбросить, однако никак не получалось. Под ними лежала жалкая добыча его адвокатских времен, по большей части написанная на обратной стороне его счетов. Вот например, «Подзащитные всегда купаются». Что бы это значило? Предположительно, приступ летней фрустрации в офисе. Под ним еще листок из студенческих времен. Здесь написано: «Обморок облагораживает — Власть делает наглым.» Мда, если бы это соответствовало действительности.
Гарри вырвал из календаря два листка, ноябрь 1978-го. На одном он написал: «Моей любимой новостью от ДПА могла быть такая: «ЮНЕСКО приказало проверить, не следует ли разобрать пирамиды. По меньшей мере необходимы таблички со ссылкой. Не годится, чтобы памятниками кошмаров восторгались до такой степени бездумно.» И на другом листке: «Лучше тривиально, чем радикально, однако лучше всего банально.»
Глава 4
Как Дуквиц беседует в столице Камеруна Яунде на бортике бассейна с одной англичанкой о суде Париса и фольклоре, как он, несмотря ни на что, все-таки не влюбляется в нее, однако завершает письмо к ней изложением намерений о женитьбе.
В почте оказалось письмо одной англичанки, задержавшейся в Яунде вместе с мужем и двумя детьми несколько дней назад на две недели. Элизабет Пич, телевидение Би-Би-Си. Сначала она побывала в Сенегале, а потом в Фоумбане, городе на северо-западе Камеруна, который охотно посещали киношники и телевизионщики, поскольку это был центр пока еще относительно благополучного королевства Бамум. Там она готовила фильм «African Woman» — «Африканская женщина». Запоминающаяся форма единственного числа в названии. Она не смогла утвердить на Би-Би-Си название «Царица Африки». Дуквиц встретил ее около бассейна в итальянском посольстве. Только в этом посольстве был бассейн. На краю голубого водоема протекала часть дипломатического досуга в Яунде. Дуквиц быстро заметил Элизабет Пич, потому что она, сидя под зонтом в соломенной шляпе невероятных размеров, с поразительной скоростью строчила что-то на белых листах бумаги. Ветер время от времени налетал на лежащие на земле листы и относил их все дальше. Гарри удивила сосредоточенность этой женщины. Она писала так углубленно и так проворно, роняя листы на землю, откуда они упархивали прочь, словно ее совершенно не интересовало дальнейшее. Эта небрежность по отношению к тому, что она делала все же с определенным усердием, показалась Дуквицу достойной внимания. Или она знала, что за ней наблюдают, и только ждала, что он принесет ей разлетевшиеся листы. Не исключено. Ее муж с посиневшими губами стоял в бассейне и пытался научить обеих дочек плавать. Дуквиц не понимал, почему он не предупредил жену насчет листов, ведь он же то и дело оглядывался на нее. Он что, близорукий? Или ему хотелось, чтобы ее бумаги угодили в бассейн? Может, ему не нравится ее работа? Или он наказывал ее за эту странную углубленность?
Дуквиц запретил себе дальнейшие фантазии о тонкостях чужого брака. Это больше подходит для литераторов, подумал он и обратился к видимой реальности. Он поднял лежавшие вокруг листы и протянул их пишущей женщине. «Oh thank you!»[9] — сказала она. Не глядя на написанное и ни на минуту не прерывая процесс письма, она свободной рукой подхватила разрозненные листы и опять положила их на землю, однако теперь наступила на них ногой. То, каким образом она не обратила внимания на спасение своего труда, Дуквиц нашел грандиозным. Он сидел рядом с ней и не сводил с нее взгляда, желая ее смутить, а она его просто не замечала. Поскольку Дуквиц не хотел оказаться немцем и хоть на некоторое время быть принятым за члена итальянского посольства, он спросил: «Е poeta-signora?» — «Non sono poeta»[10], — ответила та, продолжая писать, «к сожалению», — добавив потом по-немецки. Она явно знала, кто такой Дуквиц. И она явно владела несколькими языками. И, словно демонстрируя свои способности полиглотки, она на великолепном английском громко крикнула в сторону своих, чтобы услышал ее муж в бассейне: пусть не забудет, что у детей была простуда, им пора выходить из воды. «Out of the water»[11], — словно эта фраза одновременно оказалась заключительным предложением, написанное ею, она поставила точку, отложила бумаги и повернулась к Дуквицу.
Гарри представился. Она сосредоточенно его оглядела. Она всегда именно таким представляла себе дипломата, сказала она потом, элегантно стоящим на месте, обаятельно болтающим и никогда не работающим.
Это было произнесено легко и лукаво, однако Гарри почувствовал, что замечание его задело. Он не хотел быть элегантным, он не хотел быть обаятельным, он не хотел соответствовать этому представлению о дипломатах. Разумеется, работает он не слишком много. Но такое надо говорить себе самому. А не выслушивать от кого-то другого. Конечно, было бы смешно опровергать подобное суждение. Раз он не такой мямля, как многие из его коллег-дипломатов, тогда он точно производит обаятельное впечатление. И поскольку он терпеть не может, как белые, едва очутившись в Африке, напяливают на себя эти колониальные хаки-наряды, он носит старомодные европейские брюки и подходящий к ним пиджак. Может быть, если сравнить, это тоже производит впечатление элегантности, хочет он того или нет. Современные дипломаты хотят избавиться от унаследованных клише. Некоторые боятся даже взять в руки бокал с шампанским, чтобы их не посчитали дипломатами-бездельниками. Поскольку Дуквиц хотел отмежеваться от своих глупых коллег, он не стеснялся слоняться вдоль бассейна с прохладным напитком в руке — и немедленно произвел впечатление типичного дипломата старой школы. Было курьезным и чуть-чуть трагичным то, что эта англичанка его недооценила.
— Я менее, чем дипломат, — сказал он подчеркнуто горько, — скорее, я воплощаю клише, к тому же, уже давно устаревшее. Я — исполнительный помощник, my lady[12].
Последнюю фразу Элизабет Пич не поняла.
— Непереводимо, необъяснимо, ужасно по-немецки, — сказал Дуквиц.
Несмотря на это, Элизабет Пич хотела дальше общаться с ним на его языке. Ей не часто выпадает такая возможность.
— Дуквиц, Дуквиц, какая смешная фамилия! — сказала она.
— Я новый персонаж Микки Мауса, — сказал Дуквиц, находивший ее замечания дерзкими. Вообще-то он собирался уважительно расспросить ее о причинах странного приступа писания, однако вместо этого сказал: — Я нахожу, вы выглядите ужасно старомодно!
Это ее удивило. Ее несколько скованная сосредоточенность обернулась живым интересом.
— Что вы имеете в виду?
Из книг, которых он никогда не читал, из фильмов, содержание которых забыл, из картин, которые он, кажется, еще в школе рассматривал в монографиях издательства «Ровольт», ему на ум пришла фамилия Бронтё, и он ответил:
— Могу себе представить, что сестры Бронтё вот в таких соломенных шляпах и так же углубленно строчили свои книги.
Элизабет Пич явно была в восторге. Сравнение ей понравилось. Которая из сестер? — хотелось ей знать. Дуквиц попытался вспомнить. Сколько же их было, две или три? А как их звали он никогда понятия не имел. И ни разу не читал ни одной их строчки. Тут ему вспомнился фильм, который он добрых двенадцать лет назад видел с Хеленой в жилищной коммуне по телевизору.
— Wuthering Heights[13], — сказал он.
— You are the one and only diplomat who ever read Emily Bronte,[14] — сказала она.
С того момента Элизабет Пич всегда откладывала бумаги в сторону, когда Дуквиц приходил к бассейну, и они беседовали. Иногда по-английски, иногда по-немецки. Немецкий у нее был великолепный, но она постоянно уверяла его в обратном:
— Я не могу выразить себя, Гарри.
Итак, она называла его Гарри, выговаривая это имя не по-английски, а чтобы отличить его от бесчисленных англо-американских Гарри, с красивым темным «а» и именно берлинским горловым «р».
— Вы как те богачи, — сказал Гарри, — они тоже постоянно жалуются, что состояние у них совсем не так велико.
Элизабет сказала:
— Dear God[15], вас мне следует остерегаться, — и что-то почувствовалось, или должно было почувствоваться, словно от Гарри исходила опасность для ее брака.
Муж окликнул ее из бассейна, чтобы она посмотрела, как дети научились плавать. «Betty» назвал он ее. Но Betty крикнула, не оборачиваясь:
— I'm just talking.[16] — Она прокричала это без выражения прямо в лицо Гарри, как бы она крикнула в свои бумаги. Гарри сказал, что для тех людей, к которым она сейчас не оборачивается, в ней есть что-то от изрядной невменяемости. Слово «невменяемость» Элизабет Пич не поняла и попросила перевести. Зараженный ее манерой полиглотства, Гарри высокомерно сказал по испански: presente-ausente. Так называлась одна латино-американская пластинка. Элизабет была очарована. Ее муж Джордж говорит только лишь по-английски, сказала она. Гарри был польщен, однако нашел замечание неуместным и решил, что потом подойдет к бортику и поговорит с Джорджем о Betty в ее отношении к успехам детей в плавании. Через неделю Гарри принялся размышлять о том, как оно было бы, если бы мужем Элизабет был не этот морж фон Джордж, а Гарри. Он представил себе, как Бетти постепенно поняла бы, что он никогда не читал ни одного романа сестер Бронтё, что он не знает ни итальянского, ни испанского, лишь парочку цитат на том и другом, правда, неплохих. Короче говоря, что вообще-то он авантюрист.
— А вы знаете, что я авантюрист? — сказал он как-то раз.
— Поэтому вы мне нравитесь, — ответила Бетти.
Все умные люди авантюристы. Ее фильм про женщин Африки тоже чистой воды авантюра. Она же понятия не имеет об африканских женщинах. Прочла дюжину-другую спорных книжек, пообщалась с их авторами, побеседовала с несколькими африканками, разумеется, нетипичными, но вполне подходящими для европейского телефильма. А когда фильм будет готов, ее будут считать специалистом по африканским женщинам.
Подобое было и в профессиональном багаже Гарри. Дипломаты тоже известны тем, что ни о чем понятия не имеют, и только делают вид «будто бы». Бетти рассказала ему, что в Англии есть серия книг под названием «Bluff Your Wife», «Bluff Your Wife in Art», «Bluff Your Wife in Business» ну и так далее. «Bluff Your Wife in Sex»[17], спросил Гарри, тоже есть? Это было конкретным указанием на то, что в его часах бесед с Элизабет помехой выступал все возрастающий недостаток эротики. В конце концов, женщина она привлекательная, и между ними могло бы быть немного больше, считал он. Но Бетти сказала, что конечно, разумеется, в серии есть книга про то, как блефовать с помощью секса. Она проговорила это, словно внезапно утомившись, и Гарри рассердился. Это произошло что-то около месяца назад.
И вот Гарри с нетерпением вскрывает письма из Лондона и читает:
«Дорогой Гарри, дорогой Дуквиц, дорогой исполнительный помощник, дни с Вами были безусловно заразительны. То, что можно обращаться к Вам «дорогой Дуквиц», кажется мне изрядно комичным. Может ли человек по имени Дуквиц быть милым вообще? Имя — разумеется, только имя — отталкивает или вызвает смех. А Вас зовут фон Дуквиц. Это же означает «Монокль в глазу», корректно (Простите, о простите меня!), не настолько симпатично, но несмотря ни на что мило, даже более чем мило — можно себе представить… Даже если Ваш «фон» вечно напоминает мне излюбленную шутку моего отца о «телеФОНах» и «телеГРАФах». Вот Вам опять то знаменитое английское желание шутить, которым я иногда разрушаю Ваш серьезный язык. О, с этим языком у меня чертовские проблемы, так жаль, Гарри, что Вы не узнали меня в одиночестве, в моем собственном обстоянии! Но тогда Вы бы меня поняли до конца, а я ненавижу, если меня понимают. Un po di misterio, un po di tiramisu, non е vero? И тем не менее Вы, по иронии судьбы, тот единственный, кто меня знает, мое прошлое равно как и мое будущее, о чем я сама хотела бы знать больше. Кстати, а Вы знаете, что тезкой моей является не королева, а браунинг Баррета?»
Затем следовали некоторые разглагольствования о ее работе в качестве телевизионного редактора, которую она проклинала. Письмо заканчивалось так: «Давайте писать письма, хватит телефонов, довольно телевизора, долой газеты, назад в прошлое столетие, когда человека меньше информировали. С приветом к Вам из вероломного Альбиона Ваша Элизабет».
Гарри трижды прочел письмо, но так и не все понял. Элизабет была действительно немного мистической. Что бы это значило: единственный, кто меня знает? Он стал вспоминать послеполуденное времяпровождение около бассейна. Элизабет листала гигантскую книгу по искусству, килограммов на пять, которую она приволокла из Лондона в Африку, потому что, по ее словам, хотела сравнить изображения женщин в Европе с портретами африканок. Она полистала, поискала, и наконец показала Гарри одну картину:
— Look![18]
Это было одно из изображений «Суда Париса». Парис лениво облокотился на дерево и рассматривал трех богинь, три красивых, худых модели эпохи Возрождения, свободно демонстрировавших себя для вынесения приговора.
— А вы бы хотели оказаться на его месте? — спросила Элизабет.
Гарри ухмыльнулся:
— Не знаю.
Элизабет указала на лицо Париса:
— Он прекрасен в своей нерешительности.
Хотелось ли ей направить беседу на заброшенную тему секса? Во всяком случае, замечание было странным. Дуквиц соответственно громко рассмеялся. Джорж на секунду задержал команду «one-two-three»[19], сопровождатвшую плавательные движения молодняка. Элизабет взяла толстый фломастер и посередине репродукции написала фразу: «Решайтесь же, мой господин!» Гарри подумал, что бы произошло, накинься он сейчас на Бетти с бурыми объятиями.
Через два дня Джордж и дети изчезли из бассейна. «Они пошли на это фольклорное меропрятие», — сказала Бетти. Жители Яунде праздновали какую-то дату с танцами и хороводами. А поскольку в Яунде не происходило ничего особенного, все служащие всех посольств влоть до телефонистов и секретарей устремились на праздник. «А почему вы здесь?» — спросила Элизабет. «Ненавижу фольклор», — ответил Гарри. Он скорчил гримасу поскольку говорил правду. «Как чудесно вы при этом выглядите,» — сказала Элизабет и провела пальцами вдоль сомкнутых бровей Гарри. Гарри подхватил ее руку, и, находя глупой затею целовать тыльную сторону ладони и желая быть чуть более страстным, повернул руку ладонью вверх и припал к ней, скорее смущенно, чем лихо. «Don't do that, Duckwitz»[20], — сказала Элизабет и отняла руку. В собственных глазах Гарри выглядел восемнадцатилетним. Тогда это тоже было чем-то вроде обязанности. Следовало использовать каждый момент, позволявший эротические порывы! С тех пор ничего не изменилось. Только из-за того, что они были одни, он полагал, что следут как можно смелее искать близости с Бетти. Но поскольку настроение было другое, ничего не произошло. Он вновь отступил в надежную область общего настроя беседы. Он сказал: «Терпеть не могу это битье в барабаны. Фольклор всегда связан с этими барабанами. При каждом ударе думаешь про нацистов. Какая мерзость!»
— Oh, yes,[21] — очень тепло сказала Элизабет. И у Гарри возникло чувство, что за это милое согласие, пожалуй, стоит благодарить невозобновление его попыток к сближению.
Стало тихо. С одной из площадей доносились пение танцоров и удары в барабаны. «Ну и вопли!» — сказал Гарри. И добавил:
— Высшая форма фольклора — это война.
— Exactly![22] — сказала Элизабет. Потом она посмотрела на Гарри почти сверкющими глазами и записала на листке бумаги: «Высшая форма фольклора это война». Протянув листок Гарри, она сказала:
— Сохраните, вы можете этим гордиться.
И вот Гарри подошел к своему письменному столу, достал из ящика заботливо сохранненый листок и стал изучать сентенцию, словно она могла послужить ключом к разгадке некой тайны. Теперь, через полтора месяца после того дурацкого праздника, сентенция, восхваленная Элизабет, больше не имела настоящей силы.
Сейчас актуальной была подготовка к транс-камерунскому ралли, которая доводила его до белого каления. Теперь ралли казалось ему первоначальной формой войны.
Он не знал наверняка, что и думать о письме Элизабет. Он чувствовал себя неуверенно, как в тот последний день, когда они остались вдвоем, и он неудачно рискнул поцеловать ее в ладонь. Ее письмо польстило ему, и он ощутил себя немного влюбленным. В этом были виноваты ее «о», эти маленькие, театральные и все-таки совершенно настоящие «о» в письме. Только в каком же тоне ей ответить? Он прошел в общей зале к словарям, чтобы справиться о браунинге Элизабет Баррет. Но в малом Брокгаузе 50-х годов ничего не было. Он сейчас же закажет приличный словарь в боннском центре. Этот халтурный продукт, уже издали напоминающий об эпохе столиков-«почек»[23], был отвратителен. Штатные управляющие в боннском центре поймут требование Дуквица, обоснованное тем аргументом, что справочной литературе времен холодной войны нечего делать в современном посольстве немецкой федерации. Гарри взял бумагу и ручку, сходил в английское посольство и одолжил там соответствующий том Британской энциклопедии, потом пошел дальше, к итальянскому посольству, уселся на бортик бассейна там, где всегда сидела Элизабет, и, почитав словарь, стал писать:
«Дорогая Элизабет, не беспокойтесь, Вы останетесь мистической женщиной и более чем «un po». Но боюсь, что я более неуклюж, чем Вы думаете. Надеюсь, Вам известно, что «tiramisu» не только десерт, но и тонкая любовная игра? Разумеется, Вам это известно. Вы так мило сияете. Я такой беспомощный и прямолинейный. Вы владеете моим языком лучше меня. Поэтому сейчас я скажу по-английски: Bluff your way in Browning.[24] Вы так и поступаете. Вы блефуете, а мне остается лишь спросить: как понимать Ваше утверждение, что Вы чувствуете себя сродни браунингу Элизабет Баррет? Она страдала у себя на родине и грезила о юге, пока не похитила своего будущего мужа и не увезла его в страну своей мечты, где она сама — раз-два-три! — поправилась. Элизабет! Прошу Вас! Что это значит? Мне приехать за Вами? Я знаю, что похитители не спрашивают заранее. Я испортил все навсегда. В тоске вместе с Вами
Ваш Гарри»
Он некоторое время помедлил, играя ручкой. Потом добавил:
«Вы помните картину с Парисом и тремя шлюшками? «Решайтесь же, мой господин!» — написали Вы. Я решился. Я женюсь.»
Глава 5
Как в поле зрения Гарри фон Дуквица попадает Рита Нурани-Ким и как вскоре после этого у нее отваливается ноготь. Почему Гарри совершает сделку с ее папой и как посол в Яунде получает редкую возможность поиграть в сотрудника службы гражданских состояний. Как Гарри вопреки радостям брака возобновляет контакт со своей прежней подругой Хеленой и почему он не хочет вступаться за взятого под стражу фотографа. Про очень печальную встречу с коллегой Хеннерсдорффом и как Рита с Гарри наконец покидают Африку.
— Поздравляю! — Посол потряс руку сначала Рите, потом Гарри. — Надеюсь, я все правильно сделал, — сказал он. Он проводил первую в своей посольской жизни регистрацию брака.
— Быстро и безболезненно, — добавил он.
— What did he say?[25] — спросила Рита. Она не знала ни единого слова по-немецки. Сегодня Рита опять выглядела восемнадцатилетней. Ей было 24. Мать из Кореи, отец из Индии. Она могла выглядеть очень по-разному. Гарри был с ней знаком полтора месяца. Он находил, что до полудня она выглядит как кореянка, в сумерках — как индуска, а во второй половине дня, странное дело, как француженка. Иногда ее хихиканье превращалось в смех.
Она быстро взглянула в свидетельство о браке. «Доктор Гарри Фрайхерр фон Дуквиц, протестант, рожденный 18 октября 1945 года в Берлине, проживающий в данное время в Яунде, и Рита Нурани-Ким, католичка, рожденная 24 августа 1955 года в Бомбее, проживающая в Яунде, поженились 8 ноября 1979 года в посольстве Демократической Республики Германии в Яунде/Камерун». Напечатанное на бланке «Служащий загса» было исправлено на «исполняющий обязанности служащего загса посол».
— Было мило с его стороны не произносить выспренных напутствий, — сказал Дуквиц. Жениться следует только в консульствах. Свидетелями были отец Риты и Хеннерсдорфф. Риту поцеловали. Отец — безразлично, Хеннерсдорфф — смущенно. Еще одно рукопожатие новоиспеченному супругу. — Не забудьте, сегодня вечером, — сказал Дуквиц, — праздничный ужин, в семь часов в отеле.
Отец Риты отвез новобрачных домой. Гарри и Рита устроились за задних сиденьях «ситроена». Они радовались. Гарри покусывал мочку ритиного уха.
Он переехал из холостяцкого бунгало в дом побольше в дипломатическом квартале. С маленькой верандой. По сравнению с обувной коробкой посольской резиденции это было сносно. Господин Нурани высадил их перед домом. Он держался официально и не выказывал желания зайти в дом вместе с ними. На Рите и сегодня были обычные синие джинсы и белая футболка без рисунка. Да, так можно жениться. Они тут же отправились в спальню и быстро и деловито разделись. Это было то, чего им не хватало. Обоим. Ей и ему. Рите и Гарри. Все время. Сегодня тоже. И прежде всего несколько месяцев до этого. Когда они еще не были знакомы, им этого не хватало. Сейчас ЭТО было здесь, и оно их связывало.
Все произошло очень быстро. Он заметил Риту полтора месяца назад. На приеме у французов. Здесь, в Яунде, нельзя было пропускать приемы. Ничего другого не происходило. Французское посольство было во много раз больше немецкого. В Камеруне жили десятки тысяч французов. Тысячи в Яунде. Yaoundе, говорили и писали они, конечно. Рита стояла перед зеркалом в прихожей и проверяла, как сидит на ней юбка. Шелковая юбка с разрезами по бокам. Желтого цвета. Она с кем говорила по-французски, и Гарри принял ее за француженку. Может быть, кто-то из ее родителей был из Вьетнама. Она улыбнулась своему отражению. У нее была милая улыбка. Если она не улыбалась, в ней не было ничего захватывающего. Эта манера не стесняясь рассматривать себя в зеркале была безусловно захватывающей.
Позднее Гарри с ней заговорил. Тогда она внезапно стала похожа на индуску. Ее отец был местным дельцом. Мать, разведясь с ним, жила в Сеуле. Потом Риту попросили поиграть на пианино. Она не стала медлить и секунды, и сыграла несколько коротких пьес Гайдна и Бетховена, и по желанию супруги французского посла — жуткую фортепианную версию «My Lord»[26]. Все зааплодировали, а Гарри был уверен, что потеряет ее среди 120 человек гостей, однако Рита вернулась к нему, и они продолжили общение.
Мысль о Рите не выходила у него из головы. Когда он, спустя два дня, по какому-то другому поводу встретил ее снова, он уже заранее надеялся на эту встречу. Весь вечер они провели вместе. Гарри был в восторге от ее индусского акцента. Он проводил ее домой, потом она проводила его, и поскольку ее нельзя было отпускать обратно одну в дикой Африке, она осталась в холостяцком жилище Гарри. Гарри ради проформы наполнил два бокала, чтобы хлебнуть для храбрости. После первого глотка они уже лежали в постели. Если это было высшим наслждением, то его вершиной оказался полный дрожи ритин оргазм. Такого элекризующего приступа чувственнности Гарри не переживал еще ни у одной женщины. Это не могло быть игрой, нет, невозможно, это было по-настоящему, только такой подлинный 150 % оргазм мог привести тело к подобной вибрации.
На следующее утро его ждали два сюрприза. Пока Рита была в ванной, Гарри на глаза попалось жирное пятно крови на простыне. Он ужаснулся. Неужели здесь без его ведома произошла так называемая дефлорация? Именно то, к чему в Индии, судя по слухам, девушки готовятся годами, за что мужчины отдают целые состояния, этой ночью отнюдь не беззвучно, но все-таки нормальным образом пролилось кровавым пятном? Неприятное чувство. Этакого вторжения. Гарри не хотел вторгаться. Пятно было жутко жирным. Кровь индусской девственницы. Или у Риты просто была менструация, но тогда это выглядит иначе, насколько он мог припомнить свои бесчинства с Хеленой.
Но все-таки пятно было каким-то необычным, и когда он присмотрелся, то обнаружил, что это искусственный ноготь. Для наклеивания на обычные. Когда Рита вернулась из ванной, он заметил, что ногти у нее очень короткие. Наверно, раньше грызла или все еще грызет? Не похоже, чтобы Рита была с придурью. Или варварско-корейская активная мамаша так коротко обрезала ребенку ногти, чтобы он лучше играл на пианино? Такое можно ожидать от азиатов. И не только. Однако Гарри не стал заговаривать об этой штуке, и несколько минут спустя у Риты опять обнаружились красные кошачьи когти.
Во время завтрака, когда разговор медленно стал заходит с тупик, в доме неожиданно появился размахивающий руками мужчина. Что это еще за идиот? Оказалось, ритин папа. Он был вне себя оттого, что Рита здесь ночевала. Она должна немедленно вернуться домой! Гарри ничего не оставалось, как мужественно и по-мужски взять Риту под свою защиту. «She'll stay here!»[27] Требование вежливости. «Thank you,»[28] — сказала Рита.
Целую неделю Гарри и Рита жили от оргазма к оргазму. Когда выснилось, что у Риты есть мотоцикл, и не какой-то визжащий, а большой, блестящий, низко тарахтящий мотоцикл, дело приобрело другой оборот. Появилось чувство обоюдной принадлежности. Они немного поездили по окрестностям, Гарри вспоминал поездки с Хеленой на древней машине возлюбленного тетки Урзулы, которая, как его труба, осталась где-то во Франкфурте. Это был ритин мотоцикл, Гарри опробовал его, но водила Рита, а Гарри сидел сзади. Это было хорошо, потому что совсем иначе, чем с Хеленой, он возбуждался, прижимаясь к ритиному девичьему тельцу. Жизненно необходимое объятие.
Чувство это не было могучей страстью или слепой любовью. Слово «любовь» вообще не упоминалось в эти дни. Не было мучительных приступов тоски, не было гложущих мыслей о том, как дальше, которые придают часам любовных утех пикантный привкус. Никогда не было ощущения пустоты после их «партий» — наоборот, он словно ободрялся на какое-то время.
Друг с другом они говорили по-английски. В английском Гарри приходилось быть конкретным, у него не было соблазна растекаться мыслью по древу, на это его запасов английского не хватало. В постели они общались по-французски. Занятия любовью не комментировались. Но они получили свое название. Она называла их «unе partie». Как игроки в карты. Есть желание составить партию в скат или канасту, у них было желание составить партию в постели — «faire unе partie». А поскольку partie имеет значение «часть тела», ритины маленькие грудки, плоский живот и попка тоже назывались «unе partie». Они делали «unе partie» и обладали «unе partie». И когда Рита однажды сказала туманную фразу «A woman should speak the language of her man»[29], Гарри смог ее успокоить тем, что она уже знает самое главное слово, да-да, потому что «partie» по-немецки более или менее означает то же самое и произносится похоже. «Faire unе partie» — где-то поблизости парило «faire l'amour»[30], и здесь присутствовал невысказанный отзвук любви. «Listen, Rita,» — сказал Гарри, — «first lesson: die Liebe ist mit von der Partie[31]». А «ma partie» и «ta partie»[32].
Последнее было скорее абсурдным моментом.
Однако надо об этом хоть словом с Хеленой перемолвиться, подумал Гарри, и задержался в посольстве, а когда все ушли, позвонил ей во Франкфурт. Хелена совершенно не удивилась, что обеспокоило Гарри. Впервые за много лет этот звонок, а она совсем не обескуражена. «Минутку», — сказала она и сделала потише звук телевизора.
— Я звоню из Африки, — воскликнул Гарри.
Это на Хелену тоже не подействовало.
— Конечно, — сказала она. Скорее всего она знала от Фрица, где он находится. Она ела яблоко.
— Это международный разговор, — сказал Гарри.
— А который час у тебя? — спросила Хелена.
— У нас столько же, сколько у вас, — сказал Гарри. При этом на душе у него потеплело.
Но, похоже, на Хелену известие о времени не произвело никакого впечатления. Где-то вдали был слышен восьмичасовой гонг, извещающий начало вечерних новостей «Tagesschau», и вот обозрение началось. «Ну, рассказывай!» Ее деловитость была грандиозной, считал Гарри. Ему не хотелось сейчас выяснять ее мнение о женитьбе, во-первых, вообще, а во-вторых, ее старого друга и любовника Гарри. По ее голосу не было похоже, что она сейчас будет рассужадать с ним на эту тему.
— Ты одна? — спросил Гарри.
— Да, а почему?
— Ну, могло же быть так, что ты не одна.
— Да, могло бы, — сказала Хелена. Она наверняка смотрела и слушала новости, пока разговор блуждал по руслу туда-сюда длиной в несколько тысяч километров. Потому что она внезапно проговорила: — Визит папы римского в Турцию тебя не заинтересует, зато будет интересно, наверно, что «зеленые» сидят в городском совете Бремена. Впервые они куда-то попали.
— Я скоро женюсь, — сказал Гарри.
Но и это не вывело Хелену из равновесия.
— На негритянской мамочке?
— Нет, на индусской девственнице, — сказал Гарри.
После этого разговора он принял окончательное решение жениться. Это было смешно, странно и имело преимущества. Это был пакт с жизнью. К чему болтовня с Хеленой, жеманный флирт с Элизабет Пич. Жизнь звалась Рита. У нее были свои a partie. Жизнь была облачена в шелковую юбку с разрезами. Жизнь ездила на мотоцикле, у нее были накладные искусственные ногти, она была музыкальна.
Рита хихикала долго и светло, когда он порывисто объявил о женитьбе. Они заказали бумаги, Гарри переехал в дом побольше и пребывал в отличнейшем настроении.
И вот Рита лежала рядом с ним и спала, и первая партия в качестве супружеской пары оказалась такой же как прежние партии в соответствии с ожиданиями.
Последние дни перед женитьбой были отмечены еще несколькими приятными осложнениями.
Поскольку Гарри ни в коем случае не хотел иметь детей, он настойчиво расспросил Риту еще перед самой первой партией, еще владея собой, как насчет предохранения. «No problem,»[33] — ответила Рита, она принимает пилюли. Однако выяснилось, что Рита их не принимала и принимать не будет. Она уже пережила один аборт, при котором ей удалили матку. Она никогда не сможет иметь детей. Гарри считал, что это замечательно и удобно, однако она сама могла бы сказать ему об этом. Могло же случиться, что его существом владело бы страстное желание иметь дюжину детишек. Получалось некорректно. Он выругался, Рита разрыдалась, и он стал ее утешать.
Он отправился к ритиному папе и пожаловался на нее. «И как мне теперь обзавестись детьми?»
Разумеется, можно было себе представить, что льстивый мистер Нурани ничего об этом не знал. Отцам вообще не обязательно заниматься проблемами матки их взрослых дочерей. Но ему это было известно. «That's why I warned you,»[34] — сказал он и при этом состроил бесстыдную гримасу. Гарри не исключал, что стал жертвой сговора отца с дочерью. Рита с точки зрения ее менталитета была, так сказать, вдвойне обесцененной, поскольку передавалась мужу без девственной плевы и матки. А Гарри был блестящей партией. Немецкий аристократ. Падшая Рита будет Freifrau von Duckwitz. Если это действительно был заговор, то он оказался чертовски хорош, думал Гарри. В ритиных качествах ничего не изменилось. Ее оргазм с дрожью, ее юбка с разрезом, ее мотоцикл, ее пианино. И ногти, кажется, с течением времени отрастут. Мы же не XIX веке живем. Слава господу. Честь была шуткой. К черту со всеми ценностями.
И все равно Гарри не мог расслабиться в присутствии ритиного папы. Раньше друг друга вызывали на дуэль, теперь требуют компенсации. Свадьба была заказана. Но еще не проведена. Поэтому Гарри можно было угрожать и торговаться. За полчаса он справился с этим грязным подлизой. Тот был готов к заключению договора. Он подписал обязательство поддерживать свою дочь материально и после замужества. Гарри вспомнил про ритин мотоцикл и вставил в выторгованную сумму месячной выплаты следующее дополнение: «Величина материальной помощи независимо от года не должна быть ниже соответствующей стоимости 1000 литров бензина.» Похоже, мистер Нурани был одновременно в ужасе и восторге от деловитости своего будущего зятя.
Сезон дождей начался, сезон дождей закончился, однако это не могло заменить смены времен года у подножия Альп или хотя бы во франкфуртском Грюнебургском парке. Посол без устали бился за соответствующее место расквартирования. Все-таки посол носил титул «Превосходительство», и его превосходительство обитало в резиденции. Так официально называлась квартира посла. Но что делать, если резиденция эта выглядела как дрянная туристская база, где отсуствовали кондиционеры. Если на приеме оказывалось больше десяти человек, температура в жаркие месяцы была невообразимой. Частенько приходилось располагаться в помещениях канцелярии посольства. Постыдное состояние. В этом вопросе Дуквиц целиком и полностью был на стороне посла и его страдающей супруги. «Для их засранских маневров в НАТО у них деньги есть, а здесь не хватает даже на то, чтобы оплатить пригодный для жилья дом!» Полное согласие. Эти там, в Бонне! Всех их там! Всех!
А потом Дуквиц наконец занялся настоящим правовым нарушением. В конце концов, он был референтом по экономике и праву. Экономика ему уже осточертела. Только недавно он должен был воспрепятствовать тому, чтобы одна немецкая фирма навязывала камерунцам введение TUV[35], тогда как скрепленные колючей проволокой кузовы машин были самым обаятельным моментом в Африке.
На сей раз защиты у права искал не какой-нибудь обчищенный путешественник, а взятый под арест фотограф. Хеннерсдорфф положил бумаги Гарри на письменный стол с припиской на листке: «Удачи!»
Сначала Дуквиц прочел письмо от некоего майора полиции и добровольного директора тюрьмы из Мароуа, столицы провинции на самом севере страны. На великолепном французском языке тот излагал обстоятельства дела: в находящемся поблизости от Мароуа национальном парке Ваза был задержан злоумышленник. Он нарушил два распоряжения. Во-первых, отклонился от предписанного в национальном парке маршрута, и во-вторых, занимался запрещенной в этом районе фотосъемкой. Его пару раз предостерегли, при этом он нанес оскорбление находяшимся на государственной службе сторожам, но фотографировать не прекратил. Сторожа не стали заявлять на него из-за нанесенных оскорблений. Минимальное наказание за оба других нарушения равнялось 23 дням тюрьмы.
Дуквиц взглянул на календарь. 11 июня 1980 года. Надо спешить. Срок на подачу апелляции истекал через несколько дней. Странно, в то время как в Германии на каждый запрет реагируют с яростью, к тому же, если он исходит от человека в форме, здесь в Камеруне, подобное полицеское сообщение выглядело исключительно добродушно. С другой стороны, что касается запретов на фотосъемку, то у африканцев тут действительно был бзик.
В течение времени в посольство то и дело обращались фотографы и операторы природной съемки с просьбой поддержать какое либо разрешение. Дуквиц при случае просматривал эти отснятые материалы и был очарован, потому что они с их огромными телевиками могли показать, что в животном мире дела частенько творились отвратительные. В одном фильме юные львы приблизились к львице, играющей с двумя своими детенышами. Лев-отец был неизвестно где и не интересовался материнским счастьем. И тут произошло следующее. Хулиганистые львы подхватили детенышей, прихватив их за затылки, швырнули в воздух и мертвые малыши остались лежать в степи. Львица-мать не только в бездействии смотрела на происходящее, но и похотливо поворачивала к убийцам свой зад. И они действительно заполучили то, чего хотели.
Дуквиц был вне себя. Фашизм в зверином рейхе. Автор фильма смотрел на это иначе. Особый случай селекции.
Другой оператор снимал в Танзании фильм про жизнь каких-то подземных тварей. Он проник под землю с помощью специальных объективов. Это были не только самые неаппетитные существа на свете, у них была еще и полностью извращенная иерархия. Кожа у них была как у ощипанных кур, и лопали они действительно испражнения своей королевы, которую сами кормили вкусными корешками. Королева оказалась самым отвратительным созданием, она в течение всей своей жизни не сдвигалась с места и терпела вокруг себя лишь дворовую челядь в виде так называемых служек, которых она заблаговременно пометила своим урином и фекалиями, как сказал оператор. «И это называется творение божие!» — возопил Гарри в подлинном отчаянии, но оператор сказал, что нельзя, мол, воспринимать все так буквально.
Людей, которые одаривали мир столь ценными документальными свидетельствами, не следовало тут же бросать в тюрьму только из-за того, что они нарушили некое фильмо- или фотографическое предписание, подумал Дуквиц и взялся за письмо, принадлежавшее перу арестованного фотографа. Даже если ты сидишь в темнице, иметь такой почерк непростительно. Еще хуже был тон письма: автор был возмущен, оскорблен тем, что негры отважились пойти на подобное, хватать его, великого художника. Он ожидал от немецкого посольства немедленных действий. А чтобы доказать свое фотографическое мастерство, он приложил к письму иллюстрации, в которых содержалась история, снятая им в Кении. Дуквиц принялся листать фотографии. Человек побывал в раю. В красивейших уголках Кении живописно распологались хищные кошки, мирно перевивались змеи, а между ними, не менее элегантно, облокотившись на деревья, коленопреклоненная, словно пантера, вытягивалась и потягивалась действительно великолепная голая женщина с бесконечными ногами и любимой Гарри маленькой грудью.
Майор полиции из Мароуа приложил в качестве доказательства совершенного преступления несколько пленок. Дуквиц отнес их в проявку и заказал большие снимки. Через два дня на его письменном столе лежало около 300 цветных фотографий. Одна французская спецлаборатория благодарила за заказ и выставляла счет в размере 556 000 африканских франков, что соответствовало 3600 немецким маркам. Это могло повлечь за собой неприятности. На сей раз местом проведения шоу был Ваза-парк. Голая фотомодель перед буйволами, уютно устроившись рядом с гепардом, которому должно быть ввели снотворное, перед бегемотами и жирафами — эротический промах, с антилопами и газелями и потом еще переходя вброд озеро Чад, как Сильвана Магьяно на берегах По, только на той еще что-то было надето.
Гарри прихватил фотографии домой и пригласил Хеннерсдоффа. Увы, он пришел с женой. После еды Гарри продемонстрировал снимки. «God, — сказала Рита, — she is sexy, isn't she!»[36]
— Отвратительно! — сказал Хеннерсдорфф и передал фотографии дальше.
Теперь была очередь Хеннерсдорффши, она воскликнула:
— Великолепно, как снято!
Три высказывания, но ни одного решения. Фотографии были сексапильны, отвратительны, и еще было интересно, как фотограф смог их отснять. Гарри попытался объяснить свою позицию: с одной стороны, он не мог не поддаться этой райской эротике, с другой стороны, он тоже считал фотографии отвратительными, и настолько, что хотел оставить фотографа гнить в той дыре. Однако, говоря точно, в тюрьме должны сидеть другие люди, канцлер, папы римские, нелегальные продавцы оружия, президенты, солдаты, промышленники, а не фотографы.
— Облачение реальности в определенную форму не есть смертный грех, это всего лишь ложь, — сказал Дуквиц.
— Would you please speak English![37] — сказала Рита.
На следующий день Дуквиц позвонил в полицейское управление Мароуа. Только после полудня он дозвонился до майора. Тот был пьян и тут же дал понять Дуквицу, что закон есть закон, и каждый день досрочного освобождения немецкого фотографа будет стоить цифровых наручных часов, однако, он повторит по буквам, не системы LED, а системы LCD[38], это самые новые, они появились в этом году в Париже. Нет, обычные наручные часы он не возьмет. Когда Дуквиц намеревался закончить разговор, он стал сбивать цену на часы. Наконец Дуквиц согласился. Уже два дня спустя фотограф появился в посольстве. Не благодарный, а обиженный, потому что все продолжалось так долго и потому что никто из посольства лично не забрал его. Он хотел получить назад свои пленки. Когда он увидел толстую стопку снимков, он страшно удивился и тут же захотел спрятать добычу в свою бездонную фотосумку. «Стоп!» — сказал Дуквиц и показал ему счет.
— Только за наличные.
— Да вы с ума сошли, — заявил фотограф и обозвал Дуквица типичным немецким чиновником.
— Лучше быть немецким чиновником чем сволочным фотографом типа вас! — ответил Дуквиц. Ему следовало дать майору из северного Камеруна цифровые часы только за то, чтобы тот подержал этого фотографа у себя в тюрьме подольше.
Через пару дней после этого происшествия Дуквиц очень рано пошел к себе в офис. Он хотел без помех созвониться с Хеленой во Франкфурте. Уборщица, уходя вечером из посольства, всегда оставляла двери во все офисы открытыми, чтобы хотя бы ночью помещение немного проветрилось. Дверь к Хеннерсдорфу была закрыта, что означало, что он уже здесь. В такую рань? Неужели у него действительно так много дел или он тоже хотел без стеснения дешево поговорить с Германией? Может, у него тоже есть старая подруга, которой он может пожаловаться на свою гремящую женушку шток-розу? Или он звонит своей матери в Люнебург или Уэльцен. Он ведь из тех мест. Стены посольского здания были тонкими, но Хеннерсдорффа не было слышно. Возможно, он действительно работал, рассматривая этот огромный счет из фотолаборатории и размышляя, на какую статью расходов его занести. Вообще-то он был слишком корректен, чтобы использовать служебный телефон в личных целях. Центральная станция уже пригрозила, что соединит все служебные аппараты с компьютером, который будет регистрировать каждый телефонный разговор и его продолжительность.
Но, может быть, Хеннерсдорффа здесь вовсе не было, и дверь была закрыта по другой причине. Дуквиц встал, прошел через прихожую к двери Хеннерсдорффа, быстро постучал и вошел. Быть не может! Хеннерсдорфф, прикорнувший прямо здесь! Пришел и задремал за письменным столом. Не очень-то поспишь вот так, приложившись головой к его поверхности. Дуквиц немного пощебетал и посвистал, и даже дошел до петушиного крика. Однако Хеннерсдорфф не двигался. Было что-то ужасное в том, как он лежал. Дуквиц подошел к нему, и прикоснувшись, хотел его слегка потрясти, однако тот не поддавался. Он окоченел. Он был мертв. Дуквиц хотел его обнять, разбудить, оживить, разговорить. Но Хеннерсдорфф был тяжелым, мертвым, чужим, никаким. Так и остался, пригнувшись на край стола. Стакан с водой, пустая стеклянная трубочка, классические реквизиты самоубийцы, на краю раковины. Было слишком поздно. Стало быть, торопиться некуда. Теперь можно спокойно прощаться.
Гарри толкнул дверь и сел. Как редко он видел мертвых. Ребенком Гарри видел мертвую тетку Урзулу. Она умерла в своей комнате. Последние недели она больше не поднималась с постели. У нее было плохо с печенью. «Пила как матрос,» — всегда повторяла тетка Хуберта. Она пила еще и перед самым концом. Потому что уже не было смысла не пить. Она сделала Гарри сообщником своей неразумности. Врач и другие тетки говорили о неразумности. Она указала на комод, в его верхнем ящике лежало портмоне. «Божоле» — сказала она, сладко улыбнувшись, — «и пачку «Нила»». Гарри сходил в магазин ЭДЕКА и принес довольствие. Он гордился тем, что может вытащить пробку из бутылки. Для этого тетка Урзула была уже слишком слаба. Она все больше худела и слабела. Она уже не могла держать бокан с вином. Однажды утром Гарри как обычно вошел к ней в комнату. Такой он ее никогда не видел. Она не подняла головы, но одна рука шевелилась.
— Как ты себя чувствуешь? — задал Гарри свой обычный утренний вопрос. — Дурацкий вопрос, конечно, хорошо, — еще несколько дней назад отвечала она и дарила Гарри пятимарковую банкноту. Сегодня она ничего не сказала. Ее рука двигалась, как у человека, слушающего музыку. «Вот дерьмо,» — сказал Гарри спустя какое-то время. Тогда тетка Урзула выпрямилась в своей постели и сказала:
— Дерьмо, словечко что надо!
Она обессиленно улыбнулась и опять легла. Вечером она умерла. Гарри не было. Он увидел ее только на другое утро. У него в ушах все еще звучали ее последняя фраза:
— Дерьмо, словечко что надо!
Словно весть, словно завещание. Нельзя было забывать, что в конечном итоге все дерьмо. Это означало, что про это следовало постоянно забывать, но опять и опять вспоминать.
Дерьмовая смерть. Дерьмовая жизнь. Под правой рукой Хеннрсдорффа лежала раскрытая книга. Гарри вытащил ее. Рука была тяжелой. Дневник. Последняя запись сделана неделю назад Потом вчерашняя дата, потом конец. Наверно, он пришел уже вчера вечером, чтобы умереть.
Гарри был потрясен, когда прочел заметки, потому что он нашел в них короткое и четкое подтверждение своим скороспелым предположениям, что Хеннерсдорфф страдает из-за своей жены. Нигде никаких слов похожих на дерьмо. Может, Хеннерсдорфф покончил с жизнью, потому что никогда не мог сказать дерьмо.
«Роза ужасна по отношению к детям», — «Роза нетерпелива», — ни слова о себе, все время только жена. «Роза сегодня весьма ядовита», — «Роза опять невыносима». Бог мой, Хеннерсдорфф, неужели из-за этого нужно идти на самоубийство. «Роза медоточива с Дуквицем», — Хеннерсдорфф и это заметил. Гарри всегда опасался, что она ставила его с его привилегированной карьерой и академическим образованием в пример своему измученному мужу. Такое можно было от нее ожидать. Слава богу, об этом в дневнике не упоминалось. Внезапно Гарри бросилась в глаза запись, сделанная в день его свадьбы: «Свидетель у Дуквица. Счастливчик.»
Гарри забрал дневник себе. Да, ему позволительно. Как бы плоха ни была шток-роза, не хватало ей еще и это прочесть. Хотя она этого заслужила. Но в наказание достаточно смерти. Наверно, она все-таки ничего не поймет. Этого следовало ожидать.
Гарри положил руку на спину Хеннерсдорффу. И не ощутил, что она мертва. «Прощай, мой славный, я тебя не забуду,» — сказал Гарри, и глаза его увлажнились. Потом он пошел к себе в офис и позвонил Хеннерсдоффше. Она проявила исключительную деловитость, спросив его, имеет ли еще смысл сообщать о происшедшем врачу. Нет. Она очень быстро появилась в здании посольства. Гарри услышал ее шаги. Через пару минут она вошла в его офис.
— Мне жаль, что именно вы его обнаружили, — сказала она, словно просила прощения за обвинение.
— Мне жаль, что его больше нет, — сказал Дуквиц.
Хеннерсдорффа перевезли в Германию. Семейное захоронение, где-то в Люнебургской Пустоши, Хеннерсдорффша приезжала еще раз, чтобы организовать перезд в шток-розовую Нижнюю Саксонию.
Умирая тогда у подножия Альп, тетка Урзула оставила за собой одно-другое красное словцо, которые Гарри понял позже. «Благословление для меня пустой звук», — сказала она, — «поэтому я совершенно не желаю благословлять преходящее». Однако потом, когда стало не до шуток и дело дошло до обсуждения формальностей, она удивила других тетек своей последней волей: «Пожалуйста, никаких погребений, пепел по ветру, детки мои!»
И вот, после трех лет пребывания в Африке, Дуквиц все больше чувствовал, что в политическом отношении становится небрежнее. Чем больше ты в курсе дел, тем меньше можешь сделать. Все прилагавшие усилия совершали ошибки. Каждый высказывал свое недовольство по поводу помощи по развитию, никто не мог сделать лучше. Может быть, думал Дуквиц, стоит улучшить не слишком неэффективную систему коррупции. Может, здесь собака зарыта. Если альтруизм породил столько пакости, тогда, возможно, выходом стало бы культивировать корыстолюбие. И распространение европейской культуры в Африке! Была ли она вообще бесполезной, вредной, смешной и был ли в ней смысл? Три года наблюдений, а ясности меньше, чем когда бы то ни было. Поначалу он был все-таки против этого, теперь ему стало безразлично. Хорошо только то, что он не очутился в Южной Африке. Со своей мягкотелостью он скорее всего относился бы к тем, кто утверждает, что он против апартеида, но считает, что если отменить его немедленно, это станет катастрофой для всего континента.
Ему не хватает жены посла. Божественно, как она ведет себя сейчас, по прошествии стольких лет, словно только вчера была осень 1977-го, и угнали самолет «Люфтганзы» в Сомали, словно удаленное отсюда на 4000 километров Могадишу находится поблизости и словно все служащие посольства и их близкие чудом избежали нападения террористов[39]. Чтобы ее позлить, Дуквиц не мешкая объявил, что в свое время, будучи адвокатом, только и делал, что защищал террористов. А поскольку в Африке не было ГДР, куда в таких случаях тебе желали убраться, жена посла сказала:
— Отправляйтесь на юг, в Анголу или Мозамбик, будет вам там ваш любимый террор!
Она была права. Но признать это означало нарушить правила игры. Тогда Дуквиц ответил:
— Я сделаю заявку на мое следующее пребывание за границей в Южную Африку. Но только после того как женюсь на готтентотке.
Он должен был безмерно радоваться тому, что не поехал в Мозамбик. Народная республика. Терзающее представление о том, что спустя более десяти лет ты должен слышать все те же лозунги: «Мобилизация масс!» — «Обострение классовой борьбы!» — здесь уже по-настоящему, это тебе не в бесконечной болтовне в квартирной общине или в суматохе демонстраций. И потом ты должен понимать, что режим поставил перед собой благородную задачу устранения колониальных структур. Совершенно ясно, что всякий западный дипломат вернется домой, став яростным антикоммунистом. Он этого избежал. Здесь, в Камеруне не было властителей, приобщившихся в Москве к тайнам марксизма-ленинизма с целью апробирования их на африканском континенте. По меньшей мере, ему не надо было наблюдать за этими судорогами и сообщать о них в Бонн. И все равно он устал.
С Ритой нельзя было обсуждать парадоксы бытия, и это тоже было парадоксом: а именно, с одной стороны, жаль, с другой, наоборот замечательно. Не имело смысла все время совать свой нос в беду. Прежде всего потому, что это вовсе не такая уж беспрерывная беда. В конце концов, в Камеруне и предположительно в Южной Африке тоже радовались жизни.
После первой службы за границей наступало как правило время для второй. Дуквицу казалось, что он совершенно запутался в своей системе оценок. Теперь еще три года где-нибудь в другом месте, и он совершено не будет знать, что к чему. Лучше наблюдать со стороны за тем, как делаются пакости, чем делать их самому.
Было бы нелегко неженатому отправляться бог знает куда. Теперь он мог подставить Риту. «Моей жене нужно сначала как следует выучить немецкий», — сказал он в телефонном разговоре с Бонном, — «она не может заниматься этим ни в Финляндии, ни в Канаде или где-то еще». В отделе кадров проявили понимание. В то время как Гарри обдумывал, как свить семейное гнездо в Бонне, Рита очень хотела навестить своих многочисленных родственников. Полтора месяца в Сеуле по материнской линии, а потом полтора месяца в Индии по отцовской. Перед этим остановится где-то в Уганде, где она ребенком пару лет ходила в школу, перед тем как попала в интернат в Англии.
Рита ни слова не сказала о том, каково будет Гарри без нее, и обойдется ли он без постельных партий. Она мягко поставила его перед свершившимися фактами. Ни слова сожаления о том, что они не увидятся несколько месяцев. Гарри был в восторге от отсутствия в Рите сентиментальности. Он поступил правильно, женившись на ней. Рита попросила его позабоиться о том, что пианино перевезли аккуратно. «И еще мотоцикл», — добавил Гарри. «Oh, no, don't mind the bike,»[40] — сказала Рита. Пусть Гарри его продаст. «Ни в коем случае,» — ответил Гарри.
Рита заказала билет на самолет по телефону. Кампала, Сеул, Бомбей, Бонн. Словно это совершенно нормально. Словно она ежедневно проделывала подобное.
За неделю до своего отъезда из Камеруна и вылета в Бонн Гарри доставил Риту в аэропорт Яунде. Было начало мая, скоро начинался сезон дождей. В аэропорту у них еще оставалось немного времени. В такие моменты нужно обязательно выкурить сигарету. Они видели свое отражение в зеркале маленького бара. Оба стояли рядом и улыбались. «Надеюсь, ты вернешься ко мне», — сказал Гарри. Рита в последнее не так много хихикала. Она больше улыбалась. Ей было 25, и она не находила ничего особенного в том, что пролетит полмира в одиночку. Она даже не нуждалась в выпивке. Она пила томатный сок. Гарри потребовал виски. Невероятно, с какой уверенностью она сдала свои чемоданы, заполнила бортовой талон, все как само собой разумеется, в чистом виде. Гарри гордился ею. По сравнению с ней он казался себе неопытным провинциалом. У Риты было хорошее настроение, и в мыслях она витала уже где-то далеко.
Пока Рита ходила в туалет, он купил французский журнал и английский еженедельник. Министр обороны Соединенных Штатов выступил за размещение нейтронной бомбы в Европе, — прочел он. Несколько недель назад был убит Джон Леннон. Почему не убивают вот таких нейтронных каналий. Президент Федеративной Республики Германии с официальным визитом в Индии. Невероятно. Хорошо, что этот старый нацист[41] не появился в Камеруне. Пассажиры, следовавшие в Кампалу, приглашались на посадку. «Bye, bye»[42], — сказала Рита, повесив на плечо свою сумку, и ушла.
Глава 6
в которой Гарри фон Дуквиц осваивается в Бонне после нескольких лет жизни в Камеруне, пока Рита занимается делами в Африке и у себя на родине. Далее кое-что о соусах к салату, музыкальных автоматах и упадке ресторанной культуры, про то как Гарри вновь обнаруживает слабость в принятии решений, но потом идет с Хеленой ужинать и о том, что происходит после этого.
Он не видел ее три или четыре года. Только был время от времени телефонный контакт между Камеруном и Францией из конца в конец. И вот она позвонила, и сразу же после первой радости вновь выплыла прежняя раздражительность. «Куда бы нам пойти поесть?» — спросил Гарри. Как прежде, когда они еще учились в университете, он опять не знал, в какое кафе пойти с Хеленой. При этом ее предложение прозвучало бодро. «Да хоть куда,» — сказала она. Почему она не поинтересовалась насчет Риты? Она же знала о ее существовании. Рита пока не приехала, — так он не хотел говорить, это прозвучало бы довольно многозначительно. Гарри показалось, что он припомнил, что Хелена даже сказала «Сперва»: сперва они пойдут поесть, а потом, может, в постель? По меньшей мере это не исключалось.
Теперь рассердился Гарри, он был не в состоянии без обиняков назвать какой-нибудь ресторан, в котором они могли бы встретиться завтра в восемь вечера. Пришлось просить Хелену перезвонить ему, потому что он при всем желании не может с ходу решить, куда им пойти. В конце концов, он три года прожил в Африке, добавил он в качестве извинения.
Благодаря тому, что Хелена должна была перезвонить, в их встрече больше не было момента неожиданности. Гарри казалось, что он чувствует, как ее нервирует его нерешительность. Ведь именно из-за его нерешительности у них с Хеленой тогда ничего не вышло. И возможно, вдруг осенило его, его нерешительность была виной тому, что он поступил на эту идиотскую дипломатическую службу, в этот приют безнадежных чистюль-неудачников, с которыми вообще не желал иметь дела.
Гарри с нетерпением ждал звонка Хелены, не отваживаясь отойти от телефона. Сущее наказание. Он так радовался предстящей встрече и был настолько сбит с толку, что не мог представить себе кафе, которое соответствовало бы его состоянию.
Когда зазвонил телефон, Гарри все еще не знал, что делать. Он опять проявлял нерешительность. Схватив с полки «Желтые страницы», он дрожащими пальцами стал перелистывать их в поисках раздела «Рестораны». Телефон прозвонил уже в пятый раз, когда он наткнулся на указание «См. Кафе, рестораны». Он сдался и прекратил поиски. Сейчас он откроется Хелене и встретит ее шутку речью в защиту беспомощности: если бы было больше беспомощности, было бы меньше войн. Решительность есть воинственное качество.
Гарри поднял трубку. Звонившим оказался его братец Фриц. У него были какие-то проблемы с подругой.
Она мать двоих детей, и нельзя сказать, что брак у нее оказался неудачным, но между делом она немного ценила позию, а вместе с ней и его, Фрица. Гарри между тем отыскал раздел «Кафе, рестораны». И, невнимательно слушая излияния Фрица, он также невнимательно стал читать список по алфавиту. Одновременно он вырисовывал ручкой буквы на кромке страницы. Постепенно возникло узорным шрифтом написанное предложение «Куда со мной?».
Внезапно он услышал, как Фриц принялся жаловаться, что они с подругой только и делают, что ходят есть. Гарри тут же спросил:
— А куда?
Фриц не понял:
— Что значит, куда?
Гарри было интересно выяснить, в какой ресторан. Этого Фриц не понял вовсе. Его проблема не в выборе ресторана, а в том, что он со своей подругой, какой-то врачихой, может встречаться только в ресторанах, потому что она из ложного почтения к своему мужу не желает переступать порога фрицевой квартиры. Это смертельный номер. При всей склонности своего рода препятствие. И в довершение ко всему, у нее на квартире они тоже не могут встречаться, там находится ее собственный муж, присматривающий за двумя их детьми, это чудовище. Гарри нашел проблему чересчур преувеличенной. Он всего лишь хотел, чтобы Фриц назвал ему какой-нибудь разумный ресторан, а Фрицу сейчас было не до ресторанов. Ему хотелось говорить о своем изнуряющем чувстве. Однако Гарри был неумолим. «Тебе как писателю, — сказал он, потому что знал, что Фриц будет рад этому определению только в том случае, если вложить в него иронию, — тебе как писателю не должно быть безразлично, в каком ресторане сидеть.» Но сегодня Фрица и этим было не пронять. Ему было абсолютно плевать, в каком ресторане встречаться с Инес. Наверняка, Гарри хочет его высмеять, он ничего не понимает в любви, благодаря этой его профессии дипломата он стал еще более бесчувственным, чем раньше. Гарри, которому стало не по себе от столь частых заявлений Фрица о чувствительности писателей, быстро сказал, что для него очень чувствительно, если невыносим ресторан с дурацкими меню и свечками и бокалами на длинных ножках. На этом разговор закончился. Гарри не стал продолжать.
Дело было не только в этих идиотских свечках, от которых ему становилось скверно. Также малопереносимым был для него новомодный треск электронных кассовых аппаратов. И еще все чаще попадались эти кельнерши и кельнеры, производившие впечатление наемников в их униформах. Они были не особенно дружелюбны, однако так перегружены работой, что их невозможно было упрекнуть в недружелюбности. Они спрашивали, с каким дрессингом подать салат, с итальянским или французским? И почему они не могли сказать «соус»? Соус ведь красивое слово. Тоже заимствованное, но со значением. В нем еще что-то таилось. По меньшей мере в переносном смысле еще применимое для этого не поддающегося дефиниции месива, скрепляющего, словно болотная жижа, знаки жизни. Соус еще содержал органическую субстанцию, думая о нем, можно было вспомнить про более или менее вкусный гуляш и про можжевеловые ягоды. Дрессинг же был ни чем иным, как небольшой порцией искусственной размазни, которой заправляли салат. Существовало что-то типа капиталистического и социалистического соуса, в которые окунались Восток и Запад, однако не существовало капиталистического или социалистического дрессинга, этого еще не хватало. Хотя до этого еще дойдет, когда в объявлениях о знакомстве или браке водители порше будут расхваливать себя под прогрессивным или консервативным дрессингом: вывалянные в мировоззренческих пряностях. В этом будет ощущаться последовательность. Новые немецкие языки уже говорили, что все заправляемо. Выражение, которое Гарри фон Дуквиц изначально считал убогим. «Такое меня заправляет,» — кто так говорит, тот сам окончательно превращает себя в салат.
Гарри затягивало все более мрачное настроение. Все старые добрые заведения уже давно испортились. Эта кошмарная федеративная республика и все эти отвратительные индустриальные нации становились все более непривлекательными. На посту на отшибе за границей не нужно было по меньшей мере привыкать к этому распаду, именовавшему себя инновацией. Каждые пару лет возвращаешься к окончательным фактам. Это обостряет внимание. Ты тотчас замечаешь изменения. Три года назад еще не было банкоматов. И вот теперь постоянно видишь людей, которые с отчаянной робостью принимают свои деньги от машины, словно скабрезную подачку. Гарри приложил все усилия к тому, чтобы следующие три года провести в Бонне. И вот он несколько недель здесь и уже тоскует по своему будущему назначению в чужеземье. Только бы прочь отсюда. Если ему повезет, он уедет в Буэнос-Айрес. Наверняка там достаточно ресторанов для него и Хелены. Если она приедет туда его навестить. Ходит в рестораны с Ритой было намного проще.
Раньше и Хелене, и ему было совершенно безразлично, как и что есть, все зависело от того, как и где они если. Ради далеко лежащего ресторанчика с косящим внутрь солнцем можно было примириться с реакционными воплями, которые несколькими столиками дальше объединяли ремесленников с пенсионерами. И все это без усилия перекрывал Элвис из музыкального автомата: «one night with you»[43] — с какой львиностью преподносилось это великолепное лживое желание. После этого королевский вальс, и мировая загадка на остаток дня была решена.
Таких ресторанчиков больше нет. Музыкальные автоматы стоят теперь в прихожих шикарных квартир в домах старой застройки. Ресторанчики теперь принадлежат какой-то гастрономической сети. Зальный характер, то есть то единственно реальное великодушие и возвышенность в этих помещениях, было явно то, что не помещалось в узколобых башках этих типов. По согласованию с торговыми психологами, они делали ставку на тесноту и уют, опускали пониже потолки и разбивали помещения на ящики и койки. И за их успехом скрывалась истина: еще недавно пустовавшие локали заполнялись, ибо человек был скотиной и лучше всего чувствовал себя в загоне.
Гарри только приходилось следить за тем, чтобы не стать слишком беспощадным, поскольку его мизантропические приступы после их завершения давали о себе знать в его уголках рта. Во всяком случае, Хелена это всегда раньше замечала. И глобальное презрение Гарри к миру было для нее, преданной левачки, постоянным бельмом на глазу. И теперь, когда их встреча предварялась прежней нерешительностью Гарри, не следовало наводить Хелену на воспоминания о его прежнем дурном расположении духа.
Разумеется, они могли бы, вдруг осенило его, отправиться в Кельн, в одно из тех снобских заведений, которые принадлежали этим молодцам, что загадочным образом оставляли приятное впечатление. Они с фантастически быстрой уверенностью в угоду мгновенной моде поменяли тевтонскую мебель пивных на стулья французских бистро, покрыли столы белыми скатертями и дополнили меню парой-тройкой итальянских лакомств. Таких ресторанов было мало, поэтому их хорошо посещали. Они были забиты народом, и приходилось постоянно ждать свободных мест. Люди толкались и налетали друг на друга, но, странное дело, пребывали в хорошем настроении. Теснота явно давала людям ощущение сопринадлежности. Гарри однако спрашивал себя, проглотив, стоя с одним своим коллегой в одном из таких заведений, заказанную им моццареллу, неужели человек находится здесь исключительно ради того, чтобы его выжали как лимон. Испытывать сопринадлежность такого рода ему совершенно не обязательно. Хотя здесь не было потолков, как в хлеву музыкальных автоматов, но вокруг стойки была давка, как в стаде на водопое. Невозможно представить себе визит с Хеленой в такое новомодное заведение, где представители так называемой тусовки радостно перемывают друг другу косточки. Окунуться в толпу во все горло наслаждающихся жизнью казалось ему отвратительным. Со смешанным чувством нервного снобизма и отчаяния он лучше пойдет с Хеленой в Винервальдский трактир. Хотя это тоже был хлев еще тот, но он сделался в такой степени символом дурного вкуса и обывательства, что каждый еще больший обыватель считал себя вправе поносить его. И как раз поэтому Гарри безусловно отправился бы в это скверное заведение. Ты понимаешь, что фирма в упадке, и это придает ресторану данной сети оттенок достоинства, считал Гарри.
Во всяком случае ни об одном из ресторанов что получше не могло быть и речи. Более приличные рестораны Гарри пылко ненавидел. Вся эта гурмовщина была жалким эрзацем удовольствия. Это подходило для одиноких, несчастных или импотентов. Влюбленный и счастливый Гарри, каким бы он ни был, никогда не мог связать воедино любовь и еду. Любовь насыщала его. То, что путь к сердцам лежит через желудок, было тоже еще тем устоявшимся и абсолютно неверным общим местом. И кто только такое выдумал? Привязанные к плите женщины, чтобы привязывать к себе своих мужиков? Или какие-нибудь толстые или тощие сверхмамаши, которые не хотят отпускать своих деток из дому и приманивают их хорошей едой, чтобы удержать? Насколько дрянной должна быть жизнь такого, купленного едой.
В их время наивысшей любви Гарри и Хелена частенько без всякого аппетита сидели над какими-нибудь тарелками, до отказа наполненными спагетти, и, изнемогая от желания, смотрели друг другу в глаза. Словно что-то удостоверяя, Хелена вечно наступала Гарри на ногу, пока ее губы приоткрывались небольшой щелью. Гарри, тут же совершенно потеряв голову, снимал башмак и принимался водить своей ногой по вутренней стороне хелениного бедра. Хелена уже тогда всегда носила те узкие гладкие кожаные джинсы. Шерстяной носок беззвучно скользил вверх к ее лону. Затем Хелена всегда брала ногу Гарри и плотно прижимала к себе. Скатерть надежно прикрывала их сомнительные ласки.
Воспоминания об этом полном вожделения ритуале усилили отвращение Гарри к возне вокруг еды, которая и в дипломатической службе заметно усилилась. Люди позволяли всучить себе отвратительнейшие сладкие аперитивы только потому, что это было модно. Словно не было уже всякой иной моды, и теперь следовало заиметь моду на еду и питье. Как дизайнеры ищут новые формы, повара искали новые блюда. А едоки кивали и пробовали и, склонив набок головы, издавали, не открывая рта, звучки удовольствия и шуровали в этих маленьких кучках на этих огромных тарелках, не замечая, что они здесь с верой дилетантов поощряют странные уродства безудержных профессионалов.
Единственные сносные убежища, находил Гарри, были пивные для приглашенных рабочих-иностранцев, да и вообще благодаря таким рабочим жизнь в этой идиотской гурманской федеративной республике становилась наполовину сносной. Гарри чувствовал себя связанным с чужеродностью итальянцев, греков, испанцев, турок и югославов. Надо было пойти в такую пивную для гастарбайтеров, в которой не сидели бы немцы, пытающиеся показать этим мужчинам свое владение языками Средиземноморья.
Внезапно Гарри твердо решил пойти с Хеленой в греческий ресторанчик за углом, в котором он недавно уже испортил желудок гиросом, но где хорошо сиделось, как он считал, а именно ужасно неуютно, словно в старом привокзальном шалмане. Греки изучали смущенными взглядами не-грека, вступившего на их территорию, но лучше так, чем эти официанты, виляющие задницей и ведущие тебя к столу, за который, по их мнению, надо тебя усадить. У того грека Гарри всегда чувствовал себя незваным гостем, подобно тому как происходило с ним в Африке. Но, по крайней мере, это безутешное чувство было ему хорошо знакомо. Все вокруг было переполнено тоской, и музыка тоже. Греки тосковали по своей родине, а Гарри по чему-то другому.
И вот раздался звонок, но не телефонный, а в дверях. Это действительно оказалась Хелена. Она выглядела прекрасно, но была бог знает во что одета. Современно или старомодно? Гарри отметил, что эти страшные похожие на бесшовную юбку шаровары будут служить серьезным препятствием в старой доброй игре ногами под столом.
После все-таки интимного приветствия Хелена сказала, что она проголодалась, ей надо чем-то набить желудок, решительно безразлично, где именно, сказала она и тут же заметила раскрытые «Желтые страницы». «Куда со мной?» прочла она вслух. «Звучит хорошо» — сказала она, — «по-настоящему поэтично», — что, Гарри тоже собрался стать поэтом, как его брат? Потом ее палец уткнулся в название рыбного ресторанчика. «Пойдем!» — сказала она, и Гарри даже не успел порекомендовать ей своего грека. Ей ужасно хотелось морской пакости, устриц она хотела выгрызать прямо из ракушек — то, как она это произнесла, было полной компенсацией за ее раздутые шаровары. Тут Хелена сразу набрала номер и заказала столик. Гарри перестал думать о прошлом и задвигался туда-сюда. С облегчением он принялся искать по всему дурацкому секционному дому еврочеки, потом вспомнил про длинные скатерти в изысканных ресторанах и на всякий случай сменил носки.
И как он только мог в этом сомневаться. Разумеется, после еды Хелена отправилась к нему. Разумеется, они очутились в постели.
— Ты ей про это расскажешь?
Гарри засмеялся:
— Как ты это произнесла!
— Я хочу с ней познакомиться.
— Хорошо, очень хорошо, — ответил Гарри.
— Но, конечно, только если она будет в курсе.
Гарри подумал о Рите, услашал ее хихиканье и заметил, как он вдруг хихикнул также как Рита. «Я могу ей рассказать, а могу и не рассказывать. Как хочешь. Мне все равно, и Рите, я думаю, тоже.»
— Ты в этом уверен! — сказала Хелена.
— Да, — сказал Гарри, — что есть, то есть.
Хелена сделалась строгой. Гарри не следует быть таким диктатором. Она хорошо представляет себе, что он полностью подавил бедную Риту.
— Ну наконец-то, наконец-то, — сказал Гарри, — дала о себе знать твоя бабская солидарность. Самое время.
Хелена укусила его в икру. Когда-нибудь она выяснит это дело с Ритой.
— Что ты говоришь, ничего не нужно выяснять, — сказал Гарри.
Это ее дело, сказала Хелена. Ей, во всяком случае не улыбается быть обманщицей.
Гарри размяк и стал нежен. Он поинтересовался, всегда ли Хелена думает о таких вещах, переспав с женатым мужиком.
Она по-боксерски стукнула его:
— Тебя это не касается!
Гарри погладил ее:
— Это делает тебе честь, хоть и совершенно излишнюю. Во всяком случае, в данной ситуации.
Хелена засмеялась и повторила сказанное им. «Во всяком случае, в данной ситуации». Здесь что-то есть, в нелогичности этого предложения. Да, что касается парадоксальных сентенций, тут Гарри еще в хорошей форме.
Гарри потянулся:
— Только что касается сентенций?
Хелена стала проверять тело Гарри. Внешне он в полном порядке. «Сколько тебе лет?» — спросила она.
— Ты что, серьезно?
Хелена поклялась, что она действительно этого не знает.
Гарри застонал. То так, то этак. Родился в 45-м. Теперь вроде уже 1981-й. «Только от этого не легче.» Ведь если он учинит такую же недоверчивую проверку телу Хелены, она немедлено обзовет его мачо-инспектором-мясником, ведь так?
Хелена кивнула:
— Совершенно верно.
Гарри считал, что женщины могут позволить себе гораздо больше бесстыдностей, чем мужчины. «Твой нос во всяком случае не стал короче», — сказал он.
— А что у тебя за отношение к Рите? — спросила Хелена.
Гарри уставился в потолок.
— Не знаю. Я действительно не знаю. Думаю, довольно старомодное. Да, пожалуй именно так: старомодное. Мы дружелюбны друг с другом, и мы друг другу чужие. И это в общем неплохо.
— То есть, обратное нашему, — сказала Хелена.
— Верно, — согласился Гарри, — полная противоположность. У нас современные отношения. Мы недружелюбны друг к другу. — Он притянул Хелену к себе и шепнул ей в ухо: — Мы одно!
— В общем, да, — сказала Хелена с удивительной серьезностью. — А как насчет сношений? — спросила она после паузы.
— Сношения?
Хелена изображала ревность. Она затрясла его и прокричала:
— Она моложе, она красивее, она лучше в постели! О, как я ее ненавижу!
Гарри засмеялся. У нее поуже, подумал он, но вслух этого не сказал. На такие мужские высказывания он не осмелится. Что бы это ни значило. Это ничего не значит. Уже, шире, и то и другое имеет недостатки и преимущества. «Никаких проблем, — сказал он, — абсолютно никаких проблем с Ритой.» Хелена лежала рядом с ним, и Гарри захотелось сейчас же продемонстрировать, как было с Ритой. «Я гладил ее по плечам, а потом по заднице,» — сказал он и стал гладить Хелену. «Потом я внюхивался в ее волосы…» — «Как собака, — сказала Хелена и засмеялась, — ты проделываешь все это, совершенно как раньше, это твое смехотворное и ничуть не эротическое обнюхиванье.» — «В этом различие между тобой и Ритой» — сказал Гарри, прервав демонстрацию, — «Она не считает мое принюхивание смехотворным.»
— Или она тебе этого не говорит, — сказала Хелена. — Она не отваживается сказать своему герою, что его принюхиванье смехотворно. Она терпит это, бедняжка.
Хелена пригрозила, что познакомится с Ритой и поможет ей в ее правах и объяснит ей, как нужно защищаться от принюхивающихся мужей.
Гарри заметил, что в его смехе появилось некоторое напряжение.
— Ты понятия об этом не имеешь, — сказал он, — просто ты не животное.
И поскольку он хотел поддразнить Хелену, он добавил:
— Ты не представляешь, как принюхиваются и сопят.
— Слушайте светского человека, — сказала Хелена.
Гарри все-таки раз-другой побывал в Яунде у шлюх. Не столько из нужды, сколько из желания не упустить возможность, раз уж таковая в Африке представилась. Негритянки совсем не принюхивались. Они были невероятно спокойными. Но это было хорошо, прекрасно. Потому что черная кожа была намного красивее. Толстые или худые, с жирным задом или отвисшими грудями, черный цвет всегда хорошо смотрелся. И как Гарри иногда завидовали из-за его экзотической жены-смуглянки, так он сам время от времени испытывал зависть к своим коллегам, которые, так сказать, сделали свой окончательный выбор и привезли из Африки в Бонн черную как смоль красоту.
— А эта вешь? — спросила Хелена.
— Какая вещь?
— С мотоциклом. На мотоцикле.
— Ах, это.
— Было у тебя? У вас?
Гарри до сих пор было немного стыдно из-за письма, которое он однажды написал Хелене из Яунде. Чтобы разбудить в Хелене ревность, он описал, какое желание его охватывает, когда он сидит позади Риты на мотоцикле, и она катает его по окрестностям.
Хелена не оставила его в покое.
— Ну так что? У вас там было?
Гарри покачал головой.
— Слабак, — сказала Хелена.
Гарри кивнул.
Хелена наклонилась над ним:
— Я тогда точнехонько себе это представила!
— Ну и?
— Что ну и? Тебе не достаточно?
Гарри рывком притянул ее к себе. «Ты лучше чем животное», — сказал он и постарался своим дыханием вобрать в себя все ее запахи.
Хелена хотела, чтобы он разбудил ее в семь утра. Около десяти уходил ее поезд. За завтраком он расскажет ей о своей трехлетней дипломатической деятельноси в Африке. Ему было интересно, оценит ли она его рассказы. Рассказы о власти и безвластии, политике в странах третьего мира, настроении среди здешней интеллигенции. Когда Гарри, отваривая яйца, попытался начать свой рассказ, Хелена расчесывала в кухне свою темную пышную гриву, не обращая никакого внимания на то, что выпадавшие волосы падали прямо на пол. Пускай Гарри прекратит этот вздор, политика, профессия, все это компромиссы, кого они интересуют. Она намазала масло на тост и сказала:
— Расскажи-ка мне лучше, как ты познакомился с Ритой.
Глава 7
Про то, как смена правительства в Бонне осенью 1982 года трогает Дуквица меньше, чем украдкой увиденная им около супермаркета жена. В дополнение к этому несколько замечаний о ритином цвете кожи и происхождении Хелены, про необязательное общение и борьбу с прошлым. Почему Дуквиц больше не надевает свой светлый костюм и как он работает над предложениями по улучшению работы дипломатического ведомства.
Октябрь 82-го уходил, оставляя свой след в дипломатическом ведомстве. Телевизоры заработали уже до полудня. Конструктивный вотум недоверия в Бундестаге привел к смене правительства[44]. Шеф дипломатического ведомства, будучи председателем либералов, был причастен к этому сговору в значительной степени. Он остался на посту министра иностранных дел. Теперь ему долгое время придется бороться против собственного имиджа Иуды. Что означало: он не будет бороться, он вообще палец о палец не ударит, пока история эта не канет в лету. Каким-то образом ему удалось сделать так, что слух о предательстве, который он сам разнес повсюду, его не задел[45]. Министерство обороны, с которым всегда было много неприятностей, заполучило нового шефа, теперь не только дурака, но и тому же образованного монстра[46]. Но самым ужасным оказался министр внутренних дел, такого еще свет не видывал[47]. Они называли это «поворот».
Поворот оказался не более чем сменой физиономий и тона. За старым кабинетом все наблюдали со смешанным чувством, состоящим из злости и забавы, а теперь отвращение и презрение стали новыми гражданскими категориями. Раньше этот злыдень выдавал свои косные представления с более или менее приемлемой риторикой, теперь сюда встал остолоп могучих размеров[48] и пошел махать руками туда-сюда. За несколько десятилетий все уже привыкли к тому, что Бонн — это сцена, на которой скверные актеры играют скверную пьесу, то так то эдак. Ее еще можно было высмеивать и освистывать. Новых актеров даже не хотелось критиковать. Поворот был не в перемене курса, а в потере уровня на открытой сцене. Развлекательные достоинства оказались ниже всякой критики. Какая там катастрофа, это не трогало экзистенциально.
Дуквица тронул сегодня утром вид Риты. Он побывал на службе уже рано утром, выпил кофе и опять сел в машину, чтобы поехать домой. Поблизости от их половины фасадного дома между Бонном и Бад Годесбергом находился один из этих дешевых супермаркетов, которые все время меняют свои названия. Он назывался «АЛЬДИ». Здесь во время своего обучения в недалеко лежащем Иппендорфе Гарри как-то раз купил арахис. Насколько ему запомнилось, сеть этих магазинов тогда называлась «Альбрехт». Возможно, что все эти перемены были гораздо важнее, чем смена правительства. Это был интересный поворот: тенденция к приукрашиванию. Все должно было заполучить странный игривые имена, звучащие как названия плиточного шоколада. Не хватало только, чтобы бытию присвоили милое коротенькое прозвище. Дураки американеры уже начали награждать прозвищами ураганы. У ракет были клички. Войнам тоже необходимо присвоить что-нибудь подобное.
Было около девяти, магазин еще не открылся, перед входом стояли в ожидании несколько человек. Среди них была Рита. Гарри так испугался, что быстро проехал мимо. Она его не заметила.
Утро было серым и тоскливым, и день не обещал лучшего. Тут Рите не место. Этот безутешный жилой квартал на безутешной окраине безутешного Бонна. Ее чудесная желтоватая кожа уже давно поблекла за эти месяцы в Германии. Ему нельзя было жениться на ней и затаскивать ее в эту местность. Ее сияние полностью пропало. О чем она думала целыми днями? Чем она занималась, когда не играла на пианино? Разве ее милый оргазм, полный дрожи, не стал тоже немного безрадостным? Для того, чтобы стоять в этом унылом пригороде перед жалким магазином и ждать, когда он откроется, не надо иметь корейское-индусское происхождение и расти в Африке и Англии.
Гарри не поехал домой. Он не выдержал бы, если бы еще раз увидел Риту в ее безутешности этим утром. Он просто хотел купить свежий номер журнала «Шпигель», чтобы спокойно почитать его на службе.
Убогий, серый Бонн. Кто выдумал сказку о том, что Бонн — это оранжерея. Если бы! Бонн был ничем иным как бесконечным серым уикэндом, в котором остановилось время. В такой уикэнд не найти никакого занятия. Не посмотреть нормального фильма. Не встретить никого, с кем можно побеседовать.
Побережье Камеруна — вот это была оранжерея. Доуала. В Камеруне Рита не выглядела чужачкой, хотя там она и была ею. Дуквиц вспомнил, как в камерунские времена он все время изыскивал какие-то предлоги, чтобы посетить филиал посольства в Доуала, крупнейшем торговом городе Камеруна. Там было знойно. Никому туда не хотелось. Если в Доуала находились дела, Дуквиц брал их на себя. Нет, нет, ему это не трудно. Нет, не стоит благодарности. В Доуала он выполнял все, что требовалось, как можно быстрее, а потом выезжал из города, мимо порта, мимо недавно отстроенных, но уже приходящих в упадок отелей, в которых не желали селиться туристы. Позади них находился дивный пляж, словно из книжки с картинками. Ни один человек не мог выдержать полуденной африканской жары. Гарри натягивал плавки и спешил к морю, где песок был плотным и влажным, оглядывался вокруг, стягивал плавки, и, зажав их в руке, нагишом бежал вдоль пляжа. Ему хотелось, чтобы загорело все тело. Он не хотел быть Ритиным мужчиной с белой кожей, и уж ни в коем случае с белой задницей. Рита была красивой, ему тоже хотелось быть красивым. Что за абсурд лежать на солнце и жариться. В Африке это было не только абсурдом, но и сумасшествием, если даже не смертью. Зато на солнце можно было бегать. Воздух у моря был свежим. Если судьбы уготовила тебе быть белокожим, тогда эта белизна должна по меньшей мере иметь оттенок, но не выглядеть при этом хрустящей, как после отпуска. Такой оттенок получался, когда он время от времени занимался этим странным делом в Доуала. Дуквицу не нравились спортивные, сильно загорелые мужчины. Когда время от времени они с Ритой ходили в бассейн итальянского посольства, он радовался тому, что его кожа имеет желтовато-коричневатый оттенок, почти такой же индусский как у Риты. Кожа у Вас, ну просто позавидуешь, именно жена старины Хеннерсддоррфа с ее белоснежной кожей сказала ему как-то раз. Дуквиц покачал головой. Правда? Вы находите? Нет, я не занимаюсь спортом! Я не хожу загорать!
Проклятый Бонн сделал их обоих бесцветными. Здесь превращаешься в мучного червя. Гарри и Рита фон Дуквиц. Бездетная пара из фасадного дома. Он из тех, кто ухватил экзотическую женщину, а потом бросил ее здесь чахнуть. Временами он спит со своей старой подругой. Вот он каков.
В 70-е годы во всех больших городах федеративной республики можно было голышом лежать в парках. Они это тоже делали, он и Хелена. Нагишом возлежал асессор Дуквиц рядом с Хеленой Грюнберг во Грюнебургском парке Франкфурта. Теперь подобное невозможно было себе представить. Тогда вершина раскомплексованности. Затем, совсем скоро, всего лишь стыдно, ужасно, глупо. Голый человек больше не был частью свободного пространства, так как нельзя было воспитывать детей антиавторитарными методами. Все заблудшие. Но по крайней мере у них не было отвратительных белых задниц.
Хелена Грюнберг. Пока он ехал по Годесбергской Аллее в направлении правительственного квартала, ему вспомнилось, что поначалу он считал Хелену еврейкой. Грюнберг, это же еврейское имя. Хелена отвергла утверждение, что евреев и евреек можно узнать по внешности. Это был, кстати, один из немногих объектов спора между тетками. Тетки время от времени говорили, у того или другого еврейская внешность. Тогда Гарри вспылил. Что за чушь!
— Да подожди ты, — сказала тетка Фрида. — Многие американцы имеют американскую внешность, и многие немцы немецкую, а специалисты уже могут отличить западных немцев от восточных, ну вот, и евреи имеют еврейскую внешность, это нормально.
Позже он узнал от тетки Хуберты, что у тетки Фриды была большая любовь — один конферансье в старом Берлине, еврей, который погиб в концлагере, и что никто так ненавидел нацистов как тетка Фрида. Но несмотря на это заявление Гарри считал высказывания о еврейской внешности не более чем глупой болтовней. Разумеется, были восточные лица, но египтяне и палестинцы и израильтяне так же походили друг на друга, как голланцы, бельгийцы или немцы, с одним лишь отличием, что восточные люди были намного красивей.
Хелена была прекрасна, смуглая, тогда ни сединки в волосах. Вот Гарри в тайне и думал, что она еврейка и некоторым образом был этому рад. В этом было что-то от осуществления мечты о примирении. К его изумлению, Хелена всегда называла своего отца «тупицей-солдафоном». Очень странно. Неужели возможно, чтобы еврей-папаша, которого Гарри представлял себе очень набожным, чтящим саббат, был солдатом? Или эта травма Хелены? Попытка забыть кошмар? Или отец — жертва нацистов, а она не хотела об этом вспоминать? Неужели нацистский террор все еще живет в ее послевоенном обстоянии? И вот однажды, когда они после обеда лежали голышом в Грюнебургском парке, и Гарри объяснял преимущества своего обрезанного пениса, внезапно выяснилось, что Грюнберг — абсолютно банальная немецкая фамилия и что отец Хелены действительно был офицером на войне. Никакой травмы, но вон из мечты. Гарри не смог тогда скрыть своего разочарования. «Извини, что я не могу быть твоей женщиной в роли орудия примирения», — сказала Хелена.
Но ему следовало так долго думать не о Хелене, а о Рите. Рита была настоящим. Он должен заботиться о Рите. Он должен сделать так, чтобы Рита опять засияла. Цветы — это слишком. Тут Гарри остановился. Так далеко зайти он не сможет. После работы домой и привезти букет для своей супруги — нет! Уже достаточно скверно, что они женаты, но это уж слишком по-супружески. В обед Гарри съездил в центр и купил пластинку с моцартовскими сонатами для фортепиано. К ней биографию Моцарта в иллюстрациях. Не без задней мысли, что она сможет вдохновить Риту побольше играть Моцарта. В последнее время она наигрывала многовато из целомудренного Баха.
Он спросил, Риту, хорошо ли она чувствует себя здесь. «Absolutely», — сказала она совершенно убедительно, и послушно обрадовалась пластинке и книге.
После ужина Гарри как всегда занимался с Ритой немецким. Рита повторяла за Гарри: «Это тарелка. Это стол. Мы живем в фасадном доме, в одной его половине. Мой муж дипломат. Он сумасшедший. Нормальный человек не пойдет в дипломатическое ведомство. Я его жена. К сожалению, я вышла замуж за этого человека. К сожалению, он засранец. Я раскаиваюсь, что вышла за него. Это яблоко. Сейчас я швырну это яблоко ему в голову. Меня зовут Рита. Я слишком хороша для него. Я умею играть на пианино. У меня есть мотоцикл. Я приехала издалека. Я не знаю, что я забыла в Бонне. Теперь меня зовут Дуквиц. Я вешу 50 килограммов. Это стул. Это вилка. Это пол. На полу лежит ковролин. Ковролин страшно поганый. Я буду рада, если больше не увижу этот ковролин. Что с нами будет? Как пойдет у нас дальше? Вопрос за вопросом. Я несчастна. Я очень одинока.»
Риты бросила Гарри яблоко.
— Это яблоко, — сказала она, — но я не одинока.
Она сияла. Ей нравились языковые игры. Гарри тоже наслаждался тем, что у него появилась редкая возможность называть вещи своими именами. «Это стол.» Такие предложения были отдыхом. Это была по меньшей мере правда. «Я не одинока.» Ясное предложение. У многих дипломатов жены-иностранки. Они встречаются друг с другом. Они пьют чай. Они организуют барахолки, чтобы избавиться от ненужного хлама, который у них накопился. Для них есть курс немецкого. «На нем не так смешно, как с тобой», — сказала Рита Гарри, — «но больше учишь.»
Несколькими улицами дальше жил его коллега Захтлебен. У него была разумная жена. Она играла на поперечной флейте и при этом выглядела ужасно. Когда она вместе с Ритой исполняла шубертовского «Пастуха на скалах», звучало неплохо. Но то, что Рита не давала уговорить себя непременно опробовать свою постановку пальцев для буги, это, безусловно, было нахальством.
Госпожа Захтлебен бесконечно ругала профессию дипломата. «Это не профессия для приличного человека» — сказала она, когда была однажды с мужем в гостях у Дуквица. Она была абсолютно права, и все равно Гарри принялся горячо протестовать. Странно, ему не хотелось слышать это из ее уст.
— А что вы имеете против, — сказал Гарри, — дипломат — это типичный экземпляр человеческой особи, трусливый, фальшивый, осторожный, безвластный, инертный и с ограниченным горизонтом, что вы еще хотите. Лучше дипломат чем дизайнер.
Госпожа Захтлебен не оставила темы и сказала, что единственное умение дипломатов — это непринужденное общение.
— Что вы имеете против непринужденного общения? — сказал Гарри.
Ведь не идет же речь о рассеянной беседе между делом, о ненавязчивой болтовне. А вот заполнение тишины плеском не имеющих значения фраз, просто стоишь в комнате и убиваешь время тем, что говоришь о погоде — и это соответствовало действительности. Почему, собственно, люди всегда имеют что-то против такого рода общения: — Становится прохладно, вы не находите? — Да, вы правы, сделалось прохладно, стоит зайти в дом. Самый искренний диалог на свете.
— О, как у вас тут красиво! — Правда?
Или лишь: — Как ваши дела? — Спасибо, все в порядке.
Вопрос и ответ, выспрошено — высказано. А сколько человеческого излучают подобные диалоги. Каким спасением оказывался в прежние време, после жестокой ссоры с Хеленой, дружелюбный вопрос кому-нибудь, уткнувшемуся в газету: — Ну, что там новенького?
Предложение о перемирии. В этом была жизнь. В этом была любовь. Никаких доказательств. Никаких клятв. Никаких признаний. Всего лишь примирительный мягкий вопрос: — Ну, что там новенького?
Некоторые дипломаты старой выучки еще владели этими все и ничего не говорящими языковыми формулами. Молодежь считала такую болтовню идиотизмом. Они хотели быть деятелями и не замечали, что для них не было почти никакого дела. Они вели речи о требованиях к своей профессии и не видели, что таковых просто не существует.
После того, как Захтлебены ушли, Гарри вновь выложил перед собой коробку от сигар с пришедшими на ум мыслями. Там, где однажды аккуратными рядами лежали 80 бразильских сигар, накапливались дурацкие листочки с его идеями «по поводу». В Камеруне он наклеил на коробку этикетку для школьной тетрадки и вывел, подражая самому учительскому почерку, «Повышение квалификации». Великолепно, что именно в странах третьего мира еще существовали такие этикетки, в то время как одержимая новшествами Европа изничтожила их уже в 50-ые. Гарри написал: «Похвала ненавязчивому общению. Истина ненавязчивого общения. Проверить, не имеет ли разговор о погоде больше ценности, чем кантова «Критика чистого разума».
— What are you doing? — спросила. Рита. Она уже устала и больше не хотела говорить по-немецки. Гарри попытался объяснить ей по-английски свою позицию защитника ненавязчивого общения. Он не был уверен, что она его поняла.
На следующее утро Рита спросила, почему он больше не надевает свой светлый камерунский костюм, такой прекрасный, небрежно-элегантный льняной костюм. «Может, он выглядит немного по-снобски?» — сказал Гарри и отправился на службу.
Разумеется, для боннских условий костюм был слишком светлым. Не в том смысле, что Дуквица могли бы попросить с работы, продолжай он носить его дальше, а просто для мелкого дипломатишки он был немного не в тему. Его не назовешь щегольским. Он был не моден, выглядел несколько поношенным, даже прямо после химчистки. Была одна причина, по которой Гарри больше не доставал его из платяного шкафа.
Летом 81-го, пока Рита еще не появилась в Бонне, Гарри предпринял с Хеленой поездку в Париж, и, разумеется, на нем был светлый льняной косюм из Камеруна. В Париже в это время шел многочасовой фильм одного немецкого режиссера о Гитлере. Фильм был не новый, показывали его редко. Он шел почти всю ночь напролет. Американски левые интеллектуалы специально приезжали из Нью-Йорка в Париж, чтобы посмотреть это произведение киноискусства, преодолевающее прошлое. Гарри считал, что это уж слишком, одну из трех ночей любви в Париже жертвовать на фильм, но против преодоления прошлого он не мог найти аргументов. Режиссер присутствовал при показе, вероятно, ему нравилось смотреть свои собственные картины. «Глянь-ка!» — сказала Хелена. На режиссере был костюм, невероятно похожий на костюм Гарри. Начался фильм. «Да здесь же курят фимиам нацистскому дерьму!» — несколько раз крикнул Гарри в экран через полчаса после начала фильма и потом ушел с просмотра. Если такое называется преодолением прошлого, то тогда лучше его вытолкнуть из памяти. Это было отвратительнейшее вчувствование в кичевую ментальность нацистов. Гадкая халтура. Хелена пришла в отель к Гарри спустя три с половиной часа, просмотрев половину фильма. И как она могла вытерпеть эту мишурную дешевку! Гарри был в ярости. Они проругались остаток ночи, хотя оба были о фильме одного и того же мнения. С тех пор Гарри больше не надевал этот костюм.
Итак Гарри фон Дуквиц, которого вскоре должны были произвести из советника посольства в советники посольства первого класса, ехал к себе в бюро, которые было служебной комнатой и, как все они, ужасно узкой, так что спинка вертящегося стула оставляла углубление в стене. Гарри работал в секции политических дел, в отделе африканской политики. Сейчас он готовил материал для «Комиссии по реформированию дипломатического ведомства». В связи с этим он проверял все донесения, которые приходили сюда, в центральное отделение из различных посольств и, как правила, исчезали в папках непрочитанными. И свои собственные донесения из Камеруна он прочел еще раз. Чересчур дотошные там, где речь шла о том, какие французские фирмы «контролировали» рынок, а какие немецкие фирмы «стремились к контролю». Посол не любил таких слов.
Самыми замечательными были донесения депутатов. Во время своих раширяющих горизонт пушествий по миру они прежде всего наносили визиты в немецкие посольства. Им бы и в голову не пришло публиковать эти донесения. То диктовалось беспощадными правилами игры парламентаризма. Эти донесения были очаровательной вершиной наивности.
Через несколько кабинетов от него сидела госпожа Хубер, она занималась оценкой донесений из Южной Америки для той же комиссии. Она была послом в Буэнос-Айресе. Энергичная, умная личность, противоречившая все правилам дипломатического ведомства: женщина, происхождения неблагородного, не юрист, и все же, если ей повезет, через полгода она станет послом в крупном европейском посольстве, поговаривали про Мадрид. Приятная коллега. Никаких эротических претензий. Любительница Южной Америки. Она приносила Дуквицу пластинки и кассеты с южноамериканской музыкой. Они с Дуквицем охотно демонстрировали друг другу великолепные образчики стиля, на которые натыкались в своих исследованиях. Сегодня госпожа Хубер пришла к Дуквицу в кабинет с донесением от группы депутатов — социал-демократа, либерала и христианского демократа, написанное общими усилиями всей троицы. Лень согнала эту банду в одну кучу.
«После обеда мы последовали приглашению на эстансию, — с этого начиналось донесение, — там — экскурсия по породам скота. Потом приглашение на матэ-чай и на излюбленный повсюду ростбиф под названием «асада».
— Даже это они не могут написать без ошибок, — сказала госпожа Хубер, — хотя здесь на каждом углу есть стейк-рестораны «АСАДО»!
Далее следовало: «Привычная сердечность, какую всегда можно встретить по всей Аргентине. Общение с высокими умами экономической и политической жизни. Подавались салаты в огромных блюдах. Все снова и снова высказывается мнение, что непременно должно вновь воцариться спокойствие. После трехнедельной поездки с большим количеством впечатлений и трудностей опять вернулись домой. Как хорошо в Германии.»
Дуквиц и госпожа Хубер захохотали. «И такие мудаки сидят в Бундестаге!»
«Подождите», — сказал Дуквиц, разыскав письмо из Amnesty International. В нем отношения в Аргентине в то время описывались иначе: «Рано утром на окраине Буэнос-Айреса были обнаружены изуродованные трупы четверых мужчие и одной женщины. Идентифицировать их не представлялось возможным. По всей видимости, речь идет о членах запрещенного профсоюза CGT, похищенных три года назад. В течение дня стало известно о похищении в одном из районов города 23 человек».
Господа Хубер молча положила на стол Дуквицу дополнительное сообщение немецкого посольства в местный централь. «Господа депутаты выехали в страну для сбора впечатлений. Достойна приветствия их открытость в политических вопросах. Но для посольства подобные случаи всегда чреваты проблемами, связанными с персоналом и финансами. Так, по причине того, что двое сотрудников находились в отпуске, пришлось нанять аргентинского шофера. Срочно рекомендуется ввести в обращение уже неоднократно запрашиваемую нами ручную кассу. Также в виду подобных случаев следует распорядиться об обязательном предписании по поводу порядка оплаты обедов в ресторанах, а именно, должны ли они оплачиваться послом или же со счетов накладных расходов депутатов. Целесообразно сообщать депутатам уже перед информационной поездкой, что послы не всегда могут организовать желаемые переговоры с министрами или президентами и что часто приходится обращаться к их заместителям. Во время поездки по труднодоступной местности произошла поломка колес. В подобных случаях срочно следует указать, что обеспечение запчастями посольских транспортных средств представляет собой большую проблему».
Дуквиц увидел перед собой этих странных туристов, напрвляющихся в Африку, которые вечно с полными упрека гримасами претендовали на оказание всевозможной помощи со стороны посольства. Деньги, визы, телефонные разговоры. Их выручали. Один исколесил всю Африку на старом Ханомаге, и в конце концов загнал эту многократно залатанную колымагу в убогом Судане за 9 000 долларов, годом раньше купленную им в Ганновере за две.
Комиссия тут же осознала серьезность положения и вознамерилась внести в свой перечень предложений по улучшению специальный пункт «Приобретение запчастей для служебного автотранспорта», пусть и в оскорбительной формулировке:
«В то время как федеральные министры внутренних дел и вообружения уже много лет обладают правом принятия решения в рамках собственной компетенции по вопросу приобретения запчастей для транспортных средств, для деловой сферы дипломатического ведомства в каждом отдельном случае должен принимать решение федеральный министр финансов.» После длинного пассажа о чрезвычайно сложном процессе приобретения запасных частей типа поворотной цапфы, воздушных фильтров, дисков сцепления и подверженности транспортных средств отрицательному воздействию ухабистых дорог третьего мира рекомендовалось не проводить ремонта, продавать сломанные посольские машины за хорошие деньги и приобретать для себя новые: «Дипломатическому ведомству по соглашению с федеральным министром финансов следует искать решение проблемы и в случае необходимости стремиться к изменению препятствующих бюджетно-правовых предписаний, чтобы быстрым и не занимающим долгого времени способом уметь отсортировывать служебные транспортные средства зарубежных представительств и заменять их на новые средства.»
Дуквиц спустился двумя этажами ниже к постоянно неисправному ксероксу, который сегодня, однако, выдал несколько матовых результатов, и сделал копии формулировок комиссии. Он зачитает это сегодня вечером Рите, а потом спросит ее, не лучше ли ей все же отказаться от идеи изучения немецкого языка.
Глава 8
В которой Дуквицу действует на нервы дипломатическая травля анекдотов, про то, как достать пива в Москве, про немецкую культуру за границей и прежде всего о том, что жизнь иногда кажется фильмом, и как Гарри и Хелена вместе обдумывают, что это значит, в дополнение к этому — хула симуляции.
Ничто не любил Дуквиц больше, чем утверждение, что в столовой дипломатического ведомства еда обладает великолепным вкусом. Около двенадцати часов пополудни его всякий раз охватывало что-то вроде тоски по неприятному запаху столовской кухни, тоски по все тому же нытью из-за качества еды. Его коллеги стонали оттого, что дипломат в наше время не что иное как обычный чиновник, но при этом не понимали, что они этим самым чиновничьим нытьем способствовуют своему чиновничьему положению в еще большей степени.
Дуквиц занимал место между Захтлебеном и лишенным подбородка графом Вальдбургом. Захтлебен провел два года в Москве и пока еще его переполняли разные истории. Самыми ненормальными были киновечера в немецком посольстве. Поскольку в Восточном блоке отсутствовали Гете-институты, у него всегда было много работы с целью обеспечения русского Ивана немецкой культурой. Наибольший смысл имели киновечера. Разумеется, в посольстве заботились о том, чтобы вкупе с кинолентой заманить в Москву и режиссера, чтобы народу было что осязать. В большинстве случаев ситуации оказывались неловкими, потому что режиссеры всегда желали отвечать на вопросы о своих фильмах, которые советская публика, как они думали, в массовом порядке будет им задавать. Однако увы! Никто ни о чем спрашивать не хотел. Русские зрители всегда приезжали только из-за выпивки. Сотрудникам посольства приходилось самим придумывать пару-тройку вопросов, чтобы не оконфузиться окончательно.
Возможно, Захтлебен был прав, но он рассказывал с таким высокомерием, что Дуквиц принялся возражать: «Что за чушь! Выпивка! Каждому дитяте известно, что русские серьезно интересуются западными продуктами культуры.»
Что, а кто из них был в Москве, он или Дуквиц? Захтлебен лучился убежденностью. В Москве не было ни капли горло промочить. Выпивкой серьезно интересовались советские граждане, после чего больше вовсе ничем и довольно долгое время, а уж потом может быть, и западной культурой. Они в конце концов тоже имеют право на подобное, разве нет? В посольстве уже настраивались на это. Все офисные помещения отдела культуры были забиты коробками с жестяночным пивом и бутылочным «Беком» для менее массовых поводов. Во время киновечеров там всегда было что выпить и до и после. Разумеется, эти скромные пьянки были доступны не каждому москвичу. Чтобы припасть к источнику, жаждущему приходилось каким-то образом дать понять милиционеру у посольства, что он интересуется немецкой культурой, иначе его бы и к дверям не пустили. Он слышал о русских, изучавших немецкий язык на курсах и в университетах только для того, чтобы попасть на эти киновечера ради пары пива или глотка виски. Состояние хуже некуда.
Сидящие за столом ловили каждое слово Захтлебена. Дуквиц рассердился. Возможно, в Москве и царит состояние хуже некуда. И в Африке тоже царит состояние хуже некуда. Но он не выносил, когда торжествуя втихаря, с этой смесью ущербной радости и фальшивого сострадания, говорили о состоянии хуже некуда. Однако Захтлебена было не удержать: у русских приходилось буквально выдергивать из рук пивные кружки и выключать свет в помещении для приема, чтобы они наконец устроились нормально, и все это только с уговором, что потом им дадут выпить еще. Разумеется, при этом вещи не назывались так откровенно своими именами, просто говорилось о «дружеской встрече».
Как-то раз, это действительно было сойти с ума что такое, шеф отдела культуры заказал фильм одного гения-оригинала из Баварии, он сейчас не помнит, как его там звали, этого хохмилу, он еще судился с министром внутренних дел из-за мер по содействию развитию кино и делал вроде бы настолько анархистские фильмы, что Гете-институты от самого центрального управления — Захтлебен показал на свой столовский поднос — получили указание, фильмы этого мужика, как бишь его зовут, больше не показывать в качестве образчика немецкой культуры. Возможно именно это указание и привлекло шефа отдела культуры.
— Элегантно! — сказал лишенный подбородка граф Вальдбург. — Великолепно, отличный человек.
Министра внутренних дел в дипломатическом ведоместве никто не выносил. Нечего ему совать нос в чужие дела, вот что это значило. С этим все согласились. Он правильно сделал, этот шеф по культуре в Москве, что нарушил указание. — Безукоризненно! — добавил лишенный подбородка граф. Подобных ему выскочек в дипломатическом ведомстве хватало. Неважно, что они комментировали, делалось это с тяжело переносимой дозой наглости. Конечно, министр внутренних дел был невыносим. Каждый обладающий темпераментом моралист был обязан считать его сволочью. Но здесь его осуждали те люди, которые, может быть, выглядели не столь нахально, однако на свой лад были весьма неприятны.
Захтлебен продолжал. Он рассказывал и впрямь неплохо, вынужден был признать Дуквиц. Все сидящие за столом слушали его, тотчас готовые засмеяться. В фильме этого баварского оригинала, ну имя-то его он вот-вот вспомнит, речь шла ни очем другом как — с ума сойти можно! — о пиве и его питии.
Действие было абсолютно непонятным, мужчина в форме полицейского, явно режиссер собственной персоной, шляется кривой через толчею Мюнхенского Октябрьского праздника и непрерывно пьет пиво из бокалов совершенно незнакомых ему людей огромными глотками. И вся публика в Москве, 80 или 90 москвичей, страстнее всего желавшая окончания фильма, чтобы суметь еще разок протолкнуться к маленькой импровизированной стойке и обязательно освежиться, наблюдала, как не только эта загадочная фигура, главный герой фильма, но и прорва народу в огромных палатках вливает в себя безмерные порции пива.
Дуквиц смеялся против воли. Единственный. Остальные как будто ждали еще чего-то. При всем при этом история оказалась весьма недурной. Но большинство дипломатов были не в состоянии распознать во всей мере гротеск, который то и дело давал о себе знать на обочине их деятельности. Захтлебен составлял исключение. Он был неплох. Фантазии других слушателей за столом явно не хватало, чтобы представить себе сумасбродство этой ситуации.
Лишенный подбородка граф Вальдбург и бесцветная коллега рядом с ним вновь склонились над своими подносами, поедая картофельное пюре. Захтлебен, теперь несколько вялый из-за отсуствия слушателей, обратился к Дуквицу. Самое сумасбродное заключалось в том, что кинопоказа, мучительного во всех отношениях, оказалось недостаточно. К облегчению русских, на сей раз сам режиссер не присутствовал. Стало быть, имелось по меньшей мере справедливая перспектива вскоре после фильма глотнуть пивка без очередной мучительной дискуссии. Однако — увы! — произошло нечто скверное. На просмотр приехал исключительно знаменитый киновед, возможно, для страховки, на случай, если Бонн узнает о дерзком мероприятии в Москве, тогда можно будет в любое время сослаться на этого абсолютно компетентного человека. К ужасу истомленных жаждой русских и сотрудников посольства, исполняющих служебный долг и потому уже по-настоящему страдающих жаждой, этот киновед без устали нахваливал фильм о пивной попойке как произведение искусства авангардного направления невероятного уровня, которое несмотря на его обстановку, ограниченную народным праздником, обладает вневременным воздействием за границами страны, и даже Европы. Может быть, он расхваливал фильм в деталях потому, что считал необходимым отработать гонорар. Остановить его было невозможно. Некоторые русские уже спали и похрапывали, некоторые, наверняка в старахе, что уйдет их последняя электричка метро, видели во сне тридцатикилометровый путь пешком домой- и все это ради трех кружек пива и одного непонятного фильма, в котором показывают как народ гекалитрами глушит все тоже пиво. Возможно, киновед считал себя обязанным поступить вопреки глупому приговору министра внутренних дел, и поэтому так нахваливал фильм, о котором министр хотел услышать проклятия. Дуквиц аж затрясся от удовольствия и посочувствовал: что за кошмарный вечер! Нет, немецкое посольство в Москве отнюдь не место для обстоятельной демонстрации глупости министра внутренних дел федеративной республики, этого паршивца. Это уже чересчур! Не за счет страдавших от жажды русских!
Лишенный подбородка граф Вальдбург переминал во рту филе из красного окуня. Когда он жевал, его нижняя челюсть ускальзывала еще глубже. От кончиков волос до кончика носа в профиль он выглядел богатым и глупым, а от кончика носа к волосам прямо-таки по-идиотски. С таким культурным дерьмом в Индии ему не приходилось иметь дела, сказал он, там были, боже милосердный, другие проблемы. Невообразимо, эта нищета. Как там умирают люди на улицах! А о жестокости местной полиции никто и понятия не имеет. Здесь средства массовой информации вечно описывают нарушения прав человека в Латинской Америке или на Ближнем Востоке. Индия считается надежной развивающейся страной. В которую немецкая промышленность может беззаботно инвестировать как в неистощимую страну пассивной нужды. Но здесь никто вообще не воспринимает реальных ужасов, которые там происходят.
Удивительно разумное высказывание для человека с таким профилем, подумал Дуквиц. Похоже, сегодня день великих признаний. Неужели Вальдбург, который всегда представлялся ему всего навсего глупым наглецом, окажется политически разумно размышляющим человеком? Неужели Дуквиц раньше неверно его оценивал? Неужели граф-дегенерат прошел в Индии очищение? Или он просто случайно повторяет то, что услыхал от одного умного корреспондента? Но разве интеллигентный анализ скверных обстоятельств не является чаще всего болтовней? В чем же тогда, озабоченно размышлял Дуквиц, его отличие от других дипломатов, если самые приспособившиеся уже сморят через кулисы, постигнув контекст нужды и ноют касательно политики правительства — во всяком случае в столовой? Опасно ходить в столовую. В будущем Дуквиц постарается избегать обедов в столовой. Здесь коллеги неповторимым образом обнаруживают себя мыслящими существами, а не механическими убожествами, которыми они бывают в своих крошечных кабинетиках, или жесткими дельцами, которыми они показывают себя в посольствах, с тех пор как образ дипломата как элегантного тигра на паркете при всем желании больше не сохраняется.
Дуквица мучила эта подача анекдотов с целью выгородить себя, хотя, собственно говоря, нечем было против этого возразить. Должно быть что-то уютное в том, что разные люди рассказывали о событиях и наблюдениях в стиле старых приключенческих романов. Но этим людям просто не хватало размаха. И атмосфера в столовой дипломатического ведомства имела мало общего с огнем в камине. И голоса отдавали не толстым твидом, как это должно быть в таких случаях, а звучали громко и целеустремленно. Среди дипломатов больше не было Мюнхгаузена, хотя Мюнхгаузен очень неплохая фамилия для дипломата. Дуквиц решил справиться в отделе кадров, нет ли среди 6 000 сотрудников посольства одного Мюнхгаузена и как его имя. Хорошее занятие в безутешное послеобеденное время.
Дуквиц мог бы внести свою долю в рассказы о некоторых приятных приключениях, но не здесь, не перед этими людьми, которые в лучшем случае были не так уж невыносимы, но и не больше. Ему не хватало слушательницы. Бесцветную олениху рядом с лишенным подбородка Вальдбургом он никак не мог считать женщиной. Лишь в крайнем случае Дуквиц развернул бы для нее свое красноречие, не говоря уже о чем-то другом. Она напомнила ему жену покойного Хеннерсдорффа, которая тоже изобиловала самоуверенностью. Эта ощущала себя чего доброго обаятельной, похоже, у нее даже был муж, по крайней мере она носила абсурдную двойную фамилию, которая наверняка появилась благодаря замужеству: Кречман-Хойзерман или что-то похожее. У Дуквица тут же возникло желание назвать ее госпожа Доппельман[49]. Удивительным образом она была уже в звании «Советник-референт посольства». Странный сигнал эмансипации, который проявляется в привязывании к девичьей фамилии фамилии супруга, начал давать о себе знать с некоторым опозданием и в дипломатическом ведомстве после того, как бойкие депутаты бундестага женского пола, прогрессивные публицистки и преподавательницы вузов, лишенные всякого чувства стиля, уже много лет подряд то и дело обвешивали себя двойными фамилиями.
Женщина с невыносимой двойной фамилией обладала наказуемым чувством самоуверенности и подходящим к нему голосом чрезвычайного разнообразия: режущим, ломким, дрожащим, с ганноверским выговором. Этот голос тотчас повысился и сказал, невозможно представить себе, что творится в международных представительствах. Улей ничто по сравнению с ними. Реагируя на пивную байку Захтлебена, она сказала, что будучи служащей немецкого представительства при международных посольствах хоть и не имеешь дело с кинофильмами, однако все вокруг — сплошное кино, иначе и не выразишься. То, что там происходит, эта суета, эта суматоха, этот круговорот, эта кутерьма, эти махинации — такое чувство, словно смотришь кинофильм.
Ее рассказ был бесцветным, и ни у кого не возникло желания узнать подробнее о суматохе в посольстве объединенных наций. Двухфамильная дипломатка не обратила на это внимание, она хлебала свой сливовый компот.
Что-то было «как в кинофильме», что-то казалось кому-то «как в кино», такие выражения с недавнего времени можно было услышать все чаще. Чем хуже люди могли выразить мысль в словах, тем больше они утверждали, что что-то происходило «как в фильме». И прежде всего дипломаты, несущие свою службу в кризисных регионах. Мозмбик или Ливан, Гватемала или Пакистан — там все было «как в кино». Коррупция, нападения, удары прикладами — «фильм, который там идет». Рассматривая реальность как фильм или говоря о ней как о фильме, ты превращал себя в зрителя, который хоть и был в ужасе от происходящего, но не мог вмешаться. Итак, если громкоголосая кутерьма в посольстве Объединенных Наций в Нью-Йорке казалась двухфамильной женщине «как в кино», этим она доказывала лишь то, что сама была не в состоянии что-то сделать или вмешаться. Нужно было очень хорошо сдать экзамен и завершить период обучения с хорошими результатами, чтобы получить вожделенное место в международном представительстве Брюсселя, Женевы или Нью-Йорка. Однако дама с двойной фамилией уже потеряла ориентацию. Иначе обстановка в ООН не казалась бы ей ирреальной как фильм, а представлялась бы реальной. Может быть, она проникла на это место благодаря своим связям. Но неужели же благодаря любовной связи? Но, может быть, кому-то она казалась очаровательной с голосом, похожим на располосованную консервную жестянку, и горгонцольей кожей.
Дуквиц рассердился своей инерции, своей робости, своему такту, своему сочувствию, своему презрению, своей трусости. Вместо того, чтобы заниматься ядовитыми мыслями о двухфамильной дипломатке, ему следовало спросить у нее, а как обстоит дело с сексуальной кутерьмой у людей в ООН в Нью-Йорке, с хаотической еблей, которая, по слухам, полностью упрятала в тень хаос политический. Покраснела ли бы тогда горгонцолья кожа? Едва ли, пожалуй.
Из надежного источника Дуквицу были известны детали хаотической ебли вплоть до постелей французских министров. В посольских бюро Женевы, Брюсселя и Нью-Йорка существовала только одна тема: Who is fuckable? В отдаленных же посольствах, там где дипломаты друг друга знали, к делу подходили стыдливо, словно в католической миссии. Там, во всяком случае, тлела подавленая страсть. Жизнь была не фильмом, а более или менее ужасной и прежде всего очень реальной шуткой.
Как вседа, когда Дуквица занимали великие мысли, его переполняла жизнь. Он поспешил в свое ненавистное бюро. Он, разумеется, не собирался тратить свое время на поиски в отделе кадров информации о человеке с фамилией Мюнхгаузен. Ему хотелось быть с Хеленой. Думать в одиночку не доставляет удовольствия. Вместе с ней лучше улавливались мысли. Вон из Бонна. Посидеть с Хеленой во Франкфурте. Он позвонил ей. В последний раз все было слишком быстро, честно говоря, сказал Гарри, слишком долгая еда, слишком короткая ночь, слишком много занимались любовью, слишком мало разговаривали. Хелена засмеялась. А что, Рита все еще далеко от него? «Достаточно далеко», заверил Гарри.
— Ах, Гарри! — воскликнула Хелена.
Простонала она или пропела, это могла означать все что угодно. Гарри — гадкий буржуа, звонит старой подружке в отсуствие жены!
— Совершенно верно, — сказал Гарри, — и к тому же за служебный счет. Междугородний разговор из бюро. Вот это ему действительно приятно. Жаль, что Хелена больше не за границей. Международнаый переговоры — это единственная возможность вернуть назад часть уплаченных налогов.
— Бюро! Бюро! — крикнула Хелена. Гарри настоящий похотливый бюрократ. Нечего все время повторять «бюро», это звучит так сально.
Лучше сально говорить «бюро», чем модно «офис», как недавно молодые коллеги, и уж всяко лучше, чем выговаривать покрытое пылью «служба», словно древний госсекретарь. Нет, все-таки хорошо, что Хелена теперь не за границей, а во Франкфурте. А сколько идет поезд из Бонна во Франкфурт? Который теперь час? Или она наметила на вечер кое-что получше? Он всего лишь хотел потрепаться. Не переспать, а потрепаться.
— А почему не переспать? — спросила Хелена.
У Гарри было такое чувство, что последний раз для Хелены был тренировкой по обязанности, и только ему тогда понравилось. Однако это предположение он оставит при себе. Пора выходить из того возраста, когда тебя терзает одно из подобных размышлений.
— А что с Ритой? — спросила Хелена.
Рита участвует в конкурсе пианистов в Копенгагене, сказал Гарри, но он клянется, что его звонок не имеет ничего общего с Ритиным отсутствием. Хелена ответила, что тогда пусть Гарри найдет подходящий поезд и позвонит еще раз.
Нет, возразил Гарри, хотя у него и маленький кабинет, но все-таки два телефона. Он не может прервать разговор с Хеленой, чтобы узнать про железнодорожное сообщение. Кстати, по частным телефонным переговорам разрешается наговаривать необъятные суммы и одновремено блокировать линии для служебных переговоров.
Гарри попросил соединить его с секретаршей администрации, и спросил ее, во сколько уходит ближайший поезд на Франкфурт.
— Служебный или частный? — переспрсила она, уже разыскивая информацию.
— Какое это имеет значение? — сказал Гарри.
Если поездка служебная, она могла бы организовать господину фон Дуквицу тотчас же билет первого класса, сказал голос. Гарри прижал к ушам обе трубки.
— Тебе слышно? — спросил он Хелену. — Я еду к тебе по службе или частным порядком?
— Так ты наживешь себе сообщницу, — сказала Хелена.
Он не тот буржуа, который все делает тайком, ответил Гарри.
— Как раз напротив! — сказала Хелена. — У настоящего буружа секретарши всегда посвященные лица, гадость какая!
— Пожалуйста, не могли бы вы решить окончательно? — вежливо спросил голос секретарши.
— О боже, опять решать! — воскликнул Гарри. — Хелена, ты сможешь сделать это за меня?
— Господин фон Дуквиц желает билет для командировки по Франкфурт и обратно, но во втором классе.
Гарри прижал трубки к ушам еще сильнее.
— Вы слышали? — спросил он у секретарши.
— Во втором классе не получится, — сказала секретарша великолепно бесстрастным голосом. Дипломатическая служба имеет договор с бюро путешествий, однако господин Дуквиц, разумеется, может сесть в вагон второго класса.
Запах в квартире Хелены был тем же, что когда-то в комнате жилищной коммуны. Здесь царил еще больший хаос. Повсюду раскрытые, повернутые обложками вверх книги, безошибочно узнаваемый центральный рабочий алтарь письменный стол. До чаепития дело на сей раз не дошло, они отправились в постель и там выбесились. То есть постели у Хелены по-прежнему так и не было, на полу лежал огромный матрац. У Хелены он был не дурацким реликтом студенческих времен, а суверенной вещью, показалось Гарри, и он сказал об этом вслух.
Они сидели рядом, не слишком близко, не слишком далеко, спиной к стене, подтянув к себе колени, сверху для тепла одеяло, классическая поза. Гарри засунул в рот сигарету. «Чтобы все было еще более классическим», — сказал он.
— Абсолютный ранний Годар, — сказала Хелена и поправилась: — Нет, собственно, скорее Шаброль, когда она вспоминает про то, что Гарри женатый мужчина, изменник! Хотя для Шаброля, пусть Гарри и этаблированный буржуа, он просто недостаточно стар и дороден, проговорила она, и стала играть в кошку, мурлыкая, щипнула Гарри за тощий живот. «Трюффо!» — сказала она потом, как в фильме Трюффо.
Гарри рассказал ей про обед в столовой несколько часов назад, про женщину с идиотской двойной фамилией, про то, как она называла кинофильмом все то, что имело к ней какое-то отношение, и что он видел в этом знак прогрессирующей глупости и слабоумия. То, что он истолковывает это сравнение реальности с киноповтором как знак неспособности понять реальность. Кто вольно или невольно пребывает в состоянии непонимания реальности, неважно какой, курьезной ли, расстраивающей или кошмарной, тот воспринимает ее как фильм, то есть как нечто ирреальное, и тем самым он уклоняется от обязанности проникновения в эту реальность. То, что идет подобно фильму, невозможно рассматривать как нечто изменяющееся, а только как удивляющее, ужасающее или ободряющее. И именно такова позиция многих дипломатов.
— Ого! — сказала Хелена. Уж не хочет ли Гарри написать «Философию дипломатии», это звучит весьма недурно. У Гарри возникло чувство, что интеллектуальные выверты ему в некоторой степени удались. И как он ожидал, Хелена ввернула ему несколько своих идей, полагая, что все заключается в проблеме симуляции. Она не переставая твердила об этой «симуляции». Похоже, в силу того, как она употребляла это слово, оно было новым понятием. В свои африканские времена Дуквиц должно быть потерял связь с этим явно центральным понятием, в то время как предметы позволяли брать себя в оборот с помощью старой доброй пары дефиниций «реальное-ирреальное».
— Все это накипь! — сказал Гарри. Вся эта болтовня о симуляции вздор, Хелена не должна терять чувство реальности, где же тогда все эмпирическое!
Как в прежние дни рассуждений на тему эксплуатации рабочего класса Гарри и Хелена поочередно закружили в своих размышлениях на тему восприятия действительности в качестве фильма. Раньше фильм имитировал жизнь, теперь жизнь старается имитировать фильм, сказал Гарри.
— Но ведь это же симуляция! — закричала Хелена. Гарри надо прочесть Бодрийяра.
— Черта с два я буду его читать! — завопил Гарри. Все вздор, все научный онанизм. Он возьмет свои слова обратно, звучат они красиво, но не имеют смысла. В действительности ничего не имитируется. Никто не принимает жизнь за фильм, не одни дипломаты такие дураки, все просто сравнивают одно с другим. Речь идет о маниакальном желании сравнения, а не о крупной имитации. Нельзя демонизировать ставшее модным слабоумие. Кстати, они забыли о психологическом аспекте. Собственно, самое интересное и есть то, что так называемое ощущение действительности как фильма есть побег, предлагающий великолепное оправдание: в роли обреченного на обморок зрителя считаешь себя невиновным.
Хелена сказала, что у Гарри чертовски здорово получается идентифицировать себя с этой ролью, это и есть его собственная роль, не так ли? И все это его собственная проблема, которую он проецирует на профессию дипломата, так ей это представляется.
Гарри энергично принялся возражать. Не он начал все эти сравнения с фильмом. Он это наблюдал. И сейчас тоже, все эти Хеленины сравнения с Трюффо.
— Как раз сейчас ты словно болтун из раннего фильма Ромера, — сказала Хелена.
Они обрадовались и засмеялись и стали вспоминать фильм, который смотрели вместе годы назад, но не название и действие, а эту преувеличенную и все-таки странным образом освежающую болтовню. Они оба были согласны с тем, что одно дело — воспринимать действительность в отсутствии фантазии словно кинофильм, другое же — на основании действительности вспоминать какой-то конкретный фильм, вот так Хелена вспомнила фильмы Ромера и Трюффо или соответствующие фрагменты, потому что они вместе сидят в постели. Это вовсе не симуляция, внушение, расстройство восприятия, потеря ощущения реальности, признак слабоумия или летаргии, а совсем наоборот, здоровая корыстная ассоциация, или, как Хелена вот-вот наверняка сформулирует, двое посвященных с помощью воспоминаний или цитирования сцен из фильма используют некий код, чтобы заранее определить ситуацию реальности и расставить иронические акценты. Это знак интеллекта, образованности и подвижности, ты живой и активный и обогащаешь описание, то есть полная противоположность сухим утверждениям, что арест демонстрантов в Парагвае гражданской полицией среди бела дня, которая просто заталкивала их в машины, проходил «словно в фильме», и в суматохе делегации ООН ты видишь себя «словно в кино». Тем самым Хелена — полная противоположность этой паршивке дипломатке с гротескной двойной фамилией.
Гарри следовало бы всегда думать о побочных вещах, сказала Хелена, курьезная двойная фамилия достойна лишь краткого упоминания. Кроме того, она бы не хотела называться Хелена Дуквиц, ее прекрасную фамилию Грюнберг она бы не забыла даже в угоду Гарри, она, пожалуй, назвала бы себя Хелена Грюнберг-Дуквиц, пусть это звучит по-идиотски, однако благодаря Рите этой проблемы больше не существует. Верно, сказал Гарри, кстати, у Риты тоже была двойная корейско-индусская девичья фамилия, а именно Рита Нурами-Ким. Однако похожей на Риту Хейворд, экранную страсть ее отца, ее не назовешь.
Благодаря этому они опять вернулись к сравнениям и фильмам, оба были того мнения, что иногда возникают такие ситуации, которые можно назвать не иначе как бунюэлевскими. Существуют феллиниевские типы, есть определенная категория нервозности, которая присуща Вуди Аллену, и к некоторым безнадежностям уже подходит слово «бергманский». Фильмы и режиссеры давали отличные сокращения для обозначения определенной ситуации. Некоего строящего из себя важную шишку телемодератора не назовешь лучше чем Лорио[50], потому что никто кроме Лорио не сумел бы более метко превратить в сатиру эту невероятную болтовню. А некоего действительно фатального управляющего похоронной конторы или заправилу от строительства в таких условиях невозможно было описать никаким иным словом как «Польт», потому что никакой другой актер кроме самого Польта[51] не мог лучше сыграть таких типов.
Потом Хелена начала говорить о «создании тривиальных мифов» и об «архетипах», а Гарри сказал «Чушь, архетипы!», а Хелена сказала, что Гарри пока еще сохранил эту убедительную манеру говорить «Чушь!». Они оба считали, что это возможно и есть один из смыслов искусства — его применимость к более точному описанию действительности. Это относится не только к фильмам, ведь существуют же чеховские женщины, те что в этом особенном сочетании надежды и отчаяния глядят вдаль. И существует летняя дорожка в лугах, немного слишком идиллическая, словно написанная Хансом Фомой[52].
Гарри наслаждался беседой. Здесь он чувствовал себя дома. Что за сумасшествие жениться на Рите. Он пышно описал, как женился на Рите, как его индусский папаша подал ему ее как девственницу и как она, глотая противозачаточные таблетки, маскировала свое бесплодие, образовавшееся после аборта, про то, как Гарри это обнаружил и как легко после этого можно было шантажировать Риту, про то, как он время от времени пользовался возможностью шантажа, когда просил ее надеть эту невероятно возбуждающую юбку, в которой увидел ее при знакомстве, и встать в этой юбке перед зеркалом также самодовольно как тогда, когда между ними пробежала искра, про то, что она не понимала ни одной из его шуток, но подчинялась его непонятным желаниям, про то, что его это возбуждало, про то, что его мучили угрызения совести из-за того, что он пользовался ею в этом странном ритуале, про то, что возбуджение перевешивало над угрызениями совести…
«Прекрати!» — закричала Хелена, при этих описаниях в ней просыпается похоть. Нет, он пока не прекратит, сказал Гарри, именно сейчас он дойдет до фильма: каждый раз, когда Рита надевала свою азиатскую юбку и послушно позировала перед зеркалом, он вспоминал один старый фильм Хичкока, в котором один сумасшедший американец пытается так одеть свою новую подругу, как выглядела его предположительно умершая возлюбленная.[53]
«Из царства мертвых»[54] — сказала Хелена, замечательно, с Ким Новак и Джеймсом Стюартом.
Правильно, сказал Гарри, а Ким Новак — платиновая блондинка с большим бюстом, а у Риты, слава богу, маленькая грудь и темные волосы. И он надеется, что не обладает этой фальшивой водянистой голубизной глаз, как у Джеймса Стюарта. И все-таки он не мог, приближаясь к стоящей перед зеркалом Рите, вставая рядом с ней, вытаращившись на нее, когда дело принимало тот сладострастный оборот, не думать об остекленевшей одержимости во взгляде Джеймса Стюарта и о том, как спокойно выдерживала Ким Новак этот маниакальный ритуал. И пусть это самый дешевый американский иллюстрированный психоанализ, воспоминания о фильме мешали его удовольствию.
Хеленa считала, что это звучит волшебно, она завидовала Гарри и прежде всего Рите, она начинала ревновать, у нее защекоталo между ног, когда Гарри об этом рассказывал, пускай продолжает.
Гарри сказал, что печально в этой истории то, что в распоряжении у Риты нет ассоциаций такого типа. Даже если она видела этот фильм Хичкока, с ней невозможно было прийти к пониманию через ключевые слова типа «Ким Новак» и «Джеймс Стюарт», чтобы обозначить абсурдность ситуации и прояснить ее.
Гарри должен только радоваться, что ситуацию нельзя обозначить кодовым словом от фабрики грез, сказала Хелена, изумив его. В этом есть что-то, это именно та аутентичность, о которой интеллектуал из Центральной Европы может только мечтать. Если сравнивать с фильмами, то игровое отражение себя в культурном объекте является приятным времяпровождением, но если этот код отсутствует, если ты целиком и полностью зависишь от себя самого, если тебе все время приходит на ум, не может не прийти, что-то вудиалленовское или мыльнооперное или хичкоковское или что-то кинообразное из молодых немецких режиссеров или нечто касабланкавское, или вовсе веризмовое, еще более особенное, когда тебе страсть напоминает винсконтиевскую «Ossessione», жирный фрик — Феллини, хвастун — Джеймса Дина, а теребящий себя за мочку уха — тотчас же Хемфри Богарта — тогда это вдруг обретает благотворную первоначальность. Или если тебе вне мира кино каждый тайный пламенный взгляд верующего не кажется чем-то достоевскообразным, а каждый чудной персонаж, встреченный тобой, кем-то гоголевским, маковые поля, мимо которых проезжаешь, не представляются монэобразными и живописный вид на местное озеро не напоминает Клода Лоррена — тогда в этом тоже нет ничего страшного: если все такого, каково оно есть — загадочно и не декодировано.
Это было невероятно, голая Хелена, лежа в постели, употребляла такие слова как «декодировано». Гарри сказал, что он находит это смешным. И вообще он удивлялся Хелене. Он приготовился выслушать от нее упреки, что, мол, он использует Риту и угнетает, а вместо этого она находит его историю отличной, правдивой, и только что выразила сомнение в разряженности ассоциативной ценности фильмов и других произведений искусства.
— Времена меняются, — сказала Хелена и предприняла попытку найти подходящую для случая песенку из Боба Дилана. Кроме всего прочего, Рита, кажется, не имет ничего против ритуализированной предваряющей игры Гарри.
— Именно этого я не знаю, — сказал Гарри.
— Это ее проблема, — сказала Хелена. Это показалось Гарри жестоким. Хелена стала жестокой. Раньше она точно фурия реагировала на малейшую форму проявления подавления. А теперь вот такое. Ее новоявленная жестокость не вызвала в Гарри страха, наоборот, она привлекала. Рите следует защищаться, если ей это не подоходит, сказала Хелена дерзко и безжалостно. Только что ей в этом не подоходит? Это же тонкая игра! Она, Хелена, находила эту игру достойной зависти.
— Ну ты даешь, — сказал Гарри. Он напомнил ей, как протестовал против ее платья мешкообразной формы, как он в своем горе утверждал, что она выглядит в нем словно перепел или вальдшнеп, о том, как она тут же обозвала его похотливым шовинистом и надела на себя ему назло эти скрывающие очарование тряпки, как он ей назло мечтая о клевых женских задницах, собрал свои последние студенческие деньги и подарил ей черные как смоль похрустывающие кожаные джинсы, как она завопила:
— Гадость какая, ни в жизнь не надену! как он сказал на это: — Так ты мне нравишься.
И она тут же стащила с себя только что надетые джинсы, потому что женщина тогда ни за что, господи пронеси! не хотела быть объектом вожделения мужчины.
— Прекрати! — крикнула Хелена. Прошлого не вернешь. Тогда были такие времена. Кстати, те джинсы она потом носила и носила. Неужели Гарри забыл, как он в пивных водил своим носком по ее ноге. У него был стеклянный взгляд, когда он говорил: — Как скользит, как скользит! Он что, забыл все это?
Воспоминания о прежнем вожделении сменились новым, и они опять упали друг на друга. И было так хорошо, не просто молча отдаваться своим собственным представлениям, а очутиться во вновь оправдывающей себя позиции из фильмов Трюффо. «Теперь я наконец должна познакомиться с твоей Ритой», сказала Хелена.
И потом они обять болтали о восприятии и реальности, и тут их осенило, что они забыли переложить ответственность на телевидение, за то, что существует нечто вроде искаженного восприятия действительности. Гарри утверждал, это как и прежде диалектика в произведении: реальность определяет фильм, а фильм влияет на картину действительности. Странным образом Хелена больше не употребляла как раньше понятие диалектики. Раньше она все считала диалектичным: теорию и практику, абстрактное и конкретное — все было колоссально диалектичным. Употребив этот термин, Гарри заметил, что он использует старомодный инструмент. Это как если бы он надел рубашку с «акульим» воротом образца 1973 года. Где же он утерял связь? В те времена, когда был юристом? Или во время обучения на дипломата? Или за годы в Африке? Как бы то ни было, совсем неплохо оказалось потерять связь, потому что сейчас гораздо заметнее становились изменения.
Они говорили про прогресс и спрашивали друг друга, не делает ли излишним старое барочное представление о мире как сцене и жизни как мечте всю эту вчерашнюю болтовню о реальности и сегдняшнюю о симуляции.
Им вспомнился старый шлягер, они забыли, кто его исполнял, какая-то певица, в конце 50-х или в начале 60-х. Неописуемо плохо. Неописуемо очаровательно. Певица прогнала своего воздыхателя, потому что он имитировал героев киноэкрана. «От Гарри Купера твоя походка», спела Хелена, а Гарри подпел: «Ты вдоль по улице шагаешь четко». Он был «плохая копия» все звезд, это рифмовалось с «любовь моя». От кого же у него была прическа, от Марлона Брандо, что ли? Нет, это был скорее Элвис Пресли. Она тоже не была уверена. Было приятно чувствовать себя ровесниками, земляками и иметь одни и те же воспоминания. Хелена провела рукой по волосам Гарри: «От Чарли Чаплина твоя прическа, но лишь она, но лишь она от Чарли Чаплина…»
Примечания
1
Талар — просторная одежда черного цвета, надеваемая судьями на время судебного заседания.
(обратно)2
Перевод М. Немцова.
(обратно)3
Имеется в виду партия национал-социалистов.
(обратно)4
RAF — Rote Armee Fraktion — немецкая террористическая организация 70-ых годов.
(обратно)5
Известное высказывание лидера RAF Ульрике Майнхоф.
(обратно)6
Имеется в виду содержание лидеров RAF в тюрьме повышенной степени надежности Stuttgart-Stammheim с 1972 по 1977 гг.
(обратно)7
Allgemeine Deutsche Automobil-Club — самый крупный в стране союз автолюбителей.
(обратно)8
На место секретарши в адвокатских конторах принимаются только имеющие высшее юридическое образование.
(обратно)9
О, благодарю вас (англ.).
(обратно)10
Синьора — поэтесса? — Нет, не поэтесса (итал.).
(обратно)11
Немедленно из воды (англ.).
(обратно)12
Миледи (англ.).
(обратно)13
Грозовой перевал (англ.).
(обратно)14
Вы — единственный дипломат, читавший Эмили Бронтё (англ.).
(обратно)15
Боже милостивый (англ.).
(обратно)16
Я просто разговариваю (англ.).
(обратно)17
Одурачьте жену, Одурачьте жену в искусстве, Одурачьте жену в бизнесе… Одурачьте жену в сексе (англ.).
(обратно)18
Смотрите! (англ.)
(обратно)19
Раз-два-три (англ.).
(обратно)20
Так нельзя, Даквиц (англ.).
(обратно)21
О, да (англ.).
(обратно)22
Вот именно (англ.).
(обратно)23
Журнальный столик в форме почки — устойчивый символ эпохи «экономического чуда» 50-х в Германии.
(обратно)24
Блефуйте на здоровье в Браунинге (англ.).
(обратно)25
Что он сказал? (англ.)
(обратно)26
My Lord — знаменитый хит Джорджа Харрисона.
(обратно)27
Она останется здесь (англ.).
(обратно)28
Спасибо (англ.).
(обратно)29
Женщина должна говорить на языке своего мужчины (англ.).
(обратно)30
Заниматься любовью (фр.).
(обратно)31
Послушай, Рита, урок первый: любовь сопровождает партии. (англ., нем.)
(обратно)32
Моя часть тела… твоя часть тела (фр.).
(обратно)33
Не проблема (англ.).
(обратно)34
Поэтому я вас и предупреждал (англ.).
(обратно)35
TUV — Technischer Uberwachungsverein — объединение, занимающееся технической проверкой различных механизмов, в том числе автотранспортных средств.
(обратно)36
Господи… а сексапильная, правда? (англ.)
(обратно)37
Говори по-английски, будь так добр (англ.).
(обратно)38
Иными словами — не со светодиодным индикатором, а с жидкокристаллическим дисплеем (прим. ред.).
(обратно)39
13 октября 1977 стартовавший из Пальма-де-Майорка во Франкфурт пассажирский самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза» был захвачен группой палестинских террористов, потребовавших от правительства ФРГ освобождения лидеров RAF из штуттгартской тюрьмы. Самолет находился в руках террористов до 17 октября. По требованию террористов в течение этих дней самолет совершал посадки в Риме, Бахрейне, Дубаи, Адене и Могадишу. Лидер террористов Мартыр Махмуд вел переговоры с членами правительственной комиссии по спасению пассажиров и экипажа, в результате чего постоянно менялось время окончания действия ультиматума террористов. Благодаря удачной операции по обезвреживанию террористов членами военной группы особого назначения GSG9 (операция «Feuerzauber» — «Огненные чары»), были спасены все 87 пассажиров и экипаж самолета за исключением пилота Юргена Шумана, который был расстрелян Махмудом 16 октября в салоне самолета.
(обратно)40
О, нет, на мотоцикл наплевать (англ.).
(обратно)41
Речь идет о президенте (1979–1982) Карле Карстенсе, слухи о нацистском прошлом которого хотя и не нашли официального подтверждения, но имели устойчивое хождение в обществе.
(обратно)42
Пока (англ.).
(обратно)43
Одна ночь с тобой (англ.).
(обратно)44
Речь идет о смене правящей партийной верхушки, когда доминирующую позицию после долгих лет правления ФДП сменяет ЦСУ, и на место Вильгельма Шмидта в качестве бундес-канцлера приходит Хельмут Коль.
(обратно)45
Имеется в виду Ханс-Фридрих Геншер, который несмотря на свою принадлежность либеральному крылу ФДП, поддержал вотум недоверия Шмидту, в отличие от своих коллег по партии, ушедших в отставку, и остался на своем посту еще на два срока под руководством Коля вплоть до 1992 года.
(обратно)46
Хорст Тельчик, долгое время выполнявший функции внешнеполитического советника Коля.
(обратно)47
Тем самым упоминается представитель партии ЦСУ Фридрих Циммерман, известный своими крайними право-консервативными убеждениями.
(обратно)48
Хельмут Коль в отличие от своего предшественника слыл необразованной деревенщиной, Шмид прекрасно владел английским и имел имидж европейски образованного человека. Про Коля говорили, что он не обладает качествами руководителя вообще, его высмеивали по любому поводу.
(обратно)49
Игра слов, «двоемужная».
(обратно)50
Лорио (Bernhard Vicco Christoph Carl von Bьlow, 12.11.1923. Brandenburg an der Havel) неподражаемый комик-cатирик, начавший свою карьеру в 1967 году, бесподобно обыгрывающий в скетчах, фильмах, книгах, рисунках и мульфильмах немецкую ментальность. Огромное количество цитат из его произведений стало крылатыми фразами. Отличительными чертами его сатиры являются мягкая ирония и потрясающая меткость.
(обратно)51
Герхард Польт (род. 1942 в Мюнхене), популярный немецкий кабаретист, киноактер, режиссер, дебютировавший в 1976 году. В 1984 году удостоен премии Эрнста Любича. В своих кабаре-выступлениях сатирически воплощает тип «баварского немца», удачно используя все клише от «национальной» одежды до характера.
(обратно)52
Ханс Фома (Hans Thoma), немецкий художник-пейзажист. (1839 Bernau 1924 Karlsruhe). Особенно знаменит тем, что создавая свои пейзажи на пленере и затем доделывая их в мастерской, использовал колоссальное количество оттенков зеленого цвета, что послужило причиной образования двусмысленного определения для его картин, написанных маслом, — «Салат Фомы».
(обратно)53
Фильм режиссера Альфреда Хичкока «Vertigo» 1958 года, в гл. ролях Джеймс Стюард и Ким Новак.
(обратно)54
Название фильма в немецком прокате, вероятно, по литературной основе фильма — новелле французских авторов Буало и Нарсежака D'Entre les Morts (1954).
(обратно)


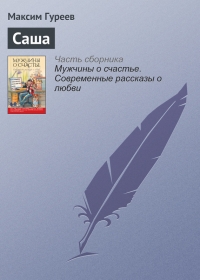

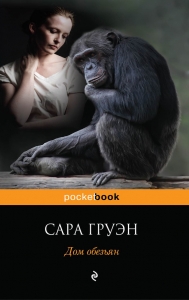



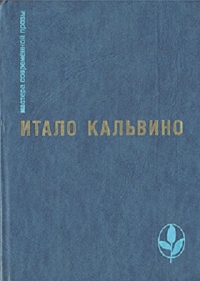
Комментарии к книге «На дипломатической службе», Йозеф Фон Вестфален
Всего 0 комментариев