Валерий Бочков Харон
© Бочков В., 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», 2016
* * *
В четырнадцать лет я убежал из дома. Это был мой второй побег, первый раз я удирал еще в России из звенигородского приюта. Тогда мне только стукнуло девять, я был сопляк и дурак. Меня поймали на третьи сутки на Казанском вокзале.
На этот раз я подошел к вопросу по-взрослому. Раздобыл армейский компас, распечатал крупномасштабную карту, такую подробную, что на ней были нанесены не только грунтовые проселки, но даже тропы, броды в реках, ручьи и источники с питьевой водой.
Из карманной мелочи и денег на кино я скопил девяносто пять долларов. В рюкзак упаковал спальный мешок на гагачьем пуху (рюкзак и спальник выцыганил на барахолке за двадцатку у одноглазого сержанта), алюминиевую флягу, пять упаковок галет с изюмом и орехами, большое красное яблоко.
В боковой карман рюкзака спрятал нож, настоящую охотничью финку с хищными зубцами на конце лезвия и мелким, почти незаметным, но обидным клеймом «Сделано в Китае». Ножи должны производиться в Мексике, в Марокко, в Испании. В каком-нибудь Толедо сухощавыми и загорелыми брюнетами с уверенными пиратскими лицами. Или в Швеции среди диких фьордов и клюквенных болот. На худой конец в Финляндии, ну уж никак не в Китае.
Из Чикаго автобусом я добрался до Виргинии; по странному совпадению я снова бежал на юг, правда, на этот раз на другом полушарии. В Ричмонде, в придорожной закусочной, мне удалось уболтать мелкую старушонку, она подбросила меня на своем розовом «плимуте» к Монтичелло. Оттуда на лесовозе, груженном пахучими соснами, я добрался до Совиного Ручья.
Я вырос в казенных интерьерах, где стены покрашены мышиной краской, мокрой и холодной на ощупь, где чувства классифицируются по степени их рациональности, где понятие «выживание» имеет буквальное значение. Страх – деструктивная эмоция, страх мешает выживанию; не будучи смельчаком, я научился не бояться из соображений рациональности. Когда меня перевели в старшую группу, там, в Звенигороде, на той же неделе Гогу нашли повешенным в душевых. Списали как самоубийство, хотя из-под лопатки у него торчала обломанная заточка, и все знали, что это заточка Хвоща. А помогали труп вешать Джуга и Дятел. Это тоже знали все. Гога один раз вступился за меня, а когда его убили, я промолчал. Я струсил и предал его из соображения рациональности. Я не рассказывал про интернат никому – ни Блейкам, ни в школе; не потому что поначалу был слаб в английском, я просто не хотел снова погружаться в ту толщу боли. Да и не понял бы никто.
Лесовоз скрылся за поворотом, я достал карту и сразу нашел Совиный Ручей. Самого ручья видно не было, я стоял на обочине рядом с ржавым указателем, пробитым дробью как решето. Где-то надрывно звенела цикада. Солнце уже садилось, и макушки придорожных сосен затейливыми кружевами чернели на фоне розового неба. Обрывки мелких облаков плавно тянулись на восток, на миг мне показалось, что я вижу, как вращается Земля, – сосны, фиолетовый лес за ними, тихо прокручивались под неподвижным зефирным куполом.
Тропа шла в гору, новые кеды упруго ступали по опавшим иголкам, бурым и мягким, как медвежья шерсть. С ветки беззвучно сорвался ястреб, нырнув под сосновые лапы, свечой взмыл вверх. Я вздрогнул от неожиданности, птица едва не задела меня крылом. Где-то слева, за густым орешником, ворчал ручей. Оттуда тянуло сырым холодом.
Впереди, за черными стволами, открывалась поляна. На дальней опушке стоял человек в долгополом пальто, он целился из ружья в корягу. Быстро темнело, по траве полз туман, казалось, что мужчина по колено забрел в какую-то муть. Коряга вдруг ожила, человек отпрянул. Я уже вышел на поляну и увидел, что это был волк. Его передняя лапа угодила в капкан. Зверь не скулил, молча следил за человеком, за ружьем. Я подошел ближе. Волк поймал мой взгляд, несколько секунд глядел мне в глаза, безнадежно и тоскливо. После обреченно отвернулся к лесу.
– Что вы делаете? Так нельзя, подождите, – остановился я и крикнул, сжав кулаки. – Нельзя!
Мужчина удивленно повернулся.
– Поляк, что ли? – спросил он.
На нем было холщовое пальто, мятое, словно скроенное из старых мешков. В бритой угловатой голове было что-то рачье, то ли розовато-красная кожа, то ли белесые выпуклые глаза с седыми ресницами. «Раковая шейка» – вспомнил я странное название конфет. Бровей на лице не было.
– Не поляк, – огрызнулся я. – Русский.
– Вот и ступай своей дорогой, русский.
Волк слушал, я видел настороженное ухо. Сосновый бор почернел и придвинулся, где-то за ним закатилось солнце. Небо напоследок засветилось персиковым, нежным, почти волшебным сиянием. По диагонали протянулась ртутная жилка – след самолета.
– Ну да! Вот если бы вас так, – я зло поддернул рюкзак, – безоружного…
– Как? – тихо спросил он. – Как так?
– Вот так, в упор.
Его рачье лицо отливало розоватым блеском, короткий нос казался покрыт лаком. Он неожиданно улыбнулся, выставив крупные зубы.
– Тебя как звать, парень? – Он приблизился ко мне почти вплотную.
– Николай.
– Ты думаешь, Николай, так легко убить? Ты думаешь, всех-то дел – на крючок нажать. Да?
Рак был длинным малым, на голову выше меня. От него воняло сырым костром – горький, противный запах. Он сплюнул в траву.
– Мой отец говорил: каждый день ты должен кого-то убивать. Муху, крысу. Каждый день… – Рак засмеялся. – Тогда в решающий момент рука не дрогнет. В решающий момент…
Он неожиданно протянул мне ружье.
– На! Попробуй сам.
Ружье оказалось старым двухзарядным «ремингтоном», увесистым, гораздо тяжелее, чем я ожидал, цевье было теплым и скользким от его потных рук. Мой указательный палец осторожно лег на маслянистое железо. Мне всегда казалось, что оружие должно придавать уверенности, на деле я ощутил неудобство и растерянность.
– Приклад в плечо… Вот так…
– Знаю… – Я вжал приклад в плечо. – Ну и?
Рак сделал шаг назад, неожиданно приподнял ствол «ремингтона» и упер его себе в грудь. Я замер, хотел сглотнуть, во рту была сушь. Палец мелко дрожал на спусковом крючке.
– Ну и? – тихо передразнил он меня.
Его выпуклые глаза гипнотизировали, я не мог отвести взгляда от этих водянистых, в розовых прожилках, воспаленных глаз, от белых ресниц, похожих на свиные щетинки. Мне пришла неожиданная мысль, что он альбинос.
– Ну что, Ник, – так же тихо спросил он. – Сможешь? Или кишка тонка?
«Ремингтон» стал вдвое тяжелее. Страшно хотелось пить. Снизу, из желудка поднималась тошнотворная слабость, между лопаток скользнула щекотная капля. Если бы ствол не упирался в его грудь, у меня вряд ли хватило сил удержать ружье.
– Вот видишь, – ласково проговорил он. – Не так это просто – убить. Навык нужен.
Левой рукой он взялся за ствол, мои пальцы разжались сами. Он ловким жестом перехватил ружье за цевье, уверенно прижал ствол к волчьей голове и выстрелил.
1
Мы развелись через два с половиной месяца после моего возвращения из Пакистана. Выплатили кредит за «рэнглер», переписали дом на имя жены. Бывшей жены. Она снова стала Хелью Борг, дети – старшему уже двенадцать, младшей Анне – семь, тоже стали Боргами. Мое имя постепенно начало исчезать. Исчезать с почтовых конвертов, со счетов за газ, электричество, исчезать из жизни.
Я научил детей прятаться в ванной при первых признаках опасности, ванная – самое защищенное место в доме. Моя жена научилась обращаться с дробовиком, винтовка всегда в спальне, я объяснил Хелью, под каким углом лучше стрелять сквозь дверь, чтобы избежать рикошета. Сразу после учебного года они с детьми переедут на Западное побережье, куда-нибудь в Калифорнию или Орегон. Здесь, в Виргинии, на лужайке перед нашим домом уже стояла вывеска «Продается».
В апреле, во время очередного медосмотра я пожаловался на депрессию.
– Суицидальные мысли? – спросил доктор, тюкая по клавишам ноутбука двумя пальцами.
Я пожал плечами, кивнул, разглядывая серый линолеум, неубедительно изображающий мрамор.
– Алкоголь?
– Ну-у…
Док поднял голову, разнял очки – дужка на переносице соединялась магнитом. Две стекляшки повисли на груди.
– Удобная штука… – заметил я.
– На спиртное не налегай. – Он не хотел поддержать разговор про свои замечательные очки. – А депрессия… депрессия – это нормально. После того, что вы там…
– Может, таблетки? Я просыпаюсь каждую ночь в два, не могу заснуть до утра.
– На спиртное не налегай, – повторил доктор.
Соединил очки и начал что-то выстукивать на клавиатуре.
Через неделю я подал рапорт. Самое забавное, что если бы меня пристрелили в Аллатаббаде или раньше, в Афганистане или Ираке, Хелью до конца жизни получала бы за меня приличную пенсию, мои дети бесплатно окончили бы колледж – любой, на выбор. Всей семье была бы гарантирована медицинская страховка Минобороны.
До выхода в отставку мне оставалось два с половиной года – тридцать один месяц. Подавая рапорт, я нарушал контракт и лишался пенсии, выходного пособия, страховки.
Командир отряда, капитан первого ранга Ригли отложил бумагу, долго тер лицо ладонями.
– Ник, не горячись. – Он поднял на меня красные, будто заплаканные глаза. – Тут надо все как следует обмозговать…
– Куда уж дальше, – перебил я, – мозг уже в трубочку свернулся от мозгования!
– Да погоди ты…
У меня тряслись руки, я сжал кулаки, сунул их в карманы.
– Мы можем попробовать, – капитан подбирал слова. – Я могу связаться с Бюро… я уже говорил с Грубером… Они предложили включить тебя в программу защиты свидетелей…
– Это которая для стукачей из мафии?
– Грубер сказал, у них есть вариант в Милуоки. Шофером на пивной трейлер… Пиво развозить, короче… Новое имя, социальный номер, квартира.
– Пиво? – Я зло засмеялся. – А как с Хэлью? Ее куда? В стрип-бар, на столе плясать?
Капитан снова начал мучить лицо.
– А дети? Что с ними? Их куда? – Я встал, быстро прошел от стены к стене. – Куда?
В кабинете пахло сырой побелкой, было душно. Где-то за стеной играло радио, передавали что-то классическое. Я хотел расстегнуть воротник, пальцы не слушались, я дернул, пуговица весело зацокала по полу.
– Я все понимаю, – сказал я в стену; капитан за спиной замычал, как от зубной боли. – Просто не могу больше. Сломался. Перегорел, как лампочка. С виду вроде ничего, а внутри – хлам.
– Что ты собираешься делать? – спросил капитан.
– Исчезнуть. Для начала. – Я сел, скрестил руки на груди. – Они ведь до меня доберутся. И я не говорю «если», я спрашиваю «когда». Это вопрос времени.
– М-да, – промычал Ригли. – Вопрос времени.
– И это будет не снайпер…
– Не снайпер, – согласился он. – Не их стиль.
– Я не могу подставлять Хелью, детей. – Я дотянулся до пластиковой бутылки, сделал глоток, поставил воду обратно на стол. – Я как зачумленный, находиться рядом со мной опасно для жизни.
– Ник, – сипло начал капитан, закашлялся. – Ник… Я что-нибудь придумаю. Я тебе обещаю. Обещаю…
Он встал, шумно и торопливо, словно боялся, что я улизну, наклонился и неуклюже обнял меня за плечи. Я привстал, смущенно похлопал его по спине. От него разило тем же солдатским одеколоном, что и шесть лет назад. Тогда меня только зачислили в отряд, и я был уверен, что я самый везучий сукин сын на белом свете.
Официально отряд именовался скучно и длинно – Специальное подразделение по особым операциям, в документах и приказах мы проходили под кодом «Группа Z», на внутреннем жаргоне нас дразнили «похоронной командой».
Шесть лет назад я утонул. На вступительном экзамене нужно было пройти кучу тестов – физических, психологических, интеллектуальных и еще черт знает каких. Один сбой, одна ошибка, и все – до свиданья. Последний экзамен проходил под водой: надо было завязать шесть узлов морским штыком на глубине пяти метров. Я нырнул, на шестом узле потерял сознание. Меня вытащили, откачали. Первое, что я спросил: «Как узел? Я завязал последний?» Капитан Ригли засмеялся: «Да. Утонул, но завязал. Добро пожаловать в «похоронную команду».
2
В моей памяти прочно застряла картина, даже скорее не изображение, а ощущение, – так обычно запоминаются запахи: мы только вернулись на базу в Аргам, я стоял посреди комнаты и жевал сандвич с ветчиной и сыром. На полу лежал труп Шейха, по телевизору шла прямая трансляция из Белого дома. Президент говорил, что герои из элитного спецподразделения морской пехоты провели безукоризненную операцию, в результате которой был обезврежен террорист номер один. Я глядел на мертвого Шейха, на живого президента, жевал сандвич и думал: «Мать твою! Ведь это он про нас говорит. Про меня! Эй, кто-нибудь, разбудите меня!»
В морскую пехоту я попал случайно. Почти случайно – по причине разбитого сердца, как поют в ковбойских песнях. Виной тому стала Кэрол Замански, соседская сероглазая пигалица (русые локоны, томный взгляд, клубничные губы – трафаретный набор, запах детского пота пополам с ворованной маминой парфюмерией, мучительные поцелуи в чахлой роще за Ржаным кладбищем), коварно предавшая мою юную любовь буквально перед самым выпускным вечером. Жизнь кончилась, душа почернела и умерла, осколки разбитого сердца больно ранили изнутри молодое, но никому не нужное тело.
Я слепо брел по улицам, солнце гвоздило из зенита, асфальт был белым, словно в пепле. Мне хотелось прекратить эту муку. Как угодно, любым способом. Я уткнулся в дверь с плакатом и надписью «Ты нам нужен!». Я решил, что обращались именно ко мне. На плакате был изображен лихой малый, упитанный и самоуверенный, в парадной морской форме с золотыми галунами. Особенно меня впечатлили белые перчатки и сияющее лезвие сабли с затейливым эфесом. Я толкнул дверь. С таким же успехом в тот день я мог бы угодить в тюрьму или оказаться матросом на корабле, уходящим в кругосветное плавание.
Так что президент мог бы заодно поблагодарить и Кэрол Замански. Если б не она, кто знает, куда меня вывела бы кривая: в менеджеры по продажам какого-нибудь хлама, в страховые агенты, в горнолыжные тренеры в Колорадо или в полицейские в Чикаго. Или, может, я гонял бы сейчас пивной трейлер где-нибудь по дорогам Ми-луоки.
В феврале мы вернулись из Ирака. Обычная миссия, от Аль-Асада до Рамади у нас было три цели. На жаргоне они именуются «целями повышенной ценности». Это обычно штабы, координационные центры, склады оружия, иногда полевые командиры. Обычно мы работаем ночью, в районе Аль-Асада цель находилась в доме посреди деревни, я решил действовать днем.
У меня два «сикорских-47», на борту каждого – по тринадцать человек. Плюс два дога, натасканных на взрывчатку. Я посадил свой вертолет прямо во дворе, второй сел снаружи. Группа оцепила периметр, чтобы деревенские не совались. Нам постоянно мылят шею за жертвы среди мирного населения. Вся операция заняла семь минут. На следующий день по округе пошли слухи, что вчера в деревню с неба спустились бесы с двумя огнедышащими львами.
Потом мы вернулись, началась обычная переподготовка в Майами. Жара еще не навалилась, апельсиновые деревья отцвели, но в воздухе еще держался неуловимый аромат, похожий на смесь жасмина с лимоном. Белые стены домов утром становились розовыми, а яхты на горизонте были как на офорте – четкие, словно процарапанные тонкой иглой на синем небе.
Я понял, что заваривается что-то серьезное, когда нас неожиданно перебросили в Виргинию, но не на нашу базу в Литл-Крик, а в какие-то тайные бараки в горах. Место напоминало заброшенный туристический лагерь: дощатые постройки, заколоченные окна, мох на крышах, общая уборная в виде теремка. Под этой декорацией пряталось несколько этажей, набитых электроникой и персоналом.
Поначалу они просто врали, первый брифинг проводили двое штатских, явно из разведки. Говорил рыжий, помоложе, с веснушками на сдобных бабьих руках. Загибал что-то про подводный кабель, поврежденный во время японского землетрясения, потом ни с того ни с сего перевел разговор на Ливию. Второй, усталый малый, с лицом алкоголика, с отвращением пил кофе из картонного стакана и молчал.
Я слушал и прикидывал, что вообще происходит в мире. Афганистан, Ирак, Иран – весь регион, обычные наши пациенты. Конечно, Ливия. И, конечно, Пакистан. Самая серьезная головная боль. Каждый брифинг я жду роковых слов: «Группа террористов овладела ядерным устройством, которое в настоящее время переправляется на территорию нашей страны. Более подробной информацией разведка не располагает».
Только потом до меня дошло, что они к нам присматривались. Не только эти двое – рыжий и алкаш, в комнате по углам висели камеры. На третий день меня и еще пять человек из группы отправили в Харви-Пойнт, в центр ЦРУ в Северной Каролине. Вот тут-то все и закрутилось: такого количества генералов я не видел за всю предыдущую жизнь – из Пентагона, Командования специальными операциями, Секретариата обороны, разведки.
В понедельник, в комнате, похожей на класс, нам объявили, что получена достоверная информация о местонахождении Шейха. На территории Пакистана, в пригороде Аллатаббада. Трехэтажный дом за каменной стеной.
– Я на сто процентов уверена! – горячилась румяная симпатичная девушка-аналитик из разведки. – Вот он! Этот длинный! Вот! Видите, держится особняком. В шляпе.
Нам показывали спутниковую съемку отличного качества. Шейх, не без чувства юмора, на прогулки надевал ковбойскую шляпу. Явно опасался спутниковой съемки и, как выяснилось, был абсолютно прав. Два шофера, три машины – два джипа и пикап, тринадцать человек охраны внутри, пост снаружи, у ворот. Плюс женщины и дети, с Шейхом там обитали три его жены. Короче, настоящий табор.
Тони Бузотти, стенобой из моей команды, малый из Нью-Джерси, похожий на сицилийского рыбака, вежливо поднял руку. Как в школе.
– Ребята, если вы так уверены, что это Шейх, – он улыбнулся аналитику из управления, – почему бы вам не накрыть этот санаторий с дрона? Точечным ударом? Вмазать прямо по шляпе – и вся любовь, а?
– Да вмазать-то можно, – согласился генерал-майор. – Вмазать – дело нехитрое. Нам труп нужен. Труп.
Бузотти понимающе кивнул.
Все верно: если мы ликвидируем Шейха, но у нас не будет тела со стопроцентной идентификацией личности, мы сыграем на руку Аль-Лакхар и всему их чертову джихаду – мы сделаем Шейха бессмертным.
– Но ведь паки – наши союзники, – не унимался Бузотти. – Вроде как…
– Вот именно, вроде как, – мрачно подтвердил генерал. – Два года назад мы сообщили их разведке, что выследили Шейха в приграничном районе. Шейх моментально исчез.
Тут до меня дошло, почему операция окружена такой таинственностью, – нас отправляют на территорию суверенного государства. Нашего союзника. Еще мне стало ясно, что вернуться живым из Аллатаббада будет непросто. Я посмотрел на карту – как минимум сорок минут полета от афганской границы. Сорок туда, сорок обратно. Радары, противовоздушная оборона, ракеты, истребители.
Как ни странно, сама операция меня не очень беспокоила. В конце концов, это именно то, что мы делаем: прилетаем и уничтожаем цель. С наименьшими потерями среди мирного населения.
– Слышь, Ник, – наклонился ко мне Квинт, индеец-чероки и мой лучший снайпер. – А если нас собьют?
– Если собьют, то нас отдадут под суд, а после мы окажемся в пакистанской тюрьме, где нас до второго пришествия будут ставить раком пакистанские уголовники.
Квинт недоверчиво поморщился и отвернулся.
– Генерал, – я привстал, – у меня вопрос относительно транспортировки. Полтора часа несанкционированного полета?
Генерал кивнул какому-то штатскому с умным лицом в роговых очках. Тот встал.
– На двух вертолетах «Чинок» мы установили стелс-систему пятого поколения, отражает пеленг на высоте до семисот метров. Вы будете невидимы для радаров… – Он снял очки, близоруко поглядел на меня и добавил: – На девяносто пять процентов.
– Пять процентов! – прошептал мне Квинт и сделал неприличный жест.
3
Началась отработка операции. Сначала на плане, потом на модели. Построили дом, стену, будку для охраны. Аналитики были уверены, что спальня Шейха на третьем этаже.
– Что, правда, у него там три жены? – спрашивал Бузотти. – Силен мужик, ему ж за полтинник!
– Пятьдесят семь. А младшей жене семнадцать. Две старые тетки в основном по хозяйству – дети, стирка.
– Нормально! Грымзы носки штопают, а дерет он, значит, эту школьницу. Вот ведь устроился, сукин сын!
– А ты, Тони, в магометанство запишись!
– Да я с одной Сюзанн едва справляюсь, куда уж мне три штуки потянуть!
Тренировки шли ночью, по периметру были выставлены авиационные прожекторы, чтобы снаружи не было видно, что там творится внутри. У нас забрали мобильники и ноутбуки, мы подписали грозные бумаги, что об операции не скажем ни слова. Ни до, ни после. Домой я звонил по местному телефону из душной кабинки со стеклянной дверью и колченогим стулом. Кроме нас с Хелью в трубке постоянно присутствовал некто с тяжелым дыханием – они даже не скрывали, что прослушивают. Уверен, делалось это намеренно.
– У меня херовое предчувствие, – Квинт подошел ко мне после ужина. – Ты же знаешь, вся эта халабуда заминирована. Набита динамитом под завязку на все три этажа.
Я знал. Обычно в домах полевых командиров взрывчатка подвешивалась к потолку в центральной комнате – так взрыв получался наиболее разрушительным. Иногда пояса с пластитом надевали на домашних – жен, детей.
– Вождь, – улыбнулся я. – Если там действительно Шейх, я не думаю, что у кого-нибудь, кроме него, есть право нажать на кнопку. А этот сукин сын, судя по всему, в сказки про девственниц в райских кущах не очень верит. Он же не козопас. У него гарвардский диплом.
Наши не любят говорить об этом, но Шейх – это наш монстр, наш гомункулус. Его откопал сенатор Уильямс в конце афгано-советской войны, юный Шейх тогда был полевым командиром среднего пошиба где-то под Кандагаром. Уильямс – маньяк-антисоветчик, уверенный, что афганская кампания может смертельно измотать СССР, приволок Шейха в Вашингтон. Кажется, его даже принимал вице-президент. Пропаганде нужен был герой, борец с коммунизмом, национальный символ свободолюбивого афганского народа. Им и стал Шейх. Он вернулся в горы со «стингерами» и непререкаемым авторитетом суперзвезды.
Советы вывели войска, сенатор Уильямс умер от передозировки кокаина, а у нас на руках оказался весьма способный молодой человек с амбициями трансатлантического масштаба.
– Ладно, пошли спать, – сказал я Квинту.
Он молча смотрел в темноту. Опускалась ночь, южная, влажная, с безумным звоном невидимых цикад. Кончалась суббота, операцию назначили на понедельник.
– В любом случае, если нам и предстоит… – я запнулся. – Короче, если мы сыграем в ящик, то давай уж постараемся сделать это как следует.
– С музыкой? – засмеялся индеец.
– С музыкой.
План был прост и почти изящен. «Под покровом ночи», точнее, в три ноль-ноль, первый «Чинок» приземляется снаружи, группа «А» (тринадцать человек) начинает атаку. Задача – отвлечь внимание противника, заставить его сконцентрироваться на отражении внешней атаки. В три ноль семь второй «Чинок» зависает над зданием и вторая группа (группа «Б» – шесть человек) спускается на крышу, одновременно по периметру проникает внутрь через окна, уничтожает цель. На всю операцию отводилось семнадцать минут.
– Самое сложное будет вернуться, – каперанг Ригли аккуратно провел рукой по бритой голове. – Не Шейх и его нукеры, а авиация паков. Если они поднимут истребители…
– Если они успеют поднять, – перебил его полковник из Штаба спецопераций. – Ребята, вы должны пересечь границу не позднее четырех ноль-ноль.
– Ясно дело, – хмыкнул Бузотти. – Из-за нас вы вряд ли начнете войну с Пакистаном.
– Вот именно, – согласился полковник. – Есть вопросы?
Когда выходили из комнаты, меня кто-то тронул за рукав. Я повернулся – аналитик из разведки.
– Вы командир второй группы, – быстро спросила она без вопросительного знака.
Я кивнул.
– Он на третьем этаже. Его спальня. На третьем этаже, я уверена…
– На сто процентов? – Я улыбнулся; у нее была молочная кожа, на щеке уже расцветал румянец.
Она запнулась и покраснела вконец.
– Все будет хорошо… мисс Харрис. – Я прочитал имя на табличке. – Это наша работа. Мы прилетаем, находим засранца, мылим ему шею. И улетаем. Все очень просто.
4
Мы писали письма. Мы все писали письма в последнюю ночь. Я сидел в тесной норе с покатым земляным полом и писал письмо детям. Оно будет доставлено в случае моей смерти. В случае если я не вернусь. Поскольку шансы в основном распределялись между двумя вариантами конца: быстрым – непосредственно во время акции и медленным – в пакистанской тюрьме.
Думаю, я неважный отец. Во время февральского отпуска, в последний выходной, я купил себе солнечные очки «Прада» за триста пятьдесят баксов. Детям – какую-то игру: Анне – куклу, Алексу – трансформера. В общем, подарков долларов на двадцать от силы.
Меня эти чертовы очки потом, уже в Афгане, мучали весь месяц. Что ж я за сукин сын? Что это, эгоизм? Лишь потом до меня дошло, что дело вовсе не в очках. Просто я готовился к смерти. А уж если умирать, то красиво. Со стилем. Гражданские кладут покойника в гроб в выходном костюме, нас хоронят в запаянных цинках. Что внутри этих ящиков, мы никому не рассказываем, да и между собой не говорим на эту тему. А парадная форма с кортиком и медалями остается семье.
На взлетном поле под Джелалабадом нас провожал вице-адмирал из Объединенного штаба. Он произнес речь, я не понял ни слова – я уже был там, в доме за каменным забором.
«Сорок седьмые» включили движки, Бузотти сквозь шум прокричал мне в ухо:
– Надеюсь, паки не станут сажать наши вертушки, а просто собьют на обратной дороге.
Потом я узнал, что когда вице-адмирал делал доклад в Белом доме, кто-то спросил:
– А что, если пакистанские части окружат их во время операции? На земле?
– Тогда они сдадутся и вы отправите вице-президента или госсекретаря вести переговоры в Пешавар об их…
– Нет, – перебил его президент. – Наши ребята не сдаются. Этот вариант мы не рассматриваем.
Перелет в один конец – девяносто минут, вертолет взял вправо, когда мы пересекли границу. Я считал до тысячи и обратно, чтобы убить время. Обрывки мыслей возникали, путались, думалось обо всем и ни о чем сразу. Цифры хоть как-то приводили голову в порядок.
Антирадар, похоже, работал. Но все равно «Чинок» – дура размером со школьный автобус. На высоте в шестьсот метров. И все это – в воздушном пространстве суверенного государства.
Мы сидели на складных стульях пляжного типа – своих, мы их всегда приносим с собой. Откидные скамейки вертолета больше похожи на инквизиторский реквизит: через полчаса у тебя затекает все тело, начинает ломить спину. За шесть лет в «похоронной команде» я заработал артрит, у меня смещены два диска и еще полдюжины мелких болячек. С годами начинаешь бережнее относиться к своему телу, как правило, уже после того, как непоправимый ущерб нанесен.
Последние двадцать минут полета меня занимала мысль сугубо физиологического характера: перед посадкой я забыл отлить и теперь прикидывал, сумею ли дотерпеть до конца операции. Как говорил сержант Гловер в учебке, здоровенный негр со стальными зубами, мой первый наставник и мучитель: «Лучше нассать в штаны, чем идти на задание с полным мочевым пузырем».
Для наших групп разработали на этот случай специальные памперсы, говорят, вполне удобные. Я никогда не пробовал, идея мочиться под себя перед боем как-то не очень меня воодушевляет. Короче, я отлил в пластиковую бутылку из-под воды, завинтил пробку и сунул в карман.
Насколько все-таки ироничен наш мир: когда через пятнадцать минут я всадил две пули в лоб Шейха – злодея мирового масштаба и террориста номер один, – в моем кармане лежала бутылка с мочой. Моей, еще теплой мочой.
Первая группа приземлилась в два пятьдесят шесть – время пошло.
Наш «Чинок» завис над крышей. Меня поразило, что на севере светился огромный город, справа петляла череда фонарей, которые, как маяки, вели к полю для гольфа. Из-за поля выглядывали коренастые виллы за белеными каменными оградами. Мы, очевидно, нанесли визит в весьма зажиточный пригород Аллатабадда. Мне почудился дразнящий перечный запах, что-то среднее между паприкой и жженым кофе. Еще мне показалось, что эта чужая, пряная ночь – на нашей стороне.
Подошвы коснулись бетонной крыши. С этого момента мозг и тело начали работать в автоматическом режиме. Шестнадцать лет тренировок, напоминавших скорее пытку, чем процесс обучения, выдрессировали меня физически, психологически и морально принимать наиболее оптимальное решение не думая. И действовать моментально.
Доли секунды отделяют тебя от цинкового ящика под звездно-полосатым флагом и речей на Арлингтонском кладбище. Умение и инстинкт – вот слагаемые успеха. В данном случае под успехом подразумевается твоя жизнь.
Бузотти подтащил мощный стенобой – смелый гибрид между отбойным молотком и лазерной пушкой – к надстройке в углу крыши. Там оказалась железная дверь, ведущая на чердак. Дверь крякнула и скрутилась, как жестянка от консервной банки. За дверью была глухая кирпичная стена.
– Фальшак! – крикнул Бузотти.
– Отлично! – ответил я, цепляя карабин троса к ржавой скобе и пробуя на прочность. – Значит, внутри действительно что-то стоящее.
Два моих снайпера остались на крыше, мы спустились по стене на уровень третьего этажа. Внизу, на земле, шла беспорядочная пальба, по большей части сухой треск «калашниковых». Нижний отряд первым делом взорвал трансформатор, и охрана стреляла наобум, в темноту. На нашей стороне были внезапность и приборы ночного видения.
Бузотти высадил ближайшее окно, мы оказались внутри. Пустая квадратная комната; я толкнул дверь, за ней – коридор. Стреляли уже внутри дома, я различил тугие очереди наших «кобр». Дальняя дверь распахнулась, в коридор выскочила женщина. Я вскинул карабин, но на спуск не нажал. Выстрелил Бузотти. Женщина остановилась, словно передумала спешить, тихо сползла по стене.
– Баба! Мать твою! – выругался Бузотти.
Он нырнул в приоткрытую дверь. Я распахнул противоположную дверь и увидел Шейха. Тот держал за плечи женщину в долгополой ночной рубахе и подталкивал ее к выходу, прямо на меня. Оба таращились в кромешную тьму страшными, безумными глазами. Меня они не видели, я мог различить даже серьги в ее ушах. Это была младшая жена, Амаль – неожиданно я вспомнил ее имя.
Шейх выглядел растерянным. И был гораздо выше, чем я ожидал. Обычно все эти злодеи при личной встрече оказываются невзрачными коротышками. Гораздо мельче, чем ты себе их воображаешь.
За эту секунду я подумал: какой он длинный и какой худой, и борода совсем короткая и седая. На голове – белая шапочка, которые они носят, а волосы стрижены почти под ноль. На Амаль не было пояса, но взрывчатка могла оказаться на Шейхе. Он, словно меня учуяв, замер и медленно поднял свой знаменитый тупорылый «калашников». Я выстрелил два раза, обе пули вошли в лоб. Шейх повалился навзничь рядом с кроватью. Я включил инфракрасный прицел и выстрелил еще раз. Бап! В лоб.
Я наклонился. Шейх не двигался, он был мертв. Изо рта вывалился язык, глаза закатились. Я услышал, как из его грудной клетки выходит воздух; звук был похож на глубокий, усталый выдох. В углу скулила Амаль.
Я сидел на корточках, на полу лежал мертвый Шейх. Господи, промелькнуло у меня в голове, ведь это все на самом деле. И это сделал я. Еще я понял, что с этого момента моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я услышал детский плач: у стены, на кровати сидел пацан лет двух, младший сын Шейха. Я взял его на руки, отнес к матери. Господи, господи, ну при чем тут дети, думал я. Из коридора уже слышалась ругань Бузотти, топот армейских ботинок. Вся акция на третьем этаже заняла пятьдесят секунд.
5
Капитан Ригли позвонил утром. Спросонья я не мог найти телефон, было душно и голова болела как-то по-особенному немилосердно.
– Есть идея, Ник, – бодро сказал каперанг. – Не по телефону.
Кажется, я не произнес ни звука. В трубке пиликали гудки, я нажал отбой.
Тесть капитана, отец его супруги Гвен-Элизабет (слово «жена», равно как и «женщина», а не «дама», к мисс Ригли совершенно не подходили) умер два года назад. Зять получил в наследство охотничий дом где-то в глухомани, в районе Зеленых гор, на юге штата Вермонт.
Стрельба занимала значительное место в жизни капитана первого ранга Ригли; наша «Группа Z», конечно, не «Дельта» – эти маньяки проводят на стрельбищах по шесть часов ежедневно, – но и нам иногда приходится стрелять. Короче, капитан относился к охоте скептически и палить из ружья в свободное от работы время не собирался.
– Глушь! – с тихим восторгом проговорил Ригли. – Кромешная глушь…
– Глушь не может быть кромешной, – буркнул я. – Тьма может.
Капитан не обратил внимания.
– Мы там были прошлым летом. Ни Интернета, ни мобильной связи. Сигнала нет, с одной стороны – горы, с другой – лес. Чащоба, сосны всякие, ели… Гвен отказалась там ночевать, пришлось тащиться в Монпелье. В «Рэдиссон». Пятьдесят семь миль.
– Почему? – угрюмо спросил я.
– Что почему?
– Отказалась ночевать…
Капитан хмыкнул, ловко распечатал пачку жевательной резинки, сунул пластинку в рот.
– Хочешь? Мятная.
Резинка оказалась приторной, по вкусу напоминала детскую зубную пасту. Очень хотелось выплюнуть, но я покорно жевал.
– «Девяносто минут» не смотрел вчера? – Ригли достал ключи, отстегнул один. – У Бузотти интервью брали…
– Не смотрю ящик.
Капитан положил ключ на стол.
– Не знаю, Ник, как ты ко всей этой катавасии с Тони относишься…
– Никак, – почти грубо перебил я. – Никак не отношусь. Мы получили задание, полетели, выполнили. Что еще?
Ригли хотел что-то сказать, но меня уже понесло.
– Если Бузотти хочет покрасоваться и быть героем – пожалуйста! – Я встал, с грохотом отпихнув стул. – Мне плевать!
– Не ломай мебель. Казенная. – Капитан тоже поднялся. – Плевать ему… Шейх был не просто их руководителем. Он был их пророком. И хочешь ты или нет, тебе придется с этим жить до могилы.
– Вот этот момент особенно воодушевил. Спасибо, кэп.
– Не петушись, Ник. Аль-Лакхар сегодня на девяносто девять процентов – болтовня. Маркетинг джихада с использованием веб-технологий…
– Речь идет о моей семье. Один процент – слишком высокая вероятность.
– Держи. – Он подвинул ключ на край стола.
Я взял ключ. Мне стало стыдно – каперанг в моих неприятностях (назовем это мягко) никак не виноват. И Бузотти тут тоже ни при чем – ему кажется, что он ухватил жар-птицу за хвост и из пастуха вот-вот превратится в чудесного принца. Винить журналистов и телевизионную сволочь тоже глупо – эти мать с отцом за ломаный грош продадут. Да и нужно ли вообще искать виноватых?
– Возьми джи-пи-эс, непременно возьми. – Капитан дописал адрес, аккуратно сложил лист пополам, потом еще раз, провел ногтем большого пальца по сгибу. – Я серьезно: глушь кромешная.
Я вдруг вспомнил ту девчонку, аналитика из разведки, Харрис. Когда мы вернулись на базу в Виргинию, я столкнулся с ней в коридоре.
– Вы оказались правы, он действительно был на третьем этаже. – Я достал из кармана патрон и протянул ей. – Это из моей обоймы, той самой. На память.
Она растерялась, хотела что-то сказать, но вдруг заплакала. Зажав патрон в кулак, отвернулась к стене. Я так и стоял рядом, не зная, что делать.
6
– Не прогонишь?
На пороге стоял Бузотти, выставив как пропуск бутылку дорогого скотча.
Я пожал плечом, равнодушно распахнул дверь. Страшно хотелось вмазать по его довольной роже. Чтоб кубарем скатился по крыльцу и застрял в кустах отцветающей сирени.
Прошли на кухню. Он сел, отвинтил пробку. Пытался казаться серьезным и строгим, но его так и распирало, так и пучило от нежданно подвалившего счастья. Я вспомнил, как во время рейда в Фаллуджи Тони под пулеметным огнем полез спасать какую-то дворнягу.
Он быстро разлил скотч по стаканам, двинул один в мою сторону. Я молча взял, посмотрел на свет, мир тут же стал янтарным, тягучим, с плавными углами и невнятными очертаниями.
– Я им сказал, что я его не убивал, – Бузотти торопливо выпил, поморщился. – А этот продюсер, сука, так повернул… А потом еще они там вырезали… Вот и получилось, что вроде как это я Шейха закоптил.
Я молча отпил, подержал скотч во рту, проглотил. На полу валялись игрушки, пестрые мелки, розовый кто-то раздавил, маленькие розовые следы вели в коридор и упирались в дверь детской. Бузотти подлил в мой стакан виски.
– Достойное бухло, правда, Ник? Почти стольник за пузырь…
Я кивнул.
– Они мне говорят: такой фарт раз в жизни бывает. И вправду, это ж как в лотерею выиграть! И даже лучше. Лотерейную капусту профукал – на девок, гульбу, тачки… А этого дохлого Шейха можно за милую душу доить до второго пришествия. Я вон уже контракт на книгу подписал… Звонил какой-то хмырь из Голливуда – за сценарий пять миллионов предлагал. Я Джеку перезвонил, он говорит: не суетись, срубим в три раза больше. А Джек, он с самим Спилбергом в гольф…
Бузотти постепенно замолчал. Словно у него кончился завод, как у игрушек с пружиной внутри. Он поник и уставился на стакан.
– А помнишь… – не поднимая глаз, начал Тони, – под Басрой… Когда Локхард в гарем угодил. Он кричит им: «Дамы, где Халид?» А за ним Хью вломился, бабье со страха врассыпную. А этот Локхард: «Дамы, где Халид?» Вот умора…
Конечно, я помнил: суннитский поселок на юге. Искали Халида, местного партийного феодала, родственника Саддама. По данным разведки, где-то в окрестностях находилось хранилище зарина. А Хью Уиллис, двухметровый негр, до службы играл в нападении сборной Алабамы. Там, в поселке, на нем был противогаз и костюм химзащиты. И Хью, и Локхард, и еще одиннадцать наших ребят через два года погибли. Их вертолет был сбит «стингером» в Афгане в провинции Кунар.
– А помнишь этого, как его? – Бузотти засмеялся, хлопнул в ладоши. – Ну как его?.. С прибором?
– Абрар-эль-Кувейти.
– Точно, Эль-Кувейти! Когда раздели для опознания тела, у него елдак до колена оказался. Саймон говорит, так и запишем: Эль-Кувейти с прибором.
Бузотти заржал.
Саймон погиб глупо: обыскивали дом, он раскрыл шкаф, там пацан лет десяти. Саймон ему – иди сюда, не бойся. А на мальчишке был пояс. Смертники долго не думают, кнопку нажал, и в рай.
– Ник, послушай. – Бузотти перестал смеяться. – А давай вместе… Ну, сценарий и вообще… Ты ведь тоже рапорт подал, да? Джек говорит, на компьютерных играх можно очень мощную капусту срубить. Да и вообще, если эта канитель раскрутится, на одной рекламе такие бабки сделаем – мама не горюй! Кроссовки, майки, шоколадки всякие… Будем как Майкл Джордан!
Бузотти расстегнул запонки, закатал тесные рукава белой рубахи. От запястий к локтям поднимался репейник кельтских узоров. Татуировка шла и выше, к плечам. На спине Бузотти был набит череп, обвитый змеями.
– Шоколадки, говоришь… – негромко начал я. – Шоколадки – дело, конечно, заманчивое. Но вот, Тони, в чем загвоздка: ведь Шейха убил не я. И не ты. И не мы с тобой. И даже не наша «похоронная команда».
Бузотти хотел что-то сказать, я жестом его остановил.
– Шейха завалили мы все – наша группа, наш эскадрон, капитан Ригли, разведка, эта девчонка Харрис, ребята из штаба, которые планировали миссию…
Я допил остатки скотча.
– А еще Саймон, Хью, Локхард. И все наши, кто разбился в Кунаре. Мы все его завалили, понимаешь? Мы все.
Я громко поставил стакан на стол.
– И не могу я торговать ботинками и майками. Я собирал Саймона, собирал в мешок по частям, руки, ноги… А после Кунара я всю неделю ездил с похорон на похороны, встречался с родителями, детьми, с женами… Вдовами… И неважно, что ты им говоришь или они тебе, смысл всегда один: ты здесь, живой, а он там, в запаянном ящике.
– Что ж я теперь, казниться должен, что козлопасы засадили ракетой не в наш вертолет? Что я живой вернулся? Так, что ли? – Бузотти медленно встал. – И не хера мне эту звездно-полосатую пропаганду разводить, мы не на «Фокс Ньюс»! Армейское братство, патриотизм… Много они за твой патриотизм заплатили?
Когда Бузотти злился, его глаза светлели, из серых становились почти белыми. Он вперился в меня своим рыбьим взглядом.
– Знаешь, Ник, – тихо сказал он. – Я бы за тебя под пулю встал, не думая ни секунды. Там, в Дерьмостане. Но здесь… Здесь – другое дело. Здесь каждый за себя. Ты уж извини, брат.
Я тоже встал. Тони дышал мне в лицо сивухой. Я дотянулся до бутылки, нашел пробку, завинтил. Взял бутылку за горлышко. Тони смотрел мне прямо в глаза, смотрел зло.
– Каждый за себя, – повторил я. – Все верно. Если тебе нравится работать цирковой мартышкой на телевидении или в Голливуде – пожалуйста, я не против. Хочешь корчить из себя Рэмбо – ради бога. Хочешь врать, как ты собственноручно завалил Шейха, – ври на здоровье. Только тогда уж свяжись с муджахидами из «Знамени пророка», пусть они поставят твою фотографию и твой адрес на своем сайте. Вместо моих. Так, я думаю, будет правильно. И для рекламной кампании твоих шоколадок сподручнее.
Где-то вдали завыла сирена пожарной машины. Тоскливый бесконечный звук повторялся снова и снова, то приближаясь, то почти растворяясь в уличных звуках. Бузотти хотел что-то сказать, но лишь пожевал губами, повернулся и пошел к двери.
– Эй, – окликнул я его. – Бухло забыл, – и с размаху кинул бутылку.
Тони обернулся, одной рукой небрежно поймал виски за горлышко. Вышел, хлопнув дверью. Реакция у него всегда была хоть куда.
7
В моей памяти, подпорченной контузиями и алкоголем, события и места перемешались и теперь, подобно узорам детского калейдоскопа, складывались в произвольные композиции с причудливой географией и неожиданными сюжетами. Каждую ночь я просыпался около двух и не мог заснуть до рассвета. Эти несколько глухих часов полусонное сознание развлекало меня затейливыми коллажами из моей жизни, в которых рыжие закаты Басры разливались над пыльной афганской пустошью где-то под Кандагаром. С грязной отарой на крутом склоне, каменной изгородью и парой черных птиц в небе. Или всплывали ультрамариновые небеса, усыпанные яркими звездами, предположительно в дельте Тигра, с контурами островерхих крыш Багдада, пылающего персиковым заревом, после атаки вакуумными бомбами. Начало операции «Страх и ужас».
Мы спускались из тьмы на наших немых вертолетах (в видениях аудио по непонятной причине отсутствовало), приборы ночного видения превращали мир в расплывчатый зеленоватый мираж – изумрудные муджахиды бесшумно палили из «калашниковых», Тони беззвучно высаживал ворота, мы врывались внутрь. По двору между развешенных тряпок метались женщины, собаки. Моя лукавая память изображала происходящее плавно и грациозно – чистый балет. Думаю, отсутствие звука – криков и пальбы – здорово помогало.
На самом деле миссия похожа на крушение поезда. Страшная своей неукротимой мощью, неизбежностью и стремительностью, акция обычно занимает не больше десяти минут. Любое противодействие летально. Каждый из нас выдрессирован до автоматизма, у каждого своя четкая задача, вместе мы – безукоризненный механизм. Машина смерти. Мы не солдаты, мы не ввязываемся в нудные перестрелки, мы прилетаем, находим, убиваем. Это единственное, что мы умеем делать. Но делаем мы это лучше всех.
Под конец операции прочесывали логово командира – армейская койка с ворохом серых простыней, голая лампочка на скрученном проводе, тумбочка, лосьон после бритья (точно таким я пользовался в учебке), пара осколочных гранат. Без разбора сгребали в мешки все бумаги, мобильники, компьютеры, диски. После стрельбы и криков ночь, казалось, звенела тишиной, лишь потом я догадывался, что это зудели жирные навозные мухи.
Или вот еще сюжет. Он прокручивался в моей памяти с незначительными вариациями, иногда менялись декорации, иногда – второстепенные персонажи и массовка. Душный, яркий полдень. Обычно задником служит Арлингтонское кладбище, порой вместо виргинских вязов и игрушечной церквушки с островерхим куполом там появлялись долговязые пальмы и бирюзовый кусок плоского океана (наша тренировочная база в Майами). По траве в идеальном порядке расставлены белые кубики надгробий, похожие на кусочки сахара.
Мы хороним Кевина. Я подхожу к микрофону, начинаю говорить. Солнце в зените, от слепящих лучей трава сияет, словно пластик. Отделение пехотинцев в парадной форме, родня в черном, аккуратный прямоугольник могилы, рыжая почва. Земля в Виргинии дрянь – сплошная глина. На орудийном лафете гроб под флагом, от красных и белых полос рябит в глазах. Я произношу скучные фразы, истертые банальности про героизм и родину. Вдруг замолкаю, все вопросительно смотрят на меня. Мне страшно от того, что я сейчас скажу. Я перевожу взгляд с заплаканной Нэнси на отца Кевина, рассеянного здоровяка, похожего на дальнобойщика. Он явно пьян, но это состояние, пожалуй, наиболее подходит для ситуации, поскольку я сейчас скажу, что Кевина, там, в Фаллудже, разорвало на куски и нам удалось найти лишь его ногу. Именно ее мы сейчас и хороним.
Под утро видения становились бессюжетными, напоминали любительскую киносъемку, скучную и скверно смонтированную. Такое обычно показывают гостям после десерта в хороших домах, где хозяева любят путешествовать по экзотическим странам.
Преобладали охристые цвета. Песок, пыль, камни – пустыни на любой вкус, от землисто-красных, похожих на запекшуюся кровь, до нежно-лиловых под мохнатыми чернильными облаками где-то в провинции Хармез. Горы, горы. Бесконечные горы. Вот голубая гряда на далеком горизонте, напоминающая добротный мираж, манящий и прохладный. А вот серые гордые пики в прожилках снега, похожего на скользкую слюду. Крутые отроги, отвесные обрывы. Узкие ущелья, скорее всего, уходящие прямиком в ад. Апрельская зелень Джелалабадских хребтов сменялась мрачным нагромождением диких колоссов на севере Курдистана, похожих на застывших в молитве великанов.
Постепенно окно моей спальни из серого становилось мутно-белым, я вставал и брел на кухню. Наливал бурбона, глотал махом, как микстуру. Тихо ступая, чтобы никого не разбудить, возвращался в спальню. Засыпая, вспоминал, что дом пуст. Что Хелью с детьми уже в Калифорнии.
8
Покидал я Виргинию душным утром. С юга наползала серая хмарь, собирался серьезный ливень. Закрыв входную дверь, я по привычке сунул ключ в карман, тут же сообразив, что мне он больше не понадобится. Я не сентиментален, но осознание бесприютности больно резануло. Настроение, и до этого бывшее на нуле, резко сползло в минусовую область. Я обернулся, взглянул на дом, сад. Подсолнух, который посадила моя дочь в мае, за полтора месяца вымахал футов на семь и был на голову выше меня.
До Вермонта – пятьсот с лишним миль. Я выехал на девяносто пятое шоссе, пробрался в левый ряд и погнал на север, превышая разрешенную скорость на пятнадцать миль. Пробок не было – если так и дальше пойдет, все путешествие займет от силы часов девять. За окном проносились неинтересные окрестности, искалеченные бесконечной стройкой – груды бетонных плит, горы глины, ядовито-желтые грузовики, краны, похожие на больных членистоногих, туалетные кабины из небесно-голубого пластика. Уцелевшие деревья и случайные островки травы выглядели почти неуместно.
В районе Балтимора эстакада взлетела, сверху открылась даль с тусклой водой залива, старым ржавым мостом, пакгаузами и цементным заводом, совсем седым от налипшей пыли. Слева высился новый стадион. За ним начинался город: я узнал тонкую башню с часами, разглядел зеленую крышу аквариума, куда мы водили детей лет пять назад смотреть акул.
Собрался дождь. Первые капли, тяжелые и редкие, забарабанили по стеклу и крыше. Неожиданно потемнело, придорожные фонари подслеповато заморгали и зажглись белесым светом. Утро превратилось в полноценные сумерки.
Сверху весомо ухнул гром, и тут же, словно по сигналу, обрушился ливень. Я включил дворники. Они метались по стеклу, беспомощно захлебываясь в потоках поистине тропического дождя. Пришлось сбросить скорость, дальше третьей машины впереди ничего не было видно.
Ландшафт, утратив угловатость, перешел из материального состояния в разряд декораций для нейтральных сновидений. Иногда из мелового марева выныривала железная рука какого-то крана, а то вдруг нависал серым брюхом пролет моста без конца и без начала. По обочинам угадывались невысокие строения, за ними было бело, я без труда представил, что там дальше простирается бескрайняя заснеженная степь. А может, пустыня или даже океан.
Робкие водители притормаживали, съезжали на обочину и там сидели в мокрых машинах за потными стеклами. Храбрецы и дураки вроде меня продолжали шпарить сквозь бешеный ливень почти вслепую. Иногда мне казалось, что машина скользит по мокрому асфальту, как по мыльному кафелю. Ощущение напоминало спазм восторга свободного падения, когда жизнь сжимается до текущего мига, когда нет ни прошлого, оно безвозвратно кануло и значения не имеет, ни будущего, будущее еще не родилось, его просто не существует, оно под вопросом. Впрочем, будущее всегда под вопросом.
Где-то в штате Делавэр свернул на заправку. В придорожной харчевне взял кофе и сомнительный крендель с привкусом жареной рыбы. Сел в угол, приглядывая за входной дверью. Откусил от кренделя еще раз – определенно треска – завернул хлебобулочное изделие в салфетку и отодвинул на край стола. Кофе, к удивлению, оказался вполне сносным, а главное, горячим.
Достал телефон, начал проверять почту. За последний месяц я трижды менял адрес. После того как муфтий Абдул-Азиз публично проклял меня в своей фетве и приговорил к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор, а фонд Хордад объявил вознаграждение в полтора миллиона за мою голову, я получал сотни три посланий ежедневно. В основном с описанием разнообразных мук и пыток. Иногда тексты иллюстрировались фотографиями отрезанных голов или каких-то решительного вида молодцов в вязаных масках на фоне зеленых тряпок. Чаще там была просто ругань.
Я пробежал глазами семьдесят два сообщения, удалил все, не открывая, кроме письма из банка и счета от дантиста. Допил кофе. В туалете почерпнул важную информацию, что Кэт здорово делает минет, тут же, на стене, был нацарапан телефон девушки. Долго мылил руки, без особой симпатии разглядывая свое лицо в мутном зеркале.
Когда я вышел из харчевни, ливень уже кончился. Солнце, стараясь наверстать упущенное, жарило вовсю. Из промокших кустов кричали птицы, от асфальта поднимался пар. Дымились чахлые деревья, красная крыша бензозаправки. Дымилось шоссе, по которому с сумасшедшей прытью неслись разнокалиберные машины. Мой джип курился бледным паром, словно только что вернулся из какого-то адского путешествия. Воняло бензином, от духоты рубаха тут же прилипла к спине. Я сел, включил зажигание и вывернул кондиционер на максимум. Поймав просвет, дал газ и втиснулся за молоковозом с мэрилендским номером.
Придорожные ландшафты штата Нью-Джерси отличались устойчивым и каким-то изысканным уродством, казалось, кто-то специально придумывал наиболее оскорбительные для глаз пейзажи. Общей темой на протяжении двух часов оставалась стройка, словно шоссе проложили через нескончаемую строительную площадку.
Монстроподобные агрегаты завязли в горах рыжей грязи, из недостроенных стен торчали пучки ржавой арматуры, бетономешалки походили на неразорвавшиеся бомбы. Из-под них на дорогу вытекали зигзаги белесой жижи. Иногда мимо пролетала заброшенная фабрика: мертвые трубы, кирпичные стены в граффити, выбитые окна. Иногда проскакивала лачуга с чахлым огородом и печальным негром в плетеном кресле на крыльце. Воображение дорисовывало тощую кошку, спящую на ступенях.
Проносились гигантские рекламные щиты цыганских расцветок. Девица с порочными глазами невозможно бирюзового цвета держала веером карты – все тузы, никак не меньше пяти. Надпись уверяла, что в Атлантик-Сити тебя ждет удача, надо лишь свернуть направо на выезде номер двадцать три. Адвокаты с лицами сытых негодяев вопрошали: «Угодил в аварию? Получил увечья?» и тут же успокаивали: «Не беда – может быть, это твой шанс стать миллионером!» Строгий шрифтовой плакат сурово заявлял: «Я на твоей стороне», внизу скромно стояла подпись – Бог.
Около полудня случился затор. Мили полторы мы ползли со скоростью неспешно фланирующего пешехода: я втыкал первую, дотягивал до второй, скидывал на нейтралку, снова тормозил. Встречные машины, отделенные от нас пыльным газоном, весело неслись на юг. Мы, стремившиеся на север, поглядывали на счастливчиков с угрюмой завистью.
Причиной пробки оказалась авария. Огромный «линкольн-навигатор», черный и сияющий лаком, как концертный рояль, лежал на боку. Крыша джипа была смята, в грязной луже из масла и битого стекла валялась женская туфля на шпильке. Оторванный капот отлетел метров на десять и воткнулся в кучу строительного песка. Вокруг «линкольна» бродили хмурые полицейские, сновали медики, несколько служебных машин с включенными маяками стояло на обочине.
Зеваки из ползших мимо машин тянули шеи, пытались разглядеть труп или хотя бы пятна крови. Труп, скорее всего, уже увезли. Насчет трупа я не сомневался, уцелеть в такой катастрофе было невозможно. Интересно, что имел в виду Господь, когда уверял бедную дамочку, что Он – на ее стороне? По странной причине именно эта модель «линкольна» была особо популярна среди работников службы безопасности и домохозяек из богатых пригородов.
Живописная сцена дорожной трагедии осталась позади, воспитательный эффект продлился недолго, через пару минут мой левый ряд уже выжимал под девяносто. По правую руку с ревом неслись восьмиосные грузовики, сияющие никелем и сталью и похожие на межконтинентальные ракеты. Управляли ими, скорее всего, роботы или камикадзе – тормозной путь у груженого трака на такой скорости составляет около ста ярдов.
Настырный рыбный фургон с красными иероглифами на борту попытался втиснуться между мной и «ауди» с нью-йоркским номером, я прибавил газу и почти уперся в бампер «ауди». Обозлясь, японец-рыбовоз резко вильнул в мою сторону, чуть не сбив зеркало. Потом по диагонали ушел вправо, подрезав семейный автобус из Огайо с остроносой колли и мексиканской девчушкой в заднем окне.
Впереди, почти сливаясь с белесым небом, зачарованным островом проступил контур Манхэттена – игрушечные башни, шпили, островерхий конус Крайслера. Я подумал, что хорошо бы обогнуть Нью-Йорк, но навигатор уверенно направлял меня в сторону моста Джорджа Вашингтона, до которого, согласно дорожным указателям, оставалось четыре мили.
9
Около четырех, где-то в штате Коннектикут, когда я заливал бензин в свой «рэнглер», из фанерной туалетной комнаты, пристроенной к бензоколонке, вышла ладная девица с яркими, только что накрашенными губами и до блеска расчесанными медовыми волосами. Она, брезгливо потирая ладони, быстро взглянула на меня, достала ключ, щелкнула в сторону белого «ягуара». «Ягуар» подал голос и моргнул фарами. Я подумал, что четырнадцать лет не спал ни с кем, кроме Хелью. Девица, посмотрев в мою сторону, села, хлопнула дверью. Лихо вырулила на шоссе, едва не столкнувшись с рыбным фургоном, который заезжал на заправку.
Рыбовоз встал у соседней колонки. Из кабины на асфальт спрыгнул шофер, крепкий детина в желтых солдатских ботинках. Я повернулся спиной и уже завинчивал крышку бака.
– Эй! – раздалось сзади. – Я узнал твою тачку. Слышь, ты?
За десять шагов шофер рыбовоза выглядел румяным здоровяком; когда он подошел ближе, оказалось, что правая сторона лица и шея у него были обожжены и покрыты розовой кожей, сморщенной, как засохшая молочная пенка. Из расстегнутой рубахи на бугристой, словно гофрированной, безволосой груди синели остатки какой-то татуировки.
– Чего воротишься, противно смотреть? – Он поймал мой взгляд. – Да?
Я пожал плечами, приоткрыл дверь машины.
– Ты погоди… Когда с тобой разговаривают… – Шофер ухватил меня за локоть.
– Убери руку.
– Спешишь сильно? – Он приблизился, воняя потом и чесноком.
Правое ухо его почти сгорело и было похоже на розовый эмбрион. Он зло сплюнул мне под ноги. Где-то вдали взахлеб зарыдал ребенок.
– Вот пока такие сытые гниды, как ты, дрючили здесь девок… мы там, в пустыне, свои жопы подставляли… Там, в этой блядской пустыне… – Он, распаляясь, нервно дернул головой. Правая сторона лица казалась маской. Мертвой розовой маской. Глаз, без ресниц и брови, равнодушно блестел, как стекляшка. – В этих горах…
– Мужик, – глядя ему в лицо, тихо сказал я. – Уйди от греха. Прошу тебя.
Шофер запнулся.
– Христом-богом прошу: уйди, – повторил я.
Он нерешительно отпустил мой локоть. Я сел в машину, он снова сплюнул и хотел что-то сказать.
– Молчи, – перебил я. – Молчи. И вези свою рыбу, пока не протухла.
10
Вермонт встретил меня талантливо задуманным закатом. Солнце из лимонно-желтого стало медным, потом, потемнев и словно налившись малиновым жаром, сползло в седловище между двух сизых гор. Там застряло, словно запутавшись в тонких слоистых облаках, плавя их и зажигая кружевные края. Машин стало меньше, после они исчезли вовсе. Я выжимал восемьдесят, изредка по встречной полосе проносились могучие лесовозы, груженные рыжими сосновыми стволами. Иногда я обгонял битый фермерский грузовик или кособокий седан-инвалид.
Я открыл окно, пахнуло лесом, мокрой хвоей. Сквозь гул мотора я услышал свист птиц, треньканье придорожных кузнечиков. Живя среди заторов, многоярусных развязок, светофоров и забитых перекрестков, я совершенно забыл, что езда может доставлять удовольствие. Чистую детскую радость, почти восторг. Как тогда, когда тебе впервые доверили баранку.
Я опустил все стекла, тут же ворвался ветер, и по салону, как мотыльки, замельтешили квитанции за минувшие парковки, какие-то старые чеки… Зачем-то начал их ловить, потом засмеялся, махнул рукой – черт с ними, пусть улетают. Попытался петь, но из этого ничего не вышло, и я включил радио. Среди бескрайнего треска набрел на тоскливое кантри: под унылую гитару некто нетрезвым голосом сипло жаловался на отсутствие смысла в жизни, после того как крошка-зайка-малышка уехала с Биллом в большой город. Я оставил страдальца, отправился дальше на поиск. Второй станцией оказалась классическая. Больше в эфире не было ничего.
После рекламы включили Шопена. Он пришелся как раз кстати, поскольку на западе торжественно отыгрывали багровый финал, а с юга, зловеще клубясь, разливалась и наползала чернильная хмарь. Оттуда глухими раскатами доносился гром. Утренней грозе, от которой я улизнул в Нью-Джерси, удалось-таки снова меня догнать.
Порыв ветра пригнул деревья, прошелся по лесистым холмам упругой серебристой волной, обнажая бледную изнанку листвы. Стало по-осеннему свежо, почти холодно. Мелькнул желтый знак со словом «Лось». Я не понял, что имелось в виду, и вдруг на обочине увидел огромного лося, жевавшего листву придорожного орешника. Я инстинктивно сбавил скорость и включил фары. Внешний мир тут же потемнел и стал плоским, небо, утомясь пожарными красками, нахмурилось и посерело. Больше половины уже затянула черная туча. Дальние холмы выросли в настоящие горы, они незаметно подкрались к самому шоссе, иногда нависая гранитными стенами, иногда вставая лесистыми громадами. Дорога запетляла, стали появляться знаки «Камнепад».
До меня вдруг дошло, что я за час не встретил ни единой живой души (если не считать лося), ни одной фермы, мотеля или бензоколонки. Я достал телефон: на экране растерянно моргала надпись «Ищу сигнал». Я мысленно пожелал телефону удачи и бросил на сиденье.
Согласно навигатору к месту назначения я должен прибыть в восемь пятьдесят.
– Если меня не завалит камнями или не атакует придорожный лось, – сказал я, щелкнув по экрану навигатора.
Шопена оборвали на полуфразе, диктор красивым баритоном оповестил о приближении урагана.
– Порывы ветра могут достигать семидесяти пяти миль в час, возможен град, – сообщил он. – В низинах возможно наводнение. Если вы находитесь в машине и на дороге вам встретится вода, не пытайтесь пересечь преграду. Ваш автомобиль может унести потоком. – Диктор драматично выдержал паузу. – Безобидная лужа может оказаться смертельной ловушкой. Данное сообщение предназначено для Южного Вермонта, округов Эссекс и Оранж, городов Монпелье, Брикпорт…
Баритон принялся перечислять местные названия. Эта топонимика была для меня пустым звуком, но судя по нарастающим порывам ветра, я находился именно там, в одной из вышеназванных географических точек.
– А теперь обратимся к одному из наиболее знаменитых творений Шопена, вы узнаете этот ноктюрн по первым аккордам.
Диктор оказался прав, аккорды я узнал, но для меня стало откровением, что это Шопен. Потом вспомнил. Это был саундтрек в рекламе антидепрессантов, там в конце отеческий голос советовал: спросите своего врача о нашем лекарстве, возможно, помощь совсем рядом. После по экрану шел мелкий текст с предупреждением о побочных эффектах пилюль – от безобидного внутреннего кровотечения до навязчивых мыслей о самоубийстве.
Ливень обрушился плотным водопадом. Ландшафт исчез, исчезло и шоссе, оно теперь ограничивалось мутным пятном от моих фар. Ветер подхватывал струи дождя и гнал параллельно асфальту. Быстро темнело. Из-за грохота ливня и шопеновских аккордов я прозевал сообщение навигатора.
– Что? – крикнул я в экран. – Что ты сказал?
Навигатор послушно повторил. Он предупреждал, что через милю я должен свернуть на шоссе номер двадцать пять. Правый поворот.
Поездка становилась интересной. Я с трудом различал разделительную разметку в трех метрах от меня. Иногда, поймав луч фар, мутным призраком вспыхивал какой-то дорожный знак на обочине. Дальше вставала гробовая темень. «Кромешная» – вспомнил я слова капитана Ригли.
Поворот на двадцать пятое я нашел почти на ощупь. Это была дорога местного значения в две полосы, разделенные желтой линией. Навигатор невозмутимо утверждал, что до лачуги покойного охотника оставалось всего миль пять. К этому времени начался град. Повороты шоссе стали круче, затейливей. Я понятия не имел, что таится за обочиной – бездонная пропасть, дикие скалы, обрыв с бурной рекой, Тартар.
Из-за поворота выскочили фары и понеслись на меня. Я вильнул вправо, джип занесло, я едва удержался на дороге. Мимо, громыхая, пролетел лесовоз. Вспыхнув рубинами задних габаритов, пропал в черноте.
– Местные, мать вашу! – выругался я. – Дровосеки хреновы…
Шопен начинал мне нравиться. Наверное, что-то общеславянское в упоении безысходностью. Когда боль становится почти наслаждением, а приближение краха ожидаешь с растущим восторгом. Я вошел в поворот, прибавил газ, чувствуя, как резина скользит, теряя связь с асфальтом. Теперь я уже не видел ничего, кроме косого града и петляющей желтой полосы посередине шоссе.
– Вы прибыли к месту назначения, – неожиданно оповестил меня навигатор. – До свидания!
– Эй! – закричал я. – Погоди! Какой «до свидания»!
Я затормозил, осторожно съехал на обочину. Мои фары нависли над черной лужей неизвестной глубины, за водой угадывались стволы деревьев. Аккуратно тыкая указательным пальцем, я снова набрал вермонтский адрес. На экране навигатора появилась надпись «Ошибка».
– Ну ты и сволочь… – тихо пробормотал я и выключил радио.
Глубоко вдохнул, терпеливо повторил все сначала. На экране долго крутилась иконка песочных часов; под нервную дробь града и дождя по крыше я неотрывно следил за их вращением. Часы исчезли, экран вспыхнул голубым. Неожиданный женский голос вдруг заговорил по-французски. Из длинной фразы удалось разобрать лишь «силь ву пле».
Я сорвал гнусный прибор со стекла – он отлепился с распутным чмоком – опустил стекло и выбросил мерзавца в ночь, во мрак, в черную бездну.
Град кончился, остался лишь ливень. Было непонятно, откуда у них там наверху столько воды. Самым разумным будет переждать дождь на обочине, подумал я. И снова вырулил на шоссе.
Со скоростью в пятнадцать миль я полз по краю дороги, пытаясь сквозь темень разглядеть хоть какие-то признаки человеческого присутствия – дом, сарай, хотя бы забор. Ничего, кроме мокрых стволов, диких камней, черных еловых лап, нависающих над дорогой. Я включил радио, Шопена не было – станция пропала, из динамиков доносилось лишь унылое шипение. На меня вдруг накатила страшная усталость, изнеможение. Мне показалось, что я плутаю уже целую вечность. Или что это сон. Или что я уже умер.
Безумно захотелось выпить. Глоток бурбона наверняка расставил бы все по своим местам. Тут мне навстречу выплыл столб с жестяным почтовым ящиком. Я притормозил, пытаясь разобрать имя на ржавом боку. От имени остались лишь «R» и несколько загадочных иероглифов. За столбом виднелась прогалина, туда, в чащу, уходила колея.
Я выматерился и свернул. Колея резко пошла под уклон, я выжал тормоз, но джип все равно полз, хрустя сырым гравием. Я воткнул первую передачу, фары выхватили стволы каких-то могучих, почти доисторических деревьев. По стеклу мокрой тряпкой хлестнула еловая ветка, дорога сделала петлю, и я выкатил на горизонтальную поверхность. Свет моих фар уперся в крыльцо. Мокрые ступени, дверь, кресло-качалка.
Я выполз из машины, ноги затекли и не гнулись. Попытался выпрямиться, спина тоже не разгибалась. Почти моментально я промок насквозь. Поднялся по ступеням, чертыхаясь, проковылял к двери. Постучал.
Дождь колошматил по крыше крыльца. Я пару раз пнул дверь ногой, приложил ухо. Ни звука. Я вытащил из кармана ключ, нащупал замок. Ключ легко вошел и повернулся. Я толкнул дверь, она распахнулась.
– Эй! – крикнул я в темноту дома. – Есть кто живой?
Переступив порог, нашарил на стене выключатель. Дохлая желтая лампа осветила пыльную прихожую с низким деревянным потолком. Из стены торчала оленья голова с печальными карими глазами.
– Здрасьте…
Я осторожно потрогал олений нос, он был мягкий, как из замши.
Вернувшись под ливень, я заглушил мотор, вытащил из багажника сумку. Все тело ныло, болела каждая мышца – я крутил баранку ровно двенадцать часов. Поднялся на крыльцо; чертов ключ застрял в замке, сколько я ни крутил и ни тянул его, никак не хотел вылезать. Я плюнул и захлопнул дверь, оставив ключ снаружи.
Прихожая вела в большую темную комнату, похожую на гостиную. Там пахло старым деревом и мокрой сажей. Я пощелкал выключателем – никакого результата. Свет из прихожей едва добивал, но мне удалось разглядеть камин, рядом два кресла. Я пошарил по каминной полке и нащупал спички. Спички не отсырели, тут же рядом нашлась свеча.
Опустился в кресло, подняв подсвечник над головой, огляделся. По бревенчатым стенам висели рогатые головы – косули, олени, невероятных размеров лосиная голова с презрительно выпяченной нижней губой. Камин был сложен из дикого камня, рядом висели кованые щипцы, кочерга, какие-то крюки инквизиторского вида.
У камина на сервировочном столе тускло мерцали разномастные бутылки. Покойный тесть капитана Ригли определенно начинал мне нравиться. Я выбрал ополовиненную бутыль ирландского виски, вернулся в кресло. Поставив свечу на пол, вытянул ноги. Искать стакан не было сил, да и ни к чему мне стакан – я свинтил пробку, дружелюбно кивнул высокомерному лосю и сделал большой глоток из горлышка.
Глаза сами закрылись, пропали мертвые рогатые головы, передо мной снова понеслась дорога, бесконечная желтая полоса, засновали по ветровому стеклу неутомимые дворники. А дождь все лил и лил. Лил и лил. Мне вдруг пришла в голову странная мысль: я ведь открыл дверь своим домашним ключом. Ключ, что дал мне капитан, остался лежать в боковом кармане дорожной сумки.
11
Меня разбудил стук в дверь, вкрадчивый и настырный, как туканье дятла. Он вкрался в мой сон: я голый сидел на каменном полу по-турецки и сдавал экзамен по некой дисциплине расплывчатому преподавателю с лицом сома. Предмета я не знал, сом начал сердиться и вдруг зацокал, как белка.
Просыпаясь на ходу, я ударился коленом о кресло, сбил со стола какую-то звонкую дрянь, которая весело запрыгала по полу, добрался до прихожей и распахнул дверь.
На пороге стоял человек; я разглядел лишь контур – за ним пылал ослепительный рассвет. Солнце било прямой наводкой: мокрые листья, стволы деревьев, трава сияли, словно были посыпаны битым стеклом. Я загородился ладонью от солнца, пытаясь разглядеть гостя.
– А где Лоренц? – спросил он.
– Вы зайдите, – сипло пригласил я, отступая в прихожую.
– Не, спасибо… Я думал, это Лоренц… – Он замялся. – Вот решил к завтраку. Вы ведь не завтракали еще?
У него был ласковый голос и рыжие буйные волосы, мне наконец удалось разглядеть незнакомца. Невысокий, в круглых учительских очках, в мешковатом комбинезоне цвета сухой грязи, он напоминал рассеянного подростка – над такими обычно потешается весь класс, таким пишут обидные глупости на спине мелом и тайком под партой связывают шнурки.
– Вот. – Он сунул мне в руки картонную упаковку и сверток, похожий на холодный камень. – Там яйца. Утренние. А это Сэм.
– Сэм?
– Да. В морозилку уберите… Ну мне пора, надо еще там… – Он заторопился, сбежал с крыльца, повернулся, спросил: – А Лоренц приедет?
– Боюсь, что нет, – я запнулся. – Он умер.
Рыжий застыл.
– Вот как… – рассеянно проговорил он. – Вот оно как…
Он забрался в свой «форд», грузовик по самые стекла был заляпан грязью. Затарахтел мотор.
– В морозилку! Не забудьте! – крикнул он, дал газ и уехал.
Щурясь от солнца, я остался стоять в дверях, в одной руке – дюжина яиц, в другой – таинственный ледяной Сэм. Птицы, уцелевшие после вчерашнего потопа, радостно голосили из деревьев, от мокрой травы поднимался сизый пар, где-то за елями шумела быстрая река. Начинался новый день. Мой первый день в Вермонте.
Интуитивно нашел кухню, холодильник работал. Я послушно убрал сверток в нутро морозильника. Вернулся в гостиную.
Неудивительно, что утонченная и чувствительная жена (пардон, супруга) капитана Ригли отказалась тут ночевать: трофейные головы зверья всех мастей висели в два ряда, я насчитал двадцать семь экспонатов. Помимо заурядных оленей и банальных косуль я с удивлением обнаружил оскалившегося леопарда с розовым языком и внушительными клыками, голову мрачного тура с толстыми, словно лакированными, черными рогами. Под самым потолком темнела здоровенная башка африканского носорога.
Гостиная мне понравилась. Мебель, обшарпанная и разномастная, отличалась добротностью и удобством. Разлапистое глубокое кресло, в котором я отлично выспался, было обито мягкой, местами вытертой до белизны свиной кожей. Другое кресло, массивное, темного дуба, напоминало реквизит из мушкетерского кино – на резной спинке я разглядел затейливый герб со львами и какой-то злой птицей.
На пыльных полках было полно книг, старинные фолианты с потемневшими корешками стояли вперемежку с пестрой макулатурой карманного формата: сонеты Шекспира, изданные лет двести назад, соседствовали с наивной стряпней Дэна Брауна, к «Запискам о Галльской войне» по-свойски притулился потрепанный Дин Кунц.
Посередине гостиной стоял бильярдный стол, обтянутый фиолетовым сукном, забытые шары застыли в некой дебютной позиции. Седьмой номер наклонился над средней лузой, я не удержался и подтолкнул его.
Над бильярдом висела кованая люстра (черный металл от пыли казался мягким, замшевым) с дюжиной мертвых ламп, между которыми паук свил хитрую паутину, полную мушиных мумий. Цепь люстры уходила под темный свод; потолки такого типа агенты по недвижимости называют «кафедральными».
Нашлись еще псевдокитайский ломберный столик с отыгранным до половины пасьянсом «Платок Казановы», несколько старых керосиновых ламп, мутные фотографии там и сям, какая-то пыльная сувенирная мелочь явно туристского пошиба – сисястая африканская статуэтка, осколок фальшивой античной вазы, оловянная баварская кружка с крышкой. В углу тусклой латунью сиял небольшой самовар. У самоваров такого объема на Руси была кличка «эгоист», они предназначались для индивидуального чаепития. Я стер ладонью пыль: на боку сверкал ряд медалей с орлами и царскими профилями, а судя по клейму, самовар был самый настоящий, тульский, изготовленный на заводе братьев Баташовых в 1899 году.
На втором этаже располагались две спальни. Я выбрал ту, что выходила окнами на запад. Кровать была застелена, в ногах аккуратно сложен плед в шотландскую клетку. Я провел ладонью по грубой шерсти, ткнул кулаком в подушку. На тумбочке рядом с лампой лежала Библия дорожного формата в черном кожаном переплете. Я раскрыл наугад, пролистал несколько страниц. Положил на место.
Распаковывать мне особо было нечего. Я бросил сумку с вещами в угол и направился вниз.
12
В прихожей я нашел резиновые сапоги. Судя по размеру, покойный Лоренц был великаном. Ключ, намертво застрявший вчера, сегодня я вытащил без особых усилий. Громко топая, по-хозяйски прошелся по террасе. Крыша кое-где текла, и на дощатом полу блестели лужи. У стены была сложена ладная поленница из березовых дров, там, где береста отслоилась, дерево казалось розовым. Над дровами кружили осы.
Солнце приподнялось над макушками елок и уже не било в глаза. Луг перед домом сиял от росы, за лугом темнел хвойный лес. Где-то шумела река. Я спустился с крыльца, пошел по высокой траве. Оглянулся; снаружи дом выглядел весьма затейливо – словно кто-то, начав строить охотничье шато с альпийскими претензиями, на полпути передумал и закончил дом бревенчатым крестьянским срубом. Крыльцо, терраса, наличники окон первого этажа украшала резьба, второй этаж напоминал деревенскую баню. Единственным украшением верхней части дома был флюгер в виде птицы, изображавшей что-то среднее между петухом и фениксом.
Река оказалась совсем рядом, мелкая и неширокая, она звонко неслась по камням. Рассыпаясь солнечными бликами на перекатах, поток мчался на восток. Кое-где из воды торчали валуны, у высокого белого камня, похожего на большой палец, образовался затор из мелкого мусора и сломанных деревьев. Среди сучьев застрял черный ящик, похожий на детский гроб.
Я зашел в воду по щиколотку, сделал несколько шагов по скользким камням. Течение ощущалось даже на небольшой глубине. Чуть дальше, в заводи за большим круглым камнем, я увидел темную спину форели, рыба словно застыла в зеленом стекле. Я осторожно шагнул, хотел рассмотреть поближе, но форель метнулась и исчезла, сверкнув радужным боком.
До таинственного ящика оставалась пара шагов, дно неожиданно пошло под уклон, тут вода доходила почти до края голенища. Стараясь не зачерпнуть, я подался вперед, вытянул руку. Пальцы почти дотянулись до угла ящика. В этот момент я почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв глаза, я увидел на том берегу медведя. Он стоял у самой воды и внимательно наблюдал за мной.
Я застыл. Медведь хмуро наклонил большую голову, подался вперед и легко встал на задние лапы. На груди шерсть была светлее, на животе белел треугольник, похожий на мохнатые бикини. Глаза, карие, темные, как горький шоколад, смотрели совсем по-человечески. Медведь оскалился и стал похож на недоброго старого цыгана. Вода холодной струйкой затекала мне в сапог.
Медленно, стараясь сохранить равновесие, я сделал шаг назад. Подошва заскользила, я взмахнул руками и грохнулся в воду. Медведь удивленно приподнялся, его уши встали торчком. Теперь он смотрел на меня с насмешливым любопытством.
В кризисных ситуациях, когда на мыслительный процесс просто нет времени, нас выдрессировали действовать на автомате. Руководствоваться инстинктом. Если ты начнешь прикидывать варианты, просчитывать ходы, то почти наверняка не доживешь до конца боя. Не могу сказать, что в данном случае мой инстинкт оказался на высоте.
Обеими руками я зачерпнул воду и окатил ею медведя. Он проворно отскочил, заворчал и мрачно двинулся ко мне. Вот тут мой инстинкт сработал блестяще: я бросился бежать. Один сапог потерялся сразу, второй я стянул и, обернувшись, кинул в медведя. На Востоке такой жест считается серьезным оскорблением. Медведь, не будучи магометанином, впал в ярость – я угодил сапогом ему в морду. Он зарычал, вернее, это напоминало крик, так орут нетрезвые люди в уличных драках. Я увидел желтые клыки, слюнявый язык, черное нёбо. Моя надежда на неуклюжесть зверя не оправдалась: медведь резвым аллюром спешил за мной по мелководью, ловко перескакивал с камня на камень. Он явно знал реку.
Мне же река была незнакома. Пару раз я споткнулся, на середине провалился по пояс в неожиданную яму. У самого берега, поскользнувшись на вполне надежном валуне, упал и ободрал локоть.
Потом мы неслись сквозь чащу, звонкую от утреннего птичьего гомона. Солнце туда едва пробивалось, косые лучи чертили диагонали, серебристо-дымчатые, как в готическом соборе. Пахло сырой хвоей, еловые шишки больно впивались в босые пятки.
Бежали через луг по мокрой росе. Топтыгин не знал, что у меня было лучшее время в эскадроне по кроссу по пересеченной местности. Когда я влетал в дом, он отстал от меня уже шагов на пятнадцать. Я хлопнул дверью, повернул замок. Медведь затормозил перед самым крыльцом и на ступени подниматься не стал. Неуклюже сел по-собачьи, вытянул шею, зычно заревел.
– Ори не ори, брат, – я наблюдал за ним через квадратное оконце в двери, – надо уметь проигрывать.
Косолапый, очевидно, не считал себя проигравшим. Отдышавшись, он с хозяйской неторопливостью обошел мой джип. Обнюхал. Неуклюже, скользя когтями по лаку, забрался на капот. С капота на крышу. Растянулся на брюхе, выставив лапы.
– Ну погоди, гад… – Даже из дома мне были хороши видны свежие царапины на крыле и капоте.
Я поднялся в спальню, достал из сумки глок, вставил обойму. Вернулся к двери. Наглец продолжал нежиться на крыше моего «рэнглера». Я распахнул дверь. Медведь насторожился, поднял морду, утробно заворчал. Я вышел на крыльцо, передернул затвор. Медленно поднял пистолет. Медведь мрачно следил за мной. Целясь зверю в голову, я начал спускаться по ступеням.
– Так… – сказал я суровым голосом, – на этом шутки кончаются. Понял?
Негодяй оскалился. Потом потянулся, выставив черные когти, и зевнул.
– Не понял, значит… – пробормотал я с угрозой. – Ну ладно…
Чуть подняв ствол, я выстрелил. Пуля прошла в дюйме от медвежьей головы. Такой прыти я не ожидал – он молниеносно скатился с крыши.
– А ну пошел! – Я погрозил пистолетом и почему-то перешел на немецкий: – Цурюк, нах хаузе! Шнелль, шнелль!
Медведь, по-видимому, все понял и тут же затрусил в сторону реки. Сразу за дорогой, на яркой от свежей зелени лужайке, он, словно вспомнив о чем-то, остановился, повернул ко мне морду.
– Шпацирен, шпацирен… – Я махнул пистолетом в сторону леса.
Тут наглый зверь присел по-собачьи и начал гадить. При этом не спускал с меня глаз. Над лужайкой, непрерывно треща, кружили две пестрые сороки.
– Ну ты… ну и мерзавец… – Я захлебнулся от негодования, выстрелил в воздух.
Медведь не обратил внимания на выстрел, закончил. После чего, не оглядываясь, неспешно побрел через луг в сторону реки.
13
Центр местной цивилизации назывался Бредфорд и находился в семнадцати милях от меня. Он состоял из одной улицы с горбатым мостом через узкую реку, старой бензоколонки, магазина хозтоваров и другого магазина, где торговали всем остальным – от трусов и кока-колы до охотничьих ружей и капканов. К двери был приклеен рукописный плакат «Рыболовные лицензии продаются здесь».
Еще была библиотека – одноэтажная беленая хибара с кокетливой башенкой на крыше, напомнившей мне почему-то о море. За мостом, в древней постройке, кривовато сложенной из дикого камня и до окон второго этажа заросшей плющом, расположился ресторан. Названия у заведения не было, самодельная вывеска так и гласила – «Ресторан». У входа, на мощенной камнем террасе, стояли три железных стола с железными стульями, неудобными даже на вид.
Я сел за крайний стол. Рядом гуляли рябые куры и деловито клевали какой-то мусор. Без особой надежды достал мобильник, сигнала и тут не было. Впрочем, неважно, звонить мне все равно было некому. Я выключил телефон, сунул в карман куртки.
По дороге редко, но на бешеной скорости проносились грузовики с местными номерами. У моста, на середине реки, в рассыпанном серебре солнечных бликов, стоял рыболов в соломенной шляпе и болотных сапогах и внахлест ловил форель. Ловким движением он закидывал удочку, леска тонко пела, закручиваясь в петлю, и на миг вспыхивала хрустальной паутиной. Из пыльной травы вразнобой трещали кузнечики. Приближался полдень.
– В отпуск?
Я с трудом вынырнул из жаркой полудремы.
– Отпуск… – повторил я с вопросительной интонацией, поднял глаза.
Официантка, яркая, вульгарно-красивая какой-то ярмарочной красотой не слишком высокой пробы, улыбалась мне. Если б Кармен в свободное от работы на папиросной фабрике время увлекалась атлетической гимнастикой, она выглядела бы примерно так. Включая тугое черное платье и терракотовый загар.
– Да, в отпуск, – повторил я поуверенней.
Она улыбнулась, показав много белых зубов. Потом медленно наклонилась, протягивая меню. Непроизвольно зацепившись взглядом за глубокий вырез – на секунду небольшая, но убедительно упругая грудь почти уткнулась мне в нос – я вдохнул ее запах, горьковатую смесь корицы с подгорелым хлебом. Еще я заметил миниатюрную татуировку в ее ушной раковине – что-то вроде птицы.
– Принести чего-нибудь попить? – интимно спросила официантка, продолжая улыбаться так, словно мы уже делили с ней какой-то секрет.
– Кофе, – наугад ответил я и откашлялся.
– Кофе… – повторила она. – Это хорошо.
Раскрыв меню, я проводил ее глазами до самой двери. Официантка не спешила и была уверена, что я продолжаю глазеть на ее мускулистые икры, загорелые ляжки и ладную, поджарую задницу. Два лесоруба у бензоколонки заржали. Они пили кофе из картонных стаканов и беззаботно курили под надписью «Огнеопасно». Я уткнулся в меню.
Еда оказалась вполне съедобной, я заказал сэндвич, который проглотил в два приема. Официантку звали Розалин (ну, разумеется, как иначе ее могли звать), она сама представилась, протянув мне сухую сильную кисть. Я встал, загремел железным стулом, неловко пожал руку. Лесорубы заржали снова.
Розалин нежно опустила передо мной счет – разлинованный листок с девичьим школьным почерком. Сумма была ничтожной, у нас в Виргинии за такие деньги воды не купишь. Я оставил царские чаевые, встал, зачем-то снова пожал руку Розалин.
– В следующий раз приходите с женой. – Она вопросительно улыбнулась.
У нее были сине-серые глаза, светлые, с точками черных зрачков, как у флорентиек Боттичелли. Я сморозил какую-то чушь и громко засмеялся. Розалин, аккуратно сложив деньги, убрала их в передник. Карман находился на паху, она задержала там руку и улыбнулась.
Стало жарко, трава от солнца казалась белой. Хорошенькая девочка лет семи в грязном платье сидела на корточках у входа в хозмаг и увлеченно мучила котенка. У бензоколонки меня окликнул один из лесорубов, седоусый здоровяк с бритым загорелым затылком.
– Эй, мистер! – вполне дружелюбно обратился он. – Вы племянник Лоренца, Расти сказал…
– Расти? – Я подошел к ним.
– Ну, рыжий…
– А-а, этот. – Я не стал вдаваться в подробности моего родства с Лоренцом. – Ну да, живу там. Пока.
– Если вам что надо, – лесоруб произвел неопределенный жест. – Ну там, траву покосить или деревья какие… того… спилить. Расти говорит, там сосна рядом с домом… Если на крышу грохнется… Короче, если что, Тед меня зовут. Тед Ковальски.
Он сжал мою кисть своей коричневой клешней.
– И с этой, – он чуть кивнул в сторону ресторана. – С Роз поосторожней. Поаккуратней с Роз.
Он подмигнул, но без улыбки. Я поблагодарил Теда и направился к магазину.
14
С двумя крафтовыми пакетами, доверху набитыми снедью и мелкой ерундой, я вышел из бредфордского сельпо. У колеса моего джипа справляла малую нужду симпатичная дворняга, рыжая в белых пятнах. За рестораном «Ресторан» стрекотала газонокосилка, оттуда тянуло свежей травой. Я вдохнул сочный огуречный дух, взглянул на пустую террасу с железными столами. На спинке стула сидела сытая ворона. Из дверей вышла официантка, но не Розалин, а короткая толстая блондинка, нелепо замахала на птицу голыми руками. Ворона пренебрежительно снялась с места и лениво направилась в сторону реки.
Сунув покупки в багажник, я влез в машину, опустил стекла. Достал из кармана только что купленную открытку с местным видом – горбатая гора с пятнистыми коровами голландской породы, красный амбар, силосная башня. На фоне – горы и небо в зефирных облаках. Перевернув, пристроил открытку на колене. Написал «Хелью», потом втиснул перед именем «дорогая», после чего надолго задумался, глядя в окно.
Я хотел написать, что все еще люблю ее. Что ближе нее у меня никого нет на всем свете. Что у меня вообще никого нет, кроме нее и детей. Что мне одиноко и скверно. Что без нее я безумно скучаю. Что мне плохо, плохо, плохо.
У заправки остановился «форд», кузов доверху был завален дровами. Из кабины неспешно выбрался индеец, старый и сухой, как палка, с седыми, словно серебряными, волосами, свитыми в две косы. Он открыл бензобак, сунул внутрь конец шланга и скрылся в хибаре заправки. Без особого интереса я подумал, что не видел здесь ни одного негра, мулата или хотя бы завалящего мексиканца. И если мои бородатые приятели-муджахиды пожалуют в Вермонт за моей головой, то их банные простынки и тюрбаны будут здорово выделяться на местном фоне.
Индеец вернулся с картонным стаканчиком кофе. Пил и поглядывал на стрелку, ползшую по циферблату бензоколонки. Я вспомнил Аннаполис, тот день, когда первый раз увидел Хелью. В Аннаполисе невероятное количество вишневых деревьев, из-за цветущих вишен город казался ажурным, сказочным. От цветочного духа голова шла кругом, я бродил по горбатым улицам, как зачарованный. У меня была увольнительная, а их курс привезли на экскурсию – показывали академию, корабли, церковь восемнадцатого века, пушки с английского флагманского фрегата «Эндевер» – всю эту туристическую чепуху.
В своей белой форме я показался ей частью вишневого безумия; потом она сказала, что во всем этом ей виделся какой-то высший смысл. Словно кто-то хитроумно срежиссировал нашу встречу, наполнив сюжет намеками и знаками, таинственными, но понятными лишь нам двоим.
Впрочем, понятными в большей степени ей, чем мне. На самом деле все случилось так гладко и так быстро, что я ничего не понял. Просто, спускаясь с моста, я заметил ее ультрамариновую шляпу. Настоящую дамскую, в каких леди появляются на Кентукки-дерби или следят в театральные бинокли за рысаками на бегах где-нибудь в окрестностях Лондона. Бинокля у нее не было, за спиной болтался рюкзак, маленький, почти детский. Хелью только что купила сахарный рожок с двумя шариками мороженого – розовым и белым. Повернулась, встретилась со мной взглядом, улыбнулась.
Я застыл, между двух ударов моего сердца розовый шарик упал на мостовую, улыбка на ее лице сменилась растерянностью, она беспомощно посмотрела на меня. Я понял, что пропал, и направился к ней.
Медовый месяц в нашем случае был спрессован до пяти суток, пришедшихся на конец октября. Эти пять дней и ночей оказались самым счастливым отрезком в моей жизни, несмотря на то что нас занесло в штат Мэн, где уже началась зима. Мы жили на настоящем маяке, на самой верхотуре, выше был только гигантский прожектор, а еще выше – небо. Маяк стоял на скалистой косе, все пять дней бушевал шторм, и деревенский парень, который приносил нам в большой корзине провизию, подвергал свою жизнь серьезному риску. Серые волны, пенистые и злые, перекатывались через камни, и мальчишке требовалось точно рассчитать свои перебежки по опасным участкам косы, чтоб его не смыло.
Мы стояли у узкого окна: крупный снег несся по диагонали, желтый луч маяка шарил среди свинцовых волн, призрачно скользил по чернильному подбрюшью мохнатых туч. Иногда мощный вал расшибался о маяк с такой силой, что стены нервно вздрагивали, а пол испуганно скрипел.
Нам не было страшно, мы были счастливы, мы знали, что с нами ничего не случится. Хелью тогда прошептала: «Знаешь, нас обвенчал Атлантический океан». Я ответил: «Мне казалось, что мы повенчаны на небесах». Я и сейчас так думаю. Хотя даже у небесного союза, похоже, есть срок годности.
Индеец с дровами давно уехал. Рыча и сияя никелем выхлопных труб, нахально выставленных вверх, у заправки лихо затормозил «Триумф». С мотоцикла соскочил крепкий малый, затянутый в черную кожу. Ездок снял шлем и оказался рыжеволосой девицей. Я вздохнул, кинул ручку в бардачок. Сложил открытку пополам и сунул в карман. Дальше двух слов дело у меня не пошло.
Коварная ночная дорога при свете дня выглядела вполне приветливо и даже живописно, шоссе кружило между холмов с пегими коровами, иногда приближаясь к берегу шумной реки, иногда убегая от нее. Порой темный и мрачный сосновый бор подступал к самой обочине, и тогда в открытое окно врывался сырой хвойный дух, пахло смолой и иголками. Вдали, на стриженых лужайках красовались фермерские домики, белые и изящные, как резные игрушки ручной работы. Попадались заброшенные фермы с просевшими крышами и мертвыми окнами, спокойно-торжественные в своем обаянии распада.
Из-за поворота выскочил самодельный указатель «Ферма Пирсона, овощи и фрукты, 500 ярдов», на доске был изображен отчаянно-красный помидор. Я проехал пятьсот ярдов и свернул, подъехал к длинному сараю. Перед распахнутым входом в плетеных корзинах зеленели початки кукурузы, рядом, словно пушечные ядра, лежали желтые дыни. Вокруг кружили пчелы.
Внутри никого не было. Громко шаркая по дощатому полу, я прошелся между ящиков с овощами. Покашлял. Хлопнула задняя дверь, вошла девчонка лет четырнадцати, белобрысая и по-деревенски румяная. Нос у нее обгорел и блестел розовой кожицей.
– Привет! Ты, что ли, хозяйка? – улыбнулся я, снимая темные очки.
Она уставилась на меня, вытирая руки белым полотенцем.
– У нас самые сочные томаты в округе, – уклончиво ответила она, выпятив вполне зрелую грудь в майке с застиранной надписью «Спрайт».
– Самые красные – это уж точно. – Я взял из корзины увесистый помидор.
– Вы – племянник Лоренца? – утвердительно спросила она, взрослым жестом заправив русую прядь за ухо. – Вот сюда складывайте, пожалуйста, я потом посчитаю.
Она протянула мне лукошко и, словно потеряв интерес, отвернулась и принялась наводить порядок на полках. На девчонке были вылинявшие в голубое джинсы, тесные, с закатанными до колен штанинами. Когда она попыталась дотянуться до верхней полки с пузатыми склянками каких-то разноцветных джемов, майка задралась, оголив загорелую вогнутую поясницу и резинку трусов. Я откашлялся и занялся помидорами.
Где-то лениво зудела муха, под моими башмаками хрустел песок. Иногда до меня доносился тяжкий вздох или бормотанье, нарочито серьезное и взрослое.
– Ну вот, – я поставил лукошко на прилавок. – На первое время…
– А вы надолго в Медвежий Ручей? – Девчонка повернулась, придвинула лукошко.
– Какой ручей? Это где?
Она хмыкнула. Не удостоив ответом, лишь взглянула на меня, как на недоумка. Достала из лукошка помидор, нежно погладив, положила на весы. За ним другой, третий. Так же бережно взвесила огурцы и мясистый красный перец. Назвала цену.
Сложила овощи в бумажный пакет, выйдя из-за прилавка, протянула мне. Забирая пакет, я ненароком уткнулся взглядом в ее крупные соски, проступавшие сквозь ткань майки. Она снова хмыкнула, мокро облизнула губы и неспешно зашла за прилавок.
– Вы знаете, что такое урюк? – спросила она.
– Абрикосы… – пробормотал я.
– Угу, вяленые. – Она прикусила нижнюю губу, вдруг рассмеялась. – Мой старший брат уверял меня в детстве, что это засахаренные человеческие уши. Представляете?
15
Перед домом стоял знакомый грузовик. Сам Расти сидел на ступенях крыльца и что-то вертел в руках. Я загнал джип капотом в малинник, вылез, открыл багажник.
– Не поверите, нашел на дороге! – Расти бодро встал, показывая мне навигатор, тот самый, который я выкинул вчера. – «Магеллан»! Такой полторы сотни в городе стоит.
Я пожал плечами.
– Как вы думаете, он работает?
– Вчера работал.
Расти не понял, сокрушенно сказал:
– Эх, черт, жаль, нет провода… Может, там поискать? На обочине… Вдруг и провод где-то там?
– У меня есть лишний. – Я влез в кабину, выдернул из прикуривателя зарядный провод навигатора. – Попробуй, вдруг подойдет.
Провод подошел. Расти завел свой драндулет, экран навигатора засветился.
– Работает! – заорал он из кабины. – Работает, черт побери!
Я убрал продукты в холодильник, вернулся с пивом. Протянул Расти бутылку. Мы устроились на ступеньках.
– Медвежий Ручей? – спросил я, обводя пивной бутылкой окрестности.
– Ну, – Расти зычно рыгнул, вытер рот рукой. – Тут водилось до хрена медведей. Они на мелководье форель промышляли. Бывало, к берегу выйдешь, а косолапый тут как тут, сидит на валуне и рыбку свежую кушает. Лакомится…Вот Полковник и прозвал: «Ранчо Медвежий Ручей»…
– Полковник?
– Ну, Лоренц.
– А он что, был военным?
Расти задумался, медленно отпил пива.
– Да не, не думаю… Просто был в нем хребет. Настоящий он был мужик, Лоренц. Полковник…
Ржавая шевелюра Расти горела на солнце. Он довольно потянулся, крякнул, вытянул ноги в тупорылых тюремных башмаках. Пустое небо от жары посветлело, в нем не было ни единого облака, лишь высоко-высоко я разглядел одинокую птицу, нарезавшую плавные круги. Чувствовалось приближение вечера.
– Вы там, я слышал… – Расти тоже глядел в небо. – С этой… с Роз, я слышал…
– Слушай, Расти, я не пойму, тут Интернета нет, мобильник не работает, – начал я. – Каким образом любая сплетня разносится по округе со скоростью звука?! У вас тут что, локальная компьютерная сеть, Бредфорд и окрестные фермы? Свой деревенский фейсбук?
– Какой бук?
Я махнул рукой, допил пиво.
– Так что там с этой Роз? Ревнивый идальго, ее любовник? Или строгий старик-отец с дробовиком?
Расти тоже допил пиво, посмотрел сквозь янтарное стекло бутылки на солнце.
– Если бы… – Он выцедил пену, поставил пустую бутылку на ступеньку. – Там такое дело… Как бы это половчее объяснить…
– Да не томи ты!
– Ну, короче, есть подозрение, что она… – Он снова замялся.
– Шпионка? Наркодилер? Содержатель притона?
– Ведьма.
Я засмеялся, потом поперхнулся и закашлялся.
– Ну, вроде как порча или типа проклятия что ли. – Расти постучал мне по спине.
– Не ладошкой стучи, – кашляя, проговорил я. – Кулаком, кулаком надо!
– Вот так? Так правильно?
– Так лучше. – Я вытер слезы, глубоко вдохнул и рассмеялся.
– Не, я серьезно, – он строго посмотрел на меня. – Вот вы посудите сами: одного ее любовника убила молния…
– Ну и?
– Другой ушел под лед на Змеином озере.
– Так.
– А в третьего, в Билла, угодил метеорит.
– Что-что?
– А вот то! – С выражением мрачного триумфа на лице Расти посмотрел на меня. – Билла нашли, вернее, труп его… такой фарш из мяса, костей и неизвестного космического вещества… Его в НАСА увезли. Сгребли в пластиковый мешок и увезли.
Мы снова смотрели в небо. С запада потянулись зыбкие, уже чуть розоватые облака. Мы долго молчали, потом я спросил:
– А кто такой Сэм?
– Сэм? – удивился сперва Расти. – А, Сэм! Бычок наш, забил его в марте.
16
Сумерки опустились как-то сразу, Расти давно уехал, я бродил по пустому, быстро темнеющему дому. Половицы скрипели, снаружи доносился шум реки, я достал с полки керосиновую лампу, зажег. Есть не хотелось, распахнув холодильник, я равнодушно поглазел в ярко освещенное нутро, захлопнул дверь.
Вернулся в гостиную. Налил скотча из запасов Лоренца, принялся разглядывать корешки книг. Со стен на меня косились мертвые звериные головы, рыжий свет лампы подрагивал, фитиль чуть коптил, исполинские тени наползали рогами на потолок. Мне попалось несколько русских книг, я вытащил потрепанную «Русскую кухню», изданную в Ленинграде в 1985 году. На рецепте сибирских пельменей кто-то оставил отпечатки сальных пальцев.
Круг интересов Лоренца внушал уважение: несколько книг по астрономии, включая атлас звездного неба с цветными вкладками созвездий, трехтомник истории религий мира, толстенный научный труд «Психология птиц». Я вытащил роскошный альбом Дюрера; гравюры были напечатаны на отдельных листах и вложены в картонную папку. Я разложил гравюры по полу, принялся разглядывать. На одной, внизу под рамкой, прочел полустертую карандашную строку: «Даже если иду долиной тьмы – не устрашусь зла, ибо Ты со мной, посох Твой и опора Твоя – они успокоят меня».
На этой гравюре среди скалистого мрачного пейзажа с голыми колючими деревьями и одиноким замком на дальнем утесе был изображен конный рыцарь в доспехах и с копьем на плече. Забрало поднято, профиль воина суров. За рыцарем следовали Смерть и Дьявол. Смерть верхом на тощей понурой лошади была похожа на сифилитичную бабу, усмехаясь, она показывала рыцарю песочные часы. Дьявол – чудище с хитрым свиным рылом – крался по пятам, явно пытаясь подстроить какую-то гадость. Рыцарь даже не глядел на них, он был укреплен Верой и решительно продолжал свой путь.
Я подумал, что именно Веру имел в виду Лоренц в своей карандашной подписи, что без Бога воинская отвага теряет смысл, становится инструментом убийства. За тысячу лет в мире мало что изменилось, наши нынешние войны по сути те же крестовые походы. Впрочем, вместо христианских идей мы теперь защищаем ценности западной цивилизации – свободу и равенство, эти наши новые догмы, о которых по странной причине больше всего беспокоятся нефтяные компании. По крайней мере, никто другой не получает дивидендов. Я вспомнил похороны Кевина, железный гроб, накрытый флагом, ногу внутри. Ни Кевин, ни его сироты ничего не получили от защиты демократии. Если не считать медалей и того флага, который после похорон вручили вдове.
Я сложил гравюры в папку, поставил альбом на место.
Рядом на полке стояла фотография: группа охотников на фоне барханов обступила какую-то мертвую тушу. Фото было старое, черно-белое, вернее, даже желтовато-чайного цвета. Лиц охотников было не разобрать, я стер рукавом пыль со стекла и приблизил карточку к огню, пытаясь угадать, который из них Лоренц.
На другом фото два бородатых мужика завалили здорового медведя. Действие происходило то ли в Сибири, то ли на Аляске. Охотники с карабинами и в меховых анораках, увязнув по пояс в снегу, позировали рядом с убитым зверем. Тут, думаю, мать родная вряд ли распознала бы Лоренца – из-за бород и меховых капюшонов охотники выглядели как близнецы.
С лампой в руке я переходил от фотографии к фотографии. Все они были старые, выцветшие. Некоторые места я узнавал, хоть там и не было Эйфелевой башни, Колизея, Триумфальной арки, Бранденбургских ворот и прочей туристской банальщины. Зато были Камбоджа, Палестина, Колумбия. Сам Лоренц так и остался не опознан.
Жаль, нет увеличительного стекла, с лупой можно было бы его разглядеть. Я подошел к столу, откупорив бутылку, долил виски. Сделал глоток, забрел на кухню. Подумав, достал из холодильника огурец. Мыть было лень, и для очистки совести я вытер овощ о рукав.
Хрустя огурцом, вернулся в гостиную. Тут меня осенило. Я бегом бросился в прихожую, достал из куртки телефон. Батарея еще не разрядилась. Включив камеру, я приблизил телефон к фотографии с барханами. На экране отразились охотники и мертвый зверь. Я нажал зум. Изображение приблизилось, я нажал еще раз – непонятная туша оказалась носорогом, я даже разглядел остекленевшие глаза. Я перевел объектив на людей.
С краю стоял толстый коротышка в шортах и в широкополой шляпе: ну этот точно не Лоренц, подумал я. Следующий, в пробковом шлеме, напоминал цаплю, его я тоже отверг. Третий и четвертый выглядели вполне браво, и оба вполне могли сойти за Лоренца. Крайний справа, в высоких солдатских башмаках на шнуровке и полувоенном комбинезоне, стоял с карабином на плече. Я сдвинул объектив на лицо. Выгоревший на солнце белобрысый чуб и брови, нос, глаза были не просто хорошо знакомы – это было мое лицо. Я залпом допил скотч. Появилось странное ощущение, что я схожу с ума.
17
Библиотекарша мисс Маккой, толстая и неопрятная женщина весьма неопределенного возраста (в данном случае это не фигура речи – ей запросто можно было дать от двадцати пяти до пятидесяти), подозрительно оглядев меня, указала на стул.
– Подождите, надо найти формуляр.
Я вежливо кивнул и сел. Мисс Маккой тяжело опустилась в дешевое конторское кресло, обтянутое черной клеенкой, даже отдаленно не похожей на кожу. Выдвинула ящик стола, уперев его в живот или бюст – граница между ними была весьма условной. Принялась громко шарить внутри, извлекая на поверхность стола канцелярский хлам – дырокол, пузырек клея, коробку скрепок, карандаши. Я сидел, как смирный инок, сложив руки на коленях.
– Вообще, – деликатно начал я, – меня интересует русская литература.
Она перестала пыхтеть, подняла на меня взгляд.
– Девятнадцатый век, – продолжил я. – Лев Толстой, Достоевский…
Мне показалось, что она насупилась. Библиотекарша не пользовалась косметикой, на щеках у нее белел пушок, как на наших виргинских персиках.
– Тургенев… – на всякий случай добавил я.
Она вдруг заулыбалась, с грохотом задвинула ящик.
– Я без ума от русской литературы… – интимно произнесла библиотекарша и заморгала светлыми глазами, я испугался, что она заплачет.
Информация Расти оказалась достоверной уже наполовину – он уверял, что библиотекарша помешана на «этих русских книжках про любовь, где в конце все друг друга убивают». Сведения о том, что мисс Маккой – девственница, я решил игнорировать и оставить целиком на совести Расти.
– «Анна Каренина»… – произнес я с умильным лицом, какое, на мой взгляд, должно быть у любителя русских романов.
– О-о-о… – Библиотекарша будто засветилась изнутри и стала почти привлекательной.
Я почувствовал себя мерзавцем. Телефон, ради которого я пришел, стоял на углу ее стола. Он был красен, как грех, и я старался на него не смотреть. Мисс Маккой улыбнулась, подняла пухлые руки.
– Да и бес с ним, с формуляром. Потом как-нибудь… У меня читателей – три с половиной человека, да и те читают дребедень садовую: как победить огуречную тлю или заморить капустных гусениц.
Я сочувственно кивнул.
– А на языке оригинала у вас Толстого нет? – невинно поинтересовался я.
Минут через сорок библиотекарша ушла домой обедать, я получил разрешение пользоваться телефоном, забирать домой книги или читать тут – за тесной партой в темной комнате, которую мисс Маккой почему-то называла читальным залом. Я захлопнул «Идиота» в кошмарном английском переводе, перебрался в клеенчатое кресло. Придвинул телефон.
– Да! – рявкнул в трубку Ригли.
– Капитан, это…
Я не успел договорить.
– Ты что, новости не смотришь? – возмущенно перебил он. – У нас пять трупов и куча раненных.
– Где? – не понял я.
– Где-где! – капитан нецензурно выругался. – На базе!
– У нас? В Виргинии?
– Помнишь майора Наджиба, медика? Психолога из третьего вспомогательного?
Я вспомнил бритого молчуна с крепким загорелым затылком.
– Вернулся из Афгана на прошлой неделе… Входил в комиссию, разбирались с инцидентом с этой школой, нашим кто-то неверные координаты дал – то ли по ошибке, то ли… А сегодня утром в офицерской кофейне… – капитан прервался и что-то зло крикнул в сторону. – Четыре офицера и один из персонала… вернее, одна… девчонка эта, конопатая, не помню, как ее, Ронни, Конни?
– Мэгги.
– Точно, Мэгги… – устало повторил капитан. – Ты чего звонишь? Как Вермонт?
– Глушь. Кромешная.
Мы замолчали, я слышал, как капитан барабанит пальцами по столу. Я не знал, как перейти к Лоренцу, как спросить, – любопытство мне самому уже казалось мелким и неуместным. Я уже хотел попрощаться, но, вспомнив мисс Маккой и что мне придется тащиться сюда еще раз, выпалил:
– Капитан, расскажите мне про Лоренца.
– Кто такой Лоренц?
Я открыл рот, не зная, что сказать.
– Кто это, Ник?
– Ваш тесть… – осторожно начал я, как с больным, выходящим из амнезии. – Отец вашей жены, в смысле супруги. Гвен-Элизабет…
– Лоренц? Его звали Дик. Ричард, Ричард Гриффин.
18
Дождавшись библиотекарши, я рассеянно поблагодарил ее и попрощался. Она зарделась и попросила непременно заходить еще. Я пообещал. Прихватив «Идиота» (переводчик там наградил Мышкина титулом маркиза, а Рогозина называл молодым бизнесменом), я вышел на улицу, яркую, свежую и абсолютно безлюдную. Потоптавшись у библиотеки, зачем-то пошел в сторону хозмага. Перед входом стояли уцененные газонокосилки ядовито-рыжего цвета. Где-то играли на пианино, кто-то разучивал простую пьесу, спотыкаясь в одном и том же месте. Я оглядел пустую улицу, белый от солнца асфальт, трещины, из которых лезла трава. Зеленая и блестящая, словно оберточный целлофан. Пианист дошел до коварного места и снова запутался.
– Как же муторно… – прошептал я. – Господи, что я тут делаю?
Закрыв глаза, я опустился на асфальт, мои ладони трогали горячую шершавую пыль, мелкие камни. Сквозь закрытые веки солнце пробивалось красным, кровавым светом. Как в тот день, когда я угодил в госпиталь. Пятого сентября.
Сержанта убило током: он полез через ограду, не заметил провод. Другому, новичку, парню из Алабамы, он накануне спас девчонку, – осколком срезало пол-лица. Меня контузило, я очухался в лазарете. Потом сестра сказала, что я в госпитале, в Кувейте. Рядом лежал пехотный капитан с бритой головой, сшитой грубыми стежками, как у Франкенштейна. Он сипло дышал через дырку в горле, на губах вздувались и беззвучно лопались розовые пузыри. Иногда капитан мотал головой из стороны в сторону, быстро, горячо, словно умолял кого-то – нет-нет-нет, пожалуйста, нет. Из прозрачного пакета через пластиковую трубку, вставленную в грудь, в него вливали бесцветную жидкость. Из другой трубки в эмалированный таз, задвинутый под кровать, выливалась тягучая коричневая гадость. Ночью он очнулся, и я его спросил: страшно умирать? Он ответил: нет, только уж очень муторно, поскорей бы.
Дверь хозмага хлопнула, кто-то осторожно тронул меня за плечо.
– Вам плохо, мистер?
Надо мной стоял продавец, испуганный мальчишка в оранжевом фартуке с логотипом магазина – два перекрещенных молотка.
– Все о’кей. – Я поднялся, отряхнул колени. – Медитирую.
Он улыбнулся, недоверчиво меня оглядывая. Симпатичный деревенский пацан. Я подмигнул, простецки хлопнул его по плечу, как это делают бравые ребята в наших кинофильмах.
Статистика самоубийств среди вернувшихся из зоны боевых действий не засекречена. Я знал несколько человек лично. Я видел, как отчаянно они старались уцелеть там. Там, где умереть не просто легко, а порой естественно и даже логично. Карлос позвонил мне после того, как его комиссовали: «Знаешь, болтают, что ветераны не любят рассказывать про войну, не любят вспоминать. Не хотят бередить раны… Чушь это. Тут никто не хочет тебя слушать. И дело вовсе не в том, что им страшно слушать про кровь и смерть, нет, им просто на тебя плевать». Через два дня Карлоса нашли повешенным в гараже.
В ресторане было пусто и прохладно. Розалин за буфетной стойкой протирала стаканы. Она не удивилась, а просто улыбнулась, как улыбаются старым приятелям, которые чуть опаздывают к условленному сроку.
– Кофе? – спросила она.
– Ну уж нет…
Я взобрался на табурет, шлепнул на стойку «Идиота». Острым рубиновым ногтем, похожим на малиновый леденец, она повернула книгу к себе.
– Дать почитать?
Розалин не ответила, кинула лед в стакан, налила ирландского виски. Придвинула стакан. Я сделал глоток.
– Ну и что будем делать? – тихо спросила она.
Я хотел изобразить удивление, но на меня накатила дикая усталость, я не нашел ни сил, ни желания ломать комедию.
– Поедем ко мне. – Я допил виски и с хрустом разгрыз лед.
– Не страшно?
Я вспомнил того пехотного капитана. Имени я так и не узнал, а утром его унесли в морг. Поставив стакан, я ответил:
– Нет, не очень.
19
Раздевалась она медленно, ее движения были плавны и ленивы, как в снах, где воздух тягуч, словно мед. С покорной обреченностью стягивала траурные чулки – один за другим они легли невесомой змеиной кожей на край кровати. Расстегивала крючки, снимала корсет с поясом – все черное, шуршащее. Осторожно, словно в горячую ванну, опустилась на простыню, ставшую вдруг снежно-белой от ее смуглого тела. Вытянулась и замерла, внимательно глядя куда-то вверх, сквозь потолок.
Я лег рядом, коснулся пальцами ее бедра.
– Подожди… – шепнула она. – Слушай.
Я прислушался, за окном тихо журчала река.
– Закрой глаза. – Она положила свою кисть поверх моей. – И слушай.
Я закрыл глаза. К шелесту воды добавился слабый звук, почти мелодия, словно кто-то нежно дул в пустую бутылку. Мне показалось, я слышу шорох деревьев, шепот осыпающегося песка на берегу. Звуки сплетались в узор, рождался ритм, дурманящий, как древняя языческая колыбельная. У мелодии появился цвет; сначала тягучий темно-синий, почти фиолетовый, он постепенно становился звонче и теплее. Аметист стал лазурью, лазурь заиграла морской рябью, мне стало смешно, потому что я почувствовал, как кровать качнуло и она будто отчалила от берега. Мы качались на ленивых волнах, мне даже почудился шорох прибрежной гальки, мелко шуршащей в полосе прибоя. Надо мной, матово мерцая лентами бесконечных хвостов, проплывали диковинные рыбы, золотистые, радужные, похожие на райских птиц.
– Ты их видишь? – тихо спросила она.
– Кто это?
– Это мы. Теперь мы можем быть кем угодно. Волной, облаком, прибрежной галькой или просто шорохом этой гальки. Звуком или цветом – выбирай.
– Мы умерли?
– Да.
Я не испугался, я не мог вспомнить, что со мной было раньше. Было ощущение болезни, которая вдруг прошла. Послевкусие, тающий дым, ускользающий сон.
– Почему мы боимся?
– Мы не знаем… Люди боятся неизвестности.
– Если б они знали…
– Кто бы там остался? – Она тихо засмеялась. – Нам пора…
– Куда?
– Обратно.
Синь стала темнеть, теперь там скользили лишь чернильные тени. Я ощутил поцелуй на щеке, горячие губы коснулись шеи. Я хотел ее обнять.
– Лежи смирно, – шепотом приказала она. – Я все сделаю сама.
Спорить я не стал. Она поцеловала мою грудь, мокрые жаркие губы спустились к животу. Не открывая глаз, я раскинул руки, прижав ладони к простыне. Губы опустились ниже, замерли, я почувствовал, как медленно погружаюсь в скользкий горячий жар. Я замычал, подался вперед. Перед глазами вспыхнули круги, красные, лимонные, они стали кружиться, все быстрей и быстрей.
Когда я очухался, она сидела на другом конце кровати, сложив ноги по-турецки. Разглядывала меня и улыбалась. Солнце, похоже, уже закатилось, в спальню вползали сумерки. Кожа Розалин казалась теперь совсем темной, матовой, словно бархат. Кисти ее рук лежали на коленях. Я перевел взгляд на плоский, мускулистый живот. От пупка вниз шла едва заметная темная полоса, словно полустертый след от карандаша. Волосы на лобке, вороные, жесткие, раскрывались посередине розовой, влажно блестевшей складкой. Приподнявшись на локте, я сунул под голову подушку.
– Иди сюда. – Я сухо сглотнул, поманил рукой.
Она хитро засмеялась, помотала головой.
– Иди, иди…
Подавшись вперед, я ухватил ее за предплечье, потянул. Она ойкнула и упала на меня. Ее волосы щекотали мне лицо, я нашел губы, пухлые и горячие. Сжал ладонями ее ягодицы, прижал к себе. Она выгнула спину, словно потягиваясь спросонья, долго и сладко. Разведя ноги, сжала мои бедра. Кошачьим движением приподняв зад, подалась назад, потом вперед, будто устраиваясь поудобней. Застыла на миг и медленно, со стоном опустилась, вжавшись в меня упругим лобком.
Я целовал ее шею, плечи, горячую и липкую грудь. Слизывал ее пот, вдыхая этот чужой запах – пряный, едкий, как тягучий нектар какого-то тропического фрукта, с легкой горчинкой перезрелой кожицы. На ощупь тело оказалось как бы меньше, компактней. Кто-то в моей голове ехидно произнес: «С непривычки, четырнадцать лет белотелой скандинавской сдобы – это вам не фунт изюма».
Думать о Хелью было нельзя, назад пути все равно не было. Я замычал, уткнулся в плечо Розалин. Сипло дыша ртом, она поймала ритм, начала двигаться все энергичней, напористей. Иногда вскрикивая и запрокидывая голову – тогда я видел, как жутковато закатываются ее зрачки, словно она теряла сознание. Ее ладные мускулистые ягодицы, потные и горячие, выскальзывали из моих рук, я снова ловил их, сжимал, словно хотел раздавить.
Розалин впилась в меня острыми малиновыми ногтями, ее дыхание перешло в стон, она выпрямилась, конвульсивно выгнула спину, стремясь вогнать меня еще глубже. Три, четыре, пять – раз за разом медленнее, тяжелее, словно теряя последние силы, словно умирая. Потом рухнула на меня, уткнув лицо в подушку. Ее безжизненное тело, вялое и горячее, вдруг показалось мне невероятно тяжелым.
Потом, внизу, в гостиной, она сидела в разлапистом кресле, поджав под себя ноги, а я пытался развести огонь. Розалин закуталась в клетчатый плед, из которого торчала ее смуглая рука со стаканом какого-то ликера, который она выбрала из алкогольной коллекции Лоренца. Дрова гореть не хотели, я комкал газету, поджигал, бумага вспыхивала и сгорала.
– Так почему ты все-таки убежал? – спросила Розалин. – По сравнению с русским приютом у тебя там была райская жизнь.
– По сравнению с русским приютом любая жизнь покажется раем, – засмеялся я. – Дурак был, вот и убежал.
– Дурак, – повторила она. – Как просто!
Газета весело занялась, я бросил спичку в огонь, с надеждой глядя на рыжее пламя. Мне не хотелось вспоминать ту давнюю историю, еще меньше – рассказывать. Да и что я мог рассказать?
Блейки – Джеймс и Оливия, семья, усыновившая меня – были первыми людьми, которые отнеслись ко мне по-человечески. Неожиданно я оказался в ярком, радужном мире книжек с картинками, утреннего апельсинового сока, чистых простыней, солнечных лужаек, приветливых лиц. Даже посторонние люди улыбались мне – хромой негр-почтальон, старушка-соседка с выводком болонок, полицейский на мотоцикле, случайные прохожие. В школе никто не резал бритвой карманы, никто не пытался подкараулить в сортире с заточкой, никто не воровал мои аккуратно завернутые завтраки. Физрук не смазывал свой хер топленым салом и не пытался изнасиловать в раздевалке, учителя не отвешивали оплеух и вежливо обращались по имени, не прибавляя слова «выблядок».
В декабре, под Рождество, у Оливии обнаружили рак, в августе мы остались с Джеймсом вдвоем. Если не считать лучшей подруги покойной по имени Дорис, вкрадчивой стервы с бесцветным лицом и острыми коленками, утешавшей нас – вдовца сорока лет и меня, вновь осиротевшего сироту. Дорис оставалась ночевать у нас в гостевой спальне над гаражом, а ночью я слышал ее придушенные стоны из комнаты Джеймса. Меня это не удивляло, его я не винил – в конце концов, я вырос в приюте, и мое представление об интимных отношениях особым романтизмом не отличалось. Однажды я подслушал, как Дорис рассуждала о возможности отправки меня назад в детдом: «Почему нет? Ведь я могу вернуть диван, если мне разонравилась обивка?» Меня не оскорбило сравнение с диваном, меня потрясло, что Джеймс молчал. Мерзавка продолжала тараторить, а он, мужик, молчал. Вот это я счел настоящим предательством.
– Мучительно смотреть, – Розалин встала, плед лениво сполз на пол. – Ну кто так разводит огонь?
Я молча отдал ей спички. Она не стала комкать газету, а порвала ее на тонкие ленты. Мои мощные поленья сунула обратно в корзину, сложила из тонких чурок конус наподобие вигвама. Чиркнула, поднесла огонь. Пламя побежало по бумаге, вспыхнуло, деревяшки занялись почти сразу. Ее тело осветилось оранжевым – на острой груди, животе и бедрах заплясали медно-красные пятна. Я невзначай тронул ладонью ее ягодицу, бархатную и неожиданно ледяную, скользнул вниз, погладил упругую ляжку.
– Хочешь, я скажу, что с тобой будет?
Она посмотрела мне в глаза, по тону я не понял, шутит она или говорит всерьез, но на всякий случай убрал руку.
– Метеорит? – не очень убедительно засмеялся я. – Или меня унесет торнадо?
– Ты действительно хочешь знать? – печально и тихо спросила она.
Мне стало вдруг холодно, я зябко передернул плечами. Камин разгорался, мертвые головы на стенах грустно засияли глазами, такими живыми, такими стеклянными. Окно совсем потемнело, там кто-то не очень успешно пытался зажечь ранние звезды. По багровому потолку, блудливо кривляясь, забродили сумрачные бесовские тени.
– А огонь-то, огонь! – растопырив пальцы, я выставил ладони. – Смотри, как полыхает!
20
Сон этот я видел и раньше – серый, невзрачный, словно полинявшая газета с чердака. С плохо различимыми лицами и буквами. У сна был запах – горький запах сырой золы. Был и звук – ленивый вагонный перестук.
За пыльным окном уплывали назад столбы. Иногда от скуки я дышал на стекло и рисовал, скрипя пальцем, круг или крест, сквозь который подглядывал за убегающими столбами. Иногда за окном появлялись бурое поле или пастбище. Иногда – свалка или поселок с низкими крышами и кривыми заборами.
На товарных разъездах толпились чумазые цистерны, дощатые вагоны, крашенные коричневой краской, открытые платформы с закутанным в брезент таинственным грузом. Долго тянулось кладбище, над ним кружили вороны, могилы подступали к самым рельсам, и я мог разглядеть бумажные цветы на ржавых оградах и крестах.
Городские окраины начинались с деревянных домов, огородов и кирпичных складов с узкими, будто бойницы, окнами. Появлялись фабрики, водонапорные башни, каменные дома. У шлагбаума толпились пыльные грузовики, стояли люди, бледная девчонка в вязаной шапке махала непонятно кому белой ладошкой. Строения начинали тесниться, горбатиться, налезать друг на дружку. В вагоне поднимался гам, кто-то настырный пытался протиснуться в тамбур, ругаясь и гулко ударяя багажом в стены вагона. Запасные пути, тускло сияя мокрой сталью, множились, раскрывались, будто веер, и, наконец, состав вкатывал под дебаркадер. Вкатывал беззвучно и плавно, почти нежно.
Теплые и ловкие женские руки, пахнущие жасмином, застегивали мне верхнюю пуговицу, поправляли шарф на горле. Я старательно тянул шею и просыпался. Всегда на этом месте.
– Николенька… – повторила вслед за женщиной Розалин. – Кто это?
– Это я… Так она меня называла, – ответил я. – Но я никак… никак не могу вспомнить лица. Ее лица…
– Ты помнишь руки. Руки важнее лица, лицо может солгать, особенно женское, – Розалин хитро усмехнулась. – Основная функция женского лица – скрывать правду. Скрывать истинный возраст – сначала мы притворяемся взрослыми, когда взрослеем, пытаемся скостить себе пяток годков. Скрывать чувства – мы ласковы с теми, кого в грош не ставим, любезны с проходимцами, ничтожествами. Женское лицо – это маска. Раскрашенная румянами и тушью боевая маска, в которой мы выходим на тропу войны.
Я засмеялся. Мы лежали в темной спальне, лунный свет, белесый, как разведенное молоко, делил стену по диагонали и заползал на кровать. Я разглядывал ноги Розалин, стройные и мускулистые, ее ступни с длинными пальцами, слишком длинными для человеческой самки.
– Я серьезно, – улыбаясь, сказала она. – Не верь женскому лицу, смотри на руки.
Она сложила ладони, медленно подняла, словно окуная в лунный свет. Плавно развела пальцы, раскрыла ладони.
– Видишь? – еле слышно спросила.
Надо мной раскрывался цветок – лотос, лилия. Белый, призрачный, казалось, он дышал, увеличивался в размерах. Потом цветок превратился в птицу, крылья распахнулись – это был лебедь. Лебедь взмахнул крыльями, они распались, одно крыло опустилось мне на лицо.
– Я не вижу. Ты мне глаза…
– И не надо, – прошептала она в самое ухо. – Видеть необязательно. Просто чувствуй.
– Что?
– Не думай ни о чем.
– Я не думаю…
– Это тебе кажется, что ты не думаешь. Перестань думать о себе. Тебя нет. Перестань думать о Кевине. Перестань думать о его ноге в железном ящике, о его…
– Откуда ты знаешь про…
– Тс-с-с…
– Откуда тебе…
Я начал, но не договорил. Стало лень, да и неважно, что я ей ничего не рассказывал про Кевина, про этот сон с Арлингтонским кладбищем. Ее ладонь тяжелела. Меня словно засыпали сухими листьями, гора надо мной росла, я уже не мог поднять век, открыть глаза или пошевелить пальцем, а листья сверху сыпались, сыпались…
21
Лихо затормозив у входа в ресторан, я обошел джип, распахнул дверь. Розалин, приняв мою галантную руку, с хрустом ступила на щебенку – оленья грация, соколиный взор. Захлопнув дверь, я чмокнул ее в щеку.
– Гляди, – насмешливо кивнула она в сторону заправки. – Как на панихиде…
На деревянном помосте выстроились с картонными стаканами кофе местные – я узнал Теда и рыжего. Был еще бровастый седой старик-инвалид на пиратской деревяшке и с костылем, пара лесорубов и очкастый пацан лет одиннадцати в майке с динозавром. Все не отрываясь глазели на меня. С таким выражением зеваки наблюдают за самоубийцей, балансирующим на краю крыши.
– Самому-то не боязно? – насмешливо спросила меня Розалин и серьезно добавила: – Впрочем, смерть – еще не самое страшное, что может случиться с человеком.
Она открыла дверь в ресторан, повернулась, бросила небрежно:
– Соскучишься – заходи.
Дверь скрипнула пружиной и закрылась. Я запоздало кивнул. На помосте кто-то присвистнул, кто-то засмеялся, кажется, Расти. Мне очень не хотелось этого делать, но я все-таки направился к заправке.
– Мужики. – Солнце светило мне в лицо, я прикрылся ладонью. – Если у кого какие претензии ко мне или к Розалин, не стесняйтесь, выходите. Дедушка и мальчик могут вдвоем, остальных попрошу по одному.
Они не ожидали, я их застал врасплох. В повисшей тишине отчаянно стрекотали кузнечики. Из-под руки я оглядел каждого по очереди. Тед отпил из стакана и сморщился, будто от яда. Молча сплюнул. Старик-пират, сидевший на пустом ящике, мрачно уткнул подбородок в клюку и филином уставился на меня. Этот бы точно вышел, будь лет на двадцать моложе. Расти глупо ухмылялся, словно оказался тут вообще случайно.
– Претензий нет, – сказал один из дровосеков, лениво растягивая слова. – Но уж очень ты борзый.
– Тебя это раздражает? – спросил я. – Нервирует?
Дровосек поправил сальную бейсболку с логотипом тракторной фабрики. Неспешно спустился с помоста. Он оказался выше меня на полголовы.
– Ну, – он расставил ноги и подался вперед, приняв что-то вроде боксерской стойки, – ну, нервирует.
Под ногами хрустел гравий, солнце слепило глаза, большая стрекоза повисла передо мной, звеня крыльями.
– Необходимо воспитывать в себе толерантность. – Боковым зрением я оглядел периметр. – Толерантность.
– Чего? – Он отступил, его правая рука сжалась в кулак и медленно пошла вниз.
– Терпимость.
Стрекоза, сверкнув стеклянными крыльями, взмыла вверх. По шоссе неистовым болидом пронесся мотоциклист, тут же забрехали собаки. Лесоруб, развернувшись всем торсом, начал замахиваться. На кулаке синела татуировка – Том. Значит, Том, Томас.
Рыжий Расти открыл рот, старик плотоядно ухмылялся, предвкушая бойню, пацан зачарованно грыз ноготь. Незатейливый Том метил мне в лицо, прямой и честный удар, который должен был послать меня в эффектный нокаут с вероятным переломом носа, кровью, соплями и прочими живописными нюансами. Я легко уклонился, ушел влево вниз. Кулак, не встретив преграды, просвистел у моего уха, Том, двигаясь по инерции, шагнул вперед. Не разгибаясь, я нанес ему два коротких удара в корпус – хук с левой в солнечное сплетение и прямой в печень. Том удивленно охнул, сделал еще шаг и упал лицом вниз, упал аккуратно и тихо, даже бейсболка не слетела с головы.
Зрители ничего не поняли, пират удивленно привстал. Я перешагнул через Тома и пошел к джипу.
– Эй, мистер!
Я повернулся. Это был Тед.
– Так как насчет той сосны? – спросил он. – Пилить будем или как?
– Будем, – ответил я. – Завтра утром.
22
Понятия о том, когда начинается утро, у нас с Тедом оказались разными – я проснулся от грохота и лязга, когда еще не было семи. По звуку это походило на танковые маневры. Я выглянул в окно: перед домом разворачивалось железное чудище – гибрид тяжелого грузовика с портальным краном. Монстр напоминал реквизит из фильма про незавидное будущее человечества после термоядерной катастрофы.
На бегу влезая в джинсы, я скатился вниз по лестнице, вылетел на крыльцо. Воняло соляркой и жженым машинным маслом, шум стоял адский, задние колеса грузовика мяли малинник, оставляя в сырой земле глубокую колею. Тед из кабины кивнул мне, невозмутимо продолжая подавать назад, в малинник.
Вокруг машины с лаем носилась немецкая овчарка, годовалый щенок, бурый в рыжину, с белой грудью. Собака подскочила ко мне, радостно пытаясь лизнуть в лицо. Тед что-то прокричал, из-за грохота я не расслышал, наверное, хотел сказать, что не укусит. Я ухватил пса за ошейник, потрепал за ушами, он таки лизнул меня в лицо – тепло, мокро и шершаво – и тут же снова бросился на травлю железного врага.
Тед заглушил мотор.
– Никто им не занимается. – Он грузно спрыгнул на землю, и пес тут же кинулся к нему. – Дурак, но добрый.
Я кивнул, разглядывая искалеченный малинник.
– Ничего, поднимется, – махнул рукой Тед. – Дождик пройдет, и будет как новый. Ничего, ничего.
На мятой двери грузовика по трафарету было набито «Тед Ковальски. Бревна и дрова, лесные работы». Надпись облупилась и едва читалась.
– Вот она, мерзавка. – Тед закурил, показывая на высокую сосну справа от крыльца.
На мой взгляд, дерево ничем не отличалось от дюжины других, стоявших рядом. Я сказал об этом. Тед сплюнул, хмыкнул, громко топая сапогами, подошел к сосне. Пальцами, корявыми и крепкими, как клещи, отодрал большой кусок коры. Под корой была труха.
– Видал? – Он швырнул кору в кусты, вытер ладонь о штаны. – Так и с человеком: на вид вроде ничего, приличный, а копнешь…
Я поглядел на него – не ожидал я от специалиста по бревнам и дровам философских умозаключений. Особенно в семь утра. Тед затянулся. Он курил по-солдатски, в кулак. Сигарета в его лапе казалась какой-то маленькой, детской и очень белой.
– А почему она отсюда не уедет? – спросил я.
– Отец у нее больной, куда от такого уедешь… – Тед вовсе не удивился вопросу. – А мать от них сбежала с инженером, давно, ей тогда лет шесть было. Когда мост за Сахарной Мельницей строили…
Он затянулся. Щурясь от дыма, бросил окурок в траву, крепко придавил сапогом.
– Короче, план такой: я прихвачу ствол сверху, потом подпилю, потом в чиппер.
– Куда?
– На щепу. Таким трухляком все одно топить нельзя.
– Ну да. Конечно. На щепу.
Тед пошел к машине, повернулся, подмигнул. Он был похож на отставного циркового борца – мощная, кирпичного цвета шея, седой ежик, колючие седые усы, покатые плечи. По железной лестнице он ловко забрался в кузов. Там на вертикальной стальной штанге крепилась металлическая люлька с сиденьем, торчали какие-то рычаги. Тед устроился, махнул мне рукой, чтобы я отошел подальше.
Взревел мотор. Грохнул выхлоп, тут же завоняло соляркой. Из-под кузова с лязгом выдвинулись железные ноги, уперлись в грунт. Тед потянул за рычаг, и машина, крякнув, лениво привстала. Колеса уже не касались земли, весь агрегат крепко стоял на металлических опорах. Я, пятясь, поднялся на веранду, подальше от грохота и вони.
Штанга с люлькой была телескопической, сиденье начало медленно подниматься. Тед плавно вознесся на уровень второго этажа. Без особого интереса оглядев окрестности, он снова взялся за рычаги. То, что я принял за стрелу крана, оказалось чем-то вроде гигантской железной руки, оканчивающейся трехпалой клешней. Рука разогнулась, она вытянулась выше крыши, выше деревьев. Тед, словно разминаясь, поклацал клешней в воздухе.
Воняло горячим металлом, маслом, соляркой. Каждое движение железного монстра сопровождалось скрежетом и лязгом. Скрипели и визжали суставы, трещали шестеренки, шипели пневматические шатуны. Овчарка, поджав уши, спряталась под крыльцо, я тоже отошел в дальний угол веранды.
Тед, усатый и красномордый, невозмутимый, словно языческий бог, управлял своим механическим чудовищем, управлял легко, почти грациозно. Железная рука описала полукруг, зависла над сосной. Ювелирно орудуя клешней, Тед обстриг верхние ветки, каждая с руку толщиной. Они, разлапистые и мохнатые, грузно упали на землю. Тут же потянуло свежей хвоей, запахло Рождеством, елкой, праздником.
Некоторым запахам присуща убийственная сентиментальность – я чуть не заплакал, вспомнив, как позапрошлой зимой наша Анька, тогда пятилетняя пигалица, участвовала в постановке рождественской мистерии в нашей церкви. Она изображала светлячка, который в составе звериной делегации – жираф, очень полосатый тигр, птица неизвестной породы и почему-то сразу два лобстера, судя по цвету, вареные – сопровождал трех мудрецов в Вифлеем. Новорожденный Иисус лежал в люльке, у Бога роль была простая и без слов, поэтому роль доверили румяной фарфоровой кукле с закрывающимися глазами. Накануне мы доводили до ума костюм светлячка, просидели почти до полуночи – Хелью трудилась над слюдяными крыльями, я занимался электропроводкой. К зубцам картонной короны я прикрутил лампочки, которые никак не хотели гореть – провода шли к батарейке, спрятанной в карман платья, и постоянно отсоединялись. Я хмуро сопел, Хелью смеялась, что я отношусь ко всему слишком серьезно – это же просто детский утренник. Я кивал, соглашался, у меня не было ни малейшего желания рассказывать ей, что похожую электрическую самодеятельность мы находим во время наших ночных рейдов. Только вместо короны и слюдяных крыльев там обычно пластит.
Сосна превратилась в груду белой и пахучей щепы. Страшноватое приспособление «чиппер», похожее на огромную мясорубку, сладострастно рыча и плюясь черным дымом, перемололо огромное дерево за пятнадцать минут. Я вернулся с бумажником, Тед заглушил мотор, закурил, с удовольствием затянулся.
– Сколько? – У меня в ушах еще звенело.
– Ты вообще чем занимаешься, Ник? – спросил Тед, спросил по-приятельски, будто убийство сосны нас сразу сблизило.
– Я? – В голову не пришло вообще ничего путного. – Я, я – учитель.
Помолчав, добавил:
– По физкультуре. Каникулы сейчас, лето.
– По физкультуре… – Лесоруб выпустил дым. – Ясно…
Звуки постепенно возвращались, сверху кружили и нервно каркали вороны – их недовольство я прекрасно понимал. Пес покинул укрытие, крутился вокруг нас, заглядывая в глаза. Я раскрыл бумажник, вопросительно поглядел на Теда.
– Убери, – улыбнулся в усы лесоруб. – Я угощаю.
Я хотел что-то возразить, но он перебил:
– Ты тут ни при чем, считай, я это для Полковника сделал. Да и всех-то дел на час всего…
– А ты хорошо знал его? – спросил я. – Лоренца?
Лесоруб задумался, выпустил аккуратное кольцо. Мы молча следили, как оно росло и медленно поднималось вверх, становясь все прозрачнее, все призрачнее.
– Он здорово меня выручил, – Тед опустил глаза. – Моего дурака за драку забрали. Они ездили гулять в Берлингтон, сцепились там с какими-то студентами… Ну, вот их и замели… А потом выяснилось, что он накостылял какому-то сенаторскому сынку, папаша звонил в участок из Вашингтона. Легавые все обгадились, как ты понимаешь… – он махнул рукой. – Моему светило года три, короче. Сенаторский юрист-гнус шил сотрясение мозга. У нас на адвоката денег не было, нам дали какого-то доходягу бесплатного. Он и двух фраз связать не мог, не то что кого-то там в суде защищать.
Тед зло махнул рукой.
– Я рассказал Лоренцу, тот говорит: погоди, разберемся. У нас, говорит, Америка, а не Киргизстан… – Тед бросил окурок, наступил сапогом. – Позвонил кому-то, потом сам съездил в Берлингтон. Вернулся, привез Джонатана…
– Кого?
– Сына привез. А сенатор все обвинения снял, никакого сотрясения мозга и вообще…
– Да… – Я не знал, что сказать. – А давно это было?
– Да уж… – Тед задумался, что-то прикидывая. – Джонатана считай три года как похоронили. Ему двадцать девять в сентябре. Ну так вот, лет десять тому назад все это случилось. Лет десять, я думаю. Да.
23
В библиотеке пахло жареной курицей с чесноком – густой аромат я уловил еще на подходе. Быстро поднялся на крыльцо, раскрыл дверь. На другой створке облупившейся двери сидел красавец-махаон. При моем приближении он лениво взмахнул крыльями и улетел.
Сегодня на мисс Маккой была кофта брусничного цвета с коротким рукавом. Я остановился в дверях, библиотекарша застыла, словно я застукал ее за чем-то постыдным.
– Я потом, после зайду… – сказал я. – Извините, мисс Маккой, обедайте.
Она замотала головой, ее губы и подбородок лоснились от жира. Перед ней на столе в сальной бумаге лежала растерзанная курица.
– Дороти, – наконец выговорила она. – Зовите меня Дороти.
Я отказался от курицы, спросил, могу ли я позвонить. Дороти кивнула на телефон, потянулась к нему, чтобы подвинуть, я поспешно взял аппарат, пока она услужливо не заляпала трубку куриным жиром.
– Как вам Достоевский? – спросила она, жуя и улыбаясь.
– Достоевский – это всегда счастье.
Моя память хранит кучу информации – сотни имен и адресов, телефонных номеров, кодов и паролей. Годами нас натаскивали, дрессировали запоминать всевозможную чушь – страницы телефонной книги, номера всех автомобилей красного цвета на шоссе, винную карту во французском ресторане. Весь этот мусор так и хранится в моем мозгу, я не знаю, как от него избавиться, и боюсь, что в один прекрасный день моя голова просто взорвется, как паровой котел.
Меня соединили с оператором, я назвал свой код доступа. На том конце пощелкали клавишами – вводили цифры в компьютер (зная нашу бюрократическую волокиту, я был уверен, что меня изымут из системы только к концу месяца).
– Чем сегодня я могу помочь вам? – вежливо спросил оператор.
– Соедините меня с лейтенантом… – Я запнулся, пытаясь вспомнить имя, – имени не было, я его просто не знал. – С лейтенантом Харрис.
На том конце, в Лэнгли – холмистом пригороде Вашингтона на берегу реки, где на порогах местные негры ловят килограммовых сомов на самодур, – оператор снова защелкал клавишами.
– Их трое, Харрисов.
– Она из оперативного директората…
– Значит, Гертруду Харрис. Соединяю.
Гертруда – ничего себе! Я улыбнулся библиотекарше. Дороти завороженно следила за мной, ее толстые, как морковки, пальцы задумчиво перебирали куриные кости.
– Лейтенант Харрис, – услышал я строгий голос. – С кем говорю?
– Ник Саммерс, – представился я, прекрасно понимая, что все, сказанное мной, к концу дня станет известно Бредфорду и окрестностям. – Мы с вами встречались пару месяцев назад…
– Да-да. – Она узнала, голос изменился. – Да, конечно! У вас ненадежная линия, вы не можете говорить?
Молодец, сообразила сразу. Что бы мы ни говорили про разведку, а дураков там все-таки меньше, чем в армии.
– Именно, – подтвердил я, лениво садясь и вытягивая ноги. – Именно линия. Я тут на каникулах, в глуши, в горах. Никакой цивилизации – медведи и форель.
Она засмеялась. Я кивнул библиотекарше, та в ответ просияла.
– Вы не могли бы поглядеть… – я говорил с ленцой, праздным тоном, – старый приятель мой, надо навести справки, а Интернета под рукой нет. Вот решил вас потревожить… Может, он по вашему ведомству…
– Да, конечно, – перебила она. – Имя?
– Ричард Гриффин.
Я беззаботно улыбался и кивал головой, словно на том конце мне рассказывали что-то занятное. На самом деле на том конце тихо щелкали клавиши клавиатуры: лейтенант Харрис молча прогоняла Ричарда Гриффина по оперативному поиску базы данных. Я был в Лэнгли два раза, оба раза весной. Главное здание, похожее на модный выставочный комплекс, белый камень, стриженые газоны. Вход в виде стеклянной арки. В фойе пальмы в горшках, черный гранит пола отполирован до зеркального блеска. Под ним семь этажей – там настоящий город. С фонтанами и скверами, с дорогами, по которым снуют электромобили, есть даже светофоры и пешеходные переходы.
– Вот он, – услышал я. – Нашла.
Ричард Уокер Гриффин начал работать в Директорате оперативной службы сразу после окончания Йельского университета, кафедра лингвистики. Специализация – Восточный сектор. В совершенстве владел немецким, русским и польским языками. Участвовал в операции «Циклон». В ГДР проводил вербовку среди офицеров «штази», полученная информация решила исход контроперации «Зигфрид». Перед распадом Советского Союза работал на территории Украины, Узбекистана и Российской Федерации.
– Дальше файл заблокирован, – сказала Харрис.
– Какой код доступа?
– F-5.
Уровень руководителя отдела, как правило, не ниже генерал-майора.
– Фото там есть? – спросил я.
– Да.
– Никого он вам не напоминает?
Харрис задумалась, хмыкнула.
– На Редфорда похож, молодого. Помните, кино было «Три дня Кондора»?
Я фильма не помнил, мне было не до кино.
– Гертруда, – с трудом выговорил я чудное имя. – Я могу вам позвонить еще? На мобильный.
– Да, конечно. – Она продиктовала номер.
– А имя Лоренц, – спросил я. – Нет там такого имени? В досье?
– Да, это одно из его кодовых имен. Тут кроме этого еще несколько. Прочитать?
24
Снаружи собирался дождь, небо поскучнело, тяжко осело на дальний лесистый холм с белой церквушкой. На юге еще виднелись остатки голубого, но их быстро затягивала серая муть. Начало моросить. Трава сразу потемнела, заблестела, словно ее только что покрасили. Над травой метались испуганные ласточки.
– Эй!
Я повернулся. Розалин резко встала с белой скамейки, за ней зеленел пышный розовый куст с мелкими, приторно ароматными цветками. Я улыбнулся и уже хотел отпустить какую-то шутку, но она торопливо потянула меня к машине.
– Тебя ищут, – громким шепотом сказала она, когда я захлопнул дверь.
– Я знаю, полтора миллиона на дороге не валяются. Конечно, ищут.
– Кончай хорохориться. Час назад человек меня расспрашивал, я отправила его, вернее, их в сторону Мидлберри.
– Их?
– Один зашел в ресторан. Бритый, на кабана похож. Еще трое сидели в машине.
Я не испугался, я знал, что рано или поздно меня найдут. Морально я был к этому готов. Меня поразило, что нашли так быстро.
– Какая машина?
– Белая… – Розалин запнулась. – Легковая.
– Теперь я их узнаю с ходу.
Ветровое стекло покрывалось каплями, мелкими и аккуратными, как ртуть. Пейзаж за окном тускнел и будто терял фокус, дождь сонно барабанил по крыше. Розалин взяла меня за руку, ее ладонь была не просто холодной – ледяной. Я подумал, что у меня не больше часа. А может, меньше. Может, они уже ждут меня в Медвежьем Ручье.
Я включил дворники, затормозил у ресторана. Розалин открыла дверь.
– А если в полицию… – растерянно предложила она. – Шериф Нортон…
– Нет, – мягко перебил я, сжал ее кисть. – Ты ж замерзла, вся ледяная, господи…
Притянул за плечи, прижал. Она тихо шмыгнула носом, хотела что-то сказать, по голосу я понял, что она сейчас заплачет.
– Все будет хорошо, – прошептал я. – Все будет просто замечательно.
– Ник…
– Мне надо спешить.
– Да-да. – Она торопливо ткнулась губами в щеку, в лоб, в губы. – Да, конечно.
Вполне возможно, это был мой последний поцелуй, невесело подумал я. Розалин хлопнула дверью, потом, вспомнив что-то, застучала в стекло пальцем. Я опустил стекло.
– Я живу за Совиной горой, отсюда три мили, – махнула она куда-то на запад. – Там сгоревший амбар, потом мост через ручей, справа мельница и старое кладбище. Проехал кладбище и сразу наверх – наш дом на холме. Красная крыша.
Я кивнул, тронулся.
– Сразу за кладбищем! – крикнула она вслед.
Я воткнул вторую передачу и дал газ. Плюясь щебенкой, выскочил на шоссе. Мокрый асфальт сиял траурным лоском, в голове крутилась ее последняя фраза: сразу за кладбищем. Мимо с ревом пролетел огромный трейлер, груженный бревнами.
– Сразу за кладбищем… – пробормотал я, выжимая педаль газа.
Джип я загнал за сарай, с дороги его видно не было. От дома тоже. Наверху, в спальне, быстро переобулся в старые черные кроссовки, натянул свитер и куртку. Рассовал по карманам запасные обоймы. По две в карман, застегнул. Карманы на «молнии» – очень полезное изобретение. Проверил глок: передернув затвор, нажал спусковой крючок – боек звонко щелкнул. Вставил обойму. Сунул пистолет за пояс.
Справа от сарая были сложены дрова, очевидно, очень давно – поленница просела и обросла мхом, кое-где изо мха рос ярко-зеленый папоротник, краснели ягоды брусники. Сразу за дровами начинался лес. Я перелез через поваленную сосну; от нее хорошо просматривались подъезд к дому, часть дороги и крыльцо. Из-под ног выпорхнула иволга, сердито уселась на ветку орешника прямо надо мной и принялась громко ругаться.
Гости появились через семнадцать минут – по привычке я вел хронометраж. Белая легковая машина оказалась «бентли-империалом» с нью-йоркскими номерами. Глупость, конечно, но мне стало лестно, что убивать меня приехали на таком шикарном авто.
Я присел, снял пистолет с предохранителя. Дождь, похоже, потихоньку заканчивался, последние капли шуршали в листве тихо и настороженно, будто перешептываясь. Лес вокруг был темным, мокрым. Монотонно пела река. Я зачем-то провел ладонью по мху, нежному, как влажный бархат. Иволга замолчала, но не улетела, сидела наверху, хитро поглядывая на меня черным глазом. Я, заискивая, подмигнул ей, приложил палец к губам. Мерзавка насмешливо свистнула и, словно издеваясь, выдала звонкую трель.
Передняя дверь «бентли» распахнулась, из машины вылез крепкий мужик с бритой головой. Точно, кабан. Грузно поднялся по ступеням, постучал в дверь. Прислушался, постучал еще раз – громче. Прошелся по крыльцу, пнул ногой ведро, ведро с грохотом покатилось по доскам веранды. Мужик помаялся еще с минуту, бродя взад и вперед, напоследок двинул в дверь башмаком, вернулся к машине. Окно задней двери опустилось на четверть, кто-то выдул оттуда тонкую струю дыма. Кабан подошел, пригнулся. Я услышал голос, но слов не разобрал. Кабан кивнул, услужливо раскрыл дверь.
Я рассчитывал на шаха, ожидал бородатого эмира, на худой конец главаря банды абреков с десантным «калашниковым» и зеленой драпировкой, на фоне которой мне должны были отрезать голову.
Из машины вышла женщина. Она выпрямила спину, огляделась, уронила сигаретный окурок в траву. Иволга над моей головой пронзительно просвистела.
– Мистер Саммерс! – Женщина повернулась спиной к дому и в профиль ко мне. – Кончайте прятаться. У меня к вам дело.
Голос прозвучал уверенно, чуть насмешливо. Сидеть за дровами мне показалось глупо и унизительно. Сунув пистолет в левый карман куртки, я неспешно выбрался из укрытия.
– Вот вы где! – Женщина засмеялась, потом закашлялась – курить ей явно нужно было завязывать. – В лесу гуляете?
Моя левая рука лежала в кармане; я вспомнил, что куртку мне эту подарила Хелью на Рождество лет пять назад. Очень не хотелось ее дырявить.
– Пусть этот сядет в машину. – Я указал подбородком на кабана.
Женщина кивнула. Кабан зыркнул на меня, забрался на переднее сиденье, хлопнул дверью.
– Ну? – Она вопросительно уставилась на меня. – Может, в дом пригласите?
Я не мастак определять женский возраст. Сидя за дровами, я решил, что ей лет тридцать пять-сорок, вблизи женщина выглядела куда как старше – явно за полтинник. Особенно руки. Худые, костистые, с длинными перламутровыми ногтями, они казались руками породистой старухи.
– Прошу! – Я церемонно пропустил ее вперед.
Пройдя в гостиную, незваная гостья оглядела коллекцию мертвых голов, хмыкнула, села в кресло. Закурила, чиркнув кокетливой дамской зажигалкой. Я взял стул за спинку, поставил перед креслом. Сел, левый кулак горел, рукоять пистолета была как утюг. Часы на стене показывали два пополудни, они отставали на семь минут.
– Я хочу нанять вас, мистер Саммерс, – она стряхнула пепел на пол. – Возглавить один проект.
Я посмотрел на пепел, потом ей в лицо.
– А если я откажусь? – глядя ей прямо в глаза, спросил я.
Женщина усмехнулась, выпустила дым.
– А вот такой возможности у вас нет. – Она насмешливо покачала головой, пренебрежительно добавила: – И вытащите этот дурацкий пистолет из кармана, никто вас тут убивать не собирается.
– А если я откажусь, – упрямо повторил я, опустив на этот раз знак вопроса.
На лице «со следами былой красоты», как писали в старых романах (быть может, пишут и сейчас, беллетристику не читаю), появилось недоброе выражение: глаза стали холодными, губы поджались. Женщина щелчком отправила окурок в камин, тихо и зло сказала:
– У меня нет времени валять дурака.
Достала из кармана и протянула мне сложенный листок бумаги. Я развернул – это был калифорнийский адрес Хелью, адрес, который не знал никто, кроме меня.
– И давайте, мистер Саммерс, на этом закончим наш драмкружок и перейдем к делу. Идет?
25
У нее был добротный британский акцент, лондонский – так говорят в Челси и Кенсингтоне, на Найтс-Бридж. Долгая шея, крутой высокий лоб и вполне мужской подбородок, она напоминала борзую, но не выставочную – хрупкую, фарфоровую – а матерую, охотничью, какая запросто может затравить волка.
– Начнем с приятного, – сказала она. – Ваш гонорар, мистер Саммерс, составит тридцать миллионов американских долларов.
Я почти раскрыл рот. Меня поразила даже не сама сумма; в этот момент я четко осознал две вещи: дело предстоит определенно гнусное – это во-первых, а во-вторых, в конце операции меня скорее всего постараются ликвидировать.
– И что же от меня требуется? – Я чуть осип и прокашлялся. – Украсть Биг-Бен? Поднять мятеж в Шотландии? Свергнуть королеву Елизавету и передать власть в руки трудящихся Великобритании?
– Мне нравится направление вашей мысли. – Она запнулась, разглядывая носорожью голову под потолком. – Господи, ну и страшилище… Вы, оказывается, и на зверей тоже охотитесь?
– И на них тоже. Не отвлекайтесь от темы, пожалуйста.
– Да-да, конечно. Назовем акцию, к примеру, так: «Стремительная операция по устранению одного важного человека».
– Стремительная? – я хмыкнул.
– Удар кинжалом, – она сделала острый жест рукой. – Знаете, у марокканских бандитов есть такой удар, «бабочка» называется. Бьют клинком вот сюда, – она ткнула пальцем в основание своей шеи. – Тут ямочка, видите?
Я кивнул, мол, вижу. Меня удивил круг ее интересов.
– «Бабочка», – задумчиво повторила она, потом оживилась и деловито продолжила: – Я предоставлю вам всю необходимую информацию, вы разработаете план, мы его обсудим и утвердим. Закупим оборудование и снаряжение – ну вы знаете, что понадобится, все эти ваши штуки, инструменты и оборудование… – сказала она небрежно, словно речь шла о ремонте водопровода.
Она встала, прошла взад и вперед, взяла со стола колоду карт.
– Подберем вам толковых помощников, вы сами решите, сколько и какой квалификации. Организуем тренировочную базу…
– Погодите, – я тоже встал. – В чем моя функция?
– Ваша функция? – Она всерьез удивилась. – Вы что, меня разыгрываете? У вас одна функция, одна! Переправлять конкретных людей из этого мира в мир иной. Как у Харона. Вы Данте читали? Или хотя бы «Мифы Древней Греции»?
– Читал, – огрызнулся я. – В приюте.
– Ну вот и отлично.
– Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы всерьез хотите, чтобы я организовал покушение на какого-то…
– Не ошибаетесь, – ласково перебила она. – Именно так.
Она ловко перетасовала карты, развернув веером, вытащила одну.
– И кого же мы собираемся… – я мотнул головой в сторону двери, – переправить через Стикс?
– А вот его, – она положила карту на стол.
Это был король пик.
– А имя у него… – начал я, но она быстро приложила палец к моим губам.
– Никаких имен, – прошептала она. – Никаких имен. Мы будем звать его Тихий.
Она щелкнула ногтем по карте.
– Просто Тихий. Понятно?
Я кивнул. Она взяла карту, разглядывая, приблизилась к окну. Снаружи распогодилось, вовсю голосили птицы. Лучи пробивались сквозь листву, кружевные солнечные пятна сонно ползали по пыльному стеклу. Окно стало похоже на витраж.
– А страна? – спросил я. – Или тоже секрет?
– Ну почему…
Она задумчиво разорвала короля пик пополам, сложила и порвала еще раз. Подошла к камину, выбросила обрывки в золу. Повернулась ко мне.
– Кстати, как у вас с родным языком? – спросила она на чистом русском. – Не забыли, Николай?
У нее были на редкость маленькие уши, совсем кукольные. Бледные, без сережек, они выглядели ушами ребенка, почти младенца.
– Да, – словно вспомнив, добавила она. – Меня зовут Анна Кирилловна. Зовите меня Анна.
Она выставила острую ладонь, мне не оставалось ничего другого – я пожал ее.
26
Тихий родился на безнадежной рабочей окраине в семье тюремного охранника. Рос в промозглом бараке, стоявшем среди других, таких же кособоких хибар. Рядом чернел тухлый пруд, где хозяйки топили слепых котят. Вокруг – канавы с мутной водой, чавкающая грязь, мусорные кучи. В отдалении дымили какие-то кирпичные трубы, дождь, казалось, моросил и днем и ночью – так, по крайней мере, ему помнилось.
Вспоминались пустыри, заросшие лопухами, там дрались с пацанами из Ляврино, там же, на пустыре за кладбищем, его поймал и изнасиловал одноглазый бродяга из церковных бомжей. Бомжи эти жили в заброшенной церкви, местные так их и звали «церковные». О церковных ходили жуткие слухи, говорили, что они воруют детей. Действительно, в конце марта, когда наконец сошел снег, в Сивой балке нашли два мелких черепа и детские кости, завернутые в мешковину. Приезжала районная милиция, пузатый полковник вылез из «волги», долго бродил среди чахлых осин. Он курил и громко материл понурых ментов, молча его сопровождавших.
Тихий часто болел, не вылезал из ангин, в школу под серый форменный пиджак мать напяливала на него свою старую кофту – он по дороге стаскивал ее и прятал в портфель. В классе его дразнили Рыбой за вялость и бледность, на физкультуре он стоял в самом конце шеренги, ниже был только Петриков – рахитичный сын школьной уборщицы-алкоголички и неизвестного отца. Изнуренный простудами и онанизмом – он рукоблудил даже на уроках, сидя в углу, на задней парте и жадно впиваясь взглядом в спину и толстую косу Нинки Рамазановой, бойкой отличницы и старосты класса, иногда из жалости дававшей ему списывать математику, – Тихий был страшно одинок. Ничтожный Петриков был не в счет, тем более что в девятом классе он попал под товарняк, который вез торф из Дзержинска. Уборщица той же ночью повесилась в школьной кладовке. Первым ее нашел Тихий – не убежал, а замер и с жутью стал разглядывать грязные босые ноги в полуметре над полом и темную лужу на кафеле прямо под телом. «Она обоссалась, представляешь?» – потом сказал он Хетагурову по кличке Лось. Лось, не говоря ни слова, двинул ему в челюсть. Так Хетагуров стал номером семнадцать в списке Тихого, черном списке мести. В этот список угодили соседка по бараку тетя Зоя, надравшая ему уши за издевательство над котом, безымянная билетерша из клуба, не пустившая Тихого на «Анжелику», математичка Татьяна Ивановна, хромой физрук Заславский, шесть человек из его девятого «А» и еще два «бэшника», избившие Тихого прошлой зимой за сараями.
– Он не забыл и не простил никого. Никого! – Анна придушила окурок в блюдце и тут же достала новую сигарету. – Ни одного человека! Некоторым повезло – они умерли до того, как Тихий попал наверх.
– Вы не утрируете? – Я с иронией посмотрел на нее.
Она фыркнула, не ответив, прикурила, выпустила тонкую струю дыма в потолок.
Поступить в Политехнический Тихому удалось со второго захода. После зимней сессии его пригласили в главный корпус, где вкрадчивый плотный человек в коричневом костюме с широкими лацканами по тогдашней моде предложил ему стать стукачом. Тихий тут же согласился.
На курсе его не замечали – студенты считали подлизой и ничтожеством, преподаватели – услужливым, но туповатым провинциалом. Одевался он бедно: две рубашки, одна белая, другая ковбойка в клетку, он их стирал и сушил в общаге на батарее, отцовский пиджак, рябое кургузое пальто, которое он носил еще в восьмом классе, похожее на кулацкую кацавейку.
Он так и не вырос, опять был ниже всех, если не считать Мишки Шабада, чернявого коротышки, почти карлика. Но Мишкин отец работал на овощной базе, Шабад ходил в настоящих джинсах и канадской дубленке. У Мишки были деньги, он щедро покупал портвейн «Южный» и «Кубанскую» водку, угощал всех подряд разливным «жигулевским» в соседнем «Сайгоне». Мишку любили, он постоянно балагурил, травил анекдоты, очень похоже изображал Брежнева – даже девицы находили его занятным и иногда давали ему. Тихий так и оставался девственником, одноглазого бомжа он старался забыть, неуклюжие эксперименты за сараями с покойным Петриковым тоже в счет не шли.
Шабада исключили после второго курса. Он так никогда и не узнал, что виной тому стал тщедушный неприметный юноша с узким прыщеватым лицом и мутными глазами хворой собаки. Тихий чуть не сошел с ума от радости – ему было плевать на Шабада, он решил, что стал обладателем волшебной силы, безотказной и мощной, а главное, безграничной.
Впрочем, в этом он ошибался. Когда в конце февраля простуженный Тихий принес своему куратору Потапову рапорт на Вику Кузнецову, которая месяц назад отвергла его ухаживания, заявив, что скорее отдастся вдовому дикобразу, чем будет спать с Тихим, майор Потапов внимательно прочитал донос, порвал его, а мелкие обрывки, смяв в тугой комок, спрятал в карман. «Ты знаешь, кто батяня у этой манды? – тихо спросил он. – От нас мокрого места не останется. Ни от тебя, ни от меня. Усек, студент?»
Тихий усек. Волшебная сила требовала чуткости и аккуратности в обращении. Он снова ступал на цыпочках, снова стал невидимкой. Аккуратно выбирал жертвы.
Профессор Селезнев его пожалел. Тихий прикинулся сиротой, давя на жалость, рассказывал о лишениях безрадостного детства в рабочем поселке в семье дальней родственницы по отцовской линии. Про темный от копоти туман, червивые огороды, кислую капустную вонь. Профессор пригласил его в дом, потом еще раз. Они пили болгарский коньяк и рассуждали о политике. Селезнев дал ему перепечатку «Архипелага», а потом и Зиновьева. Тихий знал: это уже статья, это не только пинок под зад с кафедры, это срок, это лагерь. Но к Потапову не пошел.
Он стал хитрее, терпеливее, он научился просчитывать на несколько ходов вперед. Он научился выжидать. В конце зимней сессии Тихий подкараулил профессора у факультета. Был январь, валил крупный снег. Темнело рано, уже горели желтые расплывчатые фонари вдоль синей аллеи. Здание факультета – скучная пятиэтажка из красного кирпича с белыми колоннами и гипсовыми барельефами то ли писателей, то ли ученых по фронтону – казалось седым от инея. Тихий нагнал профессора у остановки трамвая. Не скрывая ничего, он рассказал Селезневу про майора Потапова, рассказал, что вот уже ровно четыре года, как он является осведомителем, что его там ценят, ему там доверяют. Говоря «там», Тихий тыкал пальцем в небо, откуда медленно сыпался мохнатый снег. Вместе со снегом опускалась ватная тишь, сонная, рождественская, лишь вдалеке, за казармами, едва слышно позвякивали заплутавшие трамваи.
«Вы мне все равно что отец, – не очень убедительно пробормотал Тихий. – Не могу я на вас рапорт писать».
Профессор Селезнев этого не забыл. В смутные времена он неожиданно оказался на гребне. Его вынесло в либеральные идеологи – сперва экспертом по социологии, потом, неожиданно для себя самого, он стал консультантом по экономическим вопросам. Толковые экономисты были нужны позарез – начиналась приватизация страны.
Была пятница, часы отзвонили семь, спустя двенадцать лет Тихий снова появился в профессорской квартире на набережной.
«Отлично выглядишь! – соврал профессор. – Возмужал, подрос даже».
Тихий теперь всегда носил ботинки на толстой подошве, добавлял себе пару-тройку сантиметров. Он сидел на сумрачной кухне, обжигаясь чаем, жаловался: «Все просрали, Анатолий Константинович, все на свете!» Последние семь лет он болтался по Пруссии, занимаясь какими-то закупками для армии, пока наконец прошлым апрелем не выцыганил себе место в берлинском торгпредстве. Его свели с ребятами из Бреста, он сам вышел на «долгопрудненских», договорился. Погнал через границу старые «мерсы» и «ауди». В августе нашел толковых поляков, у самой границы организовал гараж, где перебивали номера. Угоняли только новые, дорогие модели. Наконец начали появляться настоящие деньги.
«Ведь только-только все наладилось!» – хриплым тенором восклицал он.
Профессор подливал чаю, ласково кивал.
На следующей неделе он назначил Тихого своим референтом.
27
– Первый раз я увидела его в Барвихе, на даче, – Анна, припоминая, задумчиво посмотрела вверх. – Наверняка там. В Барвихе у нас было что-то вроде штаба. Иногда мы там застревали на несколько суток, времена наступали буйные, и промедление, как нас учил классик, могло быть смерти подобно.
Тихий появился вместе с Селезневым, молча стоял за его спиной, прижимая к груди блестящую папку из фальшивого крокодила. Рыжий его сразу так и прозвал, «Папкин». Голоса Папкина никто не слышал, его мнение никого не интересовало, он снова стал человек-невидимка, человек-тень.
– Там в гостиной, на столе, у нас лежала развернутая карта, старая, еще совковая, со всеми республиками, округами. Красным фломастером были обведены нефтяные и газовые разработки, крупные металлургические комбинаты, алюминиевые, алмазные рудники, угольные шахты, военные заводы – короче, все богатства Страны Советов. Мы спорили, ругались, балагурили – так за чаем, кофе, водкой кто-то становился хозяином Сибири, кто-то – никельным бароном, кому-то доставалась медь, кому-то – Каспийская флотилия. Это было похоже на игру, увлекательную, волшебную игру, от которой захватывало дух. И только Папкин, которого в игру не взяли, стоял в стороне со своей дерматиновой папкой, жалкий, с водянистыми глазами и скверными волосами мышиного цвета, старался делать вид, что происходящее его не интересует. Думаю, именно тогда он и начал составлять новый черный список. И угодили туда все мы. Все до единого.
Анна замолчала, разглядывая свои руки. Я тоже молчал. Где-то лениво билась о стекло большая муха.
– Где тут уборная? – вдруг спросила она, вставая.
– Левая дверь, – махнул я рукой в сторону коридора.
Она хлопнула дверью, потом я услышал звонкую, тугую струю, бьющую в унитаз. После веселым водопадом пророкотал бачок.
– Полотенце чистое есть? – брезгливо отряхивая мокрые кисти, спросила она. – Чистое полотенце у тебя есть?
– А что, мы уже на ты? – Я протянул ей бумажную салфетку.
Она тщательно вытерла руки, скомкала мокрую салфетку, бросила на стол.
– Не умничай только, ладно?
Достала из кармана телефон. Нажала кнопку.
– Портфель принеси, – сказала в трубку.
Появился Кабан с плоским чемоданом. Аккуратно пристроил его на стол и удалился. Анна щелкнула замками.
– Тут ноутбук, в файле – вся информация по Тихому. Вся, какая у меня есть. Вот тебе телефон. – Она достала мобильник. – На первой кнопке – мой номер.
– Сигнала тут нет… – начал я.
– У кого надо – все есть. У нас свой спутник. Так что звони и вообще ни в чем себе не отказывай.
Она засмеялась.
– Послушай, Аня. – Я быстро встал, сжал кулаки. – Может, у тебя и есть спутник…
Она удивленно вскинула брови, тоже встала.
– Да! Ну есть! – Она вплотную подошла ко мне. – А у тебя что есть? Кроме кулаков и вот этого… – Она положила ладонь на мою мошонку и чуть сжала.
Она насмешливо смотрела мне в глаза, от нее воняло сигаретами и какой-то сладкой парфюмерией. Я застыл, не зная, что делать, – не бить же ее, в самом деле?
– Вообще-то, я баба добрая, – тихо добавила она. – Только нервная. Поэтому ты лучше меня не зли. Коля. А главное, про семью не забывай. Про ребятишек.
Она ушла. Первым делом я налил полстакана бурбона и залпом выпил. Вселенная медленно и неохотно начала приходить в порядок. Я добавил еще. Раскрыл ноутбук. На десктопе, изображавшем сиреневую ночь с невразумительными созвездиями, в самом углу притаилась одинокая безымянная папка. Я навел курсор и кликнул. Внутри находилась дюжина других папок с названиями – «дача_рублевк», «дача_байкал», «дача_сочи», «дача_капри», «кремль», «маршруты» и каким-то совсем загадочными «кр_мал» и «др.». Меня сильно подмывало ткнуть в «оргии», но я, проявив силу воли, открыл папку «фото». Там, как я и ожидал, были фотографии Тихого.
От давних снимков, мутных и серых, напоминавших обрывки какого-то тревожного сна – вот их класс в физкультурном зале школы, вот субботник, вот что-то зимнее – до нынешних, совсем недавних, вылизанных до звона в «Фотошопе», с умелым светом и грамотными тенями. Вот Тихий в белом кителе с маршальскими звездами, вот он на танке, а вот на коне, тут он в уссурийской тайге охотится на уссурийского тигра. Вот он после возвращения с орбиты, улыбается, держит под мышкой космический шлем (эта история с полетом была такой липой, что наши новостные каналы даже стеснялись о ней говорить). На следующем фото Тихий сидел за роялем; из подписи следовало, что он исполняет Первый концерт Чайковского в сопровождении Государственного симфонического оркестра.
Я наливался бурбоном, и вместе с алкоголем меня наполняло ощущение мутного безумия, словно реальность сместилась и я очутился в нелепом кошмаре, гнусном и унизительном. Поверить, что все это происходит сейчас и происходит на самом деле, я был просто не в состоянии. Тихий с годами стал внушительней, даже мужественней – хирурги утяжелили безвольный подбородок, что-то сделали с надбровными дугами. Исчезла ватная припухлость, пропали мешки под глазами, контур лица обрел уверенность. Теперь он охотно демонстрировал накачанный анаболиками торс и розовые гуттаперчевые бицепсы – вот он яростным баттерфляем пересекает неизвестную водную преграду, вот крадется с ружьем, изображая то ли Виннету, то ли югославского актера Гойко Митича – кумира своего сирого детства.
Я дотянулся до бутылки, отвинтив крышку, сделал большой глоток. Кликнул следующий файл. Это был плакат: Тихий со строгим рыбьим лицом крестился на фоне какого-то златоглавого капища, сверху славянской вязью было выведено: «С нами Бог!». Под фотографией я прочел: «В следующем году РПЦ планирует объявить реставрацию самодержавия». Дальше шла ссылка на статью, из которой следовало, что Тихий является прямым наследником семьи Романовых.
Хлопнув крышкой ноутбука, я вывалился на крыльцо. Оказывается, уже наступила ночь. Доски веранды коварно качнулись подо мной, но я все же удержался на ногах, ухватившись за перила.
Надо мной висело небо, черное бархатное бездонное небо. Я уставился на звезды и как зачарованный, на ощупь, спустился по ступенькам. Сделал несколько шагов в сторону леса и в изумлении остановился. Да, я был пьян. Но то, что я увидел, меня потрясло. Сперва, пока глаза не привыкли к темноте, я разглядел лишь самые яркие звезды – прямо надо мной висел Орион, три ярких точки на поясе, кулак правой руки вскинут вверх – синеватая Бетельгейзе. К северу, над плоскими силуэтами елок, висел ковш Большой Медведицы. Малая Медведица пряталась за горой.
До меня доносился шум реки, вода катила по камням, уверенно и спокойно. Я сделал еще шаг, оступился, под каблуком хрустнула шишка. Неожиданно, словно кто-то поправил фокус, надо мной распахнулась, раскрылась страшная бездна. Я даже присел – прямо над моей головой с угрожающей торжественностью проступил Млечный Путь.
– Господи! – пробормотал я. – Господи, что все это значит? В чем смысл?
За рекой завыл койот, жутко, протяжно. Даже если ты знаешь, что это всего лишь дикая собака, а не вурдалак, что мается в поисках теплой крови, все равно становится не по себе.
28
Утром я долго стоял под душем, сначала ледяным, потом пустил почти кипяток. Помогло мало – голова раскалывалась пополам. Вчера я оставил входную дверь распахнутой настежь, забыл погасить свет. В прихожей вокруг лампы сновал рой ночных мотыльков и бабочек. На потолке сидел какой-то монстр с узорчатыми крыльями, рисунок на них напоминал камуфляж для операций в пустынной местности. Я взял телефон, нажал единицу.
– Да! – раздраженно отозвался голос Анны. Качество связи было отличным.
– Доброе утро, Анна Кирилловна!
– Доброе, доброе, – проворчала она. – Вы смотрели файлы?
– М-м… Частично. Кое-что просмотрел.
– Ну и? Какие мысли?
– Мысли… – задумался я. – Какие мысли…
Я вышел на веранду, сел на деревянные, теплые от солнца ступеньки крыльца. Закрыл глаза.
– Я хочу получить аванс.
– Сколько? – Анна не удивилась, не возмутилась, просто спросила.
– Половину.
– Нет, – ответила она сразу.
– Десять. Наличными. И никаких швейцарских счетов, кипрских банков и прочей туфты.
– Разумеется, никакой туфты. Семь.
– Десять, – упрямо повторил я и нажал отбой.
Голова болела немилосердно, казалось, кто-то стягивает раскаленный железный обруч. В районе затылка начало что-то пульсировать. Без особого страха я подумал, что, наверное, именно так людей хватает кондрашка.
Деньги привезли через час. Привез Кабан, вытащил из багажника обычный черный чемодан, небольшой, такой запросто уместится на верхней полке в самолете. Я дремал на крыльце; головная боль наконец улеглась, я старался не совершать резких движений.
– Считать будешь? – Он пнул чемодан ногой.
Я отрицательно покачал головой.
– Я вам доверяю, ребята. Спасибо. У тебя там пива холодного нет случайно? В багажнике?
Кабан, не удостоив меня ответом, посвистывая, сел в машину и укатил. Я остался один, если не считать двух капустниц, которые мило флиртовали, порхая над моим чемоданом, а под конец устроились на нем и начали совокупляться. Солнце поднималось, становилось жарко. С реки подул ветерок, пахнуло мхом, тиной, прохладой. От травы поднимался летний дух – пахло теплой земляникой, клевером, горьковатыми одуванчиками. Я потянулся и закрыл глаза.
Любой успешный блеф строится на том, что противник считает себя умнее. Высокомерие – вот фундамент качественного обмана. Недаром гордыня входит в список смертных грехов наравне с воровством и прелюбодеянием. Причем тут, как при гриппе, осложнения гораздо опасней самой болезни.
Моя новая знакомая, как и большинство удачливых людей, считает свой успех результатом личных качеств и талантов, она непоколебимо уверена в своей экстраординарности, в своей суперинтуции, в уме и аналитических способностях, а во время припадков эйфории даже не прочь примерить венок гения. Элемент везения ей видится незначительным, причем даже везение она считает не случайностью, а своей вполне закономерной заслугой. Анна Кирилловна чистосердечно возмутилась бы, скажи ей, что она мало чем отличается от официантки из Канзаса, выигравшей в лотерею миллион.
Впрочем, я не собирался говорить с ней на эту тему, хотя ехидный бес и пихал меня в ребро, науськивая спросить: каким макаром все-таки вышло, что эдакое ничтожество, как Тихий, сумел оставить с носом тебя, такую гениальную, такую прозорливую, такую экстраординарную? Или все твои успехи не более чем чертовское везение? Везение оказаться в нужном месте в нужное время? Начиная с институтской дружбы с Танькой Ельциной.
Я не знал, удалось ли им поставить камеры в доме или во дворе. Ответ скорее всего был положительный. Я спустился с крыльца, пихнул чемодан ногой, он тяжело плюхнулся в траву. Я присел, расстегнул молнию, откинул верх. В Ираке и Афгане мы иногда доставляли местным крупные суммы наличными – десять миллионов на глаз должны были выглядеть примерно так. Я взял одну пачку, сотенные купюры были стянуты резинкой. Начал считать – в пачке оказалось десять тысяч.
Застегнув чемодан, я втащил его в дом. Рядом с прихожей была устроена большая кладовка, где хранились швабры, метлы, стояли мусорные баки. Я пихнул чемодан в угол, закрыл дверь.
В гараже нашел штыковую лопату, закинув ее на плечо, вышел на поляну, побродил, оглядывая окрестности. Выбрал место, аккуратно срезал пласты дерна. Начал копать. Земля была рыхлая, податливая, иногда лопата звякала о камень. Я стянул свитер, вытер им лицо, бросил в траву. Обошел яму, довольно сплюнув и отряхнув руки, вернулся в дом.
Чемодан идеально уместился в своей могиле, сверху я накрыл его куском брезента, закидал землей. Сверху уложил пласты дерна, утрамбовал ногой. Получился неприметный холм. Воткнув лопату рядом, я неспешно отправился к реке.
Вся операция заняла не более получаса: пустой чемодан был успешно похоронен. Деньги, ссыпанные в черный пластиковый мешок для мусора, остались в темной кладовке, Анна Кирилловна получила неоспоримое подтверждение моих весьма заурядных умственных способностей.
29
С мокрой головой я вернулся в дом. Речка меня чуть взбодрила. Я залез в холодильник, поразмыслив, достал яблоко. Сел за стол, раскрыл компьютер. Информация по дачам выглядела толково – помимо подробных планов каждого этажа, подвала и чердака, описания систем сигнализации, местонахождения камер и постов службы безопасности в файле хранилась куча фотографий – даже снимки каких-то дендрариев, полей для гольфа и индивидуальных ванн с йогуртом и медом.
Около четырех появился Расти, но я его выпроводил, сославшись на дела.
– Это те люди в белом лимузине? – спросил он с уважением. – Болтают, что они от самого президента…
К вечеру три дачи отпали: ту, на Капри, я всерьез не рассматривал – итальянские власти – полиция и служба безопасности, представляли дополнительную головную боль. Удаленность байкальской дачи превращала транспортировку в отдельную операцию. Дача в Сочи была построена недавно, близость к Кавказу определила повышенную степень ее безопасности. А вот подмосковная резиденция мне понравилась.
Я взял телефон, нажал единицу.
– Кто такие «Чеченские волки»? – спросил я.
– А поздороваться? – капризно отозвалась Анна.
– Да мы вроде утром уже здоровались.
– А поблагодарить? Вы деньги получили?
Мне показалось, что она была навеселе.
– А-а, деньги… Да, спасибо. Так кто такие эти «Волки»?
– Это спецохрана Тихого. Зверье… Их готовит какой-то полковник Рамирес.
– Рамирес Альварадо? Вы что, серьезно?
– Нет, шучу! – фыркнула она. – Они там на инициации, говорят, режут глотки и кровь пьют.
Рамирес исчез лет шесть назад в Сантьяго-де-лос-Кабальерос. До этого он руководил всей охраной колумбийского синдиката – его небольшая армия следила за порядком на плантациях коки в горах, занималась перевозкой, контролировала торговлю в Майами, Техасе и Калифорнии. Рамирес, сын кубинских беженцев, вырос в Орландо, служил в морской пехоте, дважды был награжден Пурпурным сердцем. ЦРУ переманило его, сделав командиром спецотряда по борьбе с колумбийской наркомафией. Рамирес и его головорезы нелегально переходили границу, устраивали засады, ликвидировали наркобаронов. Управление старалось не обращать внимания на излишнюю жестокость его методов: во время операций он сжигал целые деревни, его ребята убивали и насиловали детей, в Лэнгли доходили весьма неприятные слухи о каннибализме.
Я помню фотографии из Лас-Парасито: детские трупы, подвешенные за ноги, черная кровь на желтой, как шафран, глине. Целый год Рамирес морочил голову Управлению, плетя сказки, что внедряется в самое сердце картеля Хуана Лоредо.
– Ну что вы там молчите? – Анна, похоже, снова перешла на «вы».
– Какой бюджет у операции?
Анна засмеялась:
– Какой вы все-таки скучный, мистер Саммерс! Опять вы про деньги…
Я услышал, как она щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась.
– Утром про деньги, – выдохнула она. – Вечером про деньги… Не стоят они того, чтоб про них говорить столько, – деньги.
– Какой бюджет? – повторил я.
– Неограниченный бюджет. Вот какой! Сколько надо – столько и дам!
Я слышал, как она дышит в трубку.
– Опять он молчит! Вы что, позвонили на ночь глядя, чтобы про бюджет спросить?
– Не только… Есть кое-какие соображения.
– Что-то конкретное?
– По дачам…
– Так… Ну и какая, на ваш взгляд, наиболее перспективна?
– Рублевская.
– Отлично! Я тоже так считаю.
– Мне кажется, что если…
Она меня перебила:
– Я сейчас приеду, – и нажала отбой.
Я удивленно посмотрел на телефон. На экране зажглось 10:01. Мне понравилась симметрия, я набрал мобильный капитана Ригли.
– Ну, как Вермонт? – весело спросил капитан. – Как сам? Не одичал еще? На рыбалку ходишь? Там форель должна быть сказочная, в реке.
– Форель… Да, форель. – Я не знал, как спросить, поэтому спросил напрямик: – Капитан, вы в курсе, что ваш тесть работал на Управление?
– Конечно. Он там каким-то аналитиком вроде был… По Китаю, что ли. Ник, я точно не знаю, – замялся Ригли. – У меня со стариканом отношения были не очень. Обычная история: единственная дочь, умница, красавица, могла бы найти кого и получше… Ну сам знаешь, чего мне тебе говорить.
У меня с тестем были превосходные отношения, но я буркнул, что, мол, знаю.
– А что? Почему спрашиваешь? Призрак тебе явился? – Капитал заржал. – Там такое место – самое оно для приведений и вурдалаков, да?
– А как он умер?
– Умер? – Он перестал смеяться. – От сердечного приступа. В «Метрополе», в Москве. Мы даже не знали, что он поехал в Россию. Нам позвонили, Лиззи тогда… – он запнулся. – Ну, короче, вот так…
30
Анна Кирилловна появилась ровно в одиннадцать.
В 10:59 я услышал низкий рокот дорогого мотора и мелодичный хлопок дверью. Говорят, там у них, в этой деревне Кру, целый отдел английских пианистов работает над звуками, которая издает машина.
Царским жестом распахнув двери, она вошла в гостиную. На ней была длиннополая то ли шуба, то ли мантия, отороченная леопардом. По телефону мне послышалось, что она навеселе, – на деле оказалась просто пьяной.
– В холодильник! – приказала она, протягивая увесистый пакет. – Нет, стой! Одну открой, другую в холодильник!
Пакет звякнул, там было шампанское. Я сунул одну бутылку – черную с золотом коллекционного «Периньона» – на полку, между куском мертвого сыра на блюдце и картонкой апельсинового сока. Вторую открыл.
– Ничего, если в винные бокалы, ваше высочество? – услужливо спросил я.
– Ничего, ничего… – Она взяла бокал, щурясь, смотрела на пузырьки. – Камин разожги… Нет, погоди, давай сначала выпьем!
Выпили молча, я рассчитывал на русский тост, многословный и значительный, она всего лишь кивнула и неопределенно пробормотала:
– Ну…
Я занялся камином, припоминая, как это делала Розалин, – порвал газету на ленты, чуть смяв, сложил под тонкими чурками, сверху начал выстраивать колодцем поленья посолидней.
– Ты мне не доверяешь, – Анна не спросила, сказала утвердительно. – И это мешает делу.
Спичка сломалась, вторая зашипела и погасла, от третьей бумага сразу занялась. Я придвинул кусок бересты, кора вспыхнула, затрещала. Я пристроил бересту к мелким дровам, рыжее пламя лизало их, но гореть они не хотели.
– Я решила… – За моей спиной она налила шампанского, сделала глоток, звонко рыгнула. – Пардон… Так вот, я решила, что нам нужно, как говорится, растопить лед недоверия…
Я осторожно подул, бумага прогорела, а дрова лишь закоптились – вся надежда была на бересту.
– Растопить лед. – Она икнула, засмеялась. – Растопить огнем…
Береста не подвела, огонь наконец перекинулся на чурки, они весело затрещали, языки пламени быстро подбирались к настоящим дровам. В дымоходе загудело.
– Ну вот, на этот раз… – Я повернулся и запнулся.
Она стояла – гордая и прямая, и совершенно голая. Леопардовая мантия валялась у ее ног. В левой руке она держала бокал, правая лежала на выбритом лобке. Из пухлой розовой складки торчал клитор. Влажный, словно лакированный, он был размером с первую фалангу моего большого пальца. Я сухо сглотнул.
– Испугался… – тихо сказала она, поглаживая клитор указательным пальцем. – Иди сюда. Иди, не бойся.
Она была плоская, как подросток, голенастая, в ее ломком, долгом теле чувствовалась порода, но какая-то нездоровая, на грани с деградацией. Это был случай, когда красота, стремясь к изыску, делает полный круг и неожиданно смыкается с уродством.
Дрова за моей спиной потрескивали – огонь, похоже, удался на славу. Гостиная словно погружалась в тягучий янтарный мед. Свет набрал силу и осветил потолок с рогатым театром теней. Темень по углам сгустилась, все вокруг стало зыбким, ненастоящим. По белому телу Анны бродили малиновые и оранжевые сполохи, словно неторопливые крылья волшебных птиц. Мне показалось, что от ее бедер, от ляжек исходит молочное сияние, как от тусклой матовой лампы. За ее спиной клубилась гигантская бесовская тень; покачиваясь в такт огню, она доставала огромной головой до потолка и там сплеталась с тенями оленьих голов, превращаясь в жуткую Горгону. Это напоминало какое-то шаманство. Я пошел к ней медленными, слепыми шагами, как во сне.
– Иди сюда, – повторила она тихо, почти беззвучно.
Она сочилась похотью, первобытной, почти звериной, ее рука гладила крутой лобок, ленивыми пальцами раздвигала мокрые и темные набухшие губы.
– Ближе… ближе, – прошептала Анна.
Она впилась мне в рот, жадно, словно кусала большой перезрелый персик. От нее разило кислым вином и сигаретами, но все перебивал терпкий сучий дух, от которого разлетелись мои последние мысли. Я опустился на колени, сжал ладонями ее тощие ягодицы, коснулся языком клитора. Она дернулась, застонала, подалась вперед. Моя рука медленно поползла вверх по ляжке, внутренняя сторона бедер была жаркой и липкой, тут похоть сочилась буквально.
– Нет, подожди, – вдруг хрипло прошептала она. – Не так…
Подтолкнув меня к креслу, она расстегнула мои джинсы, рывком спустила. Я грохнулся в кресло, она, сипло дыша, наклонилась, развела ноги.
– Ну где ты там… – Вперив в меня безумные глаза, она шарила рукой внизу, пристраиваясь. – Ага… Вот так… – Она закусила губу и медленно опустилась. – Вот так…
Я закрыл глаза.
– Нет, нет! Не жмурься, открой, открой! – торопливо заговорила она, двигаясь вверх и вниз. – Смотри на меня! Смотри!
Сжав ее бедра – у нее был широкий костистый таз, я, поймав ритм, упруго подался вверх и вперед. Она вскрикнула, застыла, словно оценивая. Потом засмеялась, задыхаясь, быстро заговорила:
– Хочу видеть твои глаза, не закрывай, не закрывай глаза, особенно в конце… и не молчи… говори мне… говори и смотри в глаза…
Это был не мой стиль – говорить, да и вообще после четырнадцати лет сплошной моногамии любая секс-комиссия, скорее всего, дисквалифицировала бы меня, отстранив от участия в подобных состязаниях.
– Не молчи… – глотая ртом воздух, прошептала она. – Ну говори!
– Что? – неловко буркнул я, вспомнив, как лет сто назад, еще до женитьбы, я познакомился на Кипре с голландкой (имя не сохранилось в памяти), которая умоляла меня в постели говорить ей что-нибудь по-русски. Сама языка она не знала, поэтому наши любовные занятия я сопровождал чтением стихов из школьной программы. Особенно ей нравился «Парус». Думаю, что Анна Кирилловна вряд ли ожидала от меня декламации стихов Лермонтова.
– Расскажи мне… – Она застонала. – Расскажи мне… как ты убьешь Тихого. Как ты его убьешь?
Такого поворота я не ожидал, она застала меня врасплох, я сбился с ритма и чуть не выскользнул из нее. Она умело удержала меня внутри.
– Как ты, – снова набирая темп, быстро проговорила она, – как ты уничтожишь эту мразь… расскажи мне!
– Я думаю… оптимальный вариант… подмосковная…
– Нет! – возмущенно перебила она. – Нет! Что ты мне какую-то презентацию фигову городишь? Ты расскажи, как… ты сожмешь его куриный кадык… в кулак… с хрустом! С хрустом! – Она задышала чаще. – Как выдавишь ему глаза! Пальцами! Вот так! Вот так! Пальцами!
Она безумно захохотала и впилась ногтями мне в спину. Впрочем, не очень больно, хотя в целом происходящее производило довольно жуткое впечатление.
– Ведь я не хочу, мой сладкий, чтоб ты его просто чпокнул… Всадил пулю в лоб… – Она вдруг взвизгнула, запрокинула голову. – Так! Так!
У меня по бедрам текло – липкое, горячее. Иногда раздавался чавкающий звук, от которого Анна, румяная, потная, с прилипшими ко лбу волосами, распалялась еще больше, пытаясь загнать меня глубже и глубже.
– Ты ведь умеешь пытать? Мучить умеешь? Ведь вас учили там, в вашем этом десанте фиговом… Ведь учили?
– Да… Пытали…
– Как? Как? Как пытали?
– Спать не давали… очень эффективно, свет в камере…
– Чего?! – захохотала она. – Свет… Не могу… Свет, о господи…
– Для получения информации… говорю… очень эффективный метод.
– Не останавливайся! – сердито прикрикнула она. – Ты что, два дела сразу не можешь делать? Говорить и…
Она смачно произнесла матерный глагол. Темп я действительно сбил.
– Нет, милый мой, нет. – Она приблизила жаркое лицо. – Мне его информация на хер не нужна. Я хочу, чтоб он помучался.
31
Оргазм ее был страшен: разинув рот в беззвучном крике, она затряслась, словно ее бил ток, зрачки закатились, на меня пялились два бельма, слепых и вурдалачьих, пылающее лицо не просто побледнело – стало сине-пепельным, с белыми, будто в инее, губами. Тело покрылось мурашками, выгнувшись, она застыла в судороге – на миг я подумал, что ее хватил инсульт.
За эту секунду я успел прикинуть, что, выскользнув через заднее крыльцо, запросто перебью охрану, суну мешок с деньгами в багажник «бентли» и уже через час буду на канадской границе; из Квебека – прямиком в Мехико-сити; там покупаю скромную яхту – футов сорок, что-нибудь класса «пассат»; беру курс на норд-ист в Карибское море, по бирюзовым далям которого рассыпаны острова с манящими именами – Санта-Крус, Антигуа, Тринидад и Тобаго, Аруба, Сент-Джон, где из золотистого песка растут кокосовые пальмы, в пятнистой голубой тени спят изумрудные игуаны, где на укромном пляже шоколадные мулатки с азалиями в волосах подают ледяную пина-коладу, где закаты похожи на пожар, а рассветов никто не видел, потому что каждый вечер – праздник, и гульба кипит до глубокой ночи…
– У-ух, – выдохнула Анна, и мои мулатки, паруса, игуаны нехотя растаяли. Я вернулся.
Тут было душно и смердело развратом. Дрова прогорели, угли тускло освещали комнату рубиновым жаром.
– А ты? – без особого интереса спросила Анна. – Давай я тебе…
– Ничего, спасибо, – перебил я ее. – Я буду наслаждаться ожиданием, потерплю до следующего раза.
– Следующего может и не быть. – Она засмеялась, но тут же добавила: – Впрочем, хозяин – барин, твое дело.
В ванной, жмурясь от душа, она спросила:
– Ты в Бога веришь?
– Да, – соврал я, очень уж не хотелось начинать этого разговора.
Я не верил ни в Бога, ни в черта, ни во что на свете, кроме одной вещи, – зло должно быть наказано. Наказано непременно. Для меня в этом была суть и смысл жизни, принцип устройства этого мира. Если хотите, главный закон мироздания, на котором держится цивилизация. То, что называют затертым словом «справедливость». Будь я сентиментален, то именно это слово выколол бы на своей груди. Какую-нибудь гибкую пантеру и слово «справедливость» готическим шрифтом. Справедливость, которой не нужны адвокаты, прокуроры и прочая судейская сволочь, справедливость, которую ты понимаешь душой, а не рассудком. И ради этого не только стоило жить, ради этого и умереть было не жалко.
На войне атеистов нет. Я выбрал войну, война стала моей жизнью, смерть стала моей работой. Когда твоего товарища, с которым ты говорил минуту назад, разрывает на куски фугасом, мясо и кишки летят в разные стороны и все это происходит на твоих глазах, тебе просто необходимо во что-то верить. Без веры тут не выжить. И не так важно, во что ты веришь, важно верить. Просто верить.
Может, я ошибаюсь, и архангелы действительно существуют в природе. И в конце концов, они все-таки протрубят в свои дудки. Я не закоренелый атеист, возможно, апостол Петр и встретит меня там, у золотых ворот. Я не заслужил рая, мы оба об этом знаем, но я все-таки надеюсь, что у старого рыбака хватит милосердия не отправлять меня в ад: ведь именно милосердие лежит в основе их религии. Да, я грешен, ибо творил зло, но я творил его, сражаясь с еще большим злом. Да, я не смог полюбить врагов своих, я их уничтожал вот этими самыми руками – каюсь, грешен. Но делал это не для себя, не для собственной шкурной выгоды, делал это лишь в интересах справедливости, высшей справедливости. И здесь мы с Иисусом заодно.
Мы забыли задернуть клеенку, душ вовсю лил на кафель. Анна намылила голову, смешно отплевываясь, терла ладонями лицо, фыркала, гладила плоскую грудь с коричневыми сосками. Мыльная вода стекала по бледному животу с глубоким пупком, по лысому, скользкому, будто отлитому из розовой резины лобку; воинственный клитор скукожился и спрятался в вялых складках, ее диковинная вульва, достойная кунсткамеры, превратилась в скучную стандартную вагину.
– Спину не потереть? – шутя спросил я, разглядывая ее тело.
– Ага. – Она на ощупь протянула губку, повернулась, выставив худой зад.
Мыля ее спину, я подумал, что она лет на пятнадцать старше меня, – тут же вспомнилась история одного приемыша, который по недоразумению убил отца и женился на вдовице, став правителем небольшого южного городка. О своей матери я не знал ничего, я ее не помнил. Расплывчатый сюжет с железной дорогой – то ли сон, то ли мираж – я не мог отнести к разряду достоверных фактов.
– Ну что ты гладишь? Такой нежный – прямо не могу… – Анна повернулась и ласково поцеловала меня в плечо.
32
Утро началось с птиц – меня разбудили иволги. Решив, что это добрый знак, я бодро соскочил с кровати и, насвистывая нечто, отдаленно похожее на увертюру к «Женитьбе Фигаро», направился в ванную. Там, в зеркале, обнаружились мешки под глазами и общая помятость лица. Сунув зубную щетку в рот, я влез под душ.
Анна уехала около трех, заснуть мне удалось лишь под утро, но даже чудовищный недосып и легкое похмелье (прикончив шампанское, мы пили бурбон) не испортили моего чудесного настроения. За эти три часа сна мой мозг, мой бедный мозг, усталый и поврежденный злоупотреблением спиртными напитками, успешно завершил план, который я обдумывал последние сутки. Все сложилось, все фрагменты мозаики совпали. Почти все.
Основная цель – вытащить Хелью из этого переплета, вытащить детей. Я вывернул горячий кран до упора, подставил лицо под жгучий дождь. Шансы, что мне самому удастся выбраться из этой истории живым, были мизерны. Впрочем, то, чем я занимался всю свою взрослую жизнь, научило меня спокойно относиться и к такому повороту событий. Тем более что нервозность в таких делах значительно снижает шанс уцелеть.
Туго зачесав мокрые волосы назад, я старательно намылил лицо, тщательно побрился. Спустился в кладовку, не включая свет, вытащил мешки с мусором. Мешок с купюрами был тяжелей, но внешне ничем не отличался от других – такой же черный пластиковый пакет на тринадцать галлонов. Подогнал джип к крыльцу, затолкал все хозяйство в багажник. Захлопнув крышку, оглядел утренний лес, со вкусом потянулся.
Надеюсь, мне удалось изобразить вполне убедительного дачника, для которого даже поездка на мусорку – маленькое развлечение. Это на случай, если моим новым знакомым удалось спрятать камеры. Относительно мобильника, который я получил в подарок, у меня сомнений не было: разумеется, отчасти это был телефон, но основной функцией электронного мерзавца являлась слежка за мной. При помощи этого маяка недоверчивая Анна Кирилловна могла определить мое местонахождение на карте с точностью до десяти метров.
Сунув мобильник в карман, я повернул стартер, выехал на шоссе. Согласно указателю на обочине, до мусорки было три мили. Я съехал на грунтовую дорогу, проселок запетлял через сосновый бор. Утреннее солнце, весело стреляя лучами, запрыгало между стволов, пара белохвостых олених жевала листья придорожного орешника. Вздрогнув, звери застыли, проводили меня настороженным взглядом.
Дорога покатила под гору, потом сразу взлетела. Сверху распахнулась даль с розовыми от солнца холмами у горизонта, за ними проступала гряда прозрачных, словно вырезанных из папиросной бумаги гор. Там уже была Канада. Я остановился, заглушил мотор. Во внезапной тишине звонко застрекотал кузнечик и тут же осекся, замолк.
Я вылез из машины. Край дороги обрывался крутым песчаным склоном, дальше полого спускался мягкой травянистой равниной, утыканной красными маками и одуванчиками. Далеко внизу, в долине, из-за березовой рощи выглядывал белый шпиль аккуратной деревенской церкви, виднелись мшистые крыши с печными трубами, сложенными из дикого камня. Я прислушался и не услышал ни звука – тишина была абсолютной.
Мусорка оказалась вполне пристойной: ни помоечной вони, ни гор мусора, ни каркающих стай над головой – ряд железных контейнеров для вторсырья и рыжий грузовик-мусоровоз с распахнутым кузовом. Рядом покуривал румяный мусорщик в клетчатой рубашке и строительных башмаках из желтой свиной кожи. Он кивнул мне в ответ, с интересом разглядывая мой виргинский номерной знак.
– В отпуск? – спросил мусорщик.
– Вроде того, – вытаскивая мешки из багажника, ответил я. – Сюда?
– Кидай, – мотнул он головой в сторону кузова. – Рыбачишь или охотник?
– Скорее охотник. – Я закинул мешки, отряхнул руки.
– Если уткой интересуешься, двигай в Бэрри. Туда, где озера. Мы с Чаком прошлым сезоном столько набили! – Он сделал круглые глаза. – А Чак в феврале себе большой палец колуном отхватил – вот так. – Он показал. – Вот так! Подчистую срубил, прям под корень. Дрова колол. Так что двигай в Бэрри, не пожалеешь.
Я поблагодарил, развернулся, выехал на дорогу. Через двенадцать минут я уже был в Бредфорде. Пока все шло по плану.
Сюрпризы начались в библиотеке. Я загнал джип под куст перезрелой сирени, белой, обрюзгшей, источающей тошнотворно приторный аромат. Поднялся на крыльцо, открыл дверь. Мисс Маккой отсутствовала, за ее столом сидел тощий парень, похожий на оператора провинциальной панк-группы – скромный пирсинг, татуировка на шее, скудные волосы стянуты в тощий хвост девчачьей резинкой розового цвета.
– Вы мистер Саммерс? – Парень резво поднялся. – Меня зовут Кен.
Я пожал его руку. Вблизи Кен оказался примерно моего возраста, может, даже постарше.
– Мисс Маккой говорила, вы Достоевского в оригинале читаете?
Я скромно кивнул.
– У нас по четвергам тут что-то вроде литературного клуба, может, зайдете? – Кен заглянул мне в глаза. – Вы внизу были?
Я пожал плечами.
– Там планировалась детская читальня, но детей мало, поэтому я решил организовать клуб, литературный… – Кен открыл дверь, вниз вела лестница. – В прошлый четверг разгорелась такая битва…
Я пригнулся, ступая за ним по узкой лестнице.
– «Декамерон» Боккаччо обсуждали, – рассмеялся Кен. – Что было, такие страсти!
Подвал был заставлен детской мебелью – карликовыми стульями и столами, у стен на полках стояли книги, с цветных обложек пялились клыкастые драконы, бородатые колдуны, жеманные русоволосые принцессы.
– А это наша местная художница – Молли Тернер. – Кен подвел меня к стене с росписью. – Здорово, правда?
Я кивнул. На подвальной стене был изображен тот самый пейзаж, который я видел по пути на помойку, – холмы в красных маках, далекие слюдяные горы, деревня в долине, церковь с белым шпилем. У плинтуса почерком отличницы было аккуратно подписано: Молли Тернер.
В углу была дверь, художница пририсовала к ней кусок амбара, а на двери нарисовала другую дверь – в конюшню. Верхняя створка была распахнута, оттуда выглядывала белая лошадиная голова. Любопытный глаз с влажным бликом казался совсем живым.
– А вот это, – засмеялся Кен, – лошадь! Дети непременно распахивают дверь – думают увидеть лошадь целиком. А там швабры! Кладовка там!
Я вежливо посмеялся за компанию. Впрочем, в этой жизни всегда так: хочешь увидеть белую лошадь, а тебе вместо лошади – швабры.
– А что в этот четверг на повестке? – спросил я.
– Японская поэзия шестнадцатого века, – не моргнув глазом, ответил Кен.
Возникла неловкая пауза, я откашлялся.
– Вы не позволите мне позвонить. Мисс Мак…
– Разумеется! – перебил меня Кен. – Конечно, конечно, конечно.
Следуя за ним, я достал мобильник из кармана и незаметно сунул за «Робинзона Крузо». Пусть Анна Кирилловна думает, что я действительно очень люблю книги и запросто готов провести в читальном зале час-другой.
Деликатный Кен придвинул телефонный аппарат и удалился в библиотечное нутро. Я набрал номер.
– Мистер Саммерс? – почти сразу отозвалась Харрис. Гертруда Харрис.
– Ник, зовите меня Ник. – Назвать ее Гертрудой у меня не поворачивался язык. – Узнали что-нибудь насчет моего приятеля?
– О да! – усмехнулась она. – Даже не знаю, с чего начать.
– Давайте с конца.
– Давайте. Давайте с конца. – Тон стал серьезным. – Официально смерть наступила в результате сердечного приступа.
– Бывает…
– Разумеется. Только ваш приятель за месяц до смерти прошел полное медицинское обследование и…
– И оказался здоров как бык, – закончил я за нее.
– Здоровее. По заключению кардиолога с таким сердцем можно отправлять в космос.
– Москва вам не космос…
– Похоже. По непонятной причине с посольством связались только через сорок семь часов после смерти.
– А вот это уже…
– Именно! Вы знаете, одно время русские использовали такой препарат…
– «Снежная королева»? Внутримышечно?
– Да. Абсолютная имитация инфаркта миокарда. И через двое суток никаких следов в крови. Вернее, следы есть, но…
Она замолчала.
– А какой черт его понес в Россию? – Я посмотрел на часы, время поджимало. – Ведь он был в отставке, так?
– Так.
Теперь мы оба замолчали.
– Гертруда… – с трудом выговорил я чудное имя. – Меня приглашают посетить Москву. – Я сделал паузу. – И похоже, мне не удастся отвертеться. Особые сложности могут возникнуть с обратным билетом.
Где-то за книжными полками закашлял Кен.
– Поняла. Постараюсь. Но ничего обещать не могу.
33
Я притормозил перед указателем у развилки. Направо была Совиная гора, налево – неведомые, но очень заманчивые Медовые уголки. Свернул направо, воткнул вторую скорость и дал газ, из-под колес фонтаном взмыл песок. Джип, рыча, бодро полез на холм.
С холма покатил вниз. Вот и сгоревший амбар, черный скелет постройки оплетал дикий виноград, смело пробивался зелеными побегами сквозь дыры просевшей крыши.
Проскочил по бревенчатому мосту. Ручей внизу почти высох, но из сочного камыша вовсю пели лягушки. За ивами показалась мельница, древняя, вросшая в берег, с мертвым деревянным колесом. На пологом косогоре, словно рассыпанные невзначай, темнели могильные камни. За кладбищем начиналась дубовая роща, среди макушек деревьев проглядывала красная крыша.
– Сразу за кладбищем, – сказал я вслух, съехал на обочину, затормозил и открыл окно.
Тут же энергичный жук влетел в кабину, со стуком потыкался в стекла и вылетел на волю, сердито жужжа. Нужно было собраться с мыслями. Я вышел из машины, оставил дверь открытой – не хотелось хлопать.
На аскетичных могильных камнях были выбиты простые британские фамилии – Блейк, Кларк, Уайт, несколько шотландских – Макларен, Коннори, аккуратный ирландский уголок О’Райли – целая семья – и тут же неожиданный Вестенмюллер. Могилы были старые, Иероним Кларк умер в самом конце девятнадцатого века, Фердинанд Вестенмюллер дал дуба ровно сто лет назад, в тринадцатом году. На его серый камень с вкраплениями слюды, которые сияли мелкими бриллиантами, села лимонница. Села, сложила крылья и замерла.
Ни Фердинанд, ни Иероним представления не имели об атомной бомбе, не слышали про Гитлера и про мобильные телефоны, они прозевали взлет и крах советской империи, они не видели ни одной серии «Звездных войн», не были в курсе, кто такой Джон Леннон.
Я присел между двух надгробий, между Фердинандом и Иеронимом, вытянул ноги, провел ладонью по траве; что-то особенное в этой кладбищенской траве – и цвет, и мягкость – что-то особенное. Достал из кармана сложенную пополам открытку – местный пейзаж, коровы, облака. На обратной стороне было написано: «Дорогая Хелью», слово «дорогая» явно втиснуто потом. Щелкнул шариковой ручкой, нарисовал контур маяка, крутую скалу, волны. Пририсовал пару чаек. Художник из меня неважный, но с этим я справился. Главное, я знал, что она поймет. Под маяком я написал:
Каждый день отправляясь в плавание По морям, сквозь ветра и бури, Я мечтаю о тихой гавани, Где б мои корабли уснули. И о домике в тихих сумерках, Где окно от заката рдеет, Где не верят в то, что умер я, Где все время ждут и надеются.[1]Дорога, вся пестрая от солнечных пятен, петляла между дубов. В высоких кронах звонко свистели мелкие пичуги. Я сбросил скорость. Плавно покачиваясь, подкатил к дому под красной крышей.
На открытой веранде в плетеном кресле сидел крупный бородатый старик, похожий на отставного конокрада. Он не обратил на меня никакого внимания. Я поднялся на веранду, конокрад, не глядя, погрозил мне кулаком и строго приложил палец к губам. Я застыл в глупой позе.
Перед стариком на дощатом полу веранды стояло блюдце с кукурузными зернами. Сверху, на деревянных перилах, сидели две синицы и пестрый дрозд. Я сделал шаг, ступенька заскрипела, вся птичья компания тут же вспорхнула и исчезла.
– Извините, – сказал я.
– Ладно, – буркнул конокрад. – Чего уж…
Только тут я увидел, что он сидел в инвалидном кресле на больших велосипедных колесах; в тонких стальных спицах запутались солнечные зайчики. На коленях старика лежал вязаный плед, из-под которого свисали две пустые штанины.
– Извините, – повторил я.
Он, не глядя на меня, досадливо махнул рукой. Хмуро спросил:
– Дети есть?
– Сын и дочь.
– Сын – это хорошо. Можно учить ставить капканы. Можно по первому снегу на оленя пойти. Лосося на перекатах ловить, – он вздохнул. – Сын – это хорошо.
– А дочь? – Я спросил, хотя знал, что не нужно было спрашивать.
Он медленно повернулся и посмотрел на меня из-под бровей, посмотрел долго и недобро, словно прикидывая, куда бы меня побольнее стукнуть.
– Сколько твоей? – спросил он мрачно, усмехнулся и плюнул через перила в куст жасмина. – Что, не помнишь?
– Семь… – неуверенно ответил я. – В сентябре будет.
От неожиданности я уже сам начал сомневаться, что Анне в сентябре будет семь.
– Вот погоди еще годков восемь, – с хмурым злорадством начал старик. – Начнут кобели прыщавые около нее крутиться, как гнус вокруг ослиной задницы, ты их в дверь, они в окно, ты их пинком под зад, а они, голубчики, снова тут как тут, на крыльце с хером надроченным наперевес. Лезут, лезут, слюнявые засранцы, из собачьей конуры лезут, да из свиного корыта, лапы свои топырят в цыпках да в коросте, все норовят ей под юбку залезть да сиськи цыплячьи облапать. И ведь попадется блудливый мерзавец, какой-нибудь певец-гитарист или, наоборот, атлет-физкультурник, и вся невинность…
Хлопнула дверь, старик замолк на полуфразе.
– Вы уже познакомились? – Розалин подошла, весело чмокнула меня в скулу. Я невинно улыбнулся, убрал руки в карманы. – Это Ник, папа, я тебе про него рассказывала.
Папа изобразил радушие, впрочем, не очень убедительно. Я попытался прикинуть, что она могла ему рассказать про меня.
Розалин наклонилась к отцу, поправила плед, что-то прошептала на ухо. Лицо отца, морщинистое, цвета копченой камбалы, просияло. Мне почудилось, что от старика пахнет какой-то медицинской дрянью, формальдегидом, что ли. Этот запах мешался с приторным ароматом жасмина. Отец посмотрел на дочь, погладил ее тонкую кисть своей, коричневой, мертвой, как сук, рукой.
– Неприятности? – тихо спросила Розалин, когда мы подошли к машине.
– Гараж открой, – сказал я. – Там поговорим.
Она не стала расспрашивать, молча распахнула двери. Я загнал джип, заглушил мотор. Гараж больше напоминал сарай: на поперечных балках лежали серые гнилые доски, по углам был свален хлам – старые ящики, грабли, ржавые лопаты, пляжный зонт. Сквозь дыры в худой крыше пробивалось солнце.
– Мне, похоже, придется уехать. – Я открыл багажник, вытянул черный мусорный мешок, опустил на земляной пол.
– С этими людьми?
– Да.
– Это опасно?
– Да нет. – Я беспечно пнул ногой мешок. – Ерунда. Типа консультанта буду. В России.
Она недоверчиво кивнула. Сквозь пыльное оконце, затянутое паутиной с сухими мухами, мне была видна веранда. Старик неподвижно глядел в одну точку, глядел отрешенно, словно в каком-то трансе.
Я наклонился, вытащил из мешка четыре пачки сотенных купюр, перетянутых резинкой. Протянул Розалин. Она молча взяла, разглядывая их, сложила деньги в стопку. Пристроила на полку между глиняных горшков.
– А остальное нужно отправить, – я запнулся, – в Калифорнию… Я тебе адрес напишу.
– Жене? – спросила она.
– Да.
– Коробка нужна, – сказала Розалин, оглядываясь по сторонам. – Картонная.
Подойдя к горе хлама в углу, она отодвинула зонт. Тут же со звоном упали лопаты, посыпались какие-то деревянные рейки, выкатилась ржавое ведро. Розалин тихо выругалась и извлекла коробку, показала мне. Коробка оказалась из-под туалетной бумаги.
– Ну как? Подойдет такая?
– Вполне. И вот еще… – Я протянул ей открытку. – Положи в коробку.
34
Кен удивленно привстал, увидев меня на пороге.
– Кое-что забыл, – не останавливаясь, я прошел мимо. – Там, в читальне.
Я сбежал вниз по лестнице, отодвинул «Робинзона Крузо». Телефон был на месте, я сунул его в карман. Лошадь на двери грустно посмотрела на меня нарисованными глазами. В тот же момент мобильник тонко запиликал.
– Да! Слушаю! – бодро сказал я в трубку.
– Мистер Саммерс. – Голос Анны звучал хрипловато и чуть капризно. – Время, дорогой мой, время! Время не ждет. Какого черта вы делаете в сельской библиотеке? Если вам нужны какие-то книги – скажите мне. «Апостол» Гуттенберга, Библия короля Якова, дневники Леонардо – скажите, что вам нужно?
– «Декамерон» есть?
– Есть. Вас издание шестнадцатого века устроит? Кстати, вы знаете, что Боккаччо написал эту фривольную книгу во время одной из самых страшных эпидемий чумы за всю историю человечества? Во Флоренции тогда умер каждый второй горожанин, трупы горами лежали на улице, люди запирались в своих домах, молились и умирали от голода. А Боккаччо придумывал истории про сладострастных матрон, похотливых монашек и порочных служанок, страдающих нимфоманией. Забавно, не правда ли?
Она засмеялась и нажала отбой.
По дороге домой (с какой все-таки легкостью мы называем этим святым, мистическим словом «дом» любую нору или дыру, койко-место, притон или приют), едва проскочив мост и взлетев на холм, в раскрытое окно ворвался свежий дух скошенной травы. Внизу, по гладкому, как газон, лугу ползал желтый трактор, его стрекот едва долетал до шоссе.
Дорога сделала вираж и пошла вниз. Лес подступил к обочине, мокрые стволы сосен замелькали, за ними чернела непролазная чащоба; потянуло сыростью, болотом. Впереди, в придорожной канаве несколько ворон затеяли свару – махали черными крыльями, взлетая и снова садясь, хлопотливо что-то делили. Одна птица, урвав добычу, поднялась в воздух, унося в клюве какую-то розовую ленту. Я притормозил – в канаве лежал мертвый олень. Его бок был распорот, из раны на траву вывалились перламутровые внутренности. Вороны, жирные, лоснящиеся, словно отлитые из черного металла птицы, на меня не обратили внимания. Они продолжали рвать клювами и когтями оленьи потроха.
Я не суеверен и не верю в приметы. Мне плевать на разбитые зеркала и цифру тринадцать, пустые ведра и всех черных кошек сразу. И не потому что я сорвиголова и черт мне не брат, просто слишком часто я видел, как человека разрывало на куски безо всякого предварительного оповещения. Не говоря уже о смехотворности самой идеи, что в таком бардаке, как наш мир, кому-то там наверху придет в голову посылать нам сюда какие-то сигналы о грозящей опасности. Причем в индивидуальном порядке.
Анна приехала в пять, опоздав на полчаса. Я сидел на веранде с ноутбуком на коленях. Сделав бесшумный круг, лимузин мягко встал перед ступенями крыльца. Кабан выскочил из машины, распахнул заднюю дверь. Появился сапог, потом рука с сигаретой, потом все остальное. Анна выпрямилась, что-то сказала шоферу. Кабан с крабьим проворством нырнул обратно в машину, и «бентли» плавно отчалил.
– Итак? – Анна затянулась, выпустила дым аккуратным кольцом.
Кольцо поплыло, оно клубилось и росло, подбираясь к моим ботинкам.
– Нужно будет оповестить Тихого о покушении, – сказал я, наступив на кольцо.
– Интересная мысль, – засмеялась Анна. – Ты это серьезно?
– Вполне. Пусть он готовится встретить нас на Капри, допустим, в сентябре. Ведь он каждый год третью неделю сентября проводит там?
Анна кивнула. Я продолжил:
– А мы навестим его чуть раньше. В Подмосковье.
Она довольно заулыбалась.
– Мне это нравится. Операция «Двойной капкан». Очень хорошо.
– Тройной.
Анна вопросительно посмотрела на меня.
– Это потом. Сейчас важно определиться в главном: никто, кроме нас двоих, не будет знать место и время проведения операции. Группа будет готовиться к операции в Италии в сентябре…
– Мы даже можем устроить курсы итальянского языка для наших головорезов, – Анна взмахнула руками. – Voglio passare il resto della mia con te.
– Весьма польщен. – Я поклонился. – Я тоже начинаю испытывать к вам непреодолимое влечение. Но вернемся к делу, синьора. Кстати, о головорезах: мне нужно человек тридцать с разведывательно-диверсионной подготовкой на уровне «Дельты» или «котиков». Плюс полная экипировка, плюс транспорт, включая два вертолета. Нужна тренировочная база с макетом.
– С каким макетом?
– Объекта.
Анна удивленно посмотрела меня.
– С макетом Тихого? Чучело, что ли?
– Макет дачи. С точным расположением всех построек, комнат, дверей, окон.
– Ну, это не проблема, у нас есть архитектурные планы всех дач. С описанием отделки, вплоть до цвета гардин.
– Гардины нам не понадобятся. Обычно макет делают из железных контейнеров, в которых всякий хлам по морю перевозят.
– Понятно.
– А что с базой? – спросил я. – Тренировка диверсантов – дело шумное, со стрельбой и прочей пиротехникой. С этим как?
– Ну, это-то как раз элементарно. У меня в Адриатике есть небольшой архипелаг, купила зачем-то лет десять назад. Выделю один островок для вашего цирка.
Она сказала об этом просто, словно речь шла о дачном участке где-нибудь в Подлипках.
35
Скелет нашего плана начал обрастать мясом. Властная и нетерпеливая Анна неожиданно стала внимательной и тихой, что, впрочем, не мешало ей влезать во все мелочи и требовать объяснений всякой технической ерунды, вроде того, что такое планка Пикатинни, почему я предпочитаю калибр в семь миллиметров пятимиллиметровому и зачем нам отбойный молоток марки «Бош».
Она появлялась каждое утро около девяти, к полудню в гостиной было не продохнуть от сигаретного дыма и кофейной вони, к вечеру воздух становился осязаемым, тяжелым, с кислым металлическим привкусом. На второй день Кабан приволок кофейный агрегат промышленного пошиба, никелированный механизм с эбонитовыми рычагами и медными кранами. Я предложил Анне заодно открыть тут кафетерий для местных лесорубов.
Мы начали с людей – кадры по-прежнему решают все. За четыре дня мы перелопатили сотни личных дел. Наемников кто-то отбирал для нас, я спросил, по какому признаку «этот кто-то» фильтрует людей.
– Тебя что-то не устраивает? – нервно спросила Анна. – Скажи что, я передам.
– Дисциплина! Передай, что меня интересует дисциплина. И насколько управляема будет эта банда. На кой черт мне садисты из карательных отрядов, охранники кокаиновых плантаций и прочая мразь?! Мне нужны солдаты! Понимаешь, солдаты!
Я хлопнул крышкой ноутбука, залпом допил остывший кофе. Было шесть вечера.
– На хрена мне все эти умельцы стрелять с двух рук и метать ножи с завязанными глазами?! – Я резко встал, стул с грохотом упал. – Это ж не кастинг для боевика! Твои мальчики насмотрелись голливудской бодяги…
– Кончай орать! – Анна тоже вскочила, костяшки ее кулаков побелели. – Это не мальчики, отбором занимается полковник из «Альфы»…
– Ну вот пусть твой полковник и руководит операцией! – перебил я и пнул стул.
Мне показалось, что она бросится на меня, – от злости у нее посветлели глаза, стали почти зелеными. Но она не бросилась, а бессильно опустилась. Медленно и тяжело, словно в ней что-то сломалось. За ее спиной в окне синел замшевый вечер, она повернулась в профиль, устало подперев подбородок руками.
– Ладно, на сегодня хватит, – Анна сказала тусклым голосом, достала сигарету. Покрутив в руках, сунула ее обратно в пачку. – Хватит на сегодня.
– Извини… – Я поднял стул и беззвучно придвинул к столу.
Она взглянула исподлобья – старая, издерганная баба. Мне стало неловко, я повторил тихо:
– Извини…
– Ладно… – невесело улыбнулась она. – А хочешь, я тебя военным министром назначу… Когда мы Тихого…
– Закоптим?
– Закоптим? Странно, у нас говорят «замочим».
– Нет, надо говорить «закоптим».
– Поняла, – она послушно кивнула. – Ну так как насчет военного министерства? Министр обороны Николай Королев – звучит, а?
– Звучит, – мотнул я головой.
Я не слышал своего имени уже лет сто, с приютских времен. Годы, проведенные среди склизских стен, выкрашенных в казенные цвета серого спектра, где наставники мало отличались от тюремщиков, а путь от ухмылки до тычка умещался между двумя ударами сердца, были похожи на послевкусие тяжелого кошмарного сна, что преследует весь день до самого вечера. Я пытался выкинуть их из памяти, пытался стереть, вытравить. Пустой номер. Отдельные эпизоды, обрывки событий, звуки и запахи остались яркими, живыми – без особых усилий я мог реконструировать в памяти ядовитую вонь жирной ваксы, которой драил свои сиротские башмаки, едкий смрад хлорки в умывалке, гулкий стадный топот утренних линеек по заиндевелому плацу. Словно все это было вчера.
– Я так понимаю, вы и обо мне справки навели? – Я сел верхом на стул, уткнул подбородок в спинку.
– Угу, – Анна снова выудила сигарету. – Навели. А то как же? И про тебя, и про родню.
– Ну с родней у меня не густо.
– Да уж. После того, как твою мать посадили…
Она быстро, словно боясь передумать, чиркнула зажигалкой, жадно затянулась.
Я застыл, перестал дышать. Время словно заклинило – такое бывает в бою, когда за один тик успеваешь подумать обо всем на свете, да еще разглядеть тени ползущих облаков, силуэт сгоревшего грузовика на холме, муравья, бегущего на руке.
Анна, щурясь, выдохнула дым. Я ждал. Наверное, у меня что-то случилось с лицом, потому что Анна уставилась на меня странным и долгим взглядом.
– Ты что… – Она запнулась. – Ты не знал?
– Что, – деревянно проговорил я. – Что не знал. – Язык не слушался, интонация вышла утвердительной.
– Про мать…
Я помотал головой.
– Господи… Я думала, ты… – Столбик пепла упал с сигареты ей на рукав. – Я думала, тебе…
– Ничего. Сказали, что она сдала меня в приют. И все.
Анна рассеянно стала что-то искать.
– Где эта чертова пепельница?
Пепельница, набитая окурками, стояла перед ней на столе.
Потом Анна заговорила. Мне вдруг показалось, что я наблюдаю за происходящим со стороны – вижу себя, ее, мертвые рогатые головы на стенах. Вселенная замерла на самом краю бездны, готовая ухнуть вниз.
Королева Елена Анатольевна была осуждена по восемьдесят восьмой статье за нарушение правил валютных операций. После апелляции пять лет колонии общего режима заменили ссылкой в Джамбульскую область Казахской ССР. Через семь месяцев, в конце февраля, она покончила жизнь самоубийством (повесилась) в бойлерной картонажной фабрики, где работала помощницей истопника. Предсмертная записка была изъята участковым в качестве вещественного доказательства и впоследствии утеряна.
– Вся эта валюта – сплошная липа, – Анна поморщилась, словно у нее схватило голову. – Ее пытался завербовать комитет, она отказалась, подала документы на выезд.
В моей голове мерно раскачивался чугунный маятник, я старался не шевелиться, боясь нарушить плавный ход тяжелой болванки. Я был уверен: одно неловкое движение – удар, и моя бедная черепушка брызнет тысячей фарфоровых осколков.
– У нее была связь с иностранцем. С сотрудником американского посольства в Москве. – Фразы получались картонными, Анна произносила их тусклым голосом. – Комитет хотел через нее выйти на этого иностранца. На чем-нибудь подловить его, заставить работать на контору.
– Кто он? – сипло спросил я.
Анна не услышала или не обратила внимания, продолжала рассказ:
– Ее отчислили из института. С пятого курса. Она училась в Мориса Тореза на романо-германском. Американцы – посольство – уже оформляли ей выездные документы… Судя по всему, они пытались расписаться в Москве, но гэбэ перекрыло кислород – знаешь, как это делается.
Я не знал, но кивнул.
– Потом его выслали – объявили нон грата, а ее арестовали с валютой, которой она якобы спекулировала у планетария. – Анна выдохнула, посмотрела на меня. – Вот и все, конец ты знаешь.
Словно что-то вспомнив, она придвинула к себе ноутбук, подняла крышку.
– Ну давай, давай, просыпайся. – Она нетерпеливо застучала по клавиатуре.
Оглушенный, я молча следил за ее движениями. Анна стремительными пальцами набила пароль, приблизилась к монитору, что-то выискивая. Навела курсор, щелкнула. На экране появилась фотография. Я привстал, вытянул шею, потом медленно, словно путаясь в тягучих водорослях, поднялся, молча взял ноутбук и тихо вышел на веранду.
Вселенная не удержалась, сорвалась и полетела в бездну. С экрана на меня смотрела моя дочь, повзрослевшая лет на двенадцать. Дело было даже не в похожести лба, носа или рисунка губ, сходство было фундаментальнее, такое бывает у близняшек, когда ты не глазом, а нутром чувствуешь кровное родство. Я опустился на ступени.
Ненависть рождает злость, злость требует действия. Она подобна пружине. Она заряжена неукротимой энергией, жгучим желанием мести. Вот топливо, на котором работает мой движок, вот моя комфортная зона. А любовь… Любовь обезоруживает, делает беззащитным, слабым, я не знаю, что мне с ней делать, с любовью. Я вырос с мыслью, что моя мать – бессердечная тварь. Я ничего не знал о ней, но слышал много сиротских историй – разных, но мало чем отличающихся друг от друга. С каким упоением я воображал, как появлюсь однажды на пороге ее дома, – почему-то это всегда было весенним солнечным утром с цветущими яблонями на заднем плане. Какие ядовитые речи я сплетал бессонными приютскими ночами, какие жгучие подбирал слова! Со временем ненависть выдохлась, возникшую пустоту заполнило хмурое безразличие – наверное, так, в конце концов, инвалид перестает горевать о потерянной ноге, плюет и начинает ковылять по своим делам на скрипучей деревяшке.
То, что случилось пять минут назад, полностью уничтожило мою систему координат, разбило вдребезги мое мироздание. Модель вселенной, которую я придумал и в которую свято верил, оказалась ошибочной.
36
Утро началось обычно. Приехала Анна. Хмурая с недосыпу, прямиком протопала на кухню, включила своего кофейного монстра. Тот забулькал, потом зашипел, по дому поплыл свежий кофейный дух. Анна вернулась в гостиную, молча поставила на стол две чашки. Брезгливо взяла пепельницу, высыпала вчерашние окурки в камин. Хотела что-то сказать, передумала, села. Я сделал глоток, пристроил чашку на подлокотник кресла.
– Спасибо.
Она посмотрела на меня. Я уточнил:
– За кофе.
Она кивнула.
– Это правда, что в Подмосковье почти каждое лето горят торфяники? – спросил я, приподняв чашку и вдыхая аромат. – Отличный кофе.
– Да… – неопределенно ответила Анна, то ли про кофе, то ли про пожары на торфяных болотах.
Она замолчала, взглянула на закрытый ноутбук, потом на меня, вероятно, ожидая продолжения вчерашнего разговора. У меня не было ни сил, ни желания говорить об этом. Я всю ночь промаялся в полубреду, то пытаясь заснуть, то пялясь в сумрачный потолок, на котором, как на фотобумаге, медленно проступало лицо с экрана. Под утро провалился в глухой и душный сон: я метался по какому-то лабиринту, грязному и темному, бетонные липкие стены подступали все ближе и ближе, задыхаясь, я с трудом протискивался, пока окончательно не застрял в каком-то тупике. Проснулся от собственного крика, поперек кровати, потный и с дикой головной болью.
Анна достала телефон, близоруко щурясь, стала проверять почту. Я продолжал пить кофе мелкими глотками. Не поднимая головы, она сказала:
– Ты спрашивал вчера про… – Она сделала паузу, я промолчал. Она продолжила: – Про иностранца. В деле нет его фамилии. Только инициал – М. Одна буква.
Я кивнул.
– И ты… – она бросила телефон в сумку. – Я правда думала, что тебе все известно…
– Спасибо, – перебил я. – Все нормально. Спасибо.
Она смотрела так, будто я только что похоронил свою собаку. Я встал, подошел к окну. Сунул кулаки в карманы. В просветах между деревьев сияющей ртутью неслась река, на порогах мокрые камни блестели на солнце, вода вокруг них кипела и искрилась.
– Ну, коли так, – Анна бодро хлопнула в ладоши, – к делу! Почему тебя интересуют эти пожары?
Я прижался лбом к стеклу. От дыхания оно постепенно затуманилось, казалось, пейзаж медленно погружается в мутную молочную воду – деревья, река, лес на том берегу становились все призрачнее, все прозрачнее.
– Меня интересуют эти… – медленно повторил я вслед за ней. – Почему. Да, почему?
Я слышал, как она отодвинула стул, подошла.
– Николай, – она коснулась моего плеча, осторожно дотронулась пальцами и тут же убрала руку. – Послушай…
– Меня интересуют эти пожары… – резко сказал я и повернулся.
Она сделала шаг, пристально глядя в глаза, протянула руку и сжала мой локоть.
– Все нормально. Все нормально! – Я быстро высвободил руку. – Все хорошо!
Я не выношу жалости; ее же жалость показалась мне какой-то барской, покровительственной и от того вдвойне унизительной. У меня появилось непреодолимое желание обидеть Анну.
– Ты по реестру «Форбса», наверное – самая богатая бизнесвумен, – это слово я выпятил, кривляясь. – Там, в России.
– Не самая. Третья.
– Жаль, чуток не дотянула. Кто-то, видать, воровал попроворнее тебя.
– Ты что… – она поперхнулась. – Ты что несешь?
– Или твои «бентли», острова в Тирренском море, миллионы…
– Миллиарды. И не Тирренское, Адриатическое, – поправила она.
– Тем более. Миллиарды – плоды трудов праведных? В поте лица, как говорится, заработанные, да?
– Ты еще спутники забыл, – ткнула она пальцем в потолок. – Тоже мои.
– Да! Спутники! Еще и спутники! – Я резко засмеялся. – Кстати, про спутники: вся эта дрянь, что мы запускаем на орбиту, на самом деле падает. И спутники, и станции, и прочая дребедень. Крутится вокруг Земли и падает, крутится и падает. Просто высоко, потому долго.
Я прошел на кухню, отвернул до упора холодный кран, обливаясь, напился.
– Падают! – крикнул я, вытирая рукой лицо.
Анна появилась в дверях кухни, с отвращением смерила меня взглядом снизу вверх.
– Кончай истерику, терминатор фигов, – сказала она и тихо добавила: – Что ты про меня знаешь?
Я действительно ничего о ней не знал.
– В двух словах… – Она закашлялась, морщась, повторила: – В двух словах… Прошлым декабрем я похоронила отца. Мой сын, единственный сын, живет в Амстердаме со старым гомиком, который изображает из себя художника. Мой муж, бывший муж, четыре года назад нанял киллера, снайпера, чтобы меня убить. Я выкуриваю три пачки в день и вряд ли дотяну до шестидесяти. У меня нет друзей… – Она усмехнулась. – Друзей! У меня нет ни одного человека, с которым я могу говорить откровенно. – Она задумалась. – Да что там откровенно, просто поговорить. Ни одного, понимаешь?
Мы молча смотрели друг на друга, потом я угрюмо спросил:
– И на кой черт ты затеваешь всю эту катавасию с Тихим?
Она пожала плечами.
– Ты знаешь, – задумчиво произнесла она, словно говорила сама с собой. – Я всю жизнь верила в Бога… Верю и сейчас. Но раньше мне казалось, что Он всемогущ и вездесущ и что ни один волос не упадет с головы без Его ведома. Полный контроль и опека. И что мерзавцы получат по заслугам еще при этой жизни, задолго до Страшного суда.
Она сполоснула чашку, налила воды, крупными глотками выпила до дна.
– Вообще, у русского человека параноидальная страсть к справедливости, причем в самой примитивной форме. – Анна поставила чашку в раковину. – Ты, наверное, тоже это замечал?
Я не понимал, куда она клонит, развел руками, хотел что-то сказать. На кухне вдруг потемнело, и в тот же момент сверху раздался такой треск, что Анна в испуге присела. Хлынул ливень. Громыхнуло еще раз – казалось, гроза разыгралась где-то у нас на чердаке.
Мы вышли на веранду. Дождь лил стеной. Анна, смеясь, что-то сказала. Я не расслышал – ливень гремел, как водопад, вовсю барабанил по крыше веранды. Земля не успевала впитывать воду, лужи перед домом росли, сливались, превращаясь в маленькие озера. Анна дернула меня за рукав, крикнула:
– Смотри!
Над лесом синела ослепительная полоса звонкого летнего неба, словно кто-то гигантской бритвой полоснул по тучам. Из прорехи выглядывала радуга.
– Ты думаешь, это Он? – Анна, улыбаясь, показала глазами вверх. – Думаешь, это знак?
Я засмеялся, неловко обнял ее за плечи.
– Ты слишком всерьез к себе относишься.
– А про спутники ты придумал? – Она по-кошачьи потерлась щекой о мою скулу. – Что они падают.
– Нет, почему? Чистая правда, – ответил я.
А сам подумал: «И все равно, моя радость, в конце третьего акта ты меня пустишь в расход». Впрочем, как говорил генерал Боливар, смерть в нашем деле – не более чем профессиональный риск.
37
Любая миссия состоит из трех фаз: планирование, подготовка и сама операция. Первая фаза подходила к финалу, я уже составлял список амуниции, оборудования и транспорта. Анна морщилась от восьмизначных цен – только один «Сикорски RQ-170» с антирадарной системой, бесшумным винтом и холодным выхлопом стоил сорок миллионов.
– Я не думала, что захват власти в одной стране влетит мне в такую копейку.
– Еще не поздно одуматься, ваше высочество, – ухмыляясь, шептал я. – Еще не поздно.
– Поздно, ох поздно!
Она смеялась, махала рукой. Я переходил к следующему пункту списка.
В пятницу утром Анна привезла мой российский паспорт.
Потертый, словно кто-то долго носил его в заднем кармане, документ имел вполне убедительный вид. Впрочем, фальшивым он был только юридически, с технической стороны все было честно: мои русские фамилия-имя-отчество, год и место рождения, фотография. Я начал листать – оказалось, что я въехал в США в апреле, о чем свидетельствовал штемпель пограничной службы аэропорта имени Кеннеди города Нью-Йорка. До этого я посетил Мадрид и Афины. Моя шенгенская виза заканчивалась в декабре.
– Ну как? – спросила Анна.
– Очень даже! Мне уже начинает казаться, что я и вправду был в Мадриде.
– В воскресенье утром мы улетаем, – сказала она. – Если какие-то дела по усадьбе… – Она кивнула в сторону окна.
Я застыл с раскрытым паспортом в руке.
– Но ведь еще не… – проблеял я, пытаясь собраться с мыслями. – Еще ведь…
– На острове! Доделаем все там. Операция назначена на середину августа.
– Августа?! Кем? – почти вскричал я.
– Мной!
Я, готовый взорваться, звонко шлепнул паспорт на стол. Анна быстро выставила ладонь.
– Не психуй! Твоя акция – лишь часть большой операции. Мало ликвидировать Тихого, важно взять власть. И не просто взять, а сделать это ювелирно – нежно и аккуратно. Без резни. Без разъяренных толп на баррикадах, как при ГКЧП.
– Отлично! – Я пнул стул, сел, скрестив руки на груди. – Просто замечательно!
– Чем ты опять недоволен?
– Я? Да я просто счастлив! Сначала ты меня втравливаешь в организацию политического убийства, а теперь оказывается, что я участвую в какой-то сраной революции!
Я замолчал, отвернулся к стене. У этой стервы хватило наглости подойти, положить мне руку на плечо и ласково сказать:
– Какая разница? У тебя в любом случае не было выхода.
Тут она была права.
– Насколько твои… – я хмыкнул, – коллеги посвящены в мой, вернее, наш план?
Анна отвела глаза, уклончиво пожала плечом. Я сказал:
– Мне бы очень не хотелось чтобы нас, вернее, меня, встречали там на даче эти чеченские койоты или как их там. Стар я для таких приключений, понимаешь?
– Деталей не знает никто. Никто. Им известно только время…
– …и место, – усмехнулся я. – Слава богу, теперь я спокоен.
Мы помолчали, не глядя друг на друга. Потом Анна сказала:
– Да, вот еще… Пожалуйста, если будешь отлучаться в город или еще куда, телефон с собой бери. В карман положи и не вытаскивай. Пожалуйста.
– А если у меня встреча, предположим, интимного характера? Штаны, допустим, придется снять? – спросил я паясничая.
– Снимай, только далеко от штанов не уходи. Договорились?
38
Библиотека по субботам была открыта. С девяти до двух. Я загнал джип на стоянку. Заглушил мотор, вынул мобильник из кармана и не глядя бросил через плечо на заднее сиденье.
В читальне вовсю пахло сдобными булками. Мисс Маккой простодушно обрадовалась мне, зарделась и попыталась вежливо отделаться от настырной старушки с плоским затылком и тугой фигой на макушке – старуха требовала от нее какую-то книгу по истории балета.
Я, галантно кланяясь и разводя руками, извинялся и умолял не обращать на меня никакого внимания. Старушка тоже начала извиняться, в результате после ряда ужимок мне удалось завладеть телефонным аппаратом и отправить мисс Маккой с бабушкой в библиотечные дебри на поиски балетной книги. Для меня оказалось сюрпризом, что я могу производить столь благоприятное впечатление на пожилых женщин и работниц учреждений культуры.
Харрис ответила сразу.
– Мистер Саммерс?
– Добрый день, мисс Харрис. Как дела?
– Нормально. Как у вас?
– Отлично. Тут у нас планы прояснились. Похоже, я буду в Москве где-то в середине августа.
– Я говорила с человеком в Москве. Она в курсе.
– Она? – непроизвольно спросил я.
– Да, Джиллиан. Она поможет вам выбраться. Запоминайте телефон, – Харрис медленно продиктовала номер, потом повторила еще раз.
– Запомнили?
Цифры, которые могли спасти мне жизнь, я запоминал без труда. Мне хотелось сказать Харрис, насколько я ей благодарен, что она сделала гораздо больше, чем я мог рассчитывать, что, если я вернусь, то тогда непременно… Вместо этого я пробормотал «спасибо» и нажал отбой.
Библиотекарша и старушка кудахтали где-то среди лабиринта книжных полок.
Я вышел, утро превратилось в знойный полдень, воздух казался липким от приторного жасминного духа. Из открытого окна моей машины доносилось противное пиликанье. Я протиснулся в окно, дотянулся до телефона:
– Говорите, вас слушают.
– Я не ожидала такой любви к литературе от человека твоей профессии, – насмешливо сказала Анна.
– Моей профессии? – Шутка меня задела. – Мы, наемные убийцы, на самом деле натуры тонких чувств и хрупкой душевной организации, тяготеем к изящным искусствам, особенно к поэзии.
Без паузы я начал декламировать нараспев:
О смуглый мой лебедь, в чьем озере дремлют кувшинки саэт, и закаты, и звезды, и рыжая пена гвоздик под крылами поит ароматом осенние гнезда. Никто не вдохнет в тебя жизнь…[2]– Никто, никто! – перебила меня Анна. – Хорош трепаться! Планы изменились, вылетаем сегодня. Через час я пришлю за тобой машину.
Я сунул мобильник в карман.
– Вот и все… – непонятно кому сказал я.
Где-то залаяла собака, потом все стихло. Надо мной пролетела горлица, было слышно, как крылья рассекают воздух. Дорога от библиотеки шла под гору, петляя, терялась в дубовой роще. На дальнем холме паслись три печальных коровы, дальше темнел амбар, старый и кособокий, с просевшей крышей и распахнутыми настежь черными воротами. За холмом блестела река, река, которую я мысленно называл «моей рекой» и которая текла мимо дома, который я называл «моим домом».
– Вот и все, – повторил я, забрался в машину и повернул стартер.
39
Аэропорт Берлингтона по статусу считается международным, а по виду – захолустный вокзал. Шофер, заехавший за мной (увы, не на «бентли», а на скромном «ауди»), сказал, что мой билет – у стойки «Чартерные рейсы». Сонная девица с обведенными черным глазами равнодушно потыкала в клавиши, молча выдала мне какую-то бумажку, похожую на квитанцию из химчистки.
– Куда дальше? – спросил я.
– Эскалатор там. – Девица мотнула головой влево.
Я вложил бумажку в свой липовый паспорт и пошел в сторону эскалатора. На втором этаже офицер пограничной службы по фамилии Скотт – я прочел на его бляхе – долго разглядывал мой паспорт, изучал разноцветные штампы и визы, потом строго спросил:
– Цель пребывания в США?
Я уже приготовился что-то красиво соврать, но вдруг понял, что ведь я – иностранец.
– Извините? – с предположительно славянским акцентом спросил я его.
– Зачем… вы… приехали… в США? – терпеливо повторил офицер Скотт.
– Туризм, – по-русски ответил я. – Туризм и путешествия.
Очевидно, Скотту я не понравился, но он все-таки клацнул штемпелем и хмуро протянул мне паспорт. Я прошел через турникет и покинул Америку.
– Вот это я понимаю «путешествовать налегке»! – Анна пнула хищным остроносым сапогом мою дорожную сумку. – Ну, как ощущения?
Она кивнула на паспортный контроль.
– Уже неодолимо хочется водки и в баню, – буркнул я, засовывая паспорт в задний карман.
– Бани на борту нет, а вот водки – залейся. Да, – как бы между прочим добавила она. – Приятеля твоего, Бузотти, пристрелили. Час назад.
– Тони? – опешил я. – Кто?
– Какой-то исламист. Прямо во время интервью в книжном магазине. В Нью-Йорке. – Анна тронула меня за локоть. – Пошли. У нас вылет через семь минут.
Мы спустились вниз, погрузились в обшарпанный автобус. Шофер закрыл дверь, и мы плавно покатили по аэродрому. Кроме нас, в салоне не было никого. Я бросил сумку на продавленное сиденье, сел, засунул руки в карманы куртки. На грязном резиновом полу валялся оброненный доллар, смятая зеленая бумажка. Тони Бузотти, надо же! Пройти сквозь ад всех этих дерьмостанов и дать себя подстрелить в каком-то «Барнс-энд-Ноблсе» где-нибудь на углу Бродвея и Пятьдесят пятой. Надо же!
Анна кинула сумку на сиденье, плюхнулась напротив. Зевнула, скрестив ноги, вытянула их в проход. Сапоги на ней были из чешуйчатой изумрудной кожи, которая мне смутно что-то напоминала.
– Игуана, – словно прочитав мои мысли, сказала Анна. – Кстати, я чуть было не обратилась к Бузотти. Вместо тебя. Забавно, да?
Она усмехнулась. Я продолжал разглядывать ее сапоги.
– О! Гляди, доллар! – Анна наклонилась, подняла бумажку и сунула в карман.
Автобус, сделав плавный вираж, затормозил. Двери зашипели и раскрылись. Перед реактивным «Гольфстримом», изумительно белым, словно выточенным из фарфора, выстроился экипаж – два красавца-пилота и голенастая стюардесса с лицом румяной дуры. На всех троих была какая-то цирковая униформа малинового цвета, щедро декорированная золотым шитьем.
– Юдашкин! – гордо сказала Анна.
– Да я уж вижу, что не Ральф Лорен.
Она проигнорировала мой сарказм, обратилась к одному из пилотов:
– Как погода, Сережа?
– Над всей Атлантикой безоблачное небо, Анна Кирилловна! – радостно доложил пилот Сережа и, прищелкнув каблуками, лихо отдал честь.
Я подумал, что в следующей жизни мне тоже надо будет устроиться вот таким вот ярмарочным летчиком, развеселым чертякой в золотых аксельбантах, а не шастать по странам с мерзким климатом, подставляя задницу под пули религиозных экстремистов. В следующий раз.
– Как аппарат? – Она кивнула на лайнер.
– Супер, Анна Кирилловна! Зверь!
– Я весной купила этот, – пояснила она мне. – До этого у меня был «сотый», он по прямой через океан не дотягивал, приходилось пилить через Гренландию с дозаправкой в Гантере. Сплошной геморрой, короче.
– Да, это, конечно, тяжело.
– И ты представляешь, на эти, новые «гольфы» – очередь! Как на «жигули» в совке!
– Надо же! – Я сделал круглые глаза, негодуя добавил: – И откуда у людей столько денег?
Она чуть заметно покачала головой, с материнским укором поджала губы и отвернулась от меня.
– Сережа, над нашими островами можно будет пониже пройтись? Хочу гостю показать, – не глядя, она мотнула головой в мою сторону, – с высоты птичьего, так сказать.
– Будет сделано, Анна Кирилловна! – Ряженый чертяка снова прищелкнул, потом, церемонно выставив руку, пригласил: – Прошу на борт!
40
Я проснулся от немилосердно яркого света – в иллюминатор с лазерной точностью бил солнечный луч; само светило с угрожающей торжественностью выплывало из-за кривого горизонта. Очень хотелось пить, от водки и икры во рту было сухо и горько. Мы едва оторвались от земли, как Анне взбрело в голову отпраздновать «возвращение блудного сына на родину». Тот факт, что мы направляемся не в Россию, а в Хорватию, ее не очень беспокоил. Она потребовала, чтобы я выпил «штрафную». Я не стал отнекиваться, хотя «штрафной» оказался здоровенный фужер, в который влезла треть бутылки.
Стрелка моих часов подбиралась к одиннадцати, значит, в Европе было около пяти. Значит, в Европе уже наступало утро.
В проходе торчала нога в игуановом сапоге, сама будущая императрица всея Руси томно храпела, запрокинув голову и по-покойницки раскрыв рот. Я вылез из кресла, побрел в туалет. Санузел напоминал стильный бар в каком-нибудь Стокгольме – потолок мутно горел голубым светом, железки сияли тусклой сталью, на стенах – орнамент под зебру. Я пригляделся, провел рукой по стене – стены сортира действительно были обиты шкурой зебры. Над рукомойником торчала куцая труба, похожая на ствол помпового «ремингтона». В поисках крана я начал ощупывать стену, из трубы неожиданно полилась вода. Вода шла горячая, почти кипяток. Я подставил руки, нагнулся, сполоснул лицо. Потом безуспешно пытался найти полотенце, плюнув, вытер лицо туалетной бумагой. Откуда-то с потолка доносился вальс, что-то приторное вроде Чайковского.
Анна продолжала храпеть, я тихо пробрался мимо и улегся в своем кресле. Потыкал в кнопки на подлокотнике, мои ноги медленно поднялись, потом включился массажер. Механические пальцы принялись нежно мять поясницу. Ко мне бесшумно прокралась стюардесса.
– Желаете что-нибудь? – еле слышно выдохнула она, тараща на меня кукольные глаза серого цвета.
– Желаю воды, – прошептал я.
– «Перье» или «Сан-Пеллегрино»?
– А в чем разница? – чуть опешив, спросил я.
– У «Перье» пузырики побольше… – интимно ответила стюардесса и отчего-то зарумянилась.
– Вас как зовут? – ласково произнес я, словно беседовал с ребенком.
– Наташа…
– Наташа… – повторил я и улыбнулся. – Несите «Перье», Наташа. С пузыриками.
Я был несправедлив к Наташе, она оказалась вполне сообразительной девахой – принесла сразу литровую бутылку минералки и стакан со льдом. Я наполнил стакан до краев и залпом выпил.
– Где мы? – спросил я.
– Над Атлантикой. Через сорок минут будем пролетать Гибралтар.
На подлете к Италии пробудилась Анна. Сиплая и злая, она сразу потребовала воды, кофе и пепельницу. Закурила, раскрыла ноутбук. Сделала несколько звонков, называла какие-то цифры, какие-то проценты, вполне серьезно пообещала кому-то оторвать яйца, «если положение не исправится через двадцать четыре часа».
Я прижал лоб к ледяному стеклу иллюминатора. Внизу проплывало Средиземное море, изумительно бирюзовое, с миниатюрными волнами и крошечными круизными лайнерами, за которыми в кильватере тянулся темный, как шрам, след.
– Анна Кирилловна, доброе утро! – радостно заговорили динамики голосом пилота Сережи. – Святац через пять минут, опущусь на минимально допустимую!
Я не знаю, какая у них минимально допустимая, но через пять минут я не только отлично разглядел остров, напоминавший по форме лошадиный череп, мне удалось рассмотреть песчаный пляж с пенистой лентой прибоя, пристань с пришвартованной яхтой и дюжиной мелких лодок, рыжую черепичную крышу, несколько домиков поменьше, но главное, на другом конце острова я увидел вертолетную площадку, а за ней – корабельные контейнеры, уже расставленные в соответствии с дачным планом Тихого: главное здание, два гостевых флигеля, гараж, хозяйственный корпус, дом охраны и дом прислуги.
– Бол дает добро на посадку. Садимся в Браче через двенадцать минут. Прошу всех пристегнуться.
Брач тоже оказался островом, только гораздо больше нашего, Сережа сделал пижонский пируэт, облетев его и гася скорость. Сверху аэродром был совсем крошечным, с куцей взлетно-посадочной полосой и диспетчерской вышкой, похожей на пожарную каланчу, убогим зданием вокзала и двумя антикварными «илами» компании «Хорватские авиалинии», ожидавшими взлета на рулежке. Аэропорт притулился на горном плато, взлетная полоса заканчивалась вертикальным обрывом, уходящим в море. Сережа включил форсаж, движки мощно запели на три тона выше, «Гольфстрим» уверенно пошел вниз, нежно коснулся земли и плавно покатился по бетонке.
Я закрыл глаза. Мне в голову пришла скучная мысль, что я всю жизнь пропутешествовал в плацкартном. Даже те несколько раз, когда мне удавалось оказаться в бизнес-классе. Даже наш с Хелью «шикарный полет в Париж» первым классом сейчас показался мне сиротским.
41
У солдат нет имен, у моих солдат не было и фамилий. Лишь номер – буква и цифра – пришитый к груди гимнастерки. Впрочем, мой номер – А1, по-английски произносимый как «Эй-Ван», скоро трансформировался в неизбежного «Ивана».
Основным языком нашей интернациональной бригады стал английский. При отборе людей я пытался убедить Анну не вербовать русских. Мне хотелось избежать эмоциональных моментов, которые неизбежно возникнут, как только выяснится истинное место проведения операции. У Анны было прямо противоположное мнение, она плела чепуху про патриотизм и национальное достоинство, про ненависть простых людей к режиму и к диктатору – как раз именно то, чего я и пытался избежать. В конечном счете, в отряд все-таки попали три бывших спецназовца с чеченским опытом и один парень из «Альфы». Были французы, швейцарец, два австралийца, несколько американцев, здоровенный мулат из Бразилии под номером В2, тут же награжденный кличкой «Битбул».
– Вы получите ровно столько информации, сколько необходимо для успешного проведения операции. Время и место будет сообщено перед началом операции. Во время подготовки связь с внешним миром запрещается. Любая связь, включая почтовых голубей.
Кто-то заржал, но тут же осекся. Еще не было десяти, а солнце уже жарило вовсю, под гимнастеркой по спине одна за другой стекали щекотные струйки.
– Командирам отделений приказываю собрать телефоны, ноутбуки и прочую электронную дрянь у личного состава и доставить мне к… – Я посмотрел на часы. – Доставить мне в десять пятьдесят в командирскую палатку. Разойтись!
По битой глине тупо затопали сапоги. Я отвернулся, локтем стер пот с лица. Очень хотелось к чертовой матери стянуть с себя форму и прыгнуть в море, которое плескалось в ста метрах от плаца.
– Разрешите обратиться!
– Что?
Я оглянулся. Это был русский, один из десантников. Круглоголовый, бритый блондин, его нос уже обгорел и успел облупиться. На полголовы выше меня и поплечистее.
– Что? – глухо повторил я.
Парень вытер ладони о штаны, он явно нервничал.
– Я, сэр… я есть… – начал он на корявом английском. – Я знать…
– По-русски говори, я пойму.
Он удивился, подался ко мне и заговорил быстрым шепотом:
– Я знаю, не по уставу это, но не могу не выразить… вернее, не высказать. У меня опыт, я в Чечне и в Сирии снайпером был. И еще по подрывному делу, я и с пластитом работаю, и «лягушек» ставлю…
– Что ты несешь? – хмуро спросил я. – Каких лягушек?
– Мины… – смутился десантник.
Я вспомнил его досье – категория Х, восьмой уровень, диверсант широкого профиля, фамилия Коваленко. Константин Коваленко.
– Я к тому, что… – Он запнулся, не зная, продолжать или нет.
– Что?
– Вы ведь тот самый, который Шейха завалил… Из морпехов, из «похоронной команды», – прошептал он. – На муслимском сайте за вашу голову миллион…
– Костя… – перебил я его.
Десантник замолчал, я приблизился к нему и тихо сказал:
– Во-первых, не миллион, а полтора. А во-вторых, обознался ты, Костя. Обознался.
У меня было три отделения по десять бойцов в каждом. Из этих тридцати мне нужно было отобрать четыре человека для ударного звена. Группы, от которой будет зависеть не только исход всей операции, но и моя жизнь. Накануне Анна внесла в план коррективы – теперь я должен был доставить Тихого ей.
– Лучше живым, – добавила она. – Хотя это и непринципиальный момент.
– Не понял? На кой черт мне тогда его тащить?
Мы сидели в плетеных креслах на террасе ее дома, эклектичного здания на другом конце острова, по архитектуре похожего на нечто среднее между доминиканским монастырем и виллой мексиканского коррехидора.
– Ты понимаешь, что этот «непринципиальный момент» усложняет операцию вдвое?
Я зло встал, подошел к беленой балюстраде. Облокотился, плюнул вниз. Там лениво раскачивались темно-бирюзовые волны Адриатического моря. На горизонте, в вечернем мареве, липком и тягучем, как расплавленное стекло, устало плавился горб острова Брач с пожарной каланчой аэропорта на макушке.
– Понимаю, – невозмутимо ответила Анна. – Но мне нужна гарантия. Стопроцентная.
– Давай я тебе его голову принесу в мешке? А ты ее по телевизору покажешь – вытащишь из мешка и покажешь.
– Он плешивый, за что я его тащить буду? – засмеялась Анна. – Там ухватиться не за что. И потом, это не для телевизора… – Она запнулась, продолжила серьезно: – Николай, я тебе доверяю. Но ведь я не одна в этом деле. Понимаешь?
Я не ответил, смотрел на волны. Я знал, что она врет.
– Ты знаешь, как они его боятся? Из стариков, кто его знал, как шибздика, как ничтожество, как Папкина, почти никого не осталось.
Анна подошла ко мне, уперлась в парапет. На белом ее руки казались карамельными от загара.
– Слуцкер посмеялся над его фортепьянными упражнениями, – сказала она. – Ты знаешь, что стало со Слуцкером?
– Откуда мне знать, что стало со Слуцкером? Я вообще не знаю Слуцкера.
– Слуцкер владел медными рудниками, был сенатором от Красноярского края, председателем прокурорской комиссии Федерации. Его затолкали в грузовой самолет, привязали к концертному роялю и выкинули с высоты трех тысяч метров.
Она замолчала. С аэродрома Брача поднялся белый самолетик, словно игрушка, быстро и беззвучно взмыл в небо.
– Знаешь, сколько времени падает рояль с высоты трех тысяч метров? – спросила Анна.
– Минуту? – прикинул я.
– Угу… Там были камеры, и я видела эту запись. Тихий очень любит ее показывать.
42
К концу июля жара стала невыносимой. В Подмосковье последний дождь прошел две недели назад. В Шатуре, Орехово-Зуево, под Серпуховом и Клином загорелись торфяные болота. Потом начались лесные пожары. Жителей эвакуировали целыми деревнями. Над столицей повисла сизая хмарь, днем солнце едва пробивалось сквозь марево, а вечером закаты над Москвой-рекой, Кремлем, церквями и высотками разливались зловещим коричневым заревом. Операция была назначена на двадцать седьмое августа.
В ударное звено я отобрал четверых, включая десантника Коваленко – он действительно оказался отличным подрывником, да и русский язык мог пригодиться. Остальные были разбиты на два отряда, наземный и воздушный, по дюжине бойцов в каждом. Рамирес Альварадо со своими «волками» был противник серьезный, я знал уровень его подготовки и поэтому гонял своих ребят нещадно. Под конец бойцы могли ориентироваться на макете с завязанными глазами, назубок помнили, сколько шагов от одного объекта до другого, на ощупь знали расположение окон и дверей в каждой постройке.
Несколько раз за нашими тренировками наблюдали какие-то люди. Они прилетали к Анне, их вертолет садился на холме, прислуга приносила из дома шезлонги. Гости садились, что-то пили. Доставали бинокли и разглядывали нас, потных и грязных – ползающих, прыгающих, стреляющих. Ловких и занятных, как цирковые мартышки.
В понедельник нас погрузили на старый лансон и переправили на материк. Там ждали автобусы. Часть отряда отправили в Дубровник, другую – в Задар. До Москвы было решено добираться мелкими группами или поодиночке. Я вылетел из Сплита трехчасовым рейсом «Люфтганзы» и уже около шести приземлился в Шереметьеве.
Сумрачный подвал, огромный, как подземная автостоянка, был забит пассажирами. Из восьми кабин паспортного контроля лишь в трех горел желтый свет, к ним тянулись весьма условные очереди, больше похожие на толпу. Изредка возникали склоки, одна перешла в неумелый мордобой. Дрались две тетки. Одна, с жирной розовой спиной в квадратном вырезе зеленого платья, зычно кричала: «А вот выкуси, лярва!»
Воздух в подвале был тяжел, воняло немытыми телами, перегаром и сигаретными окурками. Совершенно пьяный тщедушный мужичок в красной футболке клуба «Арсенал» не успел добежать до туалета, его вырвало прямо перед дверью. Толпа лениво отодвинулась от лужи.
Я встал за парнем в белой дачной шляпе и с деревянным этюдником на плече. Художник, явно страдавший жестоким похмельем, достал телефон, позвонил какой-то Ленке и попросил «организовать пивка».
– Народу лом. Ну откуда ж я знаю? – жалобно проблеял он в трубку. – Да, привез… Ага, как просила, с бирюзой.
Мы продвинулись на шаг, художник, не поднимая с пола сумки, пнул ее вперед.
– С пленэра? – кивнул я на этюдник. – Морские пейзажи?
Парень неопределенно махнул рукой.
– Послушай, – улыбнулся я. – Ты меня не выручишь?
Художник насторожился.
– У меня батарея сдохла, не дашь мне отзвониться по твоему? – Я видел, парень придумывал, как бы ему повежливее послать меня к черту. – Всего три минуты? И, разумеется, отблагодарю в пределах моих скромных возможностей.
Я вытащил из кармана стодолларовую бумажку.
У стены воняло блевотиной. Я набрал номер, на второй гудок Джиллиан ответила.
– Кто говорит? – нейтральным голосом спросила она.
– Ник Саммерс. С вами связывалась наша общая знакомая…
– Да, – перебила она. – Вы где?
– Уже в Москве… – Я прикрылся ладонью, быстро заговорил в трубку.
По радио объявили посадку рейса из Анталии. Почти сразу в подвал ворвалась толпа новых пассажиров, шумных и пьяных, с выгоревшими бровями и в яркой летней одежде.
Узкая площадка перед выходом была забита машинами, все сигналили, но никто не двигался. Из вклинившегося поперек движения «Мазератти» выскочил нервный брюнет и принялся орать матом со смешным южным акцентом. На тротуаре стояла патрульная «ауди», один из полицейских, смеясь, снимал южанина на телефон.
Воняло бензином и гарью. Я перекинул сумку через плечо, огляделся. Очередь на такси тянулась метров на сто вдоль фасада и сворачивала за угол. Я пошел в конец. Меня нагнал небритый малый, потянул за рукав.
– Куда ехать, командир?
– Кутузовский, к Триумфальной.
– Сколько дашь?
Нетрадиционный подход к вопросу ценообразования меня удивил. Я отвернулся и встал в конец очереди. Небритый не отставал:
– За сотку, командир, в лучшем виде?
– Полтинник, – исключительно из неприязни ответил я.
– Восемьдесят? Домчу стрелой!
В его старой «тойоте», невероятно грязной снаружи и изнутри, стоял казарменный дух – мужичий пот с одеколоном. Я попытался открыть окно, но на месте ручки торчал стальной штырь.
– Не открывай. – Шофер включил стартер. – Там дышать нечем. Торфяник горит.
Ловко снуя между машин, он вывел «тойоту» со стоянки. Она ехала чуть боком, проседая на разбитых рессорах, из спинки кресла мне под лопатку уперся какой-то гвоздь, само кресло было отодвинуто до упора и прикручено к салазкам медной проволокой. Я попытался осторожно вытянуть ноги.
– Из отпуска? – неожиданно вежливо поинтересовался шофер. – Где отдыхали?
– В Хорватии.
– А-а… В Югославии, – пренебрежительно отозвался он и неожиданно заключил: – Все они гниды!
– Кто?
– Все! И первые гниды – хохлы!
– А грузины?
– Черные? Эти вообще твари!
Мы свернули на шоссе, втиснулись в поток и поползли.
– Сегодня, слава тебе господи, хоть двигаемся! – Шофер опустил свое окно и закурил. – Ничего, что я курю?
Рядом с приемником к торпеде липкой лентой была приклеена бумажная иконка Казанской Богоматери. Справа от нее примостилась вырезка из журнала – вылинявший в голубое портрет Тихого. Шофер заметил мой взгляд.
– Это для ментов…
– Ну и как, помогает?
– Не-е! – заржал мужик. – Менты – сучары! Вконец оборзели. А этот – так, для самоуспокоения. Пусть висит. – Он выкинул окурок в окно. – Ведь надо во что-то верить!
Возражать я не стал, да и прав он был по существу – во что-то надо верить непременно.
43
Я вышел у Триумфальной арки – под ней бродила мелкая стая неизбежных японцев. Мрачная торжественность сооружения, симметрия классических форм явно внушали азиатским туристам уважение. По сравнению с ней странная постройка на Поклонной горе выглядела макетом, сляпанным на скорую руку. Неказистая церковь походила на детскую ракету. Верхушка слишком длинной и слишком тощей стелы втыкалась в грязную дымную пелену, висевшую над городом.
Запах гари мешался с вонью горящего жира – прямо на тротуаре стоял здоровенный мангал, которым заправлял некто в восточном халате. На решетке на длинных шампурах жарились куски мяса неизвестного происхождения.
В подземном переходе кто-то с истеричной бодростью наяривал на гармони, у стен сидели попрошайки, в ларьках продавали какой-то пестрый хлам. Невыносимо воняло мочой. Перепрыгивая через две ступеньки, я выбрался наверх, пошел в сторону Бородинской панорамы. По непонятной причине тротуар был выложен кафельной плиткой.
На стоянке экскурсионных автобусов я нашел своих. Перед красной двухъярусной «Сетрой» с тонированными стеклами и эмблемой «Интуриста» меня ждали оба командира отделений.
– Все на месте? – спросил я.
– Нет двоих из моего отделения. Французов нет.
Я посмотрел на часы. Через семь минут появились французы. В черных очках, бритоголовые, с татуировками на мускулистых руках, почти неразличимыми из-за загара, они напоминали пару наемных убийц на каникулах. Что отчасти соответствовало истине.
– Comment tu vas? – мрачно спросил я.
– Все о’кей, – ответил один. – Все о’кей, босс.
– Нас пытались ограбить, босс, – смеясь, добавил другой.
– Надеюсь, вы не стали писать заявления в полицию? – хмуро пошутил я.
Они оба заржали.
– Нас пытались ограбить полицейские!
Подробности меня не интересовали, я постучал ладонью по стеклу, водитель открыл дверь.
До базы было километров сорок. Из-за пробок мы тащились туда два с половиной часа. Точка находилась под Наро-Фоминском на территории бывшего вагоноремонтного депо. Автобус остановился перед железными воротами, выкрашенными зеленой краской. По верху бетонной ограды шла колючая проволока. Нас долго разглядывали в камеры, наконец ворота раскрылись, и мы въехали на территорию депо. На плацу перед главным цехом нас встретил гипсовый памятник Ленину с отколотой рукой и взвод автоматчиков. Мои ребята начали выгружаться из автобуса. Я объявил общее построение через сорок пять минут, в семнадцать тридцать.
Начальник охраны проводил меня в ангар; там стоял старый «Ми-8» с красным крестом на борту и мой «Сикорски». Мой вертолет был затянут брезентом. Я подошел ближе, зачем-то потрогал брезент. На полу ангара, бетонном и грязном, его, очевидно, никогда не подметали, темнели лужи с тухлой водой. В углу, рядом с кучей угля, были свалены старые слесарные станки, похожие на мертвых роботов. Хлопнула дверь, вошла Анна.
– Ну как? Все в порядке? Ребята все на месте? – Она торопливо задавала вопросы, не дожидаясь ответа, быстро задавала следующий. – Никаких сложностей по дороге? Как тебе Москва? Все ребята на месте?
Анна подошла ко мне, остановилась прямо в луже. Я хотел ей сказать, но увидев ее лицо, осекся. Она поймала мой взгляд.
– Что, совсем старуха? Да, совсем? – Она подняла руки к глазам, так маленькие дети прячутся. – Не сплю третью ночь…
Ее лицо было даже не бледным, а каким-то серым, словно из сырой глины.
– Анна… – начал я, не имея ни малейшего представления, что сказать. – Анна…
– Погоди, погоди, – нервно перебила она. – Коля, дорогой, ты ж профессионал… Ты же… Ну скажи, скажи…
Она поймала мою кисть и сжала, притянула к себе. Глядя в глаза, прошептала:
– Ты можешь мне сказать, что все получится? Что все будет хорошо?
Конечно, я идиот.
Конечно, мне нужно было сказать уверенным тоном, что все будет хорошо. Но из-за дурацкого профессионализма и скудного опыта общения с женщинами, притом что женщина в данном случае являлась к тому же и работодателем, а не просто порочно-развлекательным партнером случайного характера, я начал отвечать на ее вопрос серьезно.
Сказал, что отряд к операции готов, индивидуальные качества бойцов более чем удовлетворительные, координация между наземной, воздушной и ударной группами отработаны до автоматизма. Но нельзя исключить элемент случайности.
Когда я упомянул элемент случайности, у Анны началась истерика. Она вцепилась в мою рубаху, рванула, пуговицы запрыгали по полу.
Она сипло завизжала:
– Засунь себе в жопу элемент случайности! В жопу! Ты должен, должен его убить! Должен!
Ее руки тоже были серые, мертвого серого цвета.
– Ты знаешь, с какой мразью мне пришлось якшаться? – Ее голос сорвался, она закашлялась, зло сплюнула на грязный пол. – С какой сволочью и подонками договариваться? Перетягивать на свою сторону, убеждать… Обещать министерские портфели и губернаторские кресла? Этот ублюдок Каракозов, вот ведь сволочь…
Анна оттолкнула меня, шатаясь, отошла.
– Если он не поднимет авиацию… – Она устало махнула рукой. – Гроб с музыкой. Без авиации будет нам всем гроб с музыкой.
Вдруг она звонко рассмеялась, весело, по-девчачьи. От этого смеха мне стало не по себе. До построения оставалось семнадцать минут, до начала операции – семь с половиной часов.
– Какая авиация? – Я подошел к ней. – Какая, к черту, авиация?!
Мне вдруг показалось, что она сошла с ума.
– Никакая… Тебя это не касается. Ты делаешь свое дело и… – Она послала воздушный поцелуй в сторону угольной кучи, в сторону мертвых станков. – Я ненавидела тебя, ненавидела еще до того, как мы встретились. Ненавидела, потому что зависела от тебя. Для сильного человека нет пакостней муки, чем зависеть от кого-то… – Анна запнулась, невесело улыбнулась мне, как улыбаются больным, чей шанс выкарабкаться близок к нулю. – Впрочем, все это уже не имеет значения. От меня уже ничего не зависит. И еще… Прости меня, ладно?
Она приблизила лицо, по-птичьи наклонила голову и неожиданно поцеловала меня в губы. Мокрым долгим поцелуем.
– Вот так… И запомни. – Она вытерла рот рукой, внимательно посмотрела мне в глаза. – Запомни главное: ты больше не человек, ты – динамит. Ты – мировое событие, что поделит историю России на две части. От тебя зависит будущее.
44
Подходила к концу пятница, последняя пятница лета. Вялое оранжевое солнце, весь день тускло маячившее в дымном небе, наконец доползло до горизонта и навалилось на макушки сосен за Николиной Горой. Его отсвет отразился малиновым нарывом в неподвижной воде Москвы-реки.
В соседнем Архангельском на даче министра юстиции справляли день рождения. Пьяные гости вывалили на террасу любоваться фейерверком. На каждый залп толпа откликалась криком «Ура!», дамы визжали. А когда в дальнем конце сада вдруг вспыхнула и завертелась в ослепительных искрах цифра шестьдесят и из боковых аллей выдвинулись две пестрых группы цыган с бубнами и гитарами, гости шумно зааплодировали и подхватили:
– К нам приехал, к нам приехал Сергей Анатольевич дорогой!
В разгар веселья у ворот дачи появился начальник пожарной охраны, стал умолять прекратить пальбу и прочую пожароопасную деятельность, но его вытащили из машины, насильно напоили водкой и вовлекли в разудалый хоровод, который, ломая кусты сирени и топча клумбы с поздними хризантемами, бесновался в саду.
Сгустились сумерки. Низкое небо, прокопченное августовскими торфяными пожарами, опустилось еще ниже – его грязно-рыжее подбрюшье, казалось, можно было погладить рукой. Музыка, смех и крики министерского юбилея продолжали разноситься на всю округу, до президентской дачи долетал едва слышный бас непонятно каких песен. В двадцать три тридцать на всех постах сменилась охрана, заступила ночная смена. Сменились пароли и коды доступа, включились камеры ночного видения, в ограждение внешнего кольца пустили ток. Автоматические пулеметы, реагирующие на малейшее движение, затаились на вышках, масляно мерцая крупнокалиберными стволами.
В час ночи в хозблоке вспыхнул пожар, загорелся продовольственный склад. Туда накануне были доставлены продукты для столовой, где кормилась обслуга и охрана дачи. Пламя пробило крышу, старая разлапистая сосна, росшая рядом, занялась как свечка – огонь взметнулся по стволу, побежал по коре, сучьям. Сухая хвоя с треском вспыхивала и охапками юрких искр уносилась в небо.
Дерево со стоном разломилось пополам, его правая часть рухнула на гараж. Загорелась крыша. Охрана и обслуга бестолково металась по двору, бесполезные огнетушители плевались пеной, кто-то лысый и полуголый поливал огонь из садового шланга.
Шоферы пытались вывести транспорт из гаража, официальный президентский «майбах» с трехцветным флажком на капоте застрял в воротах, сцепившись с лимонным «ламборгини». Внутри гаража что-то гулко взорвалось, из-под крыши вырвались огненные языки, а из ворот выкатился огненный шар, заметался по двору, страшно вопя. Где-то завыла пожарная сирена.
Перед шлагбаумом главного входа затормозил джип, за ним остановилась пожарная машина, огни мигалки нервно забегали по черным елям. Из джипа выскочил ладный загорелый полковник МЧС с рацией в руке.
– У вас нет допуска! – орал охранник, пихая его тупорылым автоматом в грудь. – Как вы вообще попали сюда?!
– Я тебе покажу допуск! – с веселым азартом орал полковник. – Открывай ворота, кретин!
За стеной, во дворе дачи снова что-то ухнуло, язык рыжего огня взмыл в коричневое небо.
– О! Это уже газ! – Полковник ткнул антенной рации в сторону ворот с хромированным двуглавым орлом посередине.
Охранник оглянулся и вдруг, вздрогнув, начал медленно оседать. Полковник, не вытирая, сунул финку за голенище сапога, что-то отрывисто приказал в рацию. Пожарная машина на полной скорости протаранила ворота, тут же во дворе уверенно затрещали сухие выстрелы.
Крыша хозблока рухнула, пожар перекинулся на столовую, в гараже упругими хлопками взрывались кислородные баллоны. Огонь быстро подбирался по елям к главному корпусу. За бассейном, поднимая тучи рыжей пыли с теннисных кортов, снижался вертолет медицинской службы. В сполохах и дыму его мутный белый корпус напоминал призрачного кита. Шасси не успели коснуться земли, а из люков уже проворно прыгали люди. В черных комбинезонах, в шлемах с окулярами ночного видения, они рассыпались веером, стремительно замыкая кольцо вокруг казармы. Оттуда выбегала полуголая охрана и тут же попадала под прицельный огонь десанта.
По главной аллее, освещенной пламенем и прожекторами, среди убитых и раненых носились обезумевшие овчарки – кто-то открыл вольер и выпустил собак. Их лай мешался с треском автоматных очередей и стонами умирающих. Где-то истошно визжала женщина. В клумбе, скрючившись как негр-боксер, дымился обугленный труп личного шофера президента. Десант начал штурм главного корпуса.
45
Я посмотрел на часы: если все идет по плану, то атака началась семнадцать минут назад. Пилот обернулся, вопросительно взглянул на меня.
– Заводи, – кивнул я. – Наш выход!
Винт включился, мгновенно набрал обороты. Движок работал беззвучно, лишь упругая мощь передавалась корпусу. Моя группа – русский Костя, два ирландца и португалец – сидели на клепаном полу вертолета. Я почувствовал, как машина легко оторвалась от земли и свечой пошла вверх. В наушниках зашуршало, сквозь помехи я услышал голос:
– Би-ван вызывает Первого, Би-ван вызывает Первого.
– Первый слушает. – Я прижал микрофон к щеке.
– Приступаем к третьей фазе! Как поняли?
– Вас понял. Приступаем к третьей фазе. Конец связи.
Костя подмигнул мне, выставив большой палец.
Да, все пока шло хорошо. Португалец дремал, обняв автомат, ирландцы, как обычно, лениво зубоскалили. Невольно представил этих ребят в крови, в копоти, неподвижных – как часто я видел эту необъяснимую трансформацию, этот неуловимый переход из живого в мертвое. Вопреки нашему упрямому отрицанию, эти два мира лежат совсем рядом, иногда на расстоянии вздоха.
Я отвернулся к иллюминатору; под нами проносились тусклые подмосковные огни, из-за торфяного дыма казалось, что деревни, дачные поселки, низкорослые рощи и петляющие дороги, освещенные цепочками мертво-сизых фонарей, лежат на дне какого-то гигантского озера, что я смотрю сквозь толщу мутной янтарной воды.
– Где мы? – окликнул я пилота.
– Прошли Звенигород. До цели шесть минут.
С ясностью, свойственной моим ночным кошмарам, до меня вдруг дошло, что именно сейчас на высоте пятьсот футов и со скоростью двести сорок миль в час я проношусь над приютом, над Звенигородским детдомом номер три. Над моим персональным адом, цепкие щупальца которого намертво вросли в мою душу, в мой мозг, в мою память.
Да, мне повезло, повезло сказочно – мне удалось вырваться из ада, но я так и не смог вытравить ад из себя. Я прижал лоб к стеклу иллюминатора. Внизу тускло блеснул изгиб реки, на холме за полем показался кукольный силуэт многоглавой церкви. Жена, дети, Америка – вся моя жизнь показалась мне чем-то абсолютно нереальным, какой-то безумной выдумкой, нелепой в своей чинной аккуратности: парадная форма белее снега с золотыми аксельбантами, Хелью в красном платье с корзинкой для пикника – сзади невероятно зеленый стриженый газон, воскресное утро в церкви, пастор с розовым, словно свежевымытым лицом, веранда – скрип кресла-качалки – закат плавится в стакане виргинского бурбона в моей руке.
Виргинский бурбон? Какой, к чертовой матери виргинский бурбон?! Какая веранда?! Я – Колька Королев, босяк, оторва, сиротский выблядок с заточкой в рукаве! Я бью всегда первым, бью безжалостно, даже если я не прав, потому что в моем сучьем мире важно быть живым, а не правым.
– Две минуты до цели! – крикнул пилот.
Вертолет, войдя в вираж, хищно ринулся вниз. Ребята без суеты приготовили тросы, пристегнули карабины. Я толкнул дверь, она пошла как по маслу. Люк раскрылся.
В кабину ворвалась бензиновая гарь, вонь горячего металла. Внизу бушевало настоящее пожарище – хозблок и гараж сгорели дотла, из окон столовой вырывалось белое пламя. Горели деревья главной аллеи, на дорожках, газонах, в клумбах валялись трупы, много трупов. У внешнего поста, загороженного пожарной машиной, застряло несколько грузовиков, какие-то легковушки с мигалками. Вертолет медслужбы стоял на теннисных кортах. Все шло по плану.
– Цель! – гаркнул пилот.
Мы зависли над крышей главного корпуса.
– Пошли!
Я хлопнул португальца по спине, тот сгруппировался и соскользнул вниз по тросу. За ним ирландцы, один за другим, потом русский. Последним прыгнул я. Трос натянулся, запел, подошвы пружинисто стукнулись о бетонную крышу. Костя уже прилаживал взрывчатку к чердачному люку. Внизу трещали автоматы, хлопнула подствольная ракета. Весело брызнули мелкие стекла. Моргнули и погасли прожектора главной аллеи, фонари и окна – первая группа добралась до подстанции и обесточила территорию дачи.
Мы знали план дома наизусть: от чердачного люка до середины спальни было ровно шестьдесят пять шагов, двадцать шагов направо – бассейн и сауна, дальше – пост охраны, за ним – холл и кинозал. Прибор ночного видения раскрасил чердак зеленым, мерцающие балки уходили в незатейливую перспективу, как поле в компьютерной игре прошлого века. Костя, оставляя за собой изумрудный светящийся шлейф, быстро отсчитал шаги до середины спальни, потом – до поста охраны. Оба взрыва грохнули одновременно. Снизу, с охранного поста раздалась непонятная гортанная ругань, автоматная очередь прошила изнанку крыши. Ирландец, небрежно вырвав чеку, швырнул в дыру осколочную гранату. Ухнул взрыв, ирландец, быстро перекрестившись, нырнул в дыру. За ним прыгнули остальные трое, теперь их задача была блокировать этаж. Передо мной стояла задача найти Тихого.
В спальне не было окон. Зеленоватые очертания неясной мебели, какие-то бабские пуфики, низкая овальная кровать под тигровым покрывалом бордельного фасона – я присел на корточки, прислушиваясь. Шум перестрелки едва долетал. Казалось, будто у соседей внизу показывают боевик. Гораздо громче ухало мое сердце. Не вставая, я внимательно оглядел периметр – спрятаться было негде. В спальне не было никого.
Я открыл дверь в ванную – пусто, заглянул в джакузи – тоже никого. Упруго застучало в висках, во рту появился металлический привкус. Кровь, подумал я, до крови прикусил губу. Вторая дверь вела в холл. Я старался ступать тихо, но по ковру было рассыпано битое стекло, которое мерзко хрустело под башмаками.
В стену холла был вделан длинный аквариум, который я сперва принял за экран телевизора. В темноте неспешно скользили какие-то большие рыбины. Я зачем-то постучал перчаткой по стеклу, из черноты выплыла тень, и на меня уставилось осетровое рыло. В этот момент из спальни донесся слабый звук – будто скулил щенок. Осторожно ступая, я вернулся и застыл в дверях. Из-под кровати послышался шорох. Я подбежал, нагнулся и отдернул полог. Под кроватью прятался мальчишка.
– Вылезай! – приказал я.
Паренек с трудом выбрался из узкой щели. Он был худой и совершенно голый, на вид не старше двенадцати. Его колотило от страха.
– Где он? – тихо спросил я.
Мальчишка, как зверек, дернулся на звук, его руки продолжали слепо ощупывать темноту.
– Где он? – повторил я.
Парень непроизвольно повернулся в сторону кровати. Его безумные, выпученные от страха глаза смотрели сквозь меня.
Неожиданно включился свет, наверное, сработал аварийный генератор. Я зажмурился, прибор ночного видения, многократно усилив свет, на миг ослепил меня. Подняв окуляры, я оттолкнул мальчишку, ухватил тигровое покрывало и сдернул с кровати. На атласной простыне алого цвета, распластавшись, как морская звезда, лежал Тихий.
Раскинув руки и ноги, вжавшись затылком в пухлый матрац, он с ужасом смотрел на меня. В правой руке он сжимал смит-вессон седьмого калибра, позолоченный и какой-то бутафорский. Привстав, Тихий подался вперед неуклюжим тюленьим прыжком, выставил револьвер и нажал на спусковой крючок. Я ушел влево и стволом карабина выбил пистолет. Пуля вошла в потолок, оттуда со звоном посыпались осколки – весь потолок спальни был выложен зеркалами.
Тихий перекатился через кровать и неожиданно проворно побежал на четвереньках в сторону холла. Я кинулся за ним, ухватил за ворот, поднял – он оказался легким, как подросток, и гораздо мельче, чем я ожидал, – едва доставал мне до плеча. На нем было черное кимоно, шелковое и насквозь мокрое от пота. Коротким ударом я стукнул Тихого в печень, он охнул и скрючился. Мальчишка снова заскулил. Только сейчас я заметил, что у него жирно нарумянены щеки и глаза подведены черной тушью на китайский манер.
46
Я вытащил Тихого на крышу, он почти не сопротивлялся.
– Это война? – испуганно озираясь, спросил он.
Столовая внизу лениво коптила, крыша гаража рухнула, хозблок сгорел дотла и сиял рубиновой россыпью, из которой поднимался густой белый дым. Пальба почти стихла, изредка щелкали одиночные выстрелы. Я поправил шлем и включил микрофон.
– Первый вызывает всех, – сипло проговорил я и откашлялся. – Уходим! Повторяю, уходим!
Санитарный «Ми-8» на теннисных кортах включил движок, к вертолету стремительными тенями заскользили десантники. Порыв мощного ветра – из тьмы грязного неба безмолвным призраком выплыл мой «Сикорски» и грозно завис над крышей. Из люка спустили трос, я пристегнулся, сграбастал Тихого в охапку.
– Поднимай! – крикнул в раскрытый люк.
Пилот включил лебедку, и мы поплыли вверх. От Тихого разило кислым потом, он негромко кряхтел и по-бабьи постанывал.
– Ждем остальных? – спросил пилот.
– Нет, они уйдут на «докторе». – Я захлопнул люк.
– Идем на базу?
– Да. – Я достал браслеты, пристегнул руку Тихого к скобе. – На базу. Через двадцать седьмой квадрат.
– О’кей, через двадцать седьмой.
Вертолет подался вперед, клюнул носом и мощно пошел вверх. Тихий охнул, потерял равновесие, свободной рукой цепко ухватил меня за рукав.
– Сядь спиной к стене и вытяни ноги.
Тихий послушно сел. Кимоно распахнулось, гениталии неожиданно внушительных размеров вывалились на клепаный металлический пол. Я отвернулся, но успел заметить, что Тихий весь выбрит – лобок, грудь, даже ноги.
– Куда мы летим? – спросил он. – Куда?
– Сколько до двадцать седьмого? – крикнул я пилоту.
– Через семнадцать минут будем!
– Куда ты меня везешь? – Тихий придвинулся ближе. – Это заговор, да? Заговор? Кто? Это Юсупов, да? Юсупов?
Он схватил меня за локоть.
– Яйца прикрой. – Я оттолкнул его руку.
– Юсупов… Точно, Юсупов… вот падла… – Тихий замычал, как от зубной боли. – Вот ведь гнида! Вшиварь! Ведь я его пожалел, а он мне тюльку косяком гнал. – Он снова вцепился мне в локоть. – Сколько он тебе платит? Сколько?
Он повис на мне, дыша кислятиной в лицо. Я ткнул Тихого в грудь, он гулко ударился затылком в обшивку.
– Кончай гоношиться! – Он сморщился, потирая голову. – Не будь козлом. Я тебе три конца отобью. Скажи сколько! Сколько? Полсотни лямов бакинскими – не вопрос! Ведь ты ж таких бабок даже не нюхал!
Я посмотрел на часы: у меня оставалось десять минут.
– А потом… потом… – Тихий заторопился. – Юсупов ведь дрефло, никакого бабла тебе не видать! Ты думаешь, он тебе заплатит? – Он засмеялся, словно залаял. – Держи карман! Заплатит! Ты меня ему привезешь, а он тебя и замочит… Там его горлохваты уже ждут тебя, не дождутся. Ну ты профессор, блин! Я тебе повторяю, не будь дураком!
Он запыхался, покраснел. Правый глаз у него дергался, словно он пытался мне подмигнуть.
– Эй, пилот! – неожиданно высоким голосом завопил Тихий, вытянув шею в сторону кабины. – Пилот! Приказываю повернуть вертолет! В случае неповиновения…
– Не ори! – перебил я его. – Он по-русски не понимает.
– А-а… Суки! Наемники! – Он поперхнулся от возмущения, закашлялся, харкнул на пол. – Продали Россию, гниды пархатые! Ты думаешь, я Юсупова боюсь? Юсупов передо мной на цирлах будет дыбать. У меня ж все концы! Все ж завязки на мне. Все счета… все… Я ж все на себя замкнул. И Юсупов это знает. Там ведь бабки чумовые – сотни миллиардов… Да! – Он снова сплюнул. – А вот тебе, парень, кранты.
Он запахнул кимоно, придвинулся к стенке.
– Кто такой Лоренц? – спросил я.
Мне показалось, что он ухмыляется.
– Кто такой Лоренц? – повторил я.
– Тебе кранты, парень, – ласково проговорил Тихий. – Кранты.
Я вытащил из кобуры глок, приставил ствол к его голому колену.
– Последний раз спрашиваю: кто…
– Кранты тебе! – перебил он.
Я выстрелил. Пуля раздробила колено, рикошетом от пола ушла в стенку. Пилот настороженно оглянулся.
– Все о’кей? – испуганно спросил он, я махнул рукой, мол, все в порядке.
Глаза Тихого вылезли из орбит, он разинул рот в крике, страшном, но совершенно беззвучном – казалось, кто-то выключил звук. Не отрывая безумного взгляда от кровавого месива, он начал подниматься, ползти вверх по стенке, отталкиваясь здоровой ногой от железного пола вертолета. И наконец закричал.
Я коротко ударил его рукояткой пистолета в челюсть. Тихий захлебнулся, сделался пепельно-серым, серым стало лицо, грудь, руки. Его бил озноб, он тянул свободную руку к колену, но боялся дотронуться до раны. Потом начал размазывать кровь по полу ладонью.
– Кто такой Лоренц? – повторил я.
Тихий выл, к соленому запаху крови прибавилась вонь кала. Я приставил ствол пистолета ко второму колену.
– Нет! – Он дернулся, пытаясь вжаться в обшивку стены. – Нет! Нет! Убери пистолет! Я скажу, скажу! Убери этот пистолет! Ну пожалуйста, убери пистолет, убери…
Его лицо, гладкое лицо скопца, без морщин и изъянов, от пластических операций ставшее похожим на резиновую маску, исказила гримаса, гротескная, почти смешная – так клоуны в цирке изображают плач. Тихий зарыдал, зарыдал в голос, по-бабьи завывая и раскачиваясь из стороны в сторону. Я вдавил ствол в колено.
– Ну убери ты его… – сквозь всхлипы, давясь и задыхаясь, проговорил Тихий. – Убери, пожалуйста… Пистолет… Смотри, что ты наделал… Ну убери его… Как же я теперь…
– Лоренц, – напомнил я.
– Лоренц, – механически повторил Тихий. – Лоренц… Меня перевели в торгпредство, из Берлина перевели в Лейпциг. В каком году… Не помню… Мы через Польшу гнали иномарки, сначала честные, потом паленые. Под Познанью организовали гараж, перебивали номера, документы делали. Угоняли только люкс, «шестисотые» тогда котировались… В Москве здорово шли «шестисотые» тогда. Анекдот такой еще про «нового русского», который покупает… Какой же год?
Он все размазывал и размазывал густую коричневую кровь по железному полу.
– А потом, потом начались неприятности, несколько тачек сожгли на перегоне, я здорово влетел на бабки, меня поставили на счетчик… А Лоренц пас меня еще в Берлине, по Берлину еще помню его. Я сразу въехал, что он меня вербует, я ведь сам… Рыбак рыбака… Такое дело. Короче, я позвонил ему, из Лейпцига позвонил. Ну, он и приехал. В Лейпциг.
– Двадцать седьмой квадрат! – крикнул пилот.
– Иди по реке, перед мостом тормозни!
Я сунул пистолет в кобуру, Тихий, продолжая бормотать, закрыл глаза.
Я встал, распахнул люк. После вони в кабине воздух показался холодным и свежим. Мы шли над самой водой, повторяя изгибы реки. Впереди показался мост.
– Здесь!
Машина зависла, от винтов по реке пошла рваная рябь.
– Идешь на базу! – крикнул я пилоту.
– Есть!
Я оглянулся. Тихий, бледный и грязный, казалось, заснул. Его рука прилипла к полу, голова опустилась на грудь. Я подумал, что моя коллекция ночных кошмаров только что пополнилась новым экспонатом. Я посмотрел на часы, оттолкнулся и прыгнул в люк.
47
Глубина Истры в этом месте должна быть около трех метров, на самом деле оказалось не больше двух. Я оттолкнулся от илистого дна и вынырнул. Вертолет свечой взмыл вверх, набрав высоту, сделал вираж и пошел на восток. Низкое небо казалось подсвеченным откуда-то снизу тусклым ржавым светом. На востоке сияние усиливалось – там была Москва.
Вертолет быстро удалялся. Уменьшился в едва различимую точку, снова сделал вираж. И вдруг превратился в огненный шар. Через несколько секунд до меня докатился тугой звук взрыва.
Анна решила не рисковать. Я знал, был уверен, что это должно случиться, – необязательно именно таким макаром, но нечто похожее. Знал, что в этом нет ничего личного. Знал, но все равно испытал разочарование и досаду. Словно тебя подвел хороший знакомый. Впрочем, я сам испытывал к ней достаточно противоречивые чувства.
Доплыв до мелководья, я пошел сквозь камыши в сторону моста. Пахло речной тиной, голосистые лягушки на листьях кувшинок замолкали и плюхались на всякий случай в воду. Мои башмаки проваливались в ил, здоровенная рыба, наверное, сом, на которого я чуть не наступил, вырвался из-под ноги, здорово меня напугав.
На берегу, у самого моста росла сдвоенная ива, там я выбрался и лег на траву. От нее хорошо просматривалось шоссе в обоих направлениях. За дорогой, на взгорье, чернели невысокие деревенские хибары. Я вспомнил, что поселок называется Павловская слобода.
С запада донесся шум, едва слышное ворчанье, глухое, словно из-за дальнего леса надвигалась гроза. Я привстал, звук нарастал, быстро приближался. Над моей головой с ревом промчалось звено штурмовиков. Маршал Каракозов не подвел: «Грачи» шли на Москву бомбить Лубянку и кремлевские казармы. Определенно у Анны Кирилловны все шло как по маслу.
По деревне забрехали собаки. В крайнем доме зажглось окно, кто-то вышел на крыльцо, закурил. Потом оранжевый огонек, прочертив дугу, исчез в темноте, дверь хлопнула, и все стихло. Я посмотрел на часы – Джиллиан опаздывала на двенадцать минут.
Я бы не назвал Павловскую слободу оживленным местом. За все время по мосту проехала одна машина – полуторка, груженная пустыми бидонами. В три ноль пять со стороны Москвы показались фары легковушки. Пригнувшись, я стал подбираться к дороге. Темный седан притормозил перед мостом, съехал на обочину и остановился. В поселке закукарекал какой-то шальной петух. Я решил пролезть под мостом и не выходить на шоссе. Седан погасил дальний свет, включил подфарники.
Послышался шум мотора. Два грузовика быстро приближались к мосту со стороны города. Я был уже у самой обочины, до седана оставалось метров двадцать. Передний грузовик, мощный восьмиосный дизель, не сбавляя скорости, врезался в седан. Страшный удар, скрежет металла и звон стекла грохнули, как взрыв. Легковушка подскочила и встала на бок. Из второго грузовика – он перегородил шоссе – высыпали люди с десантными автоматами. Затрещали короткие очереди. Потом люди в камуфляже и масках подожгли машину. Взорвался бензобак, осветив все вокруг лимонным заревом.
Я скатился к реке, дополз до ивняка. Прячась за кустами, побежал вдоль берега. Метров через сто остановился. Машина на мосту продолжала гореть.
Стянул с себя комбинезон, туго связав в узел, придавил камнем в камышах. Утопил глок. Остался в черной футболке и парусиновых штанах, которые при известном воображении могли сойти за летние брюки. В заднем кармане, в непромокаемом пакете, лежали оба паспорта и деньги – «двадцать кусков бакинскими» – как выразился бы Тихий, который, думаю, к тому моменту уже переправился через Стикс и следовал к месту своей безвременной дислокации где-то в районе предпоследнего круга, где горят в потоках кипящей крови души тиранов.
48
По берегу, вдоль реки, я обогнул деревню, выбрался на кривой, битой глины, проселок. Быстро рассветало. Небо из коричневого стало пепельным. Деревья, крыши хибар, телеграфные столбы, бесконечные заборы казались черной аппликацией, плоской и мертвой. На несколько минут мир потерял все краски – трава, дорога, листья деревьев – все было серого цвета. Я взглянул на ладони – они тоже были серые.
Свернув с улицы со странным названием Стадион на улицу Калинина, я вышел к железнодорожной станции. Здание вокзала, старое, из красного кирпича, было крест-накрест заколочено двумя досками. Все стекла в узких окнах были выбиты с какой-то удивительной старательностью.
По щербатой лестнице я поднялся на платформу. Подошел к краю, безмолвные рельсы, сияя тусклой сталью, безнадежно уходили в перспективу. Пахло мазутом, шпалами, железом. Я пошел по перрону, лениво пиная мелкий мусор.
На лавке под навесом сидела женщина с пышными волосами желтого цвета, пацан лет шести спал, уткнувшись ей в живот. Я тихо присел рядом, спросил:
– Когда на Москву электричка?
– Чего, заблудился, сердешный? – Она подозрительно оглядела меня. – Накеросинился поди вчера?
– Было дело… – уклончиво ответил я.
Она с материнским укором поджала губы. Женщине было за тридцать; несмотря на ранний час, румяна, помада и прочая боевая раскраска были наведены безукоризненно. Я вспомнил слова Розалин про женские лица и посмотрел на руки. Руки у женщины были хорошие, добрые.
– В пять десять, – после паузы сказала она. – Раньше была в пять ноль-ноль, но ее отменили.
– Спасибо.
Я взглянул на часы, откинулся и закрыл глаза. Больше всего на свете мне хотелось забыть всю эту мерзость – минувшую ночь, Тихого, Анну.
– А мы вот в «Детский мир» с утра пораньше. Чтоб к открытию. Надо и форму, и портфель. Первый класс… Сам-то из Москвы? – спросила тетка. – Или откуда?
– Не из Москвы, подальше будет. На самолете добираться.
– На самолете, – передразнила она меня. – И чего вам, мужикам, дома не сидится? Шило в жопе у вас? Вот какой бес вас гоняет помелом неведомо куда?
Я открыл глаза, пожал плечами.
– А сам-то женат? – хитро глянув, спросила она.
– Женат.
– Дети есть?
– Двое, дочке семь, парню двенадцать.
– Фотографии нет?
– Нет фотографии…
– Эх, мужики, – безнадежно махнув рукой, вздохнула она. – Все вы одинаковые.
Я улыбнулся. Понуро опустил голову, соглашаясь с приговором: что-то с нами и вправду неладно. Она опустила руку, ласково погладила сына по белобрысому затылку, задумчиво и едва касаясь – чтобы не разбудить. Шея мальчишки была совсем белой, его явно только накануне постригли. Он что-то пробормотал во сне, взволнованно и серьезно: наверное, там, во сне, собирался нырять с какой-то страшной кручи или гнал сломя голову на велике. Или бледнолицым удалось взять в плен вождя могикан. Или пиратский корвет уже развернулся левым бортом и сейчас даст залп из всех орудий.
А ведь где-то есть – не может не быть! – вселенная с таким же полустанком и с такими же мертвыми рельсами, уходящими из ниоткуда в никуда, с таким же пустым перроном и лавкой, на которой сидит моя мать и гладит меня, спящего. И я так же взволнованно бормочу, потому что мне снится жуткий сон про Тихого, Анну, ночную вертолетную атаку. Рука матери, легкая и ласковая, и шепот: «Не бойся, это тебе снится. Не бойся, я тут».
За моей спиной из кустов робко зачирикала какая-то птаха. Она повторяла одну и ту же фразу, повторяла неуверенно, точно рассуждала сама с собой. Небо, до этого мышино-серое, посветлело и вдруг стало нежно-розовым. Это было похоже на чудо. Волшебная зефирная дымка стала густеть, набирать силу. Я задрал голову и стал наблюдать – не каждый же день тебе показывают чудеса. Да и времени у меня было навалом, до первой утренней электрички оставалось еще двадцать минут.
Эпилог Мое письмо Хелью, которое она никогда не получит
Милая моя, прости меня. Прости за то, что наша жизнь сложилась не совсем так, как я того хотел. И совсем не так, как хотела ты. Прости. У нас, русских, есть дурацкая привычка просить прощения, когда это уже не имеет никакого значения. Ты, впрочем, и без меня знаешь, что мы не самый логичный народ на свете.
У меня скверное предчувствие, что на этот раз выкрутиться мне не удастся, что моего везения осталось совсем чуть-чуть, на донышке. Как в детстве бывало с вареньем. Или со сгущенкой. Оглядываясь назад (прости дурацкий штамп), могу сказать, что мне не страшно, я думал об этом много раз, ведь смерть была частью моей профессии. Мне не страшно, лишь немного грустно. И хватит об этом – давай я лучше расскажу тебе что-нибудь. Какую-нибудь чепуху, чтобы ты запомнила меня веселым и беззаботным.
Помнишь тот день в Аннаполисе – это было наше третье свидание. Помнишь тот день? Пронзительно-синий, синий до звона. Он у меня так и отпечатался – синий с белым. Жаль, что я не художник, – это был такой волшебный синий цвет!
Мы сидели на берегу, помнишь, я тебе что-то рассказывал, а ты смотрела куда-то мимо меня и задумчиво играла с песком. Песок был белый, горячий и совсем мелкий. Совсем как соль. Ты зажимала песок в кулак, а он тонкой струйкой тек из твоей руки.
Мы шли по полосе прибоя. Я шагал босиком, засунув башмаки в карманы, бесстрашно шагал по воде, а ты, пятясь, убегала от волн. Ты находила белые ракушки, миниатюрные, как ювелирные украшения, находила зеленые и синие кусочки бутылочного стекла, обточенные морем до леденцовой гладкости.
А потом на веранде прибрежной харчевни я учил тебя разделывать крабов. Их принесли на подносе, целую дюжину. Их алые панцири и рубиновые клешни казались лакированными. Крабы были горячие, ты обжигалась, дула на пальцы.
Наглые чайки кружили над нами, что-то кричали, требовали. К причалу подходили лодки и яхты, помнишь ту, с темно-синими парусами? Помнишь, как она называлась? «За семь секунд до конца света» – чудное имя для яхты.
Мы с тобой придумывали названия для наших яхт и каравелл, прокладывали им маршруты сквозь океаны и моря. Тебе непременно хотелось обогнуть мыс Доброй Надежды, хоть ты и не очень представляла себе, где он находится. Я пальцем чертил на столе карту полушарий, проводил экватор. Австралия была твоей ладонью, Африка – моей.
А потом была гроза, летняя, неистовая. Она настигла нас на набережной, той деревянной набережной со старинными фонарями. Мы бежали и вымокли насквозь, ты потеряла босоножку, я нагнулся и снял с твоей ноги вторую, размахнулся и закинул ее в океан. Как мы хохотали! Почему, почему нам было так весело?
А после я поднял тебя на руки и понес. Помнишь?
Я помню тот день, помню блеск капель на листьях, блеск дождя на твоих ресницах, помню запах дождя на твоей коже, запах твоих волос – такой сладкий ванильный запах. Будто ты только что вышла из кондитерской.
Ты первой увидела радугу и прошептала мне на ухо: «Хочешь, я устрою для тебя чудо? Для тебя одного, хочешь? Повернись, только медленно». Я повернулся, и там действительно было чудо – радуга. Она сияла над океаном, сияла для меня одного.
Я хотел рассказать тебе про этот день – вот он. Вот этот день.
Вот моя жизнь. Что там? Стреляные гильзы, сиротские сны, пара пустяковых ранений, жажда справедливости, несколько восторженных мыслей, куцых и по-детски наивных. И мечты, мечты. Мой ангел уже тянется к своей трубе, еще секунда – и она сверкнет медью в луче заходящего солнца. Прозвучит сигнал, и я растворюсь. Исчезну. Нам не суждено увидеться ни в этом мире, ни в том, что за радугой. Там темно, и туда не пускают девочек с русыми волосами, от которых пахнет ванилью. Поэтому прощай. Не грусти и не плачь, от слез появляются морщины. Единственное, о чем я тебя прошу, – помни. Просто помни.
Виргиния-Вермонт 2014☺1. ☺☺Примечания
1
Борис Бархас. Летучий голландец.
(обратно)2
Федерико Гарсия Лорка. Элегия. Пер. М. Самаева.
(обратно)







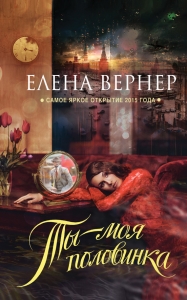

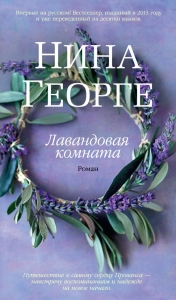


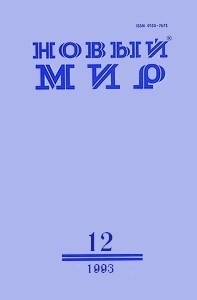
Комментарии к книге «Харон», Валерий Борисович Бочков
Всего 0 комментариев