Джоди Пиколт Уроки милосердия
© Jodi Picoult, 2013
© Shutterstock.com / Serg Zastavkin, обложка, 2014
© DepositРhotos.com / Anegada, tpzijl, обложка, 2014
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2014
* * *
Сюжет романа – художественный вымысел. Исторические события, имена действительно живших людей и названия реально существующих мест упоминаются сознательно. Остальные имена, герои, места и события являются плодом авторского воображения.
Слова благодарности
Толчок к написанию этой книги дал «Подсолнух» Симона Визенталя. Когда Визенталь находился в нацистском концлагере, его привели к кровати умирающего эсэсовца, который хотел исповедаться и получить прощение у еврея. Вставшая перед Визенталем нравственная дилемма послужила началом многочисленных философских и этических размышлений о том, как развиваются отношения между жертвами геноцида и преступниками, – они-то и заставили меня задуматься, что бы произошло, если бы с подобной просьбой много десятилетий спустя обратились к внучке узницы-еврейки.
Создание романа об одном из самых ужасных преступлений против человечества – грандиозная задача, поскольку, даже если произведение является художественным вымыслом, правильно расставить акценты означает отдать дань уважения тем, кто выжил, и почтить память тех, кому выжить не удалось. Я в неоплатном долгу перед людьми, чья неоценимая помощь вдохнула жизнь в сегодняшний мир Сейдж и мир прошлого Минки.
За то, что меня научили печь хлеб, за самое вкусное исследование в своей карьере хочу выразить благодарность Мартину Филиппу. Моя благодарность Элизабет Мартин и книжному магазину One More Page Books в Арлингтоне, штат Вирджиния, за то, что научили меня печь с целью получить выгоду.
За истории из жизни в католической школе хочу поблагодарить Кэйти Десмон. За помощь в написании балетной терминологии, которой пользовалась Дара, спасибо Эллисон Сойер. За объяснение, как проводятся занятия по групповой психотерапии, моя благодарность Сьюзан Карпентер. За консультации, связанные с подготовкой к возбуждению дела, правовые вопросы и вопросы, связанные с военным трибуналом, выражаю благодарность Алексу Уайтингу, Фрэнку Морану и Лайзе Гешейдт.
Во время написания книги я выставила на аукцион имя героя, чтобы помочь собрать деньги в фонд защиты прав геев и лесбиянок. Благодарю Мэри Деанжелис за ее щедрость, за то, что позволила назвать своим именем лучшую подругу Сейдж.
Спасибо Эли Розенбауму, начальнику подразделения стратегии и политики отдела особых преступлений при Министерстве юстиции, настоящему «охотнику за нацистами», который нашел время, чтобы научить меня тому, чем занимается сам, позволил создать героя, основываясь на своем опыте, – он до сих пор способен растопить даже сердце дракона! Я невероятно признательна миру, что есть такие люди, как он, которые неустанно выполняют свою работу. (И я ценю то, что он позволил мне вольность относительно скорости, с которой историки получают информацию из Управления национальных архивов и учетных документов, – в действительности это занимает дни и недели, а не минуты.)
Я благодарна Полю Вайзеру, который преподал мне первый урок истории Третьего рейха, и Штеффи Глейдбеку, который обрисовал перспективы Германии. Я в долгу перед доктором Питером Блэком, старшим научным сотрудником американского Музея холокоста, который отвечал на мои бесконечные вопросы, с неизменным терпением исправлял неточности, помог по крупицам воссоздать принципы воспитания нациста и прочел мою рукопись, чтобы добиться исторической аккуратности. Я не кривлю душой, когда заявляю, что без его участия написание этой книги было бы невозможно.
Благодарю команду Джоди Пиколт в издательстве «Emily Bestler Books/Simon & Schuster»: Каролин Рейди, Джудит Курр, Кейт Цетруло, Каролин Портер, Криса Лёреда, Жанну Жи, Гари Урда, Лайзу Кейм, Рэчел Цугшверт, Майкла Селлека и всех остальных, которые помогают моей карьере развиваться. Спасибо классной команде пиарщиков: Дэвиду Брауну, Ариэль Фредман, Камилле Макдаффи и Кэтлин Картер Црелак, которые умеют так же увлечь читателей моей новой книгой, как увлечена ею я. Эмили Бестлер, я ценю твои наставления, твою дружбу, преданность моим произведениям и способность найти самые лучше веб-сайты, продающие книги.
Лаура Гросс, с юбилеем! Спасибо за информацию об Oneg Shabbat («радость субботы»), за то, что позволила Сейдж влезть в твою шкуру, а больше всего за то, что ты мой друг.
Спасибо моему отцу за то, что он читал седер голосом Дональда Дакка, когда мы были детьми, и моей маме. Я знаю, что она невероятная женщина, но когда я только заикнулась о том, что мне нужно найти кого-нибудь из жертв холокоста, через день у меня уже были имена и номера телефонов. Она вымостила мне дорогу, когда я писала книгу. И я безмерно ей благодарна.
Мне трудно выразить благодарность всем людям, перед которыми я в неоплатном долгу. Во время написания романа мне довелось пообщаться с группой удивительных людей – жертв холокоста, чьи воспоминания о войне в деревнях, в городах, о гетто и концлагерях дали пищу моему воображению и позволили создать образ Минки. И хотя Минка пережила те же ужасы, что описывали мне бывшие узники концлагерей и нынешние «охотники за нацистами», ее образ – полностью плод моего воображения, она не списана ни с одного из тех, с кем я встречалась или беседовала. Для меня огромная честь, что эти люди открыли мне свои сердца и двери домов. Спасибо, Герда Вайсман Клейн, за мужество и писательский талант. Спасибо, Берни Шиир, за честность и благородство души, когда делились со мной пережитым. И спасибо вам, Маня Сэлинджер, за смелость, за то, что позволили погрузиться в свою жизнь, за то, что стали мне бесценным другом.
И последнее. Огромная благодарность моей семье: Тиму, Кайлу (который обладал даром предвидения и стал изучать немецкий, пока я писала эту книгу), Джейку и Саманте (которая сочинила для меня пару абзацев о вампирах). Вы четверо – история моей жизни.
Посвящается моей маме, Джейн Пиколт.
За то, что ты научила меня, что в жизни нет ничего дороже семьи.
И потому что спустя двадцать лет опять настала твоя очередь
Отец заранее обсуждал со мной все детали своих похорон.
– Аня, – говорил он, – никакого виски на похоронах. Хочу самое лучшее вино из черной смородины. И запомни, никаких слез. Только танцы. А когда меня опустят в землю, хочу, чтобы трубили фанфары и выпустили белых бабочек.
Вот такой человек мой отец. Он был сельским пекарем, и каждый день помимо буханок хлеба для продажи выпекал одну-единственную булочку для меня – единственную в своем роде и невероятно вкусную: в форме короны принцессы, с корицей и великолепным шоколадом. Он уверял, что секретный ингредиент – это отцовская любовь, поэтому его булочка – самое вкусное, что мне доводилось пробовать.
Мы жили на окраине деревушки настолько маленькой, что все знали друг друга по именам. Стены нашего дома были сложены из речного камня, крыша из соломы, а жара от печи, в которой отец выпекал караваи, хватало, чтобы обогреть весь дом. Я обычно сидела за кухонным столом, чистила горох, который сама же выращивала на небольшом огороде за домом, а отец открывал заслонку каменной печи и засовывал туда пекарскую лопату, чтобы достать круглые хрустящие хлеба. Свет тлеющих красных угольков подчеркивал очертания его крепкой спины под взмокшей от пота рубашкой.
– Не хочу, чтобы меня хоронили летом, Аня, – говорил он. – Сделай так, чтобы я умер, когда похолодает и будет дуть приятный ветерок. До того как птицы улетят на юг, чтобы они могли спеть для меня.
Я делала вид, что записываю все его пожелания. И меня совершенно не смущали разговоры о смерти: для меня отец был таким сильным и крепким, что не верилось, что когда-либо придется исполнить хотя бы один из его заветов. Некоторые жители деревушки находили наши отношения с отцом странными: разве можно шутить такими вещами! Но мама моя умерла, когда я была еще крохой, и мы с папой остались одни.
Неприятности начались, когда мне исполнилось восемнадцать. Сперва стали поступать жалобы от фермеров: они приходили покормить цыплят, а обнаруживали только окровавленные перья либо теленка со вспоротым брюхом, вокруг туши которого уже роились мухи.
– Лиса, – сказал Барух Бейлер, сборщик податей, который жил у деревенской площади в особняке, походившем на драгоценный камень на шее у королевской особы. – Или дикая кошка. Платите, сколько должны, в обмен будете в безопасности.
Однажды он пришел в наш дом, когда мы его совсем не ждали, – я хочу сказать, что мы не успели забаррикадировать дверь, потушить огонь и сделать вид, что нас нет дома. Мой отец делал хлеб в форме сердца, как всегда в мой день рождения, поэтому весь поселок знал, что сегодня особенный день. Барух Бейлер величаво зашел в кухню, поднял свою трость с золотым набалдашником и стукнул ею по столу. Поднялось облако мучной пыли, а когда пыль улеглась, я посмотрела на тесто в папиных руках, на это разбитое сердце.
– Пожалуйста, – произнес отец, который никогда никого не просил. – Я знаю, что обещал. Но дела идут неважно. Если вы дадите мне немного времени…
– Ты не выполняешь своих обязательств, Эмиль, – ответил Бейлер. – Я накладываю арест на эту конуру. – Он нагнулся ближе. Впервые в жизни мне перестало казаться, что отец несокрушим. – Но поскольку я щедрый и великодушный человек, то даю тебе сроку до конца этой недели. Если не принесешь денег… даже не знаю, что будет. – Он поднял трость и обхватил ее руками, как оружие. – В последнее время происходит столько… несчастий.
– Вот поэтому у нас так мало покупателей, – негромко сказала я. – Люди боятся ходить на рынок из-за обитающего в окрестностях зверя.
Барух Бейлер повернулся, как будто только сейчас заметил мое присутствие. Взглядом ощупал меня с ног до головы – от черных волос, заплетенных в косичку, до кожаных ботинок, дыры на которых были залатаны толстой фланелью. От его взгляда по моему телу пробежала дрожь, совсем не похожая на ту, которая охватывала меня под взглядом Дамиана, капитана караула, когда он смотрел, как я иду по сельской площади, – как кот на сметану. Нет, в этом взгляде читалась корысть. Складывалось впечатление, что Барух Бейлер пытается прикинуть, сколько за меня можно выручить.
Он протянул руку поверх моего плеча к решетке, где остывал недавно испеченный хлеб, выдернул одну буханку в форме сердца и сунул себе подмышку.
– Залог, – сказал он и вышел из дома, оставив дверь широко распахнутой просто потому, что мог себе это позволить.
Отец посмотрел ему вслед. Пожал плечами. Взял очередной комок теста и принялся лепить.
– Не обращай внимания. Он лишь маленький человечишка, который отбрасывает большую тень. Однажды я станцую джигу на его могиле. – Отец повернулся ко мне, его лицо смягчила улыбка. – Он натолкнул меня на мысль, Аня. Я хочу, чтобы на моих похоронах была процессия. Сначала дети, разбрасывающие лепестки роз. Потом самые красивые девушки с зонтиками, похожими на оранжерейные цветы. Потом, разумеется, мой катафалк, запряженный четырьмя – нет! – пятью белоснежными лошадьми. И наконец, мне хотелось бы, чтобы процессию замыкал Барух Бейлер и убирал навоз. – Он запрокинул голову и засмеялся. – Если, конечно же, он первым не умрет. И чем скорее, тем лучше.
Отец обсуждал со мной детали своих похорон… но в конечном счете я опоздала.
Часть І
Трудно представить, что кто-то вдруг перестал считать другого человека человеком. Это значило бы лишь то, что он сам перестал быть человеком.
Симон Визенталь. ПодсолнухСейдж
Во второй четверг месяца миссис Домбровская приносит на занятия по групповой терапии своего усопшего мужа.
Еще только начало четвертого, и большинство из нас как раз наполняют картонные стаканчики плохим кофе. Я принесла целое блюдо выпечки – на прошлой неделе Стюарт признался мне, что продолжает ходить в «Руку помощи» не ради сеансов терапии, а ради моих кексов с ирисом и орехами, – и как раз ставлю угощение на стол, когда миссис Домбровская робко кивает на урну, которую держит в руках.
– Это Херб, – говорит она мне. – Херб, познакомься с Сейдж. Я тебе о ней рассказывала. Она пекарь.
Я замираю, наклоняю голову к плечу, как делаю обычно, чтобы волосы упали на левую половину лица. Уверена, что существует некий протокол знакомства с супругом, которого уже кремировали, но я пребываю в полной растерянности. Я должна поздороваться? Пожать ручку урны?
– Ого, – наконец произношу я, поскольку в нашей группе правил мало, но те, что есть, незыблемы: быть благодарным слушателем, никого не судить, не ограничивать стремление другого быть несчастным. Мне ли не знать этих правил? В конце концов, я уже три года посещаю эти занятия.
– Что ты принесла? – спрашивает миссис Домбровская, и я понимаю, почему она держит урну с прахом своего усопшего мужа. На последнем занятии наш куратор, Мардж, предложила поделиться воспоминаниями о том, что мы потеряли. Я вижу, что Шайла так крепко вцепилась в пару вязаных розовых носочков, что костяшки пальцев побелели. Этель держит пульт от телевизора. Стюарт принес – в очередной раз! – бронзовую маску, сделанную со слепка лица его первой, умершей, жены. Маска уже несколько раз появлялась на наших занятиях, и до сего момента мне казалось, что это самая жуткая вещь, которую мне доводилось видеть, – пока миссис Домбровская не принесла с собой Херба.
Я не успеваю ничего пролепетать в ответ, потому что Мардж просит нас рассесться. Мы ставим складные стулья в круг, достаточно близко друг от друга, чтобы похлопать по плечу соседа или протянуть руку помощи. В центре стоит коробка с салфетками – Мардж приносит их каждый раз, так, на всякий случай.
Обычно Мардж начинает с глобального вопроса «Где ты был 11 сентября 2001 года?». Люди начинают говорить о всеобщей трагедии, иногда после этого им становится проще поделиться собственной бедой. Но, несмотря на это, есть те, которые молчат. Иногда проходит несколько месяцев, прежде чем я узнаю, как вообще звучит голос нового участника наших занятий.
Однако сегодня Мардж сразу спрашивает о вещах, которые мы принесли с собой. Руку поднимает Этель.
– Это пульт Бернарда, – говорит она, потирая большим пальцем пульт от телевизора. – Я хотела, чтобы он исчез, – одному Богу известно, сколько раз я пыталась его отобрать. У меня и телевизора-то больше нет, к которому подходил этот пульт. Но, похоже, я не могу его выбросить.
Муж Этель жив, но страдает болезнью Альцгеймера и понятия не имеет, кто она. Люди переживают разные утраты – от маленьких до больших. Можно потерять ключи, очки, девственность. Можно потерять голову, сердце, разум. Можно остаться без дома и переехать в дом престарелых, или ребенок может переехать за море, или у тебя на глазах вторая половинка может тонуть в бездне слабоумия. Утрата – нечто большее, чем просто смерть, а горе придает эмоциям сероватый оттенок.
– Мой муж не выпускает из рук пульт управления телевизором, – говорит Шайла. – Уверяет, что поступает так потому, что женщины уже прибрали к рукам все остальное.
– На самом деле это инстинкт, – возражает Стюарт. – Часть мозга, отвечающая за территориальное деление, у мужчин больше, чем у женщин. Я слышал это в передаче Джоша Теша.
– И поэтому это высказывание становится нерушимой аксиомой? – Джоселин закатывает глаза. Как и мне, ей нет и тридцати. Но в отличие от меня, ей не хватает терпения при общении с теми, кому за сорок.
– Спасибо, что поделилась своими воспоминаниями, – говорит Мардж, тут же вмешиваясь в спор. – Сейдж, а ты что сегодня принесла?
Я чувствую, как горит щека, когда взгляды присутствующих обращаются ко мне. Несмотря на то что я знаю всех в группе, несмотря на то что мы создали круг доверия, для меня все еще мучительно открываться под их испытующими взглядами. Кожа на моем шраме – морская звезда на левом веке и щеке – натягивается сильнее, чем обычно.
Я встряхиваю волосами, чтобы они упали налево, и достаю из-за пазухи цепочку, на которой висит мамино обручальное кольцо.
Конечно, я знаю почему – спустя три года после маминой смерти! – каждый раз, когда я вспоминаю ее, словно меч вонзается между ребер. Именно поэтому я единственная из первого состава группы продолжаю посещать сеансы терапии. Если большинство людей приходят за терапией, я пришла за наказанием.
Руку поднимает Джоселин.
– Это меня напрягает.
Я становлюсь пунцовой, думая, что это обо мне, но потом понимаю, что она не сводит глаз с урны на коленях миссис Домбровской.
– Это омерзительно! – восклицает Джоселин. – Предполагалось, что мы принесем с собой воспоминание, а не что-то мертвое.
– Он не что-то, а кто-то, – поправляет миссис Домбровская.
– Не хочу, чтобы меня кремировали, – задумчиво произносит Стюарт. – Меня мучают кошмары, как будто я погибаю в огне.
– Экстренное сообщение: ты уже будешь мертв, когда окажешься в огне, – говорит Джоселин, и миссис Домбровская тут же заливается слезами.
Я протягиваю руку к коробке с салфетками и даю их ей. Пока Мардж напоминает Джоселин о правилах группы, вежливо, но твердо, я направляюсь в расположенный дальше по коридору туалет.
Я выросла с мыслью о том, что в утратах есть свои положительные стороны. Мама, бывало, говорила, что именно поэтому она и встретила любовь всей своей жизни. Она забыла в ресторане сумочку, а помощник шеф-повара нашел ее и выяснил, кто хозяйка. Он позвонил ей, а мамы дома не было, и сообщение записала ее соседка по комнате. Когда мама перезвонила, трубку взяла женщина и позвала к телефону моего отца. Когда они встретились, чтобы он смог отдать маме сумочку, она поняла, что он – воплощение ее мечты… Но еще она по своему первому звонку знала, что он живет с женщиной.
Которая оказалась просто его сестрой.
Папа умер от сердечного приступа, когда мне исполнилось всего девятнадцать, и через три года, когда умерла мама, я не сошла с ума только потому, что убеждала себя: мои родители опять вместе.
В туалетной комнате я убираю с лица волосы.
Шрам сейчас серебристый, сморщенный, пересекающий мою бровь и щеку, как шнурок на шелковой сумочке. Если не считать того, что, когда веко опускается, кожа слишком сильно натягивается, с первого взгляда даже не понять, что у меня что-то не как у других – по крайней мере, так уверяет моя подруга Мэри. Но люди все равно замечают. Зачастую они слишком хорошо воспитаны, чтобы что-то сказать, особенно если уже старше четырех лет, когда дети еще жестоко честны, а потому тычут пальцем и спрашивают матерей, что у этой тети с лицом.
Даже несмотря на то, что шрам поблек, я до сих пор вижу его таким, каким он был после аварии: красным и кровоточащим, неровная стрела молнии, разрушившая симметрию моего лица. В этом я, наверное, похожа на девушку, страдающую нервной анорексией: весит она всего сорок пять килограммов, но ей кажется, что из зеркала на нее смотрит толстуха. Для меня это даже не шрам. Это карта местности, где моя жизнь пошла наперекосяк.
Я выхожу из туалета и чуть не сбиваю с ног старика. Я довольно высокая, поэтому могу разглядеть его розовую лысину сквозь спутанные завитки седых волос.
– Я опять опоздал, – говорит он с заметным акцентом. – Потерялся.
Наверное, как и все мы. Именно поэтому мы сюда и приходим: чтобы оставаться привязанными к своей утрате.
Этот старик новенький в группе, посещает занятия всего две недели. Едва ли во время занятий он хоть слово произнес. Тем не менее я с первого раза его узнала. Только тогда не поняла почему.
Сейчас я понимаю. Булочная. Он часто приходит с собакой, маленькой таксой, заказывает свежую булочку с маслом и черный кофе. Он целыми часами что-то пишет в маленьком черном блокноте, а собака спит у его ног.
Когда мы входим в комнату, своими воспоминаниями делится Джоселин: показывает нечто, напоминающее обгрызенную, покрученную бедренную кость.
– Это Ло́лина, – говорит она, нежно крутя в руках косточку, сделанную из дубленой кожи. – Я нашла это под диваном, когда мы ее усыпили.
– Зачем вы вообще сюда ходите? – удивляется Стюарт. – Это, черт возьми, всего лишь собака!
Джоселин прищуривается:
– По крайней мере, я не заключила ее в бронзу.
Присутствующие начинают спорить, а мы со стариком пока усаживаемся в круг. Мардж решает воспользоваться этим как отвлекающим маневром.
– Мистер Вебер, – приветствует она, – добро пожаловать! Джоселин только что рассказывала, как дорога была ей эта собака. А у вас есть домашний любимец?
Я вспоминаю маленькую собачку, которую он приводит в булочную. Делится с ней булочкой, ровно пополам.
Но старик молчит. Склоняет голову, как будто вжимается в стул. Я сразу же узнаю эту позу – желание исчезнуть.
– Человек может любить животное намного сильнее, чем некоторых людей, – неожиданно для себя говорю я. Все оборачиваются, потому что, в отличие от остальных, я редко привлекаю к себе внимание желанием поделиться личной информацией. – И совсем не важно, что оставляет внутри человека пустоту. Важно только то, что внутри эта пустота есть.
Старик медленно поднимает голову. Я чувствую его обжигающий взгляд через завесу своих волос.
– Мистер Вебер, – замечая его интерес, говорит Мардж, – может быть, вы принесли с собой какой-нибудь сувенир, чтобы поделиться с нами?
Он качает головой, его голубые глаза абсолютно ничего не выражают.
Мардж предпочитает не нарушать его молчания – чтобы успокоить. А все потому, что одни приходят сюда поговорить, а другие – просто послушать. Но эта тишина похожа на сердцебиение. Она оглушает.
В этом парадокс утраты: разве то, что потеряно, может настолько тяготить?
В конце занятия Мардж благодарит нас за участие. Мы складываем стулья и выбрасываем в мусор одноразовые тарелки и салфетки. Я собираю оставшиеся кексы и отдаю их Стюарту. Забирать их в булочную – то же самое, что вылить ведро воды назад в Ниагарский водопад.
И я выхожу на улицу, чтобы отправиться на работу.
Если бы вы всю жизнь прожили в Нью-Хэмпшире, как я, то научились бы чувствовать перемену погоды по запаху. Стоит невыносимая жара, но в небе невидимыми чернилами написана гроза.
– Прошу прощения…
Я оборачиваюсь на звук голоса мистера Вебера. Он стоит спиной к епископальной церкви, где мы проводим наши встречи. Несмотря на то что на улице тридцать градусов жары, на нем рубашка с длинными рукавами, застегнутая на все пуговицы, и узкий галстук.
– Очень мило с вашей стороны, что вы заступились за эту девушку.
Он произносит слово «мило», как «мыло».
Я отворачиваюсь.
– Спасибо.
– Вас Сейдж[1] зовут?
Вопрос на шестьдесят четыре тысячи долларов, верно? Да, это мое имя, но его двойной смысл – что я «ума палата» – никогда на самом деле не всплывал. В моей жизни слишком часто бывали моменты, когда я едва не сходила с ума, и мною часто руководили эмоции, а не разум.
– Да, – отвечаю я.
Неловкая тишина растет между нами, как перебродившее тесто.
– Вы уже давно посещаете эту группу.
Не знаю, стоит ли выпускать колючки.
– Да.
– Значит, вам она помогает.
Если бы помогала, я бы уже перестала посещать эти сеансы.
– На самом деле там собираются приятные люди. Просто иногда каждый думает, что его горе сильнее, чем у остальных.
– Вы мало разговариваете, – задумчиво произносит мистер Вебер. – Но когда что-то говорите… Вы настоящий поэт.
Я качаю головой.
– Я пекарь.
– А разве человек не может быть и тем и другим? – спрашивает он и медленно удаляется.
Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, я вбегаю в булочную, где обнаруживаю свою хозяйку под потолком.
– Прости за опоздание, – говорю я. – В церкви битком, и какой-то идиот занял мое место.
Мэри прикрепила к потолку люльку, как Микеланджело, чтобы лежать на спине и расписывать потолок булочной.
– Наверное, этот идиот – сам епископ, – отвечает она. – Он остановился на полпути. Сказал, что твой оливковый хлеб божественный – из его уст это довольно высокая похвала.
В прошлой жизни Мэри Деанжелис была сестрой Мэри Роберт. У нее дар разводить растения, она была известна своим садоводческим талантом в монастыре Мэриленда. Как-то на Пасху она поймала себя на том, что, услышав, как священник произносит: «Он воскрес», встает со скамьи и выходит из церкви. Она оставила сан, покрасила волосы в розовый цвет и отправилась по Аппалачской тропе. И где-то на Президентском хребте Иисус явился ей и сказал, что очень много душ нужно накормить.
Через полгода Мэри открыла у подножия церкви Святой Девы Марии в Уэстербруке, штат Нью-Хэмпшир, булочную «Хлеб наш насущный». Угодья церкви составляют шесть с половиной гектаров с пещерой для медитаций. Тут же статуя ангела, осеняющая ее крылами, кавалькирии[2] и ступени для покаянных молитв. Еще здесь расположен магазинчик, где продаются кресты, распятия, католические книги и другая теологическая литература, диски с христианской музыкой, медали с изображением святых, наборы фарфоровых фигурок на библейские сюжеты. Но обычно посетители приходят посмотреть на розарий площадью в 70 квадратных метров, возведенный из местных гранитных валунов, скованных вместе цепями.
Храм посещают только в хорошую погоду, в зимнее время в Новой Англии доходы любого бизнеса резко падают. Именно в этом Мэри видела целесообразность своего дела: что может быть более мирским, чем свежеиспеченный хлеб? Почему бы не увеличить выручку прихода, построив булочную, которую будут посещать как верующие, так и неверующие?
Одна загвоздка – она понятия не имела, как печь хлеб.
Вот тут и появилась я.
Я начала печь с девятнадцати лет, когда внезапно умер мой отец. Я училась в колледже, приехала домой на похороны. Вернулась и поняла, что все изменилось. Я таращилась на слова в учебниках, как будто они были написаны на незнакомом мне языке. Я не могла заставить себя встать с кровати, чтобы отправиться на занятия. Пропустила один экзамен, потом еще один. Перестала писать контрольные. Однажды я проснулась в своей комнате в общежитии и почувствовала запах муки – такой стойкий, как будто я вывалялась в ней. Я приняла душ, но от запаха избавиться не смогла. Это напомнило мне воскресное утро времен моего детства, когда я просыпалась от запаха свежих бубликов и булочек с луком, испеченных моим отцом.
Он всегда пытался научить меня и моих сестер, но обычно мы были слишком заняты уроками, игрой в хоккей на траве, разговорами о мальчиках. По крайней мере, я так думала, пока не начала тайком бегать в кухню столовой в общежитии и каждую ночь печь хлеб.
Я оставляла буханки, как подкидышей, под кабинетами преподавателей, которыми восхищалась, под комнатами мальчиков с такими красивыми улыбками, что я застывала в неловком молчании. Оставляла сложенные горкой булочки из дрожжевого теста на кафедре, а круглую булочку прятала в огромную сумку работницы столовой, которая совала мне тарелки с блинами и беконом, уверяя, что я слишком худенькая. В тот день, когда мой научный руководитель сказала, что я провалила три из четырех дисциплин, я не нашлась, что ответить в свое оправдание. Только угостила ее медовым багетом с анисом – горьковатым и сладким одновременно.
Однажды нежданно-негаданно приехала мама. Она остановилась у меня в общежитии и начала контролировать каждый мой шаг: следила, чтобы я хорошо ела, провожала меня на занятия и проверяла, как я усвоила домашние задания.
– Если я не сдаюсь, – говорила она, – и ты не должна сдаваться.
В итоге я проучилась пять лет, но все-таки закончила колледж. Мама вскочила и громко засвистела, когда я шла к сцене, чтобы получить диплом. А потом все покатилось к чертям.
Я много думала об этом: так можно за одну секунду срикошетить от самой вершины и оказаться ползающей на дне? Думала о том, что могла бы поступить иначе, и это привело бы к другому исходу. Но одними размышлениями ничего не изменишь, верно? Поэтому после всего, когда мой глаз был все еще налит кровью, а на виске и щеке красовались швы, как у чудовища Франкенштейна, похожие на швы на бейсбольном мяче, я заявила маме то, что когда-то она мне: «Если я не сдаюсь, и ты не должна сдаваться».
Сначала она держалась. Это длилось почти полгода, когда одна за другой отказывали все системы организма. Я каждый день сидела у ее больничной койки, а на ночь уходила домой отдохнуть. Только отдыхать не удавалось. Вместо отдыха я опять стала печь – это была моя собственная терапия. И приносила самодельные буханки ее докторам. Для медсестер я делала сухие соленые крендельки. А для мамы пекла ее любимые булочки с корицей, обильно покрытые сахарной глазурью. Я пекла их каждый день, но она так ни кусочка и не проглотила.
Именно Мардж, куратор группы терапии, посоветовала мне найти работу, которая помогла бы погрузиться в повседневность. Сказала: «Если не можешь быть, попробуй слыть». Но мне претила мысль о том, чтобы работать днем, когда все будут разглядывать мое лицо. Я и раньше была робкой, а теперь вообще стала затворницей.
Мэри уверяет, что ее свело со мной провидение. (Она называет себя излечившейся монашкой, однако на самом деле она оставила свою привычку, но не веру.) Что касается меня, то я в Бога не верю; мне кажется, это просто везение, что первое объявление о работе, которое я прочла после совета Мардж, оказалось объявлением о должности главного пекаря, который бы работал по ночам, в одиночестве, и уходил домой, когда в магазин начинают стекаться посетители. На собеседовании Мэри ничего не сказала о том, что у меня нет ни опыта, ни рекомендаций, и о том, что я нигде не работала этим летом. Но важнее всего было то, что, взглянув на мой шрам, она заметила:
– Я полагаю, ты расскажешь об этом, когда захочешь.
И все. Позже, когда я узнала ее лучше, то поняла, что, работая в саду, она всегда видит не просто семена, которые сажает в землю. Она сразу же представляет себе, какое из них вырастет растение. Мне кажется, когда она познакомилась со мной, то подумала то же самое.
Но самое главное достоинство работы в «Хлебе нашем насущном», перевешивающее все недостатки, – это то, что моей мамы уже нет в живых и она этого не видит. И папа, и мама у меня евреи. Мои сестры, Пеппер и Саффрон, обе прошли бат-мицву[3]. Хотя мы и продавали бублики и халу наряду с горячими куличами, а кофейня, примыкающая к булочной, называлась «Иудеи», я точно знала, что сказала бы моя мама: «Никакие булочные на свете не должны были заставить тебя работать на шиксу[4]».
И в то же время моя мама первая сказала бы, что хорошие люди – это хорошие люди, и религия тут ни при чем. Мне кажется, мама знает – где бы она сейчас ни находилась! – сколько раз Мэри, застав меня в слезах, не спешила открывать булочную, потому что успокаивала меня. Что в день ее смерти Мэри всю дневную выручку жертвует «Хадассе» – женской сионистской организации Америки. И что Мэри – единственный человек, от которого я не пытаюсь спрятать свой шрам. Она не просто моя работодательница, но и моя лучшая подруга. Хочется верить, что для моей матери это значит больше, чем вероисповедание Мэри.
Мне под ноги капнула пурпурная краска, и я взглянула наверх. Мэри рисовала очередное свое видение. Они являлись ей с потрясающей регулярностью – по крайней мере, три раза в год – и всегда приводили к изменениям в интерьере магазина или в меню. Кофейня – результат одного из видений Мэри. Как и окно в оранжерее, где рядами росли изящные орхидеи, цветы которых казались нитками жемчуга в густой зеленой листве. Однажды зимой она организовала в «Хлебе нашем насущном» кружок вязания, на следующий год – занятия йогой. Она часто повторяет мне: «Голод не имеет ничего общего с животом, все дело в голове». Мэри не просто открыла булочную, она основала землячество.
Некоторые любимые афоризмы Мэри написаны на стенах: «Ищите и обрящете», «Все, кто скитаются, – не потеряны», «Жизнь измеряется не годами, а тем, как ты эти годы прожил». Иногда я гадаю, сама ли Мэри придумала эти высказывания или просто вспомнила броские слоганы на футболках: «Жизнь – это добро!». Хотя мне кажется, что это не важно, пока нашим покупателям нравится их читать.
Сегодня Мэри пишет свою самую последнюю мантру. «Все, что вы замешиваете, – это любовь», – читаю я.
– Что скажешь? – интересуется она.
– Что Йоко Оно затаскает тебя по судам за посягательства на авторские права, – отвечаю я.
Рокко, наш бариста, протирает прилавок.
– Леннон достиг совершенства. Если бы жизнь его длилась… Трудно представить себе!
Рокко двадцать девять лет, его рано поседевшие волосы заплетены в многочисленные косички, разговаривает он исключительно хокку. Когда он просился на работу, то сразу предупредил Мэри, что такая у него «фишка». Она смотрела сквозь пальцы на эту словесную причуду благодаря его поразительному таланту создавать из пенки настоящее искусство – потрясающие узоры на латте и мокачино. Он умеет рисовать папоротники, сердечки, единорогов, Леди Гагу, паутину, а однажды на день рождения Мэри изобразил профиль Папы Бенедикта XVI. Что касается меня, то я люблю Рокко за другую «фишку»: он не смотрит людям в глаза. Уверяет, что так собеседник может украсть твою душу.
Аминь!
– Кончились нынче багеты, – говорит мне Рокко. – Много ли радости в кофе? – Он замолкает, мысленно считая слоги. – Больше сегодня спеки[5].
Мэри начинает спускаться.
– Как прошло занятие?
– Как обычно. Весь день было тихо?
Мэри с глухим стуком оказывается на полу.
– Нет, был наплыв дошколят и хороший обед. – Она встает на ноги, вытирает руки о джинсы и идет за мной в кухню. – Кстати, звонил Сатана, – сообщает она.
– Дай угадаю. Хочет заказать праздничный торт на день рождения Джозефа Кони?[6]
– Сатаной я называю Адама, – продолжает Мэри, словно не слыша моих слов.
Адам – мой приятель. Кроме того, он чужой муж.
– Адам не такой уж плохой.
– Он слишком вспыльчив, Сейдж, и топчет чужие чувства. Если туфли впору… – пожимает плечами Мэри. – Оставляю Рокко на передовой, а сама пойду к храму на прополку.
Хотя она официально там не работает, никто не возражает, что бывшая монахиня, умелая садовница, ухаживает за цветами и деревьями возле храма. До седьмого пота помахать мачете, проредить кусты, покопаться в земле – такая у Мэри разрядка. Иногда мне кажется, что она вообще не спит, восстанавливается фотосинтезом, как ее любимые растения. Такое впечатление, что у нее больше энергии и работает она быстрее нас остальных, простых смертных; на ее фоне даже фея Динь-Динь покажется лентяйкой.
– Там кусты хосты бунтуют.
– Удачи тебе, – желаю я, пытаясь повязать фартук и сосредоточиться на ночной работе.
В булочной у меня огромный винтообразный миксер, потому что я за один раз выпекаю большое количество буханок. Еще в аккуратно подписанных банках при различных температурах хранятся сброженные жидкие полуфабрикаты. Я использую таблицы программы «Эксель», чтобы рассчитать необходимое количество продуктов – сумасшедшая математика, которая никогда не равняется ста процентам. Но больше всего я люблю печь, используя только миску, деревянную ложку и четыре ингредиента: муку, воду, дрожжи и соль. И потом все, что тебе нужно, – это время.
Выпекание хлеба требует физической подготовки. И не только потому, что нужно крутиться между несколькими столами в булочной, чтобы проверить, как подходит тесто, или смешивать ингредиенты, или вытаскивать миску для замеса из-под миксера – а еще требуется недюжинная сила, чтобы в тесте заработал глютен. Даже те, кто не может отличить жидкую опару от бездрожжевого теста, знают: чтобы испечь хлеб, его нужно замесить. Мять и катать, мять и складывать – ритмичными движениями на посыпанном мукой столе. Сделаешь правильно, и высвободится протеин под названием глютен – молекулярная цепочка, которая позволяет разнородным пузырькам углекислого газа вспучивать буханки. После семи-восьми минут – достаточное время, чтобы составить список неотложных дел по дому или прокрутить в голове последний разговор со значимым для тебя человеком, пытаясь догадаться, что же именно он имел в виду, – консистенция теста меняется. Оно становится гладким, эластичным, плотным.
И на этом этапе тесто необходимо оставить в покое. Глупо, конечно, наделять хлеб человеческими качествами, но мне нравится думать, что тесту нужно побыть в тишине, отойти от прикосновений, шума и суеты.
Вынуждена признать, что я часто ощущаю это и на себе.
Рабочее время пекаря удивительным образом влияет на мозг. Когда твой рабочий день начинается в пять вечера и длится до рассвета, слышишь, как над плитой часы отсчитывают каждую минуту, видишь каждое движение в темноте. Не узнаешь звук собственного голоса, и начинает казаться, что ты единственный живой человек на земле. Уверена, именно по этой причине большинство убийств совершаются ночью. Совсем по-другому воспринимают окружающий мир те из нас, кто оживает после заката. Мир кажется более хрупким и нереальным – словно он лишь копия того мира, где обитают все остальные.
Я уже так давно живу наоборот, что меня совершенно не тяготит необходимость ложиться спать с восходом солнца, а просыпаться – когда солнце уже садится за горизонт. Чаще всего это означает, что мне удается поспать часов шесть, прежде чем я опять вернусь в «Хлеб наш насущный» и все повторится сначала, но быть пекарем – значит принимать образ жизни, выходящий за рамки общепринятого, чему я несказанно рада. Люди, с которыми мне доводится встречаться, – это продавцы круглосуточных магазинов, кассиры из придорожных закусочных «Данкин доунатс»; идущие на смену и возвращающиеся с дежурства медсестры. И конечно, Мэри и Рокко, которые закрывают булочную почти сразу после моего прихода. Они запирают меня внутри, как королеву в башне Румпельштильцхена[7], но не для того, чтобы считать зернышки, а чтобы до утра превратить их в хлеб быстрого приготовления и сдобные булочки, которыми будут заполнены полки и стеклянные витрины.
Я никогда не была душой компании, а сейчас вообще активно ищу одиночества. Такое положение вещей подходит мне как нельзя лучше: я работаю в одиночестве, а Мэри – «лицо» нашей булочной, в ее обязанности входит поддерживать беседы с посетителями, чтобы им захотелось вернуться к нам. Я прячусь.
Печь хлеб для меня – способ медитации. Я получаю удовольствие от того, что режу пышное тесто, на глаз определяю нужное количество, отмериваю на весах правильную порцию, чтобы получилась идеальная буханка домашнего хлеба. Мне нравится, как извивается у меня в ладонях колбаска багета, когда я ее раскатываю. Нравится, как «вздыхает» булка с изюмом, когда я первый раз ударяю по ней кулаком. Нравится шевелить пальцами ног в сабо и крутить из стороны в сторону головой, когда шея затекает. Нравится знать, что никто не позвонит по телефону, никто не помешает.
Я уже вовсю занята замешиванием сорока килограммов теста, которое готовлю каждый вечер, когда слышу, как Мэри возвращается со своих садовых работ и начинает запирать магазин. Я споласкиваю руки, стягиваю шапочку, которой всегда прикрываю волосы, когда работаю, и иду ко входу в магазин. Рокко как раз застегивает «молнию» на своей мотоциклетной куртке. Через зеркальную витрину я вижу пересекающую багряное небо зарницу.
– До наступления «завтра»! – прощается Рокко. – Если во сне не умрем мы. Достойный конец.
Я слышу лай и понимаю, что в булочной кто-то есть. Один-единственный посетитель – мистер Вебер из моей группы психотерапии со своей крошечной таксой. Мэри сидит с ним за столиком с чашкой чая.
Завидев меня, он с трудом поднимается из-за столика и неловко кланяется.
– Здравствуйте еще раз.
– Ты знаешь Джозефа? – спрашивает Мэри.
Группа психотерапии – как общество анонимных алкоголиков: нельзя никого «выдавать», пока не получишь разрешение этого человека.
– Встречались, – отвечаю я, встряхивая волосами, чтобы закрыть лицо.
Его такса, сидящая на поводке, подходит ближе, чтобы лизнуть пятнышко муки на моих штанах.
– Ева! – одергивает ее старик. – Как ты себя ведешь!
– Ничего страшного, – говорю я, с облегчением опускаясь на колени, чтобы погладить собаку. Животные никогда не станут на тебя таращиться.
Мистер Вебер надевает на запястье поводок и встает.
– Я вас задерживаю, – извиняется он перед Мэри.
– Совсем нет. Мне нравится ваша компания. – Она смотрит на заполненную на три четверти чашку старика.
Не знаю, кто меня дернул за язык… В конце концов, у меня полно работы. Но уже начался ливень – дождь стеной. На стоянке всего два транспортных средства: «харлей» Мэри и «Тойота Приус» Рокко, а это означает, что мистер Вебер либо пришел пешком, либо будет ждать автобуса.
– Можете подождать автобус в булочной, – предлагаю я.
– Нет-нет! – возражает мистер Вебер. – Я не хочу никого обременять.
– Я настаиваю, – вторит мне Мэри.
Он благодарно кивает, снова опускается на стул и обхватывает двумя руками чашку с кофе. Ева вытягивается у его левой ноги и закрывает глаза.
– Приятного вечера, – желает мне Мэри. – Вложи в выпечку свое маленькое сердечко.
Но вместо того, чтобы остаться с мистером Вебером, я иду за Мэри в заднюю комнату, где она хранит свою байкерскую амуницию на случай дождя.
– Я не буду убирать после него.
– Ладно, – соглашается Мэри, натягивая кожаные краги.
– Я не обслуживаю клиентов.
Если честно, когда я в семь утра выхожу из булочной и вижу полный магазин бизнесменов, которые покупают бублики, и домохозяек, укладывающих пшеничные буханки в пакеты для продуктов, то всегда с некоторым удивлением вспоминаю, что за пределами кухни есть целый большой мир. Мне кажется, что так, должно быть, чувствует себя больной, который умер, но его сердце снова заставили биться, вернули его в суету и суматоху жизни – слишком много информации, все чувства перегружены.
– Ты сама предложила ему остаться, – напоминает мне Мэри.
– Я ничего о нем не знаю. А если он попытается нас ограбить? Или еще чего хуже?
– Сейдж, ему за девяносто. Неужели ты думаешь, что он перегрызет тебе горло своими вставными зубами? – качает головой Мэри. – Джозефа Вебера можно при жизни канонизировать. Его каждый в Уэстербруке знает! Раньше он тренировал детскую бейсбольную команду, он организовал субботник в Риверхэд-парке и много лет преподавал немецкий в старших классах. Он любящий приемный дедушка для каждого. Не думаю, что он тайком проберется в кухню и ударит тебя ножом, когда ты повернешься к нему спиной.
– Я никогда о нем не слышала, – бормочу я.
– Потому что ты живешь в скорлупе, – отвечает Мэри.
– Или в кухне.
Когда днем спишь, а ночью работаешь, не остается времени на такие вещи, как газета и телевизор. Прошло целых три дня, прежде чем я узнала, что Усаму бен Ладена убили.
– Спокойной ночи! – Она быстро обнимает меня на прощание. – Джозеф безобидный. Правда. Худшее, что он может сделать, – это заболтать тебя до смерти.
Я смотрю, как она открывает черный ход в булочную, ныряет под льющий как из ведра дождь и, не оглядываясь, машет мне на прощание рукой. Запираю за ней дверь.
Когда я возвращаюсь в зал, чашка мистера Вебера уже пуста, а собака сидит у него на коленях.
– Простите, – говорю я. – Работа.
Мне нужно слепить сотню буханок, отварить бублики, начинить булочки луком. Да, можно сказать, что я занята. Но, к своему удивлению, я слышу собственный голос:
– Но работа может несколько минут подождать.
Мистер Вебер указывает на стул, где раньше сидела Мэри.
– В таком случае, пожалуйста, присаживайтесь.
Я сажусь, но поглядываю на часы. Таймер выключится через три минуты, и мне придется вернуться в кухню.
– Что ж, – говорю я, – похоже, нам придется пережидать погоду.
– Мы всегда пережидаем погоду, – отвечает мистер Вебер. Такое впечатление, что он откусывает слова с нитки: они звучат так отчетливо, рублено. – Сегодня вечером мы пережидаем плохую погоду. – Он поднимает взгляд. – Что привело вас на сеансы психотерапии?
Я встречаюсь с ним взглядом. В группе существует правило: никто не обязан делиться своей историей, если не готов. Мистер Вебер сам явно не был готов к откровениям, поэтому странно, что он просит собеседника сделать то, чего сам делать не желает. С другой стороны, мы не на групповом сеансе.
– Мама, – отвечаю я и сообщаю ему то, что уже рассказывала остальным в группе: – Рак.
Мистер Вебер сочувственно кивает.
– Мои соболезнования, – говорит он.
– А вас? – интересуюсь я.
Он качает головой.
– Так много причин, что и не сосчитать.
Я даже не знаю, что на это ответить. Моя бабушка говорит, что в ее возрасте друзья мрут как мухи. Похоже, так же обстоят дела и у мистера Вебера.
– Как давно вы работаете пекарем?
– Несколько лет, – отвечаю я.
– Странная профессия для молодой женщины. Не располагает к общению.
Неужели он не видел моего лица?
– Меня это вполне устраивает.
– Вы настоящий мастер своего дела.
– Любой может испечь хлеб, – отвечаю я.
– Но не у каждого это хорошо получается.
Из кухни раздается сигнал. Ева просыпается и начинает лаять. И почти моментально по витрине булочной скользит свет фар от останавливающегося на углу автобуса.
– Спасибо, что позволили посидеть у вас, – благодарит он.
– Не за что, мистер Вебер.
Его лицо смягчается.
– Пожалуйста, называйте меня Джозефом.
Я наблюдаю, как он прячет Еву под пальто и раскрывает зонтик.
– Приходите еще, – приглашаю я, потому что знаю, что Мэри будет рада.
– Завтра приду, – обещает он, как будто мы назначаем друг другу свидание.
Он выходит из булочной и щурится от ярких фар автобуса.
Несмотря на то, что я сказала Мэри, я убираю грязную чашку с тарелкой и только тут замечаю, что мистер Вебер – Джозеф! – оставил блокнот, в котором постоянно что-то писал, когда сидел в булочной. Он перетянут резинкой.
Я хватаю блокнот и выбегаю под дождь. Ступаю в огромную лужу, сабо тут же промокают. Волосы прилипают к голове.
– Джозеф! – окликаю я.
Мистер Вебер оборачивается, маленькие глазки-бусинки Евы блестят в складках его пальто.
– Вы забыли. – Я показываю блокнот и шагаю к нему.
– Спасибо, – благодарит он, пряча его в карман. – Не знаю, что бы я без него делал. – Он наклоняет зонтик, чтобы я тоже могла под ним спрятаться.
– Ваш «великий американский роман»? – предполагаю я.
Мэри установила в «Хлебе нашем насущном» бесплатный беспроводной Интернет – место, которое просто кишит теми, кто хочет опубликоваться.
Он вздрагивает.
– Нет-нет! Я храню здесь свои мысли. В противном случае они разбегаются. Например, если я не запишу, что мне нравятся ваши венские булочки, то в следующий раз забуду их заказать.
Мне кажется, что многим помог бы такой блокнот.
Водитель автобуса дважды нажимает на клаксон, и мы поворачиваемся на звук. Я морщусь, когда свет фар падает на лицо.
Джозеф похлопывает по карману.
– Очень важно ничего не забыть, – говорит он.
Адам почти сразу сказал, что я красавица – и мне тут же должно было стать понятно, что он обманщик.
Я познакомилась с ним в худший день своей жизни – в день маминой смерти. Он оказался владельцем похоронного бюро, в которое обратилась моя сестра Пеппер. Я смутно помню, как он рассказывал о процедуре похорон, показывал разные гробы. Но впервые я по-настоящему обратила на него внимание, когда устроила сцену во время поминальной службы.
Нам с сестрами было прекрасно известно, что любимая мамина песня – «Где-то там за радугой». Пеппер с Саффрон хотели нанять профессионального певца, но у меня были другие планы. Мама любила не просто эту песню, а в определенном исполнении. И я пообещала маме, что на ее похоронах будет петь Джуди Гарленд[8].
– Последние новости, Сейдж, – сказала Пеппер. – Джуди Гарленд сейчас заказы не принимает, если только ты не медиум или экстрасенс.
В конечном счете сестры сделали так, как настаивала я, – в основном потому, что я уверяла, что это предсмертное желание мамы. Я должна была передать диск с песнями владельцу похоронного бюро, то есть Адаму. Загрузила эту песню – саундтрек к «Волшебнику страны Оз» – на цифровой медиаплеер. Когда началась служба, Адам включил эту композицию через колонки.
К сожалению, это оказалась не песня «Где-то там за радугой», а песенка жителей Голубой страны, жевунов, «Дин-дон! Ведьма умерла!».
Пеппер тут же залилась слезами. Саффрон пришлось покинуть службу – настолько она была расстроена.
Что до меня, то я захихикала.
Не знаю почему. Смех просто выплеснулся изнутри, как фонтан. И все присутствующие в зале уставились на меня – на злые красные линии, пересекающие мое лицо, – недоумевая из-за неуместного смеха, вырывающегося из моего горла.
– Боже мой, Сейдж, – прошипела Пеппер, – как ты могла?!
Чувствуя себя загнанной в угол, охваченная паникой, я встала со скамьи, сделала два шага и потеряла сознание.
Я пришла в себя уже в кабинете Адама. Он стоял на коленях у дивана с мокрой салфеткой в руке. Я тут же отпрянула и прикрыла левую щеку рукой.
– Знаете, – сказал он, словно продолжая начатый разговор, – от меня на этой работе ничего не утаишь. Я знаю, кто делал пластическую операцию, кому удалили грудь, кому аппендицит, а у кого вырезали грыжу. У человека может быть шрам, но это также означает, что у человека есть история. И кроме того, – добавил он, – не шрам я заметил, когда впервые вас увидел.
– Да уж.
Он положил руку мне на плечо.
– Я заметил, что вы очень красивая, – продолжал он.
У Адама песочного цвета волосы и медовые глаза. Его теплая ладонь прикасалась к моей щеке. Я не была красавицей до случившегося и уж точно не стала ею после. Я помотала головой, чтобы прийти в себя.
– С утра ничего не ела… – призналась я. – Мне нужно в зал.
– Успокойтесь. Я предложил сделать пятнадцатиминутный перерыв, прежде чем продолжить службу. – Адам замер в нерешительности. – Может быть, воспользуемся тем, что есть в моем плеере?
– Могу поклясться, что загрузила нужную песню. Сестры меня возненавидят.
– Бывало и похуже, – ответил Адам.
– Сомневаюсь.
– Однажды я наблюдал, как пьяная любовница пыталась забраться к усопшему в гроб. Ее вытащила законная жена и избила до потери сознания.
У меня округлились глаза.
– Правда?
– Да. Так что это… – он пожал плечами, – пустяки.
– Но я засмеялась!
– Многие смеются на похоронах, – заверил Адам. – Потому что люди чувствуют себя неуютно рядом со смертью, а смех – это способ расслабиться. Кроме того, держу пари, ваша мама больше обрадовалась бы тому, что вы вспоминаете ее жизнь со смехом, чем заливаясь слезами.
– Мама решила бы, что это очень смешно, – прошептала я.
– Держите. – Адам протянул мой компакт-диск в коробке.
Я покачала головой.
– Оставьте себе. Вдруг вашим клиентом будет Наоми Кэмпбелл.
Адам засмеялся.
– Готов поклясться, что вашей маме эта идея тоже понравилась бы, – ответил он.
Через неделю после похорон он позвонил, чтобы узнать, как у меня дела. Мне показалось это странным по двум причинам: во-первых, я никогда не слышала, чтобы сотрудники похоронного бюро проявляли подобное участие, а во-вторых, его нанимала Пеппер, а не я. Я настолько была тронута этим участием, что испекла ромовую бабку и по пути с работы домой занесла ее в похоронное бюро. Я надеялась оставить ее в конторе и не наткнуться на Адама, но оказалось, что он на работе.
Он спросил, есть ли у меня время выпить кофе.
Вы должны знать, что даже тогда он носил обручальное кольцо. Другими словами, я знала, во что ввязываюсь. В свою защиту могу сказать одно: я никак не ожидала, что мной будут восхищаться мужчины, в особенности после того, что произошло. Но вот Адам, привлекательный и успешный, пытается за мной ухаживать. Мои представления о нравственности, которые напоминали, что Адам принадлежит другой женщине, заглушал едва слышный шепоток в голове: «Попрошайки никогда не станут теми, кто выбирает. Бери то, что само плывет в руки. Кто еще полюбит такую, как ты?»
Я знала, что неправильно связываться с женатым мужчиной, но это не удержало меня от того, чтобы влюбиться в Адама и мечтать, что он влюбится в меня. Я смирилась с тем, что всю жизнь проживу одна, буду работать в одиночестве, до конца жизни останусь одна. Даже если бы я и встретила человека, который стал бы притворяться, что ему наплевать на жуткую сморщенную кожу на моей левой щеке, откуда мне знать, что он любит меня, а не просто жалеет? Любовь и жалость очень похожи, а я никогда не умела разбираться в людях. Мы с Адамом встречались тайно, за плотно закрытой дверью. Другими словами, наши встречи происходили исключительно на моей территории.
Прежде чем вы заявите о том, что противно позволять человеку, который бальзамирует других людей, прикасаться к себе, позвольте вам возразить. Всем этим усопшим, включая мою маму, крупно повезло, что последними к ним прикасались такие нежные руки. Иногда мне кажется, что из-за того, что Адам столько времени проводит с мертвыми, он по-настоящему ценит чудо живого тела. Когда мы занимаемся любовью, он надолго задерживается на сонной артерии, на запястьях, под коленками – в местах, где бьется пульс.
В те дни, когда ко мне приходит Адам, я жертвую парой часиков сна, чтобы побыть с ним. Из-за особенностей работы, которая заставляет его быть наготове двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю, он в любое время может с нее улизнуть. Именно поэтому его жене не кажется подозрительным, что он внезапно уходит.
– Мне кажется, Шэннон обо всем догадывается, – говорит сегодня Адам, когда я лежу в его объятиях.
– Правда?
Я пытаюсь не обращать внимания на то, что будто взлетаю на самый верх аттракциона «русские горки» и больше не вижу собственных колен.
– Сегодня утром на бампере моей машины появилась новая наклейка. На ней написано: «Я люблю свою жену».
– Откуда ты знаешь, что это она прилепила?
– Потому что я ее туда не цеплял, – отвечает Адам.
Я минуту обдумываю сказанное.
– Наклеить она могла и без всякого подтекста. Возможно, по блаженному незнанию.
Адам женился на школьной подружке, с которой встречался во время учебы в колледже. Похоронное бюро, где он работает, уже пятьдесят лет принадлежит семье его жены. По меньшей мере дважды в неделю он уверяет меня, что уйдет от Шэннон, но я знаю, что это неправда. Во-первых, он лишится работы. Во-вторых, бросит не только Шэннон, но и своих близнецов, Грейс и Брайана. Когда он говорит о них, его голос звучит совсем по-другому. Звучит так, как, надеюсь, когда он говорит обо мне.
Хотя, скорее всего, обо мне он вообще не говорит. Я хочу сказать, с кем он может поделиться тем, что завел интрижку? Единственный человек, которому доверилась я, – это Мэри, и, несмотря на то что мы вместе заварили эту кашу, Мэри ведет себя так, словно это Адам меня соблазнил.
– Давай в эти выходные куда-нибудь поедем, – предлагаю я.
По воскресеньям я не работаю; по понедельникам булочная закрыта. Мы могли бы исчезнуть на целых двадцать четыре волшебных часа, а не прятаться в спальне в полумраке задернутых штор, пока его машина (с новой наклейкой на бампере) стоит за углом у китайского ресторана.
Однажды Шэннон приходила в булочную. Я видела ее в открытое окно, разделяющее кухню и магазин. Я сразу ее узнала, потому что видела фотографию на страничке Адама в «Фейсбуке». Я была уверена, что она пришла устроить мне скандал, но она только купила ржаные булочки из муки грубого помола и ушла. Мэри нашла меня сидящей на полу в кухне – ноги подкосились от облегчения. Когда я рассказала ей об Адаме, она задала один-единственный вопрос: «Ты его любишь?» – «Да», – ответила я. «Нет, не любишь, – возразила Мэри. – Тебе нравится только то, что ему, как и тебе, нужно прятаться».
Адам пальцами касается моего шрама. Несмотря на то что прошло уже столько времени и с медицинской точки зрения это невозможно, кожа моя начинает покалывать.
– Я хочу куда-нибудь уехать, – говорит он. – Хочу идти по улице среди бела дня, чтобы все видели нас вместе.
Когда он поворачивает все вот так, я понимаю, что это совершенно не то, чего хочу я. Мне хочется спрятаться с ним за закрытыми дверями роскошной гостиницы в Уайт-Маунтин или в загородном домике в Монтане. Но я не хочу, чтобы Мэри оказалась права, поэтому говорю:
– Наверное, и мне этого хочется.
– Хорошо, – говорит Адам, накручивая на пальцы мои локоны. – На Мальдивы.
Я привстаю на локте.
– Я не шучу.
Адам смотрит на меня.
– Сейдж, – говорит он, – там тебе даже в зеркало не нужно будет смотреться.
– Я посмотрела в Интернете рейсы Юго-Западных авиалиний. За сорок девять долларов мы сможем добраться только до Канзас-Сити.
Адам проводит пальцем по моим выступающим ребрам.
– А зачем нам ехать в Канзас-Сити?
Я убираю его руку.
– Прекрати меня отвлекать, – велю я. – Потому что это не для нас.
Он ложится на меня сверху.
– Заказывай билеты.
– Ты серьезно?
– Серьезно.
– А если тебя вызовут? – спрашиваю я.
– Если им придется подождать, никто от этого не умрет, – отвечает Адам.
Сердце мое начинает биться прерывисто. Даже мысль о том, чтобы появиться на людях, мучительна. Неужели если я буду идти под руку с красивым мужчиной, который явно хочет быть со мной, то за компанию это сделает нормальной и меня?
– А Шэннон что ты скажешь?
– Что я от тебя без ума.
Иногда я задумываюсь о том, как бы все сложилось, если бы мы встретились с Адамом, когда я была моложе. Мы оба ходили в одну школу, но с разницей в десять лет. Оба вернулись в родной город. Оба работаем в одиночестве в неурочный час и занимаемся тем, что обычные люди никогда бы не сделали своей профессией.
– Что я не могу перестать думать о тебе, – добавляет Адам, покусывая мочку моего уха. – Что я безнадежно влюбился.
Должна признать, больше всего в Адаме мне нравится то – и это же не дает ему все время быть со мной! – что когда он тебя любит, то любит без всякого сомнения, целиком, и эта любовь подавляет. Так он относится и к своим детям-близнецам. Именно поэтому он каждый день возвращается домой, чтобы узнать, как у Грейс прошла контрольная по биологии, или посмотреть, как Брайан забил первый мяч и успел вернуться на «базу» в новом бейсбольном сезоне.
– Ты знаешь Джозефа Вебера? – спрашиваю я, внезапно вспомнив слова Мэри.
Адам перекатывается на спину.
– Я безнадежно влюблен, – повторяет он. – «Ты знаешь Джозефа Вебера?» Да уж, нормальный ответ…
– Он преподавал в старших классах. Немецкий язык.
– Мои дети учат французский… – Он неожиданно щелкает пальцами. – Он был судьей в Малой лиге. Кажется, Брайану тогда было лет шесть-семь. Помню, я тогда подумал, что ему уже лет девяносто и у организаторов не все дома, но оказалось, что он чертовски энергичный старик!
– Что ты о нем знаешь? – продолжаю расспрашивать я, поворачиваясь на бок.
Адам заключает меня в объятия.
– О Вебере? Хороший старик. Он знает бейсбол вдоль и поперек и всегда судил честно. Это все, что я помню. А что?
На моем лице играет улыбка.
– Я ухожу от тебя к нему.
Он нежно и медленно меня целует.
– Я могу как-то повлиять на твое решение?
– Уверена, ты что-нибудь придумаешь, – обещаю я и обвиваю его шею руками.
* * *
В таком небольшом городке, как Уэстербрук, который основали потомки первых американцев, прибывших на корабле «Мейфлауэр», еврейское происхождение делало нас с сестрами особенными – мы так сильно выделялись среди наших одноклассников, как будто у нас кожа была ярко-голубого цвета.
– Чтобы появились приятные округлости, – говаривал мой отец, когда я спрашивала его, почему нам нужно переставать есть хлеб где-то за неделю до того, как все остальные в моей школе начнут приносить в своих коробках для завтрака сваренные вкрутую пасхальные яйца. Меня никто не дразнил, наоборот: когда в младшей школе мы проходили нехристианские праздники, я фактически стала знаменитостью вместе с Джулиусом – единственным чернокожим учеником в моей школе, чья бабушка праздновала Кванзаа[9].
Когда пришло время обряда бат-мицва, я попросила его не проводить. Мне ответили отказом, и я объявила голодовку. Достаточно уже и того, что мы были евреями и отличались этим от других; я не хотела еще больше привлекать к себе внимание.
Мои родители были иудеями, но не придерживались кашрута[10], не посещали регулярно синаногу, за исключением годов, предшествующих обрядам бат-мицвы у Саффрон и Пеппер, когда посещение службы было обязательным. По пятницам я, бывало, сидела на вечерней службе, слушала, как кантор поет на древнееврейском языке, и удивлялась, почему в еврейской музыке столько минорных нот. Похоже, представители избранного народа, создававшие эти напевы, были не слишком счастливы. Однако мои родители постились на Йом-Киппур, Судный день и отказывались ставить рождественскую елку.
Мне казалось, что они придерживаются некой сокращенной версии иудаизма и поэтому не должны мне указывать, как и во что верить. Это я и заявила своим родителям, когда пыталась отговорить их от проведения бат-мицвы. Отец отреагировал очень спокойно. «Важно во что-нибудь верить потому, что ты можешь себе это позволить», – сказал он. Потом меня отправили в комнату без ужина – меня это по-настоящему изумило, потому что в нашей семье мы были вольны высказывать свое мнение, каким бы спорным оно ни являлось. Мама тайком пробралась ко мне в комнату, принесла бутерброд с арахисовым маслом и вареньем.
– Может быть, твой отец и не раввин, – сказала она, – но он верит в традиции. Именно их родители и передают своим детям.
– Ладно, – вступила я в спор. – Обещаю в июле закупить все школьные принадлежности; буду всегда готовить на День благодарения запеканку из маршмеллоу и батата. Мама, против традиций я не возражаю. Но религия – это не ДНК. Нельзя верить просто потому, что верят твои родители.
– Бабушка Минка носит свитера, – сказала мама. – Постоянно.
На первый взгляд это показалось неуместным утверждением. Мать моего отца жила в доме престарелых. Она родилась в Польше и до сих пор разговаривала с акцентом – всегда немного нараспев. Да, бабушка Минка носила свитера, даже когда на улице была тридцатиградусная жара, но еще она слишком нарумянивалась и обожала одежду леопардовой расцветки.
– Многие из тех, кто выжил, избавились от татуировок хирургическим путем, но Минка уверяет, что, когда видит их каждое утро, вспоминает, что она победила.
Я не сразу поняла, что мне хочет сказать мама. Папина мама была в концлагере? Как я могла дожить до двенадцати лет и не знать этого? Почему родители скрывали это от меня?
– Она не любит об этом говорить, – просто ответила мама. – И не любит показывать свою руку.
Мы проходили тему «Холокост» на занятиях по общественных наукам. Трудно было представить, что иллюстрации в учебниках, где изображены живые скелеты, имеют хоть какое-то отношение к полной женщине, от которой всегда пахнет лилиями, которая еженедельно посещает парикмахера, которая в каждой комнате своего домика хранит яркие разноцветные трости, чтобы они всегда были под рукой. Она не часть истории. Она просто моя бабушка.
– Она не ходит в храм, – сказала мама. – Мне кажется, после всего, что произошло, у нее сложились непростые отношения с Богом. Но твой отец… он начал ходить туда. По-моему, таким образом он пытается осмыслить то, что с ней произошло.
Я тут отчаянно пытаюсь избавиться от этой религии, чтобы смешаться с остальными людьми, а оказывается, в моих жилах течет настоящая еврейская кровь – я потомок человека, пережившего холокост. Я упала спиной на подушки – обманутая, злая, эгоистичная.
– Это папин выбор. Ко мне это не имеет никакого отношения.
Мама заколебалась.
– Сейдж, если бы она не выжила, ты бы не родилась.
Это был один-единственный раз, когда мы обсуждали прошлое бабушки Минки, однако, когда мы привезли ее к себе в гости на Хануку, я поймала себя на том, что пристально разглядываю бабушку, чтобы увидеть тень правды на ее лице. Но она была такой же, как всегда: снимала и ела кожу с жареной курицы, когда мама не видела, вытаскивала из сумочки пробники духов и косметики, которые собирала для моих сестер, обсуждала героев «Всех моих детей», словно друзей, к которым она заглядывала на кофе. Если во время Второй мировой войны она и находилась в концлагере, должно быть, тогда она была совершенно другим человеком.
Той же ночью, когда мама рассказала мне бабушкину историю, мне приснилось кое-что из моего детства – сама я этого не помнила, потому что была очень маленькой. Я сидела у бабушки Минки на коленях, а она перелистывала странички книги и читала мне ее. Теперь я понимаю, что история была другая. В книге были иллюстрации к сказке «Золушка», но думала она, скорее всего, совершенно о другом, потому что рассказывала о темном лесе, о чудовищах и о тропинке, посыпанной зернышками.
Еще я помню, что тогда не обратила на это внимания, потому что меня загипнотизировал золотой браслет на бабушкином запястье. Я постоянно тянулась к нему, хватая ее за свитер. В какой-то момент рукав закатился достаточно высоко, и я отвлеклась на поблекшие синие цифры на внутренней стороне ее предплечья.
– Что это?
– Мой номер телефона.
В прошлом году в садике я запомнила свой номер телефона, чтобы, если потеряюсь, полиция могла позвонить мне домой.
– А если ты переедешь? – поинтересовалась я.
– Ох, Сейдж, – засмеялась она. – Я останусь здесь навсегда.
На следующий день Мэри появляется в кухне, когда я еще пеку хлеб.
– Сегодня ночью мне приснился сон, – говорит она. – Вы с Адамом пекли багеты. Ты сказала ему, чтобы он поставил багеты в духовку, но вместо этого он сунул туда твою руку. Я кричала, пыталась вытащить тебя из огня, но оказалась недостаточно проворной. Когда ты все же отошла в сторону, у тебя не было правой руки, а болталось что-то похожее на тесто. «Ничего страшного», – сказал Адам, взял нож и резанул тебя по запястью. Он принялся резать твой большой палец, мизинец, потом остальные. Из всех сочилась кровь.
– И тебе приятного вечера, – желаю я.
Открываю холодильник и достаю поднос со сдобными булочками.
– И все? Ты даже задуматься не хочешь, что бы это могло значить?
– Ты просто напилась кофе, прежде чем лечь спать, – предполагаю я. – Помнишь, как тебе приснилось, что Рокко отказывается снять туфли, потому что у него куриные лапы? – Я поворачиваюсь к ней лицом. – Разве ты знакома с Адамом? Знаешь, как он выглядит?
– Даже самые прекрасные создания могут быть ядовитыми. Борец аптечный, например, или ландыш – оба они растут в твоем любимом саду Моне наверху, у Святой лестницы, но я бы никогда не решилась приблизиться к ним без перчаток.
– А прихожанам они не мешают?
Она качает головой.
– В основном прихожане воздерживаются от того, чтобы лакомиться ландшафтом. Но не в этом дело, Сейдж. Дело в том, что мой сон – это знак.
– Что мои руки стали съедобными? – говорю я. – Послушай, Мэри, не строй из себя праведницу. То, чем я занимаюсь в свободное от работы время, – мое личное дело. И ты прекрасно знаешь, что в Бога я не верю.
Она преграждает мне дорогу.
– Но это совершенно не значит, что Он в тебя не верует, – возражает она.
Шрам у меня на лице начинает покалывать. В левом глазу появляется резь, как было несколько месяцев после операции. Казалось, что я рыдаю над всеми закрытыми в будущем возможностями, хотя тогда я еще этого не понимала. Может быть, старомодно и – как ни иронично это звучит! – по-библейски верить, что уродство тела – признак уродства души, что шрамы и родинки – внешние признаки какого-то внутреннего порока, но в моем случае это высказывание абсолютно правдиво. Я совершила нечто ужасное, и каждый раз, когда вижу свое отражение в зеркале, оно мне об этом напоминает. Для большинства женщин спать с женатым мужчиной неправильно? Разумеется, но я не такая, как большинство женщин. Возможно, поэтому, несмотря на то что прежняя я никогда бы не влюбилась в Адама, я-новая нырнула в этот омут с головой. И дело не в том, что я чувствую, будто мне даровано такое право или я заслуживаю быть только с чужим мужем. Все дело в том, что я не верю, что заслуживаю чего-то большего.
Я не социопатка. И не горжусь своим романом. Но чаще всего я придумываю для него оправдание. То, что сегодня Мэри залезла мне в душу, означает, что я устала или стала более уязвимой, чем мне казалось. Или и то и другое вместе.
– А как же быть с той бедняжкой, Сейдж?
Бедняжка – это жена Адама. Этой бедняжке принадлежит мужчина, которого я люблю, и у них есть двое чудесных детей, и лицо у нее гладкое, без шрамов. Эта бедняжка получает все, что пожелает, на блюдечке с голубой каемочкой.
Я беру острый нож и начинаю крестообразно надрезать верхушки горячих булочек.
– Если хочешь себя жалеть, – продолжает Мэри, – делай это так, чтобы не разрушать жизни других людей.
Я острием ножа указываю на свой шрам.
– Думаешь, я об этом мечтала? – спрашиваю я. – Думаешь, я каждый день не мечтаю о том, чтобы у меня было все, как у других людей: работа с девяти до пяти, возможность прогуливаться по улице без того, чтобы дети показывали на тебя пальцами, мужчина, который считал бы меня красавицей?
– Ты и так можешь все это иметь, – уверяет Мэри, заключая меня в объятия. – Только ты сама себя убедила, что недостойна этого. Сейдж, ты хороший человек.
Хочется ей верить. Как хочется ей верить!
– В таком случае, видимо, и хорошие люди совершают дурные поступки, – отвечаю я и отстраняюсь от нее.
В булочной я слышу отрывистую речь Джозефа Вебера, он спрашивает меня. Вытираю глаза уголком фартука, хватаю отложенную буханку и небольшой сверток, Мэри остается в кухне в одиночестве.
– Здравствуйте! – весело здороваюсь я. Слишком весело.
Джозефа, похоже, испугал мой наигранно веселый тон. Я сую ему в руки небольшой пакетик с домашним печеньем для Евы и буханку хлеба для него. Рокко, который не привык к тому, что я по-дружески болтаю с посетителями, замирает с чистыми чашками в руке.
– Чудесам нет предела. Из глубин темных недр лик затворницы виден, – говорит он.
– В слове «недр» – один слог, – резко отвечаю я и жестом указываю Джозефу на свободный столик. Ни секунды не задумываясь, я сама завязываю с ним разговор – из двух зол выбирают меньшее: лучше я побуду здесь, чем меня будет допрашивать Мэри. – Я приберегла для вас лучшую свежую буханку.
– Батар, – произносит Джозеф.
Я удивлена: большинство покупателей не знают, как по-французски называется хлеб такой формы.
– Знаете, почему он так называется? – спрашиваю я, отрезая пару кусочков и пытаясь выбросить из головы Мэри с ее сном. – Потому что он не «буль» – не круглый, не «багет» – тонкий и длинный. Дословно это «гибрид».
– Кто бы мог подумать, что и в мире выпечки есть своя классификация, – задумчиво произнес Джозеф.
Я знаю, хлеб удался. Это понятно по запаху, когда достаешь из печи обычный хлеб: землистый, темный аромат, как будто из чащи леса. Я с гордостью смотрю на ноздреватый хлебный мякиш. Джозеф от удовольствия закрывает глаза.
– Мне повезло, что я лично знаком с пекарем.
– Раз уж речь зашла о личном знакомстве… Вы судили игру Малой лиги, в ней выступал сын моего знакомого, Брайан Ланкастер, не помните?
Он хмурится, качает головой.
– Это было давным-давно. Я не знал всех по именам.
Мы болтаем – о погоде, о Еве, о моих любимых рецептах. Мы болтаем, пока Мэри закрывает булочную – она вышла из кухни, крепко обняла меня и сказала, что не только Бог любит меня, но и она тоже. Мы болтаем, несмотря на то что я бегаю в кухню на зов различных таймеров. Для меня это из ряда вон, потому что обычно я ни с кем не болтаю. Во время нашего разговора случается, что я забываю втянуть голову или закрыть волосами изувеченную сторону лица. Но Джозеф… Он либо чересчур вежлив, либо чересчур смущен, чтобы сказать об этом. Или, может быть – только гипотетически! – есть во мне что-то, что он находит более интересным. Вероятно, благодаря этому он и стал любимым учителем, судьей, всеобщим дедушкой – он ведет себя так, как будто на земле нет более интересного места, чем здесь и сейчас. И нет на земле более интересного собеседника. Оттого, что посторонний человек обратил на тебя внимание в хорошем смысле этого слова, кругом идет голова, и я забываю прятаться.
– Как давно вы здесь живете? – спрашиваю я где-то через час после начала разговора.
– Двадцать два года, – отвечает Джозеф. – Раньше я жил в Канаде.
– Если вы искали место, где никогда и ничего не происходит, то попали туда, куда нужно.
Джозеф улыбается.
– Похоже на то.
– У вас есть семья?
Он трясущейся рукой тянется за чашкой кофе.
– Нет, – отвечает он и начинает подниматься. – Мне пора.
У меня внутри все переворачивается – я поставила его в неудобное положение. Уж мне ли не знать, каково это!
– Простите! – восклицаю я. – Не хотела вас обидеть. Я редко общаюсь с людьми. – Я широко улыбаюсь и пытаюсь все исправить единственным известным мне способом: обнажаю частичку своей души (которую обычно храню за семью замками), чтобы мы были на равных. – У меня тоже никого нет, – признаюсь я. – Мне двадцать пять лет, родители умерли. Они никогда не увидят, как я выхожу замуж. А я никогда не приготовлю им праздничный ужин на День благодарения, не приеду навестить с их внуками. Мои сестры совсем другие – они водят минивэны, играют в футбол и строят карьеру, получая премии. Они меня ненавидят, хотя утверждают обратное. – Слова льются из меня рекой; уже произнося их, я тону. – Но у меня никого нет по большей части из-за этого.
Дрожащей рукой я убираю с лица волосы.
Я знаю все, что он видит, до мельчайших подробностей. Испещренная узелками кожа на левом веке. Белесые следы от швов, пересекающие бровь. Куски пересаженной кожи, похожие на несовпадающую картинку-загадку. Из-за неправильно сросшейся скулы мой рот всегда тянет вверх. Залысина на голове, где больше не растут волосы, – челка тщательно ее скрывает. Лицо чудовища.
Не могу объяснить, почему я выбрала Джозефа, фактически незнакомого человека, чтобы обнажить душу. Возможно, потому, что одиночество – это зеркало, в нем я узнала себя. Рука падает, завеса волос опять закрывает мои шрамы. Я жалею об одном: что так же легко не могу скрыть шрамы внутри себя.
К чести Джозефа стоит сказать, что он не отскакивает, не начинает охать. Он спокойно выдерживает мой взгляд.
– Может быть, теперь, – отвечает он, – мы есть друг у друга.
На следующее утро, возвращаясь домой, я проезжаю мимо дома Адама. Паркуюсь на улице, опускаю стекло и смотрю на сетку футбольных ворот, установленных перед домом, на коврик, на котором написано «Добро пожаловать», на сверкающий на солнце ярко-зеленый велосипед у дома.
Представляю, каково сидеть за столом в столовой, где Адам перемешивает салат, пока я подаю пасту. Интересно, а стены в кухне белые или желтые? Осталась ли на столе буханка хлеба – скорее всего, купленного в магазине (с мягким укором догадываюсь я) – после того, как кто-то приготовил на завтрак французские тосты?
Когда открывается дверь, я ругаюсь вслух и глубже вжимаюсь в сиденье, хотя нет никаких причин думать, что Шэннон меня видит. Она выходит из дома, продолжая застегивать «молнию» на сумочке, и нажимает на кнопку сигнализации, чтобы разблокировать дверцы машины.
– Скорее! – кричит она. – Мы опаздываем на прием!
Через секунду из дома появляется сильно кашляющая Грейс.
– Рот прикрывай, – велит ей мать.
Я ловлю себя на том, что затаила дыхание. Грейс вылитая Шэннон, только в миниатюре: такие же золотистые волосы, такие же тонкие черты лица, даже походка у них одинаковая.
– Мне что, в лагерь теперь нельзя ехать? – печально спрашивает Грейс.
– Нельзя, раз у тебя бронхит, – отвечает Шэннон.
Они садятся в машину и отъезжают.
Адам не говорил мне, что его дочь заболела.
С другой стороны, почему он должен был об этом говорить? К этой стороне его жизни я не имею никакого отношения.
Когда я отъезжаю от дома, понимаю, что не стану бронировать билеты в Канзас-Сити. Никогда.
Однако вместо того, чтобы отправиться домой, я ловлю себя на том, что ищу в телефоне адрес Джозефа. Он живет в конце какого-то тупика. Я паркуюсь у тротуара, пытаясь выдумать причину, по которой к нему заглянула, когда он стучит в окно моей машины.
– Значит, это все-таки вы, – говорит Джозеф.
Он держит конец Евиного поводка. Собачка кругами танцует у его ног.
– Что привело вас в наши края? – спрашивает он.
Я решаю, что скажу, будто оказалась здесь случайно, не туда свернула. Или что поблизости живет моя подруга. Но в конечном итоге выкладываю правду.
– Вы, – отвечаю я.
Его лицо расплывается в улыбке.
– В таком случае вы должны остаться на чай, – настойчиво говорит он.
Дом его обставлен не так, как я ожидала. Здесь стоят обитые ситцем диваны с кружевными салфеточками на спинках, на пыльном камине – фотографии, на полке – коллекция немецких фарфоровых фигурок. Во всем ощущается незримое присутствие женщины.
– Вы женаты, – бормочу я.
– Был женат, – отвечает Джозеф. – На Марте. Целый пятьдесят один счастливый и один не такой счастливый год.
Наверное, именно поэтому он стал посещать занятия по групповой терапии.
– Мне очень жаль.
– Мне тоже, – тяжело вздыхает он. Он достает из своей кружки пакетик чая и аккуратно наматывает ниточку от него на ложку. – По средам вечером она напоминала мне, чтобы я вынес мусорный контейнер к тротуару. За целых пятьдесят лет я ни разу этого не забыл. Но она никогда не доверяла моей памяти. Сводила меня с ума. А теперь я все бы отдал, чтобы еще раз услышать ее голос.
– А меня чуть не отчислили из колледжа, – признаюсь я. – Мама в буквальном смысле переехала в мою комнату в общаге, стаскивала меня с кровати и силой заставляла учиться. Я чувствовала себя полнейшей неудачницей. А сейчас я понимаю, как мне повезло. – Я опускаю руку и глажу Еву по шелковистой головке. – Джозеф! – окликаю я. – Вам когда-нибудь казалось, что вы ее теряете? Что больше не слышите в голове ее высокий голос? Не можете вспомнить, как пахли ее духи?
Он качает головой.
– У меня другая проблема, – отвечает он. – Я его забыть не могу.
– Его?
– Ее, – поправляет сам себя Джозеф. – Постоянно путаю немецкие и английские слова.
Мой взгляд останавливается на шахматной доске у Джозефа за спиной. Все фигурки искусно вырезаны: пешки в форме крошечных единорогов, ладьи стали кентаврами, кони – парой крылатых Пегасов. Русалочий хвост королевы обвивает основание фигурки, король-вампир откинул голову назад и обнажил клыки.
– Невероятно, – выдыхаю я и делаю шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть. – Ничего подобного никогда не видела.
Джозеф смеется.
– Потому что эти шахматы сделаны в единственном экземпляре. Семейная ценность.
Я с еще бо́льшим восхищением взираю на шахматную доску, на гладкую инкрустацию вишни и мрамора, на крошечные глазки русалки из драгоценных камней.
– Какая красота!
– Да. Мой брат был очень хорошим мастером, – негромко говорит Джозеф.
– Он сам это вырезал? – Я беру короля-вампира, провожу пальцем по гладкому, скользкому черепу фигурки. – Вы играете в шахматы? – спрашиваю я.
– Уже сто лет не играл. У Марты не было терпения для этой игры. – Он поднимает взгляд. – А вы?
– Не очень хорошо. Приходится думать на пять шагов вперед.
– Все дело в стратегии, – поясняет Джозеф. – Нужно защитить короля.
– А почему мифические создания? – удивляюсь я.
– Мой брат верил в разного рода мифических созданий: в фей, драконов, оборотней, честных людей…
Я ловлю себя на мысли об Адаме, о его дочери, которая кашляет, пока педиатр слушает ее легкие.
– Может быть, – говорю я, – вы научите меня тому, что знаете сами.
Джозеф стал в «Хлебе нашем насущном» постоянным посетителем: приходил незадолго до закрытия, чтобы мы могли полчасика поболтать до того, как он отправится спать, а я примусь за работу. Когда появляется Джозеф, Рокко кричит мне в кухню, называет его моим «дружком». Мэри приносит ему отросток из сада – лилейник – и рассказывает, как правильно посадить это растение в его саду за домом. Она начинает верить, что после того, как она закрывает булочную, я провожаю Джозефа домой. Печенье для собак, которое я пеку для Евы, стало новым блюдом в нашем меню.
Мы обсуждаем моих школьных учителей, которые преподавали в одно время с Джозефом: мистера Мучника, у которого однажды упал парик, когда он заснул над контрольными по проверке академических способностей; мисс Фьеро, которая приводила своего малыша в школу, когда няня болела, и засовывала его в компьютерный класс, где он играл в игру «Улица Сезам». Обсуждаем рецепт штруделя, который пекла его бабушка. Он рассказывает мне о предшественнике Евы, шнауцере по кличке Вили, который, бывало, обматывался туалетной бумагой, как мумия, если хозяева случайно оставляли дверь туалета открытой. Джозеф признается, что трудно стало коротать свободное время, когда он не работает и не занимается волонтерской деятельностью.
Что касается меня, то я рассказываю, например, о том, что уже смирилась с тем, что останусь в старых девах. Рассказываю Джозефу о том времени, когда мы с мамой вместе ходили по магазинам, как она залезла в слишком узкий сарафан, который нам пришлось купить, чтобы позже разорвать и снять. Рассказываю ему, как на протяжении нескольких лет после этого инцидента, стоило произнести слово «сарафан», и мы обе покатывались со смеху. Рассказываю, как папа каждый год во время седера[11] читал молитву голосом Дональда Дака, и не потому, что не почитал традиции, а потому, что его маленькие доченьки при этом весело смеялись. Рассказываю, как в дни рождения мама разрешала нам на завтрак лакомиться любимыми десертами, как умела угадывать температуру с точностью до двух десятых градуса, лишь прикоснувшись ко лбу, когда кто-то заболевал. Рассказываю, как в детстве я была уверена, что у меня в шкафу живет чудовище, и папа целый месяц спал сидя, опираясь спиной о раздвижную, обитую филенками дверь шкафа, чтобы зверь не мог выбраться оттуда среди ночи. Рассказываю, что мама учила меня заправлять кровать, как это делают в больницах. А папа учил выплевывать сквозь зубы семечки дыни. Каждое воспоминание похоже на бумажный цветок, который достает из рукава фокусник: только что его не было видно, и вот он уже такой реальный и яркий, что невозможно представить, как его до сих пор не было видно. И подобно этим бумажным цветам, которые вытащили на свет Божий, воспоминания невозможно спрятать назад.
Я ловлю себя на том, что отменяю свидание с Адамом, чтобы провести часок в гостях у Джозефа, поиграть в шахматы, пока глаза не начнут слипаться и я вынуждена буду ехать домой, чтобы немного поспать. Он учит меня следить за центром доски и сдаваться только в случае абсолютного поражения; учит оценивать местоположение каждого коня и слона, ладьи и пешки, чтобы я могла принимать правильные решения.
Во время игры Джозеф задает мне вопросы. Моя мама была такой же рыжеволосой, как я? Мой отец скучал по ресторанному бизнесу, когда занялся промышленным производством? Моим родителям доводилось пробовать какое-нибудь из моих блюд? Даже самые трудные из ответов – например, то, что я никогда не пекла для родителей, – не обжигают мне язык так сильно, как обожгли бы год или два назад. Оказывается, делиться с кем-то воспоминаниями – не то же самое, что переживать их в одиночку: рана уже не кровоточит, а только саднит.
Через две недели мы с Джозефом вместе приезжаем на очередное занятие нашей группы. Сидим рядом, и кажется, что между нами существует едва уловимая телепатическая связь, когда говорят остальные члены группы. Иногда мы встречаемся взглядами, иногда он прячет улыбку, а я закатываю глаза. Неожиданно мы становимся сообщниками.
Сегодня мы говорим о том, что ждет нас после смерти.
– Мы будем бродить неподалеку? – спрашивает Мардж. – Наблюдать за теми, кого любим?
– Возможно. Я до сих пор временами чувствую присутствие Шайлы, – отвечает Стюарт. – Как будто воздух становится более влажным.
– А по-моему, очень эгоистично думать, что души околачиваются рядом с нами, живыми, – тут же возражает Шайла. – Они отправляются на небеса.
– Все?
– Все, кто верует, – уточняет она.
Шайла из тех, кто заново утвердился в вере, что совершенно неудивительно. Но мне все равно неуютно, как будто она говорит о том, что мне такое право – попасть на небеса – не даровано.
– Когда мама лежала в больнице, – говорю я, – ее раввин рассказал такую историю. И на небесах, и в аду люди сидят за праздничным столом, заставленным удивительными яствами, но никому нельзя сгибать руки в локтях. В аду все голодают, потому что не могут себя накормить. А на небесах все наедаются до отвала, потому что, чтобы накормить друг друга, не нужно сгибать руку.
Я чувствую на себе взгляд Джозефа.
– Мистер Вебер! – подбадривает Мардж.
Я думаю, что Джозеф проигнорирует обращение или, как обычно, покачает головой. Но, к моему удивлению, он отвечает:
– Когда человек умирает, он умирает. И все заканчивается.
Эти резкие слова окутывают присутствующих, словно саван.
– Прошу прощения, – извиняется он и выходит из зала.
Я нахожу его в коридоре церкви.
– История, которую вы рассказали, – говорит Джозеф, – о праздничном столе… Вы сами-то в нее верите?
– Хотелось бы верить, – отвечаю я. – Ради мамы.
– Но ваш раввин…
– Он не мой раввин, а мамин.
Я направляюсь к двери.
– Вы верите в жизнь после смерти? – с любопытством спрашивает Джозеф.
– А вы нет?
– Я верю в ад… Но он здесь, на земле. – Старик качает головой. – В хороших и плохих людей. Если бы все было так просто… В каждом человеке есть и то и другое.
– По-вашему, одно не может перевесить другое?
Джозеф останавливается.
– Это вы мне скажите, – отвечает он.
Его слова словно обжигают, мой шрам начинает гореть.
– Почему вы никогда не спрашиваете, как это произошло? – не подумав, говорю я.
– Что «это»?
Я обвожу рукой лицо.
– Ах, это! Как-то давным-давно мне сказали, что история сама себя расскажет, когда время придет. Я решил, что время еще не настало.
Странная мысль: то, что со мной произошло, – не моя история, а нечто существующее совершенно обособленно от меня. Неужели вся моя проблема в том, что я не способна отделить одно от другого?
– Автомобильная авария, – говорю я.
Джозеф кивает, ожидая продолжения.
– И пострадала не я одна, – удается выдавить мне, хотя слова душат.
– Но вы выжили. – Он нежно касается моего плеча. – Может быть, только это и имеет значение.
Я качаю головой.
– Хотелось бы мне в это верить.
Джозеф смотрит на меня.
– Разве не всем нам этого хочется? – говорит он.
На следующий день Джозеф не приходит в булочную. И еще через день его тоже нет. Я прихожу к единственно возможному выводу: Джозеф без сознания лежит в своей кровати. Или того хуже.
За все годы моей работы в «Хлебе нашем насущном» я ни разу не оставляла булочную на ночь без присмотра. Мои вечера расписаны с военной точностью: я почти два километра прохожу по кухне до той минуты, когда разделяю тесто и формирую из него сотни буханок, пока они подходят и готовы выпекаться в разогретой духовке. Сама булочная становится живым, дышащим организмом. Каждый стол – новым партнером, ожидающим своей очереди потанцевать. Собьешься во времени – и будешь стоять одна в окружающем хаосе. Я ловлю себя на том, что начинаю спешить, пытаясь сделать то же количество работы за меньший отрезок времени. И понимаю: от меня будет мало толку, пока я не навещу Джозефа и не удостоверюсь, что он дышит.
Я еду к нему, вижу свет в кухне. Ева тут же заливается лаем. Джозеф открывает дверь.
– Сейдж! – удивленно восклицает он. Громко чихает и вытирает нос белым носовым платком. – Что случилось?
– Вы простыли, – констатирую я очевидное.
– Вы проделали весь этот путь, чтобы сообщить мне то, что я и так уже знаю?
– Нет. Я подумала… я хотела вас проведать… вас два дня не было видно.
– Апчхи! Как видите, я в состоянии самостоятельно стоять. – Он жестом приглашает меня в дом. – Зайдете?
– Не могу, – отвечаю я. – Мне на работу пора. – Но я не двигаюсь с места. – Я волновалась, когда вы не пришли в булочную.
Он молчит, раздумывая. Его рука лежит на ручке двери.
– Значит, вы приехали, чтобы убедиться, что я еще жив?
– Я приехала навестить друга.
– Друга… – повторяет Джозеф радостно. – Значит, мы теперь друзья?
Двадцатипятилетняя уродина и девяностолетний старик? Полагаю, бывают и более необычные парочки.
– Я польщен, – официальным тоном произносит Джозеф. – Увидимся завтра, Сейдж. А теперь вам пора на работу, чтобы завтра я смог полакомиться булочкой с кофе.
Через двадцать минут я возвращаюсь в булочную, выключаю шесть обозленных таймеров и пытаюсь оценить ущерб, причиненный моей самовольной часовой отлучкой. Некоторые буханки подошли слишком сильно; тесто перебродило и осело либо с одной, либо с другой стороны. Пострадает вся ночная выпечка, Мэри разорится. Завтра посетители уйдут с пустыми руками.
Я заливаюсь слезами.
Не знаю точно, что стало причиной слез: то ли беда в кухне, то ли боязнь потерять Джозефа, когда я только-только его нашла. Я и не представляла, что так из-за него расстроюсь. Не знаю, сколько еще потерь я смогу пережить.
Как бы мне хотелось печь для мамы! Багеты, шоколадные булочки и бриоши… И чтобы они горкой высились на ее столе на небесах. Как бы мне хотелось быть той, кто ее накормит. Но я не могу. Как Джозеф и сказал: когда человек умирает, все заканчивается. И не важно, какими сказками о жизни после смерти мы, выжившие, готовы себя кормить!
Но это… Я обвожу кухню взглядом. Это я могу поправить, если быстро замешу тесто и дам ему еще раз подняться.
Поэтому я начинаю месить. Месить, месить…
На следующий день случается чудо.
Мэри, которая сначала злится и разговаривает сквозь зубы из-за меньшего количества ночной выпечки, разрезает чиабатту.
– А мне что прикажешь делать, Сейдж? – вздыхает она. – Сказать покупателям, чтобы отправлялись в булочную к Руди?
Руди – наш конкурент.
– Ты могла бы пообещать им скидку на следующую покупку.
– Скидками сыт не будешь.
Когда она спрашивает, что произошло, я говорю неправду. Объясняю, что у меня случилась мигрень и я на два часа заснула.
– Больше такого не повторится.
Мэри поджимает губы, что свидетельствует о том, что она меня пока не простила. Потом берет кусок хлеба, собираясь намазать его клубничным вареньем.
Только не успевает этого сделать.
– Иисус, Мария и Иосиф! – восклицает она, задыхаясь, роняет кусок хлеба, словно он обжег ей руку, и тычет в него пальцем.
Неожиданное название для ноздреватого мякиша. Домашний хлеб ценится за свою румяную корочку, другие сорта, например хлеб фирмы «Уандер» (который и хлебом-то трудно назвать по питательной ценности) имеет ровную, тонкую корку.
– Ты видишь Его?
Если прищуриться, можно различить нечто похожее на очертания лица.
Потом лицо становится более отчетливым. Бородка. Терновый венец.
По-видимому, я выпекла в буханке лик Господень.
Первыми свидетельницами нашего маленького чуда становятся две женщины, работающие в церковном магазинчике. Они фотографируются с буханкой. Потом приезжает отец Дюпри, настоятель храма.
– Поразительно, – говорит он, глядя поверх очков.
Хлеб уже зачерствел. На половинке буханки, которую Мэри еще не нарезала, естественно, тоже есть такое же изображение Иисуса. Удивляет меня то, что чем тоньше режешь хлеб, тем четче виден Иисус.
– Вопрос не в том, что Господь явил себя, – говорит Мэри отец Дюпри. – Он всегда рядом с нами. Вопрос в том, почему Он явил себя именно сейчас.
Мы с Рокко наблюдаем за этой беседой издалека.
– Боже мой, – бормочу я.
Рокко фыркает.
– Именно. Чудное сходство видать. Выпечен облик Отца, Сына его. И святого гренка.
Распахивается дверь, и в булочную врывается журналистка с вьющимися каштановыми волосами, а за ней следует неуклюжий медведь-оператор.
– Здесь хлеб с Иисусом?
Мэри выходит вперед.
– Да. Я Мэри Деанжелис. Владелица булочной.
– Отлично! – восклицает журналистка. – Харриет Йерроу, Девятый канал. Мы хотели бы побеседовать с вами и вашими сотрудниками. В прошлом году мы делали интервью с лесорубом, который, увидев Святую Деву Марию на пне дерева, приковал себя к нему цепью, чтобы компания прекратила там вырубку леса. Эта новость в две тысячи двенадцатом году имела больше всего просмотров. Мы пишем? Да? Отлично.
Пока она берет интервью у Мэри и отца Дюпри, я прячусь за Рокко, который пробивает чек на три багета, горячий шоколад и хлеб на манке. Потом Харриет сует микрофон мне в лицо.
– Это ваш пекарь? – спрашивает она у Мэри.
У камеры глазом циклопа горит красный огонек, который мигает, когда идет запись. Я не могу отвести от него взгляда. Меня пугает уже одна мысль о том, что весь штат увидит меня в дневных новостях. Я опускаю подбородок на грудь, пряча лицо, хотя щеки мои горят от стыда. Как давно он уже снимает? Успел мельком снять мой шрам до того, как я опустила голову? Или уже давно снимает, и сидящие перед телевизором дети уронят ложки в тарелки, а их матери выключат телевизор, чтобы детишек не мучили кошмары?
– Мне пора, – бормочу я и скрываюсь в глубине булочной.
Потом выскакиваю через черный ход и бегу, перескакивая ступени для покаянных молитв через две. Все приходят в храм полюбоваться роскошным розарием, а мне нравится небольшая пещера на вершине холма, вокруг которой Мэри посадила цветы, чтобы она напоминала картину Моне. Сюда никто никогда не ходит – именно поэтому, разумеется, я так ее люблю.
Поэтому я удивляюсь, заслышав шаги. Когда появляется тяжело опирающийся на перила Джозеф, я тут же бросаюсь ему на помощь.
– Что происходит там, внизу? Зашла выпить кофе какая-то знаменитость?
– Что-то вроде того. Мэри кажется, что она в моей буханке разглядела лицо Иисуса.
Я ожидаю, что он начнет смеяться, но он склоняет голову набок, раздумывая над услышанным.
– Похоже, Господь является там, где его не ждут.
– Вы верите в Бога? – искренне изумляюсь я. После наших разговоров о небесах и преисподней я решила, что он тоже атеист.
– Да, – отвечает Джозеф. – В конечном счете, он судит нас всех. Бог из Ветхого Завета. Вы должны об этом знать, вы же еврейка.
Я чувствую отчуждение, настораживаюсь.
– Я никогда не говорила, что я еврейка.
Джозеф выглядит удивленным.
– Но ваша мама…
– Она – не я.
На лице его быстро сменяются чувства, как будто он решает какую-то дилемму.
– Дочь матери-еврейки – еврейка.
– По-моему, все зависит оттого, кого вы спрашиваете. А вот мне интересно, почему это имеет такое значение?
– Я не хотел вас обидеть, – сухо говорит он. – Я пришел просить об одолжении, и мне просто необходимо было удостовериться, что вы именно тот человек, который мне нужен. – Джозеф глубоко вздыхает, а когда выдыхает, произнесенные им слова повисают между нами. – Я бы хотел, чтобы вы помогли мне умереть.
– Что? – Я неподдельно изумлена. – Почему?
Похоже, у Джозефа приступ старческого слабоумия. Но взгляд у него чистый, сосредоточенный.
– Понимаю, что просьба необычная…
– Необычная?! А как насчет «безумная»?!
– У меня есть на то причины, – упрямо твердит он. – Прошу мне поверить.
Я отступаю на шаг назад.
– Наверное, вам лучше уйти.
– Пожалуйста, – молит Джозеф. – Вы говорили так о шахматах. Я думаю на пять шагов вперед.
Его слова заставляют меня онеметь.
– Вы больны?
– Врачи уверяют, что тело у меня еще крепкое. Так Бог надо мною шутит. Он создал меня таким сильным, что я не могу умереть, даже если захочу. Дважды у меня был рак. Я пережил автомобильную аварию и перелом шейки бедра. Я даже, пусть Господь меня простит, проглотил пузырек таблеток. Но меня обнаружил свидетель Иеговы, который, так уж случилось, раздавал брошюры и увидел в окно меня, лежащего на полу.
– Почему вы пытались себя убить?
– Потому что я должен умереть, Сейдж. Я заслуживаю смерти. И вы можете мне помочь. – Он колеблется. – Вы показали мне свои шрамы. Я лишь прошу позволить мне показать свои.
Меня вдруг озаряет: я ничего не знаю об этом человеке за исключением того, чем он сам решил со мной поделиться. А теперь, по всей видимости, он выбрал меня для того, чтобы я помогла ему совершить самоубийство.
– Послушайте, Джозеф, – мягко начинаю я. – Вам нужна помощь, но не по той причине, что вы думаете. Я не совершаю убийства налево и направо.
– Скорее всего, нет.
Он лезет в карман пальто и достает небольшую фотографию с зубчатыми краями. Вкладывает ее мне в ладонь.
На снимке я вижу человека гораздо моложе, чем Джозеф, – но тот же «мыс вдовы»[12], тот же нос крючком, черты лица отдаленно напоминают его. Он одет в форму офицера СС. И он улыбается.
– Однако я совершал, – говорит он.
Дамиан высоко поднял руку, и солдаты засмеялись у него за спиной. Я пытаюсь подпрыгнуть, чтобы забрать деньги, но не достаю и чуть не падаю. Хотя стоит октябрь, в воздухе пахнет зимой, и руки у меня замерзли. Рука Дамиана змеей обвилась вокруг меня, словно тисками сжимая мое тело. Я почувствовала, как в кожу впились серебристые пуговицы его формы.
– Отпустите меня, – сквозь зубы велела я.
– Сейчас, сейчас, – усмехнулся он. – Разве так разговаривают с покупателем?
Это был последний багет. Как только я заберу у него деньги, можно возвращаться домой, к отцу.
Я оглянулась на остальных торговцев. Старуха Сэл взбалтывает остатки сельди в своей бочке, Фарук тщательно складывает шелка, старательно избегая стычки. Они прекрасно знают, что лучше не наживать себе врага в лице капитана караула.
– Где же твои манеры, Аня? – проворчал Дамиан.
– Прошу вас!
Он бросил взгляд на своих солдат.
– Приятно, когда она меня о чем-то умоляет, верно?
Другие девушки восхищались его поразительными серебристыми глазами; гадали, его волосы черные как смоль или как вороново крыло; грезили о чарующей улыбке, которая лишала дара речи и способности здраво мыслить, но я не находила в нем ничего привлекательного. Возможно, Дамиан и был самым завидным женихом во всей деревне, однако мне он напоминал тыквы, оставленные на крыльце после Хеллоуина, – на них приятно смотреть, но когда прикоснешься, то понимаешь, что внутри все гнилое.
К сожалению, Дамиан любил, когда ему бросали вызов. А поскольку я единственная женщина в деревне старше десяти и моложе ста, на которую не действовали его чары, он выбрал своей жертвой меня.
Дамиан опустил руку – ту, в которой держал монеты, – и схватил меня за горло. Я почувствовала, как серебро вжимается в бьющийся на шее пульс. Он пригвоздил меня к деревянной тележке зеленщика, словно хотел напомнить, как легко может меня убить, насколько он сильнее меня. Потом наклонился ближе.
– Выходи за меня, – прошептал он, – и тебе больше не придется волноваться о налогах.
И, продолжая сжимать мне горло, Дамиан меня поцеловал.
Я так сильно укусила его за губу, что выступила кровь. Как только он меня отпустил, я схватила пустую корзинку, в которой носила на рынок хлеб, и пустилась наутек.
Решила, что не стану ничего рассказывать отцу. Ему и без того несладко.
Чем больше я углублялась в лес, тем яснее ощущала запах горящего в камине нашего дома торфа. Через несколько мгновений я буду дома, и папа достанет булочку, которую испек специально для меня. Я буду сидеть за столом и рассказывать ему о жителях деревушки: о матери, которая обезумела от горя, когда ее близнецы спрятались под рулонами шелка Фарука; о Толстяке Тедди, который требовал, чтобы каждый молочник давал ему попробовать сыра, постепенно наедался и никогда ничего не покупал. Расскажу ему о человеке, которого раньше никогда не видела и который пришел на базар с подростком, скорее всего своим братом. Мальчик явно был слабоумным, потому что на голове у него был кожаный шлем, закрывающий нос и рот, с дырочками, прорезанными для дыхания. А на запястье у него кожаный наручник, чтобы старший брат мог держать его на поводке поближе к себе. Человек этот прошел мимо моего прилавка, мимо зеленщика и лотков со всякой всячиной, направляясь прямо к мяснику, где и попросил ребер. Когда у него не хватило денег расплатиться, он снял с себя шерстяное пальто.
– Возьмите его, – предложил он. – Это все, что у меня есть. – Когда он шел назад через площадь, его брат крепко держал завернутое в пакет мясо. – Скоро поешь, – пообещал он брату, и я потеряла их из виду.
Папа обязательно придумает для них историю: «Они отстали от бродячего цирка и оказались здесь. Они головорезы, положившие глаз на особняк Баруха Бейлера». Я стану смеяться и есть свою булочку, греясь перед очагом, пока папа будет замешивать очередную порцию теста.
Перед нашим домом протекал ручей, и папа перебросил через него широкую доску, чтобы мы могли перебираться с одного берега на другой. Но сегодня, когда я дошла до ручья и наклонилась попить, а заодно смыть с губ горький вкус поцелуя Дамиана…
Текла красная вода.
Я поставила корзинку и пошла вверх по течению. Мои сапоги утопали в вязкой грязи. И тут я увидела…
Человек лежал на спине, нижняя половина его тела утопала в воде. Горло и грудная клетка были вспороты… Я закричала.
Повсюду была кровь, много крови, которая окрасила его лицо и волосы.
Крови было очень много, поэтому лишь через несколько мгновений я узнала своего отца.
Сейдж
На снимке солдат смеется, как будто ему только что рассказали веселую историю. Левой ногой он подпирает деревянный ящик, в правой руке держит пистолет. За его спиной видны бараки. Этот снимок напоминает мне фотографии солдат перед отправкой к месту службы – слишком много бахвальства, которое кажется приторным, как лосьон после бритья. Это не лицо человека, одолеваемого сомнениями. Это лицо человека, который получает удовольствие от того, что делает.
На фотографии офицер один, но за белым краем снимка, как привидения, скрываются они – заключенные, которым прекрасно известно, что лучше стать невидимыми, когда рядом немецкий солдат.
У человека на снимке светлые волосы, широкие плечи и самоуверенный вид. Мне трудно представить, что этот мужчина и старик, однажды признавшийся мне, что потерял стольких людей, что и не сосчитать, – один и тот же человек.
С другой стороны, зачем ему врать? Люди лгут, чтобы убедить окружающих, что они не чудовища… Однако никак не наоборот.
Но если Джозеф говорит правду, то к чему он так выделялся в обществе: и преподавал, и занимался тренерской работой, и прогуливался повсюду среди бела дня?
– Видите, – говорит Джозеф, забирая у меня фотографию. – Я служил в отряде «Мертвая голова»[13].
– Я вам не верю, – отвечаю я.
Джозеф удивленно смотрит на меня.
– Зачем мне признаваться в том, что я совершил ужасные вещи, если бы это было неправдой?
– Не знаю, – отвечаю я. – Это вы мне ответьте.
– Потому что вы еврейка.
Я закрываю глаза, пытаясь пробиться сквозь вихрь безумных мыслей, которые кружатся в голове. Я не еврейка; много лет я не считала себя таковой, даже если Джозеф верит, что формально я ею являюсь. Но если я не еврейка, то почему же в глубине души я чувствую личную обиду, глядя на фотографию, где он в эсэсовской форме?
И почему мне не по себе, когда я слышу, как он приклеивает мне ярлыки, когда думаю, что после стольких лет Джозеф по-прежнему считает, что одного еврея всегда можно заменить другим?
Внутри поднимается волна отвращения. В этот момент мне кажется, что я могла бы его убить.
– Есть причина, по которой Бог так надолго оставил меня в живых. Он хочет, чтобы я чувствовал то, что чувствовали они. Они молились за свои жизни, но больше не могли ими управлять. Я молюсь о смерти, но не могу ею управлять. Именно поэтому я и прошу вас мне помочь.
«А евреев вы спрашивали, чего хотели они?»
Глаз за глаз; одна жизнь – за жизни многих.
– Я не стану убивать вас, – говорю я, отталкивая Джозефа, но меня останавливает его голос.
– Пожалуйста, это просьба умирающего! – умоляет он. – Или просьба человека, который хочет умереть. Разница небольшая.
Старик бредит. Думает, что он сродни вампиру, как король в его шахматах, которого держат на земле его грехи. Он думает, что если я его убью, то восторжествует библейская справедливость. И кармические долги будут искуплены – еврейка заберет жизнь человека, который лишил жизни других евреев. Рассуждая здраво, я понимаю, что это не так. Руководствуясь чувствами, я не хочу давать ему даже намека на надежду, что хотя бы на секунду задумаюсь над его просьбой.
Но я не могу просто уйти и сделать вид, что никакого разговора не было. Даже если бы ко мне на улице подошел незнакомец и признался в убийстве, я бы и тогда не смогла проигнорировать такое признание. Я бы нашла того, кто знает, как поступить.
Тот факт, что убийство произошло семьдесят лет назад, ничего не меняет.
Глядя на фотографию офицера СС, я не могу понять, как он смог превратиться в стоящего передо мной человека. Человека, который, находясь на виду, прятался более полувека.
Я смеялась с Джозефом, доверяла ему свои тайны, играла с ним в шахматы. За его спиной находился сад Моне, посаженный Мэри, с георгинами, сладким горошком и черенками роз, гортензиями, шпорником и борцом аптечным. Я вспоминаю, как Мэри говорила несколько недель назад, что даже самые прекрасные создания могут оказаться ядовитыми.
Два года назад в новостях освещали дело Ивана Демьянюка. Хотя я и не следила за новостями, но помню, как из дома вывозили в инвалидной коляске древнего старика. Явно кто-то преследует бывших нацистов в судебном порядке.
Но кто?
Если Джозеф лжет, я должна знать почему. Но если он говорит правду, я невольно становлюсь частью этой истории.
Мне нужно время, чтобы подумать.
Я оборачиваюсь и протягиваю ему фотографию. Думаю о молодом Джозефе в офицерской форме, о том, как он поднимает пистолет и стреляет в человека. Вспоминаю иллюстрацию в учебнике истории: изможденный еврей тащит на себе другого.
– Прежде чем я решу, помогать вам или нет, я должна знать, что вы сделали, – медленно произношу я.
Джозеф, задержавший дыхание, наконец выдыхает.
– Вы не сказали «нет», – осторожно говорит он. – Уже хорошо.
– Пока ничего хорошего, – поправляю я и сбегаю по Святой лестнице, а он пусть позаботится о себе сам.
Я иду пешком. Несколько часов. Я знаю, что Джозеф спустится от храма и станет искать меня в булочной. И когда он придет, мне там быть не хочется. К тому времени, когда я возвращаюсь в булочную, из входных дверей струится очередь из убогих, старых, прикованных к инвалидным креслам. Небольшая группка монашек, преклонивших колени в молитве, собралась у куста олеандра, расположенного у туалета. Каким-то чудесным образом, пока меня не было, весть о буханке с Иисусом распространилась по округе.
Мэри стоит рядом с Рокко, который собрал свои дреды в аккуратный «конский хвост», и держит хлеб на блюде, накрытом кухонным полотенцем цвета красного вина. Женщина подталкивает к ним инвалидное кресло с электронным приводом, где сидит ее сын двадцати с лишним лет.
– Смотри, Кит, – говорит она, поднимая буханку и прикасаясь ею к его сжатому кулаку. – Можешь его потрогать?
Мэри делает Рокко знак сменить ее, берет меня под руку и уводит в кухню. Щеки ее горят, черные волосы уложены в высокий начес и залакированы – ну и дела, неужели она накрасилась?!
– Ты где была? – ворчит она. – Пропустила все самое интересное!
Вот, значит, как она думает!
– Да?
– Через десять минут после выхода двенадцатичасовых новостей стали приходить люди. Старые, больные… Все хотели прикоснуться к хлебу.
Я думаю о том, что буханка, должно быть, уже превратилась в рассадник заразы, если ее трогали столько рук.
– Возможно, вопрос покажется тебе глупым, – говорю я, – но зачем?
– Чтобы излечиться, – отвечает Мэри.
– Ясно. Министерству здравоохранения давно следовало искать лекарство от рака в куске хлеба.
– Расскажи это ученым, открывшим пенициллин, – возражает Мэри.
– Мэри, а если в этом нет никакого чуда? Если всего лишь глютен случайно так связался?
– Я в это не верю. Но как бы там ни было, это все равно чудо, – отвечает Мэри, – потому что это дарит отчаявшимся надежду.
Мысли мои возвращаются к Джозефу, к евреям в концлагерях. Когда человеку судьбой определены муки из-за веры, неужели религия может стать маяком? Неужели женщина, у которой так тяжело болен сын, верит, что Бог в этой дурацкой буханке хлеба может его исцелить? И вообще верит в Бога, который позволил ему таким родиться?
– Ты радоваться должна. Все, кто приходит сюда посмотреть на буханку, покупает что-нибудь, испеченное тобой, – говорит Мэри.
– Ты права, – бормочу я. – Я просто очень устала.
– Тогда ступай домой. – Мэри смотрит на часы. – Потому что завтра, мне кажется, покупателей будет вдвое больше.
Выходя из булочной и минуя человека, который снимает буханку на камеру, я понимаю, что буду искать того, кто сможет меня подменить.
У нас с Адамом существует неписаная договоренность не являться друг к другу на работу. Никогда не знаешь, кто будет проходить мимо и узнает твою машину. К тому же его начальник по совместительству и отец Шэннон.
Я оставляю машину за квартал от его похоронного бюро и снова вспоминаю о Джозефе. Случалось ли так, что новый знакомый тыкал в него пальцем, добродушно говорил: «Я вас откуда-то знаю…», и Джозеф тут же покрывался липким потом? Посматривал ли он в чужие окна не для того, чтобы увидеть собственное отражение, а чтобы удостовериться, что за ним никто не следит?
И, разумеется, я постоянно гадаю, было ли наше знакомство чистой случайностью или же он намеренно искал такую, как я. Не просто девушку из еврейской семьи в городке, где евреев раз-два и обчелся, но человека, у которого к тому же обезображено лицо, поэтому он слишком застенчив, чтобы привлекать к себе внимание окружающих и делиться его историей. Я никогда не рассказывала Джозефу об Адаме, но неужели он разглядел во мне нечистую совесть сродни своей?
К счастью, похорон сейчас не было. Бизнес у Адама стабильный: у него всегда будут клиенты, но если бы сейчас проходило отпевание, я бы не стала его беспокоить. Я посылаю Адаму сообщение, когда оказываюсь с обратной стороны похоронного бюро, возле мусорных контейнеров. «Я с тыльной стороны. Нужно поговорить».
Через секунду он появляется на улице, одетый в хирургический костюм.
– Сейдж, что ты здесь делаешь? – шепчет он, хотя мы на улице одни. – Роберт наверху.
Робертом зовут его тестя.
– У меня был просто отвратительный день, – говорю я, едва не плача.
– А у меня очень много работы. Это не может подождать?
– Пожалуйста, – прошу я, – пять минут!
Он не успевает ответить, как в проеме двери за его спиной возникает высокий седовласый мужчина.
– Адам, может, объяснишь, почему дверь в кабинет бальзамирования широко открыта, когда клиент лежит на столе? Мне казалось, ты бросил курить… – Он замечает мою половину лица а-ля картины Пикассо и выдавливает из себя улыбку. – Простите, чем могу помочь?
– Папа, – говорит Адам, – это Сейдж…
– Макфи, – вмешиваюсь я, становясь вполоборота, чтобы скрыть шрам. – Журналистка из «Мэн экспресс».
Слишком поздно я понимаю, что название скорее похоже на название поезда, а не газеты.
– Хочу написать репортаж об одном дне из жизни сотрудника похоронного бюро, – продолжаю я.
Роберт недоверчиво меня разглядывает. Я по-прежнему в своей рабочей одежде: растянутой футболке, мешковатых шортах и шлепанцах. Уверена, любой уважающий себя журналист скорее умер бы, чем явился брать интервью в таком виде.
– Сейдж звонила на прошлой неделе, чтобы договориться о времени, когда она сможет стать моей тенью, – врет Адам.
Роберт кивает.
– Разумеется, мисс Макфи. И я с удовольствием отвечу на вопросы, на которые не сможет ответить Адам.
Адам заметно расслабляется.
– Пойдемте?
Он берет меня за предплечье и ведет в свои владения. Его прикосновение к голой коже вызывает шок.
Когда он ведет меня по коридору, я дрожу. В подвале похоронной конторы очень холодно. Адам заходит в комнату справа и закрывает за нами дверь.
На столе под простыней лежит обнаженная пожилая женщина.
– Адам, – я с трудом сглатываю, – она…
– Она не спит, – смеется он. – Сейдж, перестань. Ты же знаешь, чем я зарабатываю на жизнь.
– Я не собиралась смотреть, как ты это делаешь.
– Ты сама пришла сюда и назвалась журналисткой. Могла бы сказать, что ты из полиции и должна отвезти меня в участок.
Здесь пахнет смертью, холодом и антисептиками. Я хочу, чтобы Адам обнял меня, но в двери есть окошко, и в любой момент мимо может пройти Роберт или кто-нибудь другой.
Он медлит.
– Может быть, просто будешь смотреть в другую сторону? Потому что мне действительно нужно работать, особенно в такую жару.
Я киваю и отворачиваюсь к стене. Слышу, как Адам перебирает металлические инструменты, а потом что-то начинает визжать.
Я держусь за историю Джозефа, как за поднятый якорь. Пока никому не хочу ее рассказывать. Но и не желаю, чтобы она укоренилась во мне.
Сначала мне кажется, что Адам включил пилу, но, взглянув краешком глаза на стол, я понимаю, что он бреет мертвую женщину.
– Зачем ты это делаешь?
Он поворачивает ее голову, блестит лезвие электробритвы.
– Всех нужно брить. Даже детей. Пушок на лице делает макияж более заметным, а люди хотят, чтобы «фото на память» – последняя фотография их родных и близких – было естественным.
Меня зачаровывают его четкие движения, его оперативность. Я так мало знаю об этой стороне его жизни, а мне так хочется унести с собой каждую частичку этих воспоминаний.
– А когда происходит бальзамирование?
Он поднимает голову, удивленный проявленным интересом.
– После того, как побреют лицо. Как только жидкость попадает в вены, тело затвердевает. – Адам прокладывает между левым глазом и веком кусочек ваты, потом кладет сверху небольшой пластмассовый колпачок, похожий на огромную контактную линзу. – Сейдж, зачем ты пришла? Не потому ведь, что испытываешь непреодолимое желание стать гробовщиком? Что случилось?
– С тобой когда-нибудь делились тем, что ты предпочел бы не знать? – решаюсь я.
– Чаще всего те, с кем мне приходится иметь дело, говорить не могут. – Я наблюдаю, как Адам продевает нить в кривую иглу. – Но их родственники мне столько рассказывают… Обычно то, что не успели сказать своим любимым перед их смертью. – Он протыкает иглой нижнюю челюсть под деснами и протягивает ее через верхнюю в ноздрю. – Мне кажется, я для них последний причал, понимаешь? Хранилище печали. – Адам улыбается. – Похоже на название группы го́тов, да?
Игла проходит через носовую перегородку во вторую ноздрю, а потом снова в рот.
– А почему ты спрашиваешь? – интересуется он.
– Я беседовала с человеком, который привел меня в замешательство. Не знаю, что мне с этим делать.
– Может быть, этот человек и не хочет, чтобы ты что-то делала. Может быть, ему было необходимо, чтобы его выслушали?
Но все не так просто. Признания, которые Адам слышит от родственников умерших, – это сожаления о том, что они не успели сделать, а не о том, что уже сделали. Если тебе сунули гранату с выдернутой чекой, придется действовать. Нужно либо передать ее тому, кто знает, как гранату обезвредить, либо сунуть назад тому, кто выдернул чеку. Если будешь медлить, сам взлетишь на воздух.
Адам аккуратно завязывает узелки, чтобы рот не открывался и выглядел естественно закрытым. Я представляю, как Джозеф умер, ему зашили рот, и все его тайны остались внутри.
По дороге в полицейский участок я звоню Робене Феретто. Ей семьдесят шесть, она итальянка, проживающая в Уэстербруке, и давно на пенсии. Хотя Робене уже не хватает здоровья работать пекарем постоянно, я пару раз, когда сваливалась с гриппом, обращалась к ней с просьбой меня подменить. Я рассказываю ей, какие заготовки использовать и где лежат таблицы, по которым можно рассчитать выход готовой продукции, чтобы испечь достаточное количество хлеба.
И прошу предупредить Мэри, что я немного опоздаю.
Последний раз я была в полиции, когда в старших классах у меня украли велосипед. Меня приводила мама подавать заявление. Помню еще, что тогда же в участок доставили отца одной из самых популярных девочек в школе – растрепанного и воняющего спиртным в четыре часа дня. Он был владельцем местной страховой компании, их семья одна из немногих в городе могла позволить себе стационарный бассейн. Тогда я впервые узнала, что впечатление о людях может быть обманчиво.
Дежурная за маленьким окошком носит причудливую прическу и серьгу в носу – может, именно поэтому она даже не моргнула, когда я подошла.
– Чем могу вам помочь?
Разве можно просто прийти и сказать: «Мне кажется, что мой приятель – нацист!» – и при этом не показаться сумасшедшей?
– Я хотела бы поговорить с детективом, – отвечаю я.
– О чем?
– Это сложный вопрос.
Она прищуривается.
– А вы попробуйте.
– Я располагаю информацией о совершённом преступлении.
Она задумывается, как будто взвешивает, говорю ли я правду. Потом записывает мою фамилию.
– Присядьте.
Вдоль стены стоит ряд стульев, но я не сажусь, а начинаю читать имена неплательщиков алиментов, которыми пестрит огромная информационная доска «Внимание: розыск!». Потом изучаю объявление о проведении занятия по пожарной безопасности.
– Мисс Зингер?
Я оборачиваюсь и вижу высокого, седого коротко стриженного мужчину с кожей цвета кофе латте, который варит Рокко. На ремне у него кобура, на шее висит жетон.
– Я детектив Уикс, – представляется он, всего лишь на секунду дольше, чем следует, задержав взгляд на моем лице. – Пройдемте в мой кабинет.
Он набирает код, открывает дверь и ведет меня по узкому коридору в комнату переговоров.
– Присаживайтесь. Вам принести кофе?
– Спасибо. Я готова к разговору, – говорю я.
И хотя прекрасно понимаю, что никто меня допрашивать не будет, когда он закрывает за моей спиной дверь, я чувствую себя в ловушке.
Шею заливает краска смущения, меня бросает в пот. А если детектив решит, что я лгу? А если начнет задавать слишком много вопросов? Может быть, не стоило приходить? Я ничего доподлинно не знаю о прошлом Джозефа. Даже если он говорит правду, что можно сделать по прошествии семидесяти лет?
И тем не менее…
Когда мою бабушку забирали нацисты, сколько простых немцев закрывали на это глаза, придумывая для себя такие же отговорки?
– Ну-с, – протяжно говорит детектив Уикс, – о чем речь?
Я собираюсь с духом.
– Мой знакомый, вероятно, нацист.
Детектив поджимает губы.
– Неонацист?
– Нет, со времен Второй мировой войны.
– Сколько же ему лет? – удивляется Уикс.
– Не знаю точно. За девяносто. Возраст подходящий, если посчитать.
– И почему вы решили, что он нацист?
– Он показал мне свою фотографию в форме.
– Вы уверены, что фотография подлинная?
– Вы полагаете, что я все придумываю, – говорю я, удивляясь тому, что смотрю детективу прямо в глаза. – Но зачем мне это?
– А зачем сотням сумасшедших звонить по телефонам, указанным в новостях, с сообщением о пропавшем ребенке? – Уикс пожимает плечами. – Я не силен в разрешении загадок человеческой психики.
Я чувствую обжигающую боль, шрам мой горит.
– Я говорю правду.
Я только умалчиваю о том, что этот человек просил меня убить его. И что я решила убедить его, что не исключаю такую возможность.
Уикс склоняет голову набок, и я вижу, что у него уже сложилось мнение – не о Джозефе, а обо мне. Понятно, что я изо всех сил пытаюсь скрыть свое лицо, – должно быть, он гадает, что еще я пытаюсь утаить.
– Что-нибудь в поведении этого человека указывает на то, что он действительно принимал участие в военных преступлениях?
– У него нет на лбу свастики, если вы об этом, – отвечаю я. – Но у него немецкий акцент. И раньше он преподавал немецкий в старших классах.
– Подождите… Вы говорите о Джозефе Вебере? – спрашивает Уикс. – Мы посещаем с ним одну церковь. Он поет в церковном хоре. В прошлом году он возглавлял парад на День независимости как «Горожанин года». Я никогда не видел, чтобы этот человек хоть муху обидел.
– Может быть, насекомых он любит больше евреев, – решительно заявляю я.
Уикс откидывается на спинку кресла.
– Мисс Зингер, мистер Вебер вас чем-то обидел?
– Да, – отвечаю я. – Он сказал мне, что он нацист.
– Я имею в виду ссору. Недопонимание. Может быть, он даже бесцеремонно прошелся по поводу… вашей внешности. Словом, что-то, что могло бы повлечь за собой… подобное обвинение.
– Мы друзья. Именно потому он и рассказал мне об этом.
– Возможно, мисс Зингер. Но мы обычно не арестовываем людей за предполагаемые преступления, не имея весомых доказательств того, что именно они их совершили. Да, мужчина говорит с немецким акцентом, но он уже старик. И я не видел с его стороны ни намека на расовое или религиозное предубеждение.
– И что это доказывает? Я слышала, что часто серийные убийцы в глазах окружающих – совершенно очаровательные люди, именно поэтому никто и подумать не может, что они серийные убийцы. Вы для себя решили, что я сумасшедшая? Вы даже не собираетесь расследовать то, что он совершил?
– А что он совершил?
Я опускаю взгляд на стол.
– Точно не знаю. Именно по этой причине я к вам и пришла. Думала, вы поможете мне выяснить.
Уикс долго смотрит на меня.
– Оставьте ваши координаты, мисс Зингер, – предлагает он, протягивая мне лист бумаги и карандаш. – Я наведу справки, и мы с вами свяжемся.
Я небрежно пишу свои данные. Кто поверит мне, Сейдж Зингер, изуродованному призраку, который выходит только по ночам? Особенно если Джозеф двадцать два года зарабатывал себе репутацию уважаемого члена общества Уэстербрука и филантропа?
Я протягиваю бумагу детективу Уиксу.
– Знаю, вы не станете мне звонить, – холодно констатирую я. – И выбросите этот лист бумаги в мусорную корзину, как только я скроюсь за дверью. Но я пришла в полицию не для того, чтобы утверждать, что видела на своем заднем дворе НЛО. Холокост был на самом деле. И нацисты – это не сказка. Они же не могли испариться, когда война закончилась.
– А закончилась она почти семьдесят лет назад, – замечает детектив Уикс.
– Я думала, для убийства нет срока давности, – отвечаю я и выхожу из кабинета.
Бабуля подает чай в стакане. Сколько себя помню, она говорила, что только так правильно его пить: так подавали чай ее родители, когда она была еще маленькая. Я сижу за столом, смотрю, как она, опираясь на палку, хлопочет в кухне, ставит чайник, выкладывает на блюде ругелаши, крошечные рулетики, и мне приходит в голову мысль, что, несмотря на то, что она легко и открыто говорит о своем детстве, о жизни с моим дедом, в ее повествовании, словно оно подверглось цензуре, есть пробел в несколько лет – жизнь как будто сошла с накатанных рельс.
– Какой сюрприз! – восклицает бабуля. – Приятный, но все-таки сюрприз.
– Я была неподалеку, – обманываю я. – Разве я могла не зайти?
Бабушка ставит блюдо на стол. Она маленького роста, где-то метр пятьдесят, хотя раньше я считала ее высокой. Она постоянно носит удивительно красивую нить жемчуга – дедушкин свадебный подарок, а на старой свадебной фотографии, которая стоит на каминной полке, бабушка похожа на кинозвезду: темные волосы, уложенные в модную в те годы прическу «победа локонов», и стройная фигурка, облаченная в изящные кружева и атлас.
Они с дедом раньше владели антикварным книжным магазином – крошечной нишей в стене, с узенькими проходами, заставленными сотнями древних томов. Моя мама, которая всегда покупала только новые книги, терпеть не могла старинные обложки с потрескавшимися корешками и ветхими переплетами. Честно говоря, в магазинчике невозможно было найти последних новинок, но когда держишь в руках один из таких томов, то как будто листаешь страницы чужой жизни. Кто-то другой когда-то любил эту историю. Кто-то другой носил эту книгу в рюкзаке, «проглатывал» ее за завтраком, оставлял пятна от кофе в парижском кафе, обливался слезами, а потом засыпал, прочитав последнюю главу. В магазине и пахло по-особому: немного сыростью и плесенью, чуть-чуть пылью. Для меня это был запах истории.
Мой дедушка до того, как они купили магазинчик, работал редактором в небольшом академическом издании; бабушка, как утверждают, хотела стать писательницей, хотя за все детство я ни разу не видела, чтобы она писала что-то длиннее письма. Но истории она любила, это правда. Она усаживала меня на стеклянную витрину возле кассы, брала из запертых шкафов книги Алана Милна и Джеймса Барри и показывала мне иллюстрации. Когда я стала старше, бабушка доверяла мне заворачивать покупки в коричневую оберточную бумагу, которая хранилась в огромном рулоне. И учила завязывать бечевку, совсем как она.
В итоге дедушка с бабушкой продали книжный магазин какому-то застройщику, который сровнял с землей кучу семейных магазинчиков, чтобы построить гипермаркет. Денег, которые они заработали, хватило на безбедную старость бабуле даже много лет спустя после смерти дедули.
– На самом деле никто рядом не проезжал, – заявляет она. – Ты выглядишь точно так же, как твой отец, когда говорил мне неправду.
Я смеюсь.
– Как так?
– Как будто лимон проглотил. Однажды, когда твоему папе было лет пять, он украл у меня средство для снятия лака. Когда я спросила его, он солгал. В конце концов я нашла жидкость в его ящике с носками и сказала об этом. С ним случилась истерика. Оказалось, что он прочел этикетку и решил, что этой жидкостью я сниму себе ногти. Он спрятал ее, пока она не совершила свое черное дело. – Бабуля улыбается. – Я любила этого мальчика, – вздыхает она. – Ни одна мать не должна пережить своего ребенка.
– В том, чтобы пережить своих родителей, тоже ничего веселого нет, – отвечаю я.
На мгновение на ее лицо ложится тень. Потом она наклоняется и обнимает меня.
– Видишь, теперь ты не обманываешь. Знаю, ты приехала сюда, Сейдж, потому что тебе одиноко. Одиночества не стоит стыдиться. Мы же есть друг у друга.
Я вспоминаю, что эти же слова сказал мне и Джозеф.
– Тебе следует подстричься, – заявляет бабушка. – Невозможно как следует рассмотреть тебя.
У меня вырывается смешок. Лучше я голой пробегусь по улице, чем подстригусь и покажу свое лицо.
– Поэтому и не подстригаюсь.
Она наклоняет голову.
– Я все гадаю, какое чудо должно произойти, чтобы ты увидела себя нашими глазами, глазами окружающих тебя людей, – размышляет она вслух. – Возможно, тогда ты перестанешь жить, как чудовище, которое появляется только после наступления тьмы.
– Я пеку хлеб. Мне приходится работать по ночам.
– Неужели? А может, ты выбрала именно эту профессию из-за ночной смены? – спрашивает бабуля.
– Я приехала не для того, чтобы меня распекали из-за выбора профессии…
– Конечно, нет. – Она протягивает руку и гладит меня по лицу, по изуродованной щеке. Задерживается на сморщенной плоти, давая понять, что ее это нисколько не беспокоит, как не должно беспокоить меня. – А твои сестры?
– В последнее время я с ними не общаюсь, – бормочу я.
Это мягко сказано. Я намеренно избегаю их звонков.
– Сейдж, ты же знаешь, сестры любят тебя, – говорит бабушка.
Я пожимаю плечами. Ничего из того, что она может сказать, не убедит меня, что Пеппер и Саффрон не считают меня виновной в маминой смерти.
На печке выключается таймер, и бабушка достает халу. Возможно, от официальной религии она отказалась, но до сих пор придерживается обычаев иудаизма. Никакое нездоровье не сможет удержать ее от приготовления мацы, и нет ни одной пятницы, когда бы у нее не было свежего хлеба. Дейзи, помощница по хозяйству, которую бабуля называет «девочкой», замешивает тесто в кухне и дает ему подойти, чтобы бабуля сделала из него косички. Прошло целых два года, прежде чем бабуля доверила Дейзи семейный рецепт, тот самый, который я использую в «Хлебе нашем насущном».
– Вкусно пахнет, – говорю я, страстно желая сменить тему разговора.
Бабушка кладет первую халу на стол и возвращается, чтобы поочередно достать оставшиеся три.
– Знаешь, что я думаю… – начинает она. – Мне кажется, я уже не помню собственного имени, но отлично знаю, как печь эту халу. Мой отец… это все благодаря ему. Бывало, он учинял мне допрос – когда я возвращалась домой после школы, когда занималась с подружкой, когда мы вместе гуляли по центру города. «Минка, – спрашивал он, – сколько нужно сахара? Сколько яиц?» Спрашивал, какой температуры должна быть вода, но это был вопрос с подвохом.
– Теплой, чтобы растворились дрожжи, кипяток, чтобы смешать жидкие ингредиенты, и холодной, чтобы сбалансировать тесто.
Бабушка оглядывается через плечо и кивает.
– Мой отец был бы счастлив узнать, что его хала находится в надежных руках.
И тут я понимаю, что настал мой час. Я жду, пока бабуля принесет одну из своих косиц на разделочную доску. Жду, пока она нарежет халу ножом – пар поднимается от булки, как отлетающая душа.
– А почему вы с дедушкой не открыли вместо книжного магазина булочную?
Она смеется.
– Твой дедушка и воды себе не мог вскипятить, не говоря уже о том, чтобы сварить бублик. Чтобы печь хлеб, нужно обладать талантом. Каким обладал мой отец. Каким обладаешь ты.
– Ты почти никогда не рассказываешь о своих родителях, – замечаю я.
Рука, в которой она держит нож, едва заметно подрагивает, настолько незаметно, что если бы я наблюдала не так внимательно, то ни за что бы не заметила.
– А что рассказывать? – пожимает она плечами. – Мама была домохозяйкой, а отец пекарем в Лодзи. Ты об этом знаешь.
– А что с ними случилось, бабуля?
– Они давным-давно умерли, – отвечает она, закрывая тему. Протягивает мне кусок хлеба без масла, потому что, если делаешь по-настоящему великолепную халу, масло не нужно. – Посмотри на эту халу. Могла бы еще подняться. Папа говорил, что хороший хлеб можно съесть завтра. А плохой следует есть прямо сейчас.
Я хватаю ее за руку. Кожа похожа на пергамент, косточки хорошо прощупываются.
– Что с ними произошло? – повторяю я.
Она натянуто смеется.
– К чему все эти вопросы, Сейдж? Или ты ни с того ни с сего решила написать книгу?
В ответ я поворачиваю ее руку и аккуратно поднимаю рукав блузы, чтобы стали видны размытые края синей татуировки.
– Не у одной меня в семье шрамы, бабуля, – бормочу я.
Она вырывает руку и поправляет рукав.
– Я не хочу об этом говорить.
– Бабуля, – убеждаю я, – я больше не маленькая…
– Нет! – резко отвечает она.
Мне хочется рассказать ей о Джозефе. Хочется расспросить об эсэсовцах, которых она встречала. Но я точно знаю, что не стану этого делать.
Не потому, что бабушка не хочет это обсуждать. Мне стыдно, что человек, с которым я подружилась, для которого пекла, с которым сидела, разговаривала и смеялась, возможно, когда-то был одним из тех, кто наводил на нее ужас.
– Когда я приехала сюда, в Америку, тогда и началась моя жизнь, – говорит бабушка. – Все, что было раньше… случилось с кем-то другим.
Если бабушка смогла начать новую жизнь, почему Джозеф Вебер не смог?
– И как у тебя это получается? – мягко интересуюсь я, и теперь спрашиваю не только о ней, а еще о Джозефе и о себе. – Как тебе удается не вспоминать каждое утро?
– Я никогда не говорила, что все забыла, – поправляет бабушка. – Я сказала, что предпочитаю забыть. – Неожиданно она улыбается, проводя границу между этим разговором и дальнейшей беседой. – Моя красавица внучка не стала бы проделывать такой путь, чтобы поговорить о древней истории, верно? Расскажи мне о булочной.
Я оставляю слово «красавица» без внимания.
– Я испекла хлеб, внутри которого оказалось лицо Иисуса, – сообщаю я первое, что приходит в голову.
– Серьезно? – смеется бабушка. – И кто это говорит?
– Люди, которые верят, что Бог может явиться в домашней выпечке.
Она поджимает губы.
– Были времена, когда я видела Бога в каждой крошке хлеба.
Я понимаю, что она протягивает оливковую ветвь – знак примирения, серебро своего прошлого. Я замираю, ожидая продолжения.
– Знаешь, чего мне больше всего не хватало? Не кроватей, не дома, не матери даже. Мы говорили о еде. О жареной картошке с грудинкой, о бабке, о пирогах. Тогда за папину халу, свеженькую, прямо из духовки, я бы жизнь отдала.
Именно поэтому бабушка каждую неделю печет четыре буханки, хотя ей и одной много. Не потому, что собирается их съесть, а потому, что хочет иметь роскошь отдать остальное тем, кто нуждается.
Я делаю недовольную гримасу, когда звонит мой сотовый, – наверное, Мэри будет меня распекать, потому что вместо меня на смену явилась Робена. Но когда я достаю телефон из кармана, то вижу, что номер незнакомый.
– Это детектив Уикс. Можно поговорить с Сейдж Зингер?
– Ничего себе! – восклицаю, узнавая голос звонящего. – Не ожидала, что вы мне позвоните.
– Я провел небольшое расследование, – отвечает он. – Мы ничем вам помочь не можем, но если вы хотите куда-то отправить свою жалобу, советую обратиться в ФБР.
ФБР? Невероятный шаг со стороны местной полиции! Именно агенты ФБР арестовали Джона Диллинджера[14] и супругов Розенберг. Они обнаружили отпечатки пальцев, обличившие убийцу Мартина Лютера Кинга-младшего. ФБР расследует серьезные дела, касающиеся нынешней национальной безопасности, а не дела, которые откладывались десятилетиями. Они, скорее всего, засмеются, не дав мне закончить объяснения.
Я поднимаю голову и вижу, что бабушка у кухонного стола заворачивает одну из буханок в фольгу.
– По какому номеру звонить? – спрашиваю я.
Просто чудо, что я вернулась в Уэстербрук, не съехав с дороги, – так сильно я устала. Я вхожу в булочную, воспользовавшись своими ключами, и обнаруживаю спящую Робену – старушка сидит на огромном тюке с мукой, прижавшись щекой к деревянному столу. Радует то, что на полках остывают буханки хлеба, а по запаху слышно, что в печи пекутся другие.
– Робена! – Я мягко пытаюсь ее разбудить. – Я вернулась.
Она садится.
– Сейдж! Я прикорнула всего на минутку…
– Все в порядке. Спасибо, что помогла. – Я натягиваю фартук и завязываю его на талии. – Как настроение Мэри по десятибалльной шкале?
– Баллов двенадцать. Очень возбуждена, потому что ожидает завтра наплыва посетителей, – спасибо буханке с Иисусом!
– Аллилуйя! – равнодушно восклицаю я.
По пути домой я пыталась дозвониться до местного отделения ФБР, но мне ответили, что необходимо обратиться в Министерство юстиции в Вашингтоне. Там мне дали другой номер, но, по всей видимости, в отделе особых преступлений рабочие часы, как в банках. Я попала на автоответчик, который просил меня перезвонить по другому номеру, если дело безотлагательное.
Трудно решить, безотлагательное это дело или нет, учитывая, сколько времени Джозеф хранил свои секреты.
Поэтому я решила закончить печь хлеб, выставить буханки в стеклянные витрины и уйти еще до того, как Мэри откроет магазин. Перезвоню уже из дома.
Робена рассказывает мне, какие и когда она поставила таймеры: одни отсчитывают время выпечки, другие – пока подойдет тесто, третьи – сколько подходят уже оформленные буханки. Я чувствую, что следует поспешить, поэтому провожаю ее до входной двери, искренне благодарю и запираю за ней дверь булочной.
И тут мой взгляд падает на буханку с Иисусом.
Оглядываясь назад, я не могу объяснить Мэри, почему так поступила.
Хлеб зачерствел, он твердый как камень, с пестрыми семечками и пигментами, которые и создали поблекшее уже лицо. Я беру ухват, которым засовываю и достаю хлеб из затопленной дровами печи, и швыряю буханку с Иисусом в ее зев, на обжигающе красные языки пламени.
Робена сделала багеты и булочки, а мне необходимо до рассвета испечь еще массу разнообразного хлеба. Но вместо того, чтобы замешивать тесто согласно обычному распорядку, я меняю завтрашнее меню. Мысленно делаю расчеты, отмеряю сахар, воду, дрожжи, растительное масло. Соль и муку.
Закрываю глаза и вдыхаю сладкий запах муки. Представляю себе магазин с колокольчиком над стеклянной дверью, который звенит, когда входит посетитель; звук падающих в кассу монет, словно гаммы, – этот звук заставляет девушку, сидящую в кассе и полностью погруженную в чтение, поднять голову. Оставшуюся часть ночи я пеку по одному-единственному рецепту, поэтому, когда первые лучи солнца показываются над горизонтом, полки «Хлеба нашего насущного» плотно забиты узелками и кольцами халы по дедушкиному рецепту. Хлеба много, чтобы никто и представить не мог, что такое голод.
Я досыпала на рынке. Я не спала с тех пор, как похоронила отца; без звона колоколов, свиста и фанфар, по поводу которых он шутил, на маленьком кладбище за домиком. Однако причиной моей бессонницы было не горе. Не спала я, потому что было некогда.
У меня не было денег заплатить налоги. У нас не было сбережений, деньги мы получали с базара, где ежедневно продавали хлеб. В прошлом папа пек хлеб, пока я тащилась через деревенскую площадь. Но сейчас осталась только я.
Я ловила себя на том, что работаю круглосуточно. По ночам я закатывала рукава и формовала огромные массы теста в булочки; замешивала еще тесто, пока первая партия поднималась; последние буханки я доставала из сложенной из кирпича печи, когда солнце, словно невзначай, выглядывало из-за горизонта. Потом нагружала корзину и тащилась на рынок, где боролась со сном, пока продавала свои изделия.
Я не знала, как долго это может продолжаться. Но я не позволю Баруху Бейлеру забрать единственное, что у меня осталось, – дом моего отца и его дело.
Однако покупателей в городке было все меньше и меньше. Слишком опасно становилось. Тело моего отца было одним из трех, обнаруженных на этой неделе в окрестностях нашей деревушки. А еще пропал маленький ребенок, который пошел в лес и не вернулся. Все тела были изуродованы одинаково, как будто на них напал голодный зверь. Испуганные жители городка предпочитали питаться овощами с собственных огородов и консервами. Вчера я встретила всего с десяток человек, сегодня только шестерых. Даже некоторые торговцы решили отсидеться в безопасности за запертыми дверями. Рынок стал серым местом-призраком, а по булыжной мостовой гулял ветер, словно предупреждая о чем-то.
Я открыла глаза и обнаружила, что меня будит Дамиан.
– Обо мне мечтаешь, дорогуша? – спросил он. Протянул руку, едва не касаясь моего лица, и отломил кусок от багета. Засунул хлеб в рот. – М-м-м, ты почти такой же искусный пекарь, каким был твой отец. – Всего лишь на секунду на его лице мелькнуло сострадание. – Соболезную твоей утрате, Аня.
Остальные покупатели говорили мне то же самое.
– Спасибо, – пробормотала я.
– С другой стороны, мне нисколько не жаль, – произнес Барух Бейлер, становясь у капитана за спиной, – шансы когда-либо получить с него налоги были слишком малы.
– Еще не конец недели, – запаниковала я.
Куда я денусь, если он вышвырнет меня на улицу? Я встречала женщин, которые продавали себя, бродили, словно привидения, по переулкам городка, и в глазах у них была пустота. Я могла бы принять предложение Дамиана выйти за него замуж, но это всего лишь еще одна сделка с дьяволом. С другой стороны, сколько пройдет времени, пока зверь, который нападает на жителей городка, найдет меня?
Краем глаза я заметила приближающуюся фигуру. Новый житель нашего городка. Ведущий на поводке брата. Он прошел мимо меня, даже не взглянув на хлеб, и остановился у пустого деревянного прилавка, где обычно раскладывал свой товар мясник. Потом он повернулся ко мне, и я почувствовала, как под ребрами вспыхнул огонь.
– А где мясник? – спросил он.
– Сегодня он не работает, – пробормотала я.
Я разглядела, что он моложе, чем мне изначально показалось, вероятно, всего на пару лет старше меня. Я еще никогда и ни у кого не видела таких глаз – золотых и сияющих, как будто подсвеченных изнутри. Щеки пошли ярко-красными пятнами. Каштановые волосы неровно упали на бровь.
На нем была одна белая рубашка, та, что он носил под пальто, которое продал в прошлый раз, когда явился на городскую площадь. Интересно, что он сегодня собирался обменять на мясо?
Он молчал и только щурился, разглядывая меня.
– Торговцы в страхе разбегаются, – сказал Барух Бейлер. – Как и все остальные в этом забытом Богом городишке.
– Не у всех есть железные ворота, чтобы спрятаться от животных, – ответил Дамиан.
– Или чтобы не выпускать их на улицу, – пробормотала я себе под нос, но Бейлер услышал.
– Десять злотых, – прошипел он. – К пятнице.
Дамиан залез в карман форменного кителя и достал кожаный кошелек. Отсчитал на ладонь серебряные монеты и швырнул их Бейлеру.
– Считай, что долг оплачен, – сказал он.
Бейлер опустился на колени и собрал деньги. Потом встал, пожал плечами.
– До следующего месяца.
Он горделиво зашагал к дому, запер за собой ворота, прежде чем исчезнуть в массивном каменном жилище.
Я видела, что мужчина с братом наблюдают за нами, стоя у прилавка мясника.
– Ну? – посмотрел на меня Дамиан. – Неужели отец не научил тебя хорошим манерам?
– Спасибо.
– Ты могла бы показать свою благодарность, – предложил он. – Твой долг Бейлеру погашен. Но теперь ты должна мне.
Я тяжело сглотнула, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку.
Он схватил мою руку и прижал к низу своего живота, а когда я попыталась его оттолкнуть, припечатал свой рот к моим губам.
– Ты же знаешь, я могу получить то, что хочу, в любое время, – мягко произнес он, обхватывая мою голову и сжимая на висках так сильно, что я думать не могла, едва слова различала. – Я лишь по доброте души даю тебе право выбора.
Вот только он был здесь, глядь – а его уже нет. Я упала, почувствовав под ногами холодную мостовую, когда мужчина с золотыми глазами оторвал от меня Дамиана и повалил на землю.
– Она уже сделала выбор, – сквозь зубы процедил он, подкрепляя свои слова ударами в лицо капитана.
Я пятилась от них под пристальным взглядом мальчика в кожаной маске.
Кажется, мы одновременно поняли, что теперь его никто за поводок не держит.
Мальчик бросился бежать. Его шаги, словно выстрелы, эхом разносились по пустынной городской площади.
Его брат замер. Для Дамиана этой заминки оказалось достаточно, чтобы нанести противнику удар. Голова мужчины дернулась назад, но он с трудом встал на ноги и побежал за мальчиком.
– Беги, беги! – подзадорил его Дамиан, вытирая с губ кровь. – Все равно не спрячешься.
Лео
Женщина по телефону говорит, задыхаясь:
– Я целую вечность пытаюсь к вам дозвониться.
Это сразу же кажется мне подозрительным. Нас найти совсем не трудно. Звоните в Министерство юстиции, называете цель звонка, и вас соединяют с отделом особых преступлений, с подразделением по правам человека и особым делам. Мы отвечаем на все звонки и реагируем на них серьезно. Поэтому я прошу женщину представиться.
– Миранда Кунц, – говорит она. – Только это фамилия по мужу. Моя девичья фамилия Шульц.
– Миссис Кунц, вас плохо слышно.
– Мне приходится говорить шепотом, – отвечает она. – Он подслушивает. Ему всегда удается войти в комнату как раз в ту секунду, когда я пытаюсь рассказать, кто он на самом деле…
И так далее и так далее. Я жду, когда она произнесет «нацисты» и «Вторая мировая война». Наше подразделение занимается делами тех, кто нарушил права человека: геноцидом, пытками, военными преступлениями. Мы настоящие «охотники» за нацистами – и мы совершенно не такие обаятельные, какими нас показывают в кино и по телевизору. Я абсолютно не похож ни на Дениэла Крейга, ни на Вина Дизеля, ни на Эрика Бана – всего лишь простой старина Лео Штейн. И пистолет я не ношу, мое оружие – это историк по имени Женевра, которая владеет семью языками, всегда напоминает мне, что пришло время подстричься, и никогда не промолчит, если галстук совершенно не подходит к моей рубашке. И работать на своем посту мне с каждым днем все труднее и труднее, поскольку поколение, устроившее холокост, умирает.
Пятнадцать минут я слушаю Миранду Кунц, которая объясняет, что кто-то из ее родственников преследует ее и первой ее мыслью была та, что ФБР нарочно подослало секретного агента, чтобы убить ее. Второй подозрительный момент: ФБР не занимается убийством людей. Но если бы правительство все же решило ее устранить, она давно была бы мертва.
– Знаете, миссис Кунц, – говорю я, вклиниваясь в монолог, когда она делает паузу, чтобы перевести дыхание. – Не уверен, что вы обратились в нужный отдел…
– Если у вас хватит терпения меня выслушать, вам все станет понятно, – уверяет она.
В который раз я задаюсь вопросом, почему такой, как я – тридцатисемилетний мужчина, лучший студент юридического факультета Гарварда, – отказался от гарантированного партнерства и головокружительной зарплаты в юридической конторе в Бостоне ради фиксированной государственной ставки и карьеры помощника начальника подразделения стратегии и политики отдела особых преступлений. В параллельном мире я бы допрашивал преступников в «белых воротничках», а не выстраивал обвинение против бывшего офицера СС, который умер еще до того, как нам удалось добиться его экстрадиции. Либо, как в данном случае, не беседовал с миссис Кунц.
С другой стороны, в мире корпоративного права я быстро осознал бы, что правда в суде – дело второстепенное. Если честно, истина в большинстве судов – дело второстепенное. Но во время Второй мировой войны погибли шесть миллионов человек, и кто-то должен ради них восстановить справедливость.
– …вы слышали о Йозефе Менгеле?
При упоминании этого имени я навострил уши. Разумеется, я слышал о Йозефе Менгеле, печально известном «ангеле смерти» из Освенцима-Биркенау[15], начальнике медицинской службы, который ставил эксперименты на людях, который лично встречал вновь прибывших в лагерь узников и направлял кого направо – на работу, кого налево – в газовую камеру. Хотя история утверждает, что Менгеле не мог встречать всех прибывших, практически каждый выживший узник Освенцима, с которым я беседовал, уверяет, что Менгеле лично встречал их эшелон – и не важно, в котором часу этот эшелон прибывал. Это пример того, как много уже написано об Освенциме, и выжившие иногда объединяют эти рассказы с собственными воспоминаниями. Я нисколько не сомневаюсь, что эти люди искренне верят, что первым, кого они встретили по прибытии в Освенцим, был Менгеле. Но каким бы чудовищем ни был этот человек, он тоже иногда должен спать. А это означает, что несчастных встречали другие чудовища.
– Люди говорят, что Менгеле сбежал в Южную Америку, – продолжает миссис Кунц.
Я подавляю вздох. На самом деле я точно знаю, что он жил и умер в Бразилии.
– Он до сих пор жив, – шепчет она. – Он вселился в моего кота. Я не могу повернуться к нему спиной, не могу спать, потому что мне кажется: он хочет меня убить!
– Господи боже… – бормочу я.
– Знаю, – соглашается миссис Кунц. – Я думала, что беру из приюта милого полосатого котенка, но однажды утром проснулась и обнаружила, что у меня расцарапана грудь…
– При всем моем уважении, миссис Кунц, небольшие царапины – не повод полагать, что Йозеф Менгеле теперь вселился в кота.
– Те царапины, – серьезно продолжает она, – были в форме свастики.
Я прикрываю глаза.
– Возможно, вам следует просто завести другое домашнее животное, – предлагаю я.
– У меня была золотая рыбка. Пришлось смыть ее в унитаз.
Мне даже страшно спрашивать, но я решаюсь:
– Почему?
Она медлит с ответом.
– Скажем так, у меня имеются доказательства того, что Гитлер тоже перевоплотился.
Мне удалось отвязаться от миссис Кунц, только пообещав, что я попрошу нашего историка заняться ее делом. И это правда: в следующий раз, когда Женевра меня разозлит и я захочу отыграться, передам ей это дело. Но не успеваю я закончить разговор с Мирандой Кунц, как вновь звонит моя секретарша.
– На вашей улице сегодня праздник, – говорит она. – Вам звонят по второй линии. Ее направил к нам местный агент ФБР.
Я окидываю взглядом кипы документов на своем письменном столе – отчеты, подготовленные Женеврой. Притянуть подозреваемого к судебной ответственности – дело медленное и трудоемкое, а в моем случае часто и бесполезное. В последний раз нам удалось довести дело до суда в 2008 году, подсудимый умер в конце процесса. Наша работа диаметрально противоположна работе полиции. Мы начинаем не с самого преступления и раскручивания «детективного романа», а с имени, потом «пробиваем» его по базам данных, чтобы выяснить, тот ли это человек – человек, живущий под этим именем, – и выясняем, что он делал во время войны.
И таких имен у нас хватает.
Я снимаю трубку телефона.
– Лео Штейн, – представляюсь я.
– Это… – отвечает женщина. – Не знаю, туда ли я попала…
– Я обязательно отвечу, если вы объясните причину своего звонка.
– Один мой знакомый был офицером СС.
Мы даже выделили подобные звонки в отдельную категорию: «Мой сосед – нацист». Обычно это сосед, который пинает вашу собаку, когда та забегает на его участок, и вопит, когда листья с вашего дуба падают ему во двор. У него немецкий акцент, он носит длинный черный плащ и держит немецкую овчарку.
– А вас зовут…
– Сейдж Зингер, – представляется женщина. – Я живу в Нью-Хэмпшире, и он тоже.
При этих словах я сажусь ровнее. Нью-Хэмпшир – отличное место, чтобы спрятаться, если ты нацист. Никому и в голову не придет искать в Нью-Хэмпшире.
– И как зовут этого человека? – спрашиваю я.
– Джозеф Вебер.
– И вы полагаете, что он был офицером СС, потому что…
– Он сам мне в этом признался, – отвечает женщина.
Я откидываюсь на спинку кресла.
– Сам признался, что он нацист?
За все десять лет службы подобное я слышу впервые. Моя работа заключается в том, чтобы сдернуть маску с преступников, которым кажется, что после семидесяти лет убийство сойдет им с рук. Никогда еще я не имел дела с подозреваемым, который сам признался в содеянном еще до того, как был загнан в угол неопровержимыми доказательствами и у него не оставалось иного выхода, кроме как все рассказать.
– Мы… приятельствуем, – поясняет Сейдж Зингер. – Он хочет, чтобы я помогла ему умереть.
– Как Джек Кеворкян? Популяризатор эвтаназии? Он смертельно болен?
– Нет, напротив, вполне здоров для мужчины своего возраста. Он считает, что в его просьбе есть некая справедливость, потому что я из еврейской семьи.
– Правда?
– А это имеет значение?
Нет, не имеет. Сам я еврей, но половина нашего отдела не евреи.
– Он упоминал, где служил?
– Говорил какое-то немецкое слово… Тотен… Отен что-то…
– Totenkopfverbände?
– Точно!
В переводе это означает «отряд “Мертвая голова”». Это не отдельное формирование, а скорее подразделения СС, которые охраняли концентрационные лагеря Третьего рейха.
В 1981 году мой отдел выиграл подобное дело, «Федоренко против США». Верховный суд постановил – по моему скромному мнению, очень мудро! – что любой, кто охранял нацистские концлагеря, обязательно принимал участие в зверствах и преступлениях нацистов. Лагеря представляли собой цепочки определенных функций, и, чтобы все работало, каждый в цепочке должен был выполнять свои должностные обязанности. Если один не выполнит – машина уничтожения застопорится. Поэтому совершенно не имеет значения, что делал и чего не делал один конкретный «винтик» – нажимал на спусковой крючок или запускал «Циклон Б» в газовую камеру, – уже одного доказательства того, что человек был членом отряда «Мертвая голова», было достаточно, чтобы возбудить против него дело.
Конечно, пока до этого еще очень-очень далеко.
– Как его зовут? – опять спрашиваю я.
– Джозеф Вебер.
Я прошу произнести фамилию и имя по буквам, записываю их в блокнот, дважды подчеркиваю.
– Он еще что-нибудь говорил?
– Показал свою фотографию. Он был в форме.
– Как она выглядела?
– Форма офицера СС.
– А откуда вы знаете, как она выглядит?
– Ну… форма похожа на ту, что показывают в фильмах, – признается она.
Существует два объяснения. Я Сейдж Зингер не знаю – возможно, она недавно сбежала из психбольницы и сейчас выдумывает историю от начала до конца. И с Джозефом Вебером я тоже незнаком – возможно, это он сбежал из психбольницы и теперь пытается привлечь к себе внимание. К тому же за все десять лет еще ни разу такой, с бухты-барахты, звонок от обычных граждан о нацисте, живущем у них на заднем дворе, не подтверждался. Чаще всего нам приходится расследовать жалобы адвокатов, представляющих в бракоразводном процессе интересы жен, которые надеются доказать, что их мужья (подходящие по возрасту выходцы из Европы) являются еще и военными преступниками. Представьте себе исход дела, если удастся убедить судью, как жестоко ответчик обращался с вашей клиенткой! И всегда подобные утверждения оказываются полнейшей ерундой.
– У вас есть эта фотография? – интересуюсь я.
– Нет, – признается она. – Снимок остался у него.
Разумеется.
Я потираю лоб.
– Должен спросить… У него есть немецкая овчарка?
– У него такса, – отвечает она.
– Такса была бы у меня на втором месте, – бормочу я. – Скажите, как давно вы знакомы с Джозефом Вебером?
– Где-то месяц. Он начал приходить на групповые занятия по психотерапии, которые я посещаю после маминой смерти.
– Примите мои соболезнования, – на автомате произношу я и тут же понимаю, что подобного проявления вежливости она совершенно не ожидает. – Следовательно, вы не в полной мере изучили его характер. Не можете точно сказать, наговаривает он на себя или нет…
– Господи, да что с вами! – восклицает она. – Сначала полицейские, потом ФБР… Неужели вы даже на секунду не допускаете, что я говорю правду? Откуда вы знаете, что он лжет?
– Потому что это бессмысленно, мисс Зингер. Зачем человеку, которому более полувека удавалось скрываться, вдруг ни с того ни с сего сбрасывать свою личину?
– Я не знаю, – честно отвечает она. – Чувство вины? Боязнь Судного дня? Или, может быть, он просто устал жить во лжи, понимаете?
Произнося эти слова, она ловит меня на крючок. Потому что именно так, черт побери, свойственно человеку. Самая большая ошибка, которую допускают люди, – полагать, что военные преступники-нацисты всегда были чудовищами: до, во время и после войны. Это не так. Когда-то они были обычными, адекватными людьми, которые сделали неправильный выбор и которым пришлось придумывать для себя оправдания всю оставшуюся жизнь, когда они вернулись к мирному существованию.
– Вы случайно не знаете дату его рождения? – спрашиваю я.
– Знаю, что ему за девяносто.
– Что ж, – отвечаю я, – мы попытаемся проверить его имя и посмотрим, что удастся найти. И хотя архивы наши неполные, у нас одна из лучших информационных баз в мире – в нее внесены результаты архивных исследований более чем за тридцать лет.
– И что потом?
– В случае, если мы получим подтверждение или появится причина полагать, что есть основание для возбуждения дела, я попрошу вас побеседовать с нашим главным историком, Женеврой Астанопулос. Она задаст вам вопросы, которые помогут в ведении дальнейшего расследования. Но обязан вас предупредить, мисс Зингер: несмотря на то что мы получаем сотни звонков от граждан, ни одно дело не было возбуждено. Если откровенно, только благодаря одному звонку – до создания нашей конторы в тысяча девятьсот семьдесят девятом году – прокуратуре США в Чикаго удалось привлечь к суду предполагаемого преступника, который оказался не только невиновным, но и жертвой нацистов. С тех пор ни одно из полученных нами от граждан обращений не стало предметом судебного разбирательства.
Сейдж Зингер на мгновение задумывается.
– Тогда я отвечу, что настало самое время, – говорит она.
Как ни крути, Майкл Томас был везунчиком. Ему удалось сбежать от нацистов из концлагеря, присоединиться к французскому Сопротивлению, а потом к диверсионно-десантному отряду, прежде чем примкнуть к силам американской военной контрразведки. На последней неделе Второй мировой войны он получил наводку, что возле Мюнхена будут конвоировать автоколонну, которая, по слухам, перевозит какой-то важный груз. Когда он прибыл на склад во Фрейманне, в Германии, то обнаружил кипы документов, которые нацисты планировали переработать в макулатуру, – регистрационные карты десяти миллионов членов нацистской партии.
Они были использованы как на Нюрнбергском процессе, так и после него, чтобы идентифицировать, установить место проживания и предать суду военных преступников. Эти документы стали отправной точкой для историков, которые работали со мной в нашем отделе. Если мы не находим имени в списках, это не значит, что человек не был нацистом, – но с помощью этого архива выстроить дело намного легче.
Женевру я нахожу на рабочем месте, за столом.
– Мне нужно, чтобы ты пробила одну фамилию, – говорю я.
После воссоединения Германии в девяностых США вернули Берлинскому документационному центру, центральному архиву СС и нацистской партии, документы, которыми завладела американская армия после Второй мировой войны… Но только после того, как пересняли на микропленку все до последнего проклятого документа. Я точно знаю, что Женевра обязательно что-нибудь откопает либо в материалах Берлинского центра, либо в документах, которые всплыли на поверхность после развала СССР.
Если будет что откапывать.
Она поднимает на меня глаза.
– Ты капнул кофе на галстук, – говорит она, выглядывая из птичьего гнезда вьющихся русых волос. – Лучше смени его перед свиданием.
– Откуда ты знаешь, что у меня свидание? – удивляюсь я.
– Потому что сегодня утром звонила твоя мама и велела мне вытолкать тебя в шею, если ты засидишься на работе до половины седьмого.
Меня это совершенно не удивляет. Ни по каким проводам, ни по каким локальным сетям новости не передаются так молниеносно, как в еврейской семье.
– Напомни мне, чтобы я не забыл ее убить, – говорю я Женевре.
– Не могу, – тянет она. – Не хочу, чтобы меня повязали как соучастницу. – Она улыбается мне, глядя поверх очков. – Кроме того, Лео, твоя мама – глоток свежего воздуха. Целыми днями я читаю о людях, которые жаждали всемирного господства и расового превосходства. Для разнообразия желание иметь внуков кажется таким милым.
– У нее уже есть внуки. Трое, спасибо моей сестре.
– Ей не нравится, что ты женат на работе.
– Когда я был женат на Диане, она тоже была не в восторге, – парирую я. Прошло пять лет с тех пор, как мы окончательно развелись, и должен признать: худшим из всего пережитого оказалось то, что я вынужден был признать мамину правоту – женщина, которую я считал девушкой своей мечты, на самом деле мне не подходила.
Я недавно случайно столкнулся с Дианой в метро. Она повторно вышла замуж, родила ребенка и опять ждет пополнения. Мы как раз обменивались любезностями, когда зазвонил мой мобильный – сестра интересовалась, собираюсь ли я на эти выходные к племяннику на день рождения. Она услышала, как я прощался с Дианой, и уже через час позвонила мама и заочно устроила мне свидание.
Как я уже говорил, еврейское семейное радио.
– Мне нужно, чтобы ты пробила одно имя, – повторяю я.
Женевра берет у меня из рук бумажку.
– Уже тридцать шесть минут седьмого, – говорит она, – не заставляй меня звонить твоей маме.
По пути я останавливаюсь у своего письменного стола забрать портфель и ноутбук, потому что уйти без них для меня так же невозможно, как забыть на работе ногу или руку. Я инстинктивно тянусь к чехлу на поясе, чтобы удостовериться, что мой мобильный на месте. Потом на секунду присаживаюсь и ввожу в поисковую систему имя Сейдж Зингер.
Разумеется, мы постоянно пользуемся поисковыми системами. Чаще – чтобы убедиться, что человек (Миранда Кунц, например) совсем чокнутый. Но причина, по которой мне захотелось узнать больше о Сейдж Зингер, – ее голос.
Какой-то дымчатый. Похожий на первую осеннюю ночь, когда зажигаешь камин, выпиваешь бокал портвейна и засыпаешь с собакой на коленях. Не то чтобы я обожал собак или портвейн – но вы понимаете, о чем я говорю.
Это, помимо всего остального, объясняет, почему я должен буквально выбегать из конторы, чтобы успеть на «свидание вслепую». Голос Сейдж Зингер мог звучать молодо, но, возможно, у нее уже старческий маразм: она же сама, в конце концов, сказала, что этот Джозеф Вебер – ее приятель. У нее недавно умерла мать, возможно, в пожилом возрасте. И эта хрипотца может быть признаком пожизненной зависимости от сигарет.
Однако единственная Сейдж Зингер, которая нашлась в Нью-Хэмпшире, оказалась пекарем в маленьком кафе. Ее рецепт пирога с ягодами напечатали в местном журнале в разделе «Летний рог изобилия». Ее имя появляется в газете, в колонке новостей, где возвещается об открытии новой булочной Мэри Деанжелис.
Я щелкаю на ссылку «Новости» и обнаруживаю видео с местного телеканала – сюжет загрузили только вчера. «Сейдж Зингер, – говорит голос за кадром, – булочница, которая испекла хлеб с Иисусом».
Что-что?
На видео, снятом любительской камерой, появляется женщина со спутанным «конским хвостом», она отворачивается от камеры. Я успеваю заметить у нее на щеках следы муки до того, как она полностью скрывается от любопытных глаз.
Она совершенно не такая, как я ожидал. Когда в наш отдел звонят граждане, о них узнаешь больше, чем о людях, которых они обвиняют, – то ли они хотят разрешить какой-то конфликт, то ли затаили злобу, то ли жаждут внимания. Но нутром я чую, что здесь дело в другом.
Может быть, Женевре удастся что-нибудь откопать. Если Сейдж Зингер однажды смогла удивить меня, возможно, ей удастся сделать это еще раз.
В моей машине, я в этом уверен, находится последний в мире кассетный магнитофон. Я стою в пробке на кольцевой и слушаю «Бред» и «Чикаго». Мне нравится представлять, что у всех остальных в машинах тоже стоят кассетные магнитофоны и время повернуло вспять, к тем временам, когда все было проще. Я понимаю, как странно это звучит, учитывая, насколько мир стал теснее благодаря современным технологиям и как мой отдел от этого выиграл. И даже больше: иметь кассетный магнитофон уже не считается странным, это ретро.
Я размышляю об этом и о том, следует ли признаваться девушке на свидании, что я настолько стильный, что покупаю музыку на «Эбей»[16], а не на цифровых носителях. В последний раз, когда я ходил на свидание (коллега устроил мне свидание с двоюродной сестрой своей жены), весь ужин проговорил о деле Александра Лилейкиса, и моя спутница, сославшись на головную боль и не дожидаясь десерта, отправилась домой на метро. Дело в том, что я не очень-то силен в светских беседах. Я могу обсуждать мельчайшие детали геноцида в Дарфуре, но большинство американцев, скорее всего, даже не смогут сказать, где же это все происходило. (Это в Судане, к вашему сведению.) С другой стороны, я не могу говорить о футболе, не перескажу сюжет последнего прочитанного романа, не знаю, кто и с кем встречается в Голливуде. Да мне, если честно, все равно. В мире существуют намного более важные вещи.
Я проверяю в телефонном календаре название ресторана и вхожу. Сразу видно, это одно из тех мест, где подают «дорогую» еду – закуски размером со шляпку гриба, непроизносимые ингредиенты, перечисленные у каждого пункта в меню… Неужели кто-то сам все это придумывает: молоки трески, пыльца дикорастущего фенхеля, щечки свеклы, рассыпчатые меренги, пепельный винегрет? Сидишь и удивляешься.
Я называю метрдотелю свое имя, и он ведет меня к столику в самой глубине зала – здесь настолько темно, что я теряюсь в догадках, смогу ли вообще рассмотреть, с симпатичной женщиной у меня свидание или нет. Женщина уже сидит, и когда мои глаза привыкают к темноте, я замечаю, что да, она привлекательная, если не считать волос – они уложены в огромную высокую прическу, как будто она пыталась помоднее замаскировать последствия энцефалита.
– Вы, наверное, Лео, – улыбается она. – Я Ирен.
На ней много серебряных украшений, часть которых утопает в ложбинке на груди.
– Бруклин? – гадаю я.
– Нет, – повторяет она уже медленнее. – И-рен.
– Нет… я хотел сказать… ваш акцент… вы из Бруклина?
– Из Джерси, – отвечает Ирен. – Из Ньюарка.
– Мировая столица автомобильных угонов. Вам известно, что там угоняют машин больше, чем в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, вместе взятых?
Она смеется. Смех ее похож на сипение.
– А мама еще переживает, что я живу в округе Принс-Джорджес.
Подходит официант, сыплет названиями фирменных блюд, принимает заказ на спиртное. Я заказываю вино, в котором совершенно не разбираюсь. Выбираю, руководствуясь тем, что это не самое дорогое, но и не самое дешевое вино в карте вин, иначе это выглядело бы жлобством.
– Удивительно, да? – говорит Ирен. Или она мне подмигивает, или что-то попало ей в глаз. – Что наши родители знакомы.
Как мне объяснили, мамин врач-ортопед – брат отца Ирен. Вряд ли мы росли по соседству.
– Удивительно, – соглашаюсь я.
– Я переехала сюда в связи с работой и никого толком не знаю.
– Это огромный город, – на автомате отвечаю я, хотя в душе не очень в это верю. Движение здесь и правда сумасшедшее, а поскольку что ни день кто-нибудь из-за чего-нибудь протестует, то борьба за идеалы становится непреодолимым препятствием, когда необходимо своевременно куда-то приехать, а все дороги заблокированы. – Уверен, что мама мне говорила, но я, простите, запамятовал… Чем вы занимаетесь?
– Я квалифицированный закройщик бюстгальтеров, – отвечает она. – Работаю в универмаге «Нордстром».
– Квалифицированный, – повторяю я. Интересно, где учат на закройщика бюстгальтеров? Ставят ли оценки: «5», «4», «3», «2»? – Похоже, у вас совершенно… уникальная работа.
– Только неудобная, – замечает Ирен и смеется. – Уловили?
– Угу. Да.
– Когда-нибудь я смогу делать то, что мне по-настоящему нравится.
– Маммографию? – пытаюсь угадать я.
– Нет, хочу стать репортером в зале суда. Они в фильмах такие стильные. – Она улыбается мне. – А я знаю, чем вы занимаетесь. Мама мне рассказала. Совсем как Хамфри Богарт.
– Да нет. Наш отдел – это не Касабланка, всего лишь бедный пасынок Министерства юстиции. И Парижем у нас даже не пахнет. У нас и кофемашины-то нет.
Она недоуменно моргает.
– И скольких нацистов вы поймали?
– Понимаете, тут дело непростое, – отвечаю я. – Мы выиграли дела ста семи нацистских преступников. До настоящего времени шестьдесят семь депортировали из США. Но не все шестьдесят семь из этих ста семи, потому что не все они граждане Америки – с математикой следует быть аккуратнее. К сожалению, лишь несколько из депортированных или выданных преступников предстали перед судом – от себя могу лишь пристыдить Европу. Трое подсудимых предстали перед судом в Германии, один в Югославии и один в СССР. Из этих пятерых трое были осуждены, один оправдан, а слушание по делу последнего отложили по медицинским показаниям и подсудимый умер до окончания процесса. Еще до создания нашего отдела одна нацистская преступница была выслана из США в Европу, где ее судили, признали виновной и посадили в тюрьму. В настоящее время у нас в производстве пять дел и еще по многим персоналиям проводится расследование и… У вас глаза стеклянные.
– Нет, – отвечает Ирен. – Я просто ношу контактные линзы. Правда. – Она нерешительно продолжает: – Но разве люди, которых вы преследуете, не древние старики?
– Древние.
– Значит, они уже не такие проворные.
– Мы охотимся на них не в буквальном смысле слова, – объясняю я. – Они совершили ужасные вещи по отношению к другим людям. Такое не должно оставаться безнаказанным.
– Да, но это было так давно…
– И тем не менее не утратило важности, – отвечаю я.
– Вы так говорите, потому что еврей?
– Нацисты уничтожали не только евреев. Они истребляли и цыган, и поляков, и гомосексуалистов, и душевнобольных, и инвалидов. Каждый должен вносить лепту в дело, которым занимается мой отдел. Иначе что гарантирует Америка людям, совершающим геноцид? Что они могут избежать наказания, если пройдет достаточно времени? Что они могут прятаться за нашими кордонами и никто их даже по руке не ударит? Мы каждый год ежедневно депортируем сотни тысяч нелегальных эмигрантов, которые виновны лишь в том, что просрочили визу или приехали без надлежащим образом оформленных документов, – а люди, которые замешаны в преступлениях против человечества, могут остаться? И тихо-мирно здесь умереть? И быть похороненными на американской земле?
Я не осознавал, насколько разгорячился и повысил голос, пока сидящий за соседним столиком мужчина не начал медленно, но уверенно аплодировать. К нему присоединились еще несколько посетителей за столиками. Я вжался в кресло, пытаясь стать невидимым.
Ирен протянула руку и переплела свои пальцы с моими.
– Все в порядке, Лео. Если честно, я даже нахожу это сексуальным.
– Что именно?
– Как ты умеешь пользоваться голосом. Словно флагом размахиваешь.
Я качаю головой.
– Я не какой-то хвастливый патриот. Я тот, кто делает свою работу. Просто устал защищать то, чем я занимаюсь. И дела эти не имеют срока давности, ничто не кануло в небытие.
– Да нет, кануло. Я к тому, что эти нацисты ведь не прячутся у всех на виду.
Я не сразу понимаю, что она перепутала значения слов «кануть» и «скрываться». В то же время я вспоминаю Джозефа Вебера, который, по словам Сейдж Зингер, несколько десятков лет именно это и делал – прятался у всех на виду.
Подходит официантка с бутылкой вина и наливает мне в бокал для пробы. Я держу вино во рту, киваю в знак одобрения. В этот момент, если честно, я бы одобрил даже самогон, если бы только в нем содержалась нужная доля алкоголя.
– Надеюсь, мы не весь вечер будем обсуждать историю, – беззаботно щебечет Ирен, – потому что в истории я не сильна. Я к тому, что разве не все равно, что Колумб открыл Америку, а не Вест-Хэмптон?
– Вест-Индию, – бормочу я.
– Да какая разница! Местное население, скорее всего, было не таким сволочным.
Я наливаю себе вина и гадаю, доживу ли до десерта.
Либо у моей мамы хорошо развито шестое чувство, либо еще при рождении она имплантировала мне микрофон – иначе откуда она знает, когда я ухожу и прихожу? Только так я могу объяснить, как ей удается позвонить, независимо от обстоятельств, именно в тот момент, когда я вхожу в дверь.
– Здравствуй, мама, – приветствую я, включая громкую связь и даже не удосужившись взглянуть на определившийся номер.
– Лео, неужели так сложно было вести себя прилично с этой милой девушкой?
– Эта милая девушка в состоянии сама о себе позаботиться. И ей совершенно не нужен такой парень, как я.
– Неужели можно определить, что вы не подходите друг другу, после одного несчастного ужина? – возражает мама.
– Мам, она думает, что Кочинос[17] – это название животного.
– Лео, не у всех, как у тебя, была возможность получить хорошее образование.
– Это проходят в школе, в одиннадцатом классе! – восклицаю я. – Кроме того, я был с ней предельно любезен.
На другом конце провода повисает молчание.
– Правда? Значит, ты был настолько вежлив и предупредителен, что не схватился за мобильный и не сказал ей, что звонят с работы и тебе нужно бежать, потому что поймали Джона Диллинджера?
– В свою защиту могу сказать, что ужин к тому моменту длился уже два часа, а мы еще основное блюдо не доели.
– То, что ты адвокат, вовсе не означает, что ты можешь перекрутить любую историю. Я твоя мать, Лео, и знаю тебя как облупленного.
– Ладно. А: это просто ужас! Б: может, вы с Люси позволите мне самому выбирать, с кем ходить на свидания?
– Мы с твоей сестрой хотим, чтобы ты был счастлив. Разве это преступление? – спрашивает она. – К тому же, если мы будем ждать, пока ты выберешь, с кем пойти на свидание, приглашения на твою свадьбу я дождусь только у «Сыновей Авраама». Так называется кладбище, где похоронен мой отец.
– Отлично! – восклицаю я. – Проверь, что указала правильный адрес. – Я убираю трубку от уха и нажимаю кнопку на клавиатуре. – Звонок по второй линии, – вру я.
– В такое время?
– Это из эскорт-службы, – шучу я. – Не хочу заставлять «кошечек» ждать…
– Лео, ты хочешь моей смерти, – вздыхает мама.
– Кладбище «Сыновья Авраама». Запомнил, – отвечаю я. – Люблю тебя, мама.
– Я тоже тебя люблю, – заверяет она. – Так что же мне сказать своему ортопеду насчет Ирен?
– Если она не перестанет носить каблуки – заработает бурсит, – говорю я и вешаю трубку.
В моем доме все по-спартански. Столешницы из черного гранита, диваны покрыты серыми фланелевыми покрывалами. Мебели мало, и вся она современная. У кухонных шкафчиков голубоватая подсветка, отчего сама кухня напоминает центр управления полетом в НАСА. Моя квартира похожа на жилище, где уютно чувствовал бы себя холостой игрок Национальной футбольной лиги или юрист компании. За внешний вид квартиры отвечает моя сестра, Люси, дизайнер по интерьерам. Она сделала здесь ремонт, чтобы вытянуть себя из депрессии после развода, поэтому я не могу прямо сказать ей, что эта квартира кажется мне слишком стерильной. Как будто я некий организм в пробирке, а не человек, который чувствует вину, когда кладет ноги на черный лакированный кофейный столик.
Я снимаю галстук и расстегиваю рубашку, потом аккуратно вешаю костюм в шкаф. Прозрение номер один в холостяцкой жизни: никто, кроме тебя, не отдаст твой костюм в чистку. Если оставляешь его валяться смятым в ногах на кровати, а сам каждый день работаешь до десяти вечера – все подумают, что ты напился.
В одних широких трусах и майке я включаю стерео – сегодня вечер джаза Дюка Эллингтона – и нахожу свой ноутбук.
Само собой разумеется, если бы я остался в Бостоне заниматься корпоративным правом – и кто знает, возможно, я был бы в восторге от этого интерьера! – жизнь была бы более захватывающей. Я бы судачил с клиентами, вместо того чтобы читать подготовленные Женеврой отчеты о наших подозреваемых. Видит Бог, я откладывал бы в кубышку на старость гораздо больше денег. Возможно, в углу дивана у меня сейчас лежала бы, свернувшись клубочком, девушка по прозвищу Кошечка. Несмотря на все опасения моей мамы, я счастлив. Не могу даже представить, что я занимался бы чем-то другим и эта другая работа приносила бы мне большее удовлетворение.
Изначально я попал в наш отдел, когда он еще назывался отделом специальных расследований. Мой дедушка, ветеран Второй мировой войны, всю жизнь потчевал меня историями об этой войне. В детстве моим самым ценным сокровищем была немецкая каска, которую он мне подарил. Внутри каски имелось темное пятно, и дед клялся, что это остатки мозга. (Мама, испытывая непреодолимое отвращение, однажды ночью, пока я спал, убрала каску из моей комнаты и так и не сказала мне, что с ней сделала.) Поступив в университет на юридический факультет и решив «подстелить соломки» на будущее, я устроился на практику в отдел специальных расследований. Я намеревался набраться опыта в юриспруденции, который мог бы отразить в своем резюме, а вместо этого получил дело всей жизни. Каждый, кто работал в этом отделе, оставался там по велению сердца, потому что искренне верил, что занимается чрезвычайно важным делом. И плевать на всех Патриков Бьюкененов[18], которые полагают, что США выбрасывает деньги на ветер, преследуя людей, которые уже настолько стары и дряхлы, что не представляют угрозы для населения.
Я окончил юридический факультет Гарварда и получил несколько предложений от бостонских юридических контор. Я выбрал ту, где мне платили достаточно, чтобы я смог купить модные костюмы и новый «мустанг-кабриолет», на котором мне так и не удалось погонять, потому что я работал как ломовая лошадь, чтобы стать младшим партнером в фирме. У меня водились деньги, была невеста, и в девяноста пяти процентах дел, которыми я занимался, выносился вердикт в пользу моего подзащитного. Но интереса к работе не было.
Через месяц я написал начальнику отдела специальных расследований и переехал в Вашингтон.
Да, знаю, что мыслями я чаще в сороковых годах. Правда и то, что невозможно двигаться вперед, если постоянно живешь прошлым. С другой стороны, никто не может сказать мне, что дело, которым я занимаюсь, – не важное. Если история имеет тенденцию повторяться, должен ведь найтись человек, который будет громко предупреждать об опасности?
Если не я, то кто же?
Заканчивается композиция Дюка Эллингтона. Чтобы заполнить тишину, включаю телевизор. Минут десять смотрю на Стивена Кольберта[19], но его шоу слишком веселое, чтобы служить мне фоном. Я постоянно ловлю себя на том, что отвлекаюсь от отчета Женевры и слушаю его репризы.
Когда в ноутбуке раздается мелодичный звон, смотрю на экран. Пришло письмо от Женевры.
«Надеюсь, не помешала милым сексуальным игрищам с очередной миссис Штейн? Но в случае, если ты все же сидишь дома в одиночестве и смотришь доброго старого «Рин-Тин-Тина»[20] , как я (не суди строго!), решила, что ты захочешь знать, что имя «Джозеф Вебер» в наших архивах не значится. Удачи, начальник!»
Я несколько раз перечитываю послание.
Я уже говорил Сейдж Зингер, что преимущество не на ее стороне. Что-то заставляет Джозефа Вебера лгать о своем прошлом. Но теперь это проблема Сейдж Зингер, а не моя.
За годы работы в своем отделе я допросил десятки подозреваемых. Даже когда я припираю некоторых из них к стенке неопровержимыми доказательствами того, что они служили надзирателями в лагерях смерти, они всегда отвечают, что понятия не имели о том, что тех людей убивали. Все настаивают на том, что видели только, как заключенные работали, и помнят, что те были в хорошей физической форме. Они вспоминают, что видели дым и до них доходили слухи о том, что тела сжигают, но лично они этого никогда не видели. И тогда даже слухам не верили. Избирательная память – так я это называю. Но – кто бы мог подумать! – их истории в корне отличаются от тех, что мне рассказывали узники концлагерей. Эти могут описать смрад из труб крематория – жирный, густой, вызывающий тошноту, и кислый запах серы – даже не запах, а вкус на губах. Бывшие узники уверяют: куда бы ты ни шел, этот запах везде тебя преследовал. И даже сейчас они иногда просыпаются от запаха сожженной плоти, забивающего ноздри.
Как говорится, горбатого могила исправит. Военные преступники не раскаиваются.
Меня совершенно не удивляет, что Джозеф Вебер, который признался в том, что он нацист, таковым не является. В конечном итоге, именно этого я и ожидал. Удивило меня другое: то, как искренне я желал, чтобы Сейдж Зингер доказала, что я ошибаюсь.
Даже лучше, когда не можешь откладывать неизбежное.
Именно поэтому хищник становится хищником, когда начинает охотиться. Это не игра с едой, как полагают многие. Необходимо, чтобы уровень адреналина в крови жертвы достиг уровня адреналина в крови охотника.
Однако наступает момент, когда ожидать больше невозможно. Ты слышишь, как биение сердца жертвы отдается у тебя в голове, – и это последняя мысль, которая мелькает в твоем сознании. Как только ты уступаешь первобытным инстинктам, ты становишься сторонним наблюдателем за пиршеством твоего второго «я», раздирающего плоть, чтобы припасть к амброзии. Пьешь страх жертвы, но на вкус он как возбуждение. У тебя нет прошлого, нет будущего, нет жалости, нет души.
Но ты прекрасно знал об этом еще до того, как все начал, верно?
Сейдж
Когда на следующий день я прихожу на работу, в кухне уже кто-то хозяйничает. Настоящий бегемот, а не человек: ростом выше метра восьмидесяти, с татуировкой на предплечье в стиле племени маори. Когда я вхожу, он как раз режет пластами тесто и с невероятной меткостью бросает его на весы.
– Привет, – произносит он чудаковатым голосом, который никак не вяжется с его внешностью. – Как делишки?
В моей голове пусто – слова, необходимые для поддержания разговора, словно сквозь сито просеялись. Я настолько удивлена, что даже забываю прикрыть шрам.
– Вы кто?
– Кларк.
– Что вы здесь делаете?
Он смотрит на стол, стены – куда угодно, только не на меня.
– Булочки к ужину.
– Мне так не кажется, – отвечаю я. – Работаю здесь я одна.
Кларк не успевает ответить, как в кухне появляется Мэри. Рокко явно предупредил ее о моем приходе. Сам он приветствовал меня у входа в булочную загадочным высказыванием: «Странствовать жаждешь? Иль хочешь вязать научиться? Кажется, время настало».
– Вижу, с Кларком ты уже познакомилась. – Она улыбается гиганту, который с молниеносной скоростью формует булочки. Интересно, он рылся в моих проферментах? Разглядывал таблицы? Такое чувство, будто он копался в моем ящике с бельем. – Кларк работал в булочной «Король Артур» в Норвиче, штат Вермонт.
– Вот и чудесно! Пусть туда и возвращается.
– Сейдж, Кларк здесь, чтобы тебе помочь. Освободить от некоторых нагрузок.
Я беру Мэри под руку и разворачиваю так, чтобы Кларк меня не слышал.
– Мэри, – шепчу я, – не хочу я никакой помощи.
– Возможно, – отвечает она. – Но помощь тебе необходима. Пойдем прогуляемся?
Я едва сдерживаю слезы и неудержимое желание закатить истерику – меня одновременно душат и злость, и обида. Да, я взяла выходной, не предупредив начальницу, но я сама нашла себе замену. И даже если я поменяла меню, тоже предварительно с ней не посоветовавшись, хала, которую я испекла, была пропитанной, вкусной, словом, идеальной. Но больше всего я расстроилась из-за того, что считала Мэри своей подругой, а не просто начальницей, отчего ее политика нетерпимости еще более потрясает.
Она ведет меня мимо малочисленных посетителей булочной, которых выпроваживает Рокко. Проходя мимо кассы, я отворачиваюсь от него. Мэри сообщила Рокко, что собирается от меня избавиться? Неужели теперь он стал ее доверенным лицом, каким раньше была я?
Я следую за ней через стоянку, выхожу в ворота храма, поднимаюсь по ступеням для покаянных молитв, и мы оказываемся у пещеры, где Джозеф признался мне, что он нацист.
– Ты меня увольняешь? – не выдерживаю я.
– С чего тебе такое пришло в голову?
– Не знаю. Возможно, потому, что мистер Чистюля в моей кухне печет мои булочки к ужину. Поверить не могу, что ты вместо меня наняла какого-то бездельника с хлебозавода…
– Булочную «Король Артур» едва ли можно назвать хлебозаводом, а Кларк не претендует на твое место. Он здесь только для того, чтобы тебе стало немного легче. – Мэри присаживается на гранитную скамью. У нее пронзительные голубые глаза, особенно на фоне сиренево-голубого аконита. – Сейдж, я просто пытаюсь тебе помочь. Не знаю, то ли это усталость, то ли чувство вины, то ли что-то еще, но в последнее время ты сама не своя. Ты стала какой-то рассеянной.
– Но я все равно выполняю свою работу. Выполняла, – возражаю я.
– Вчера ты напекла двести двадцать плетенок.
– А ты их пробовала? Поверь мне, покупатели нигде не попробуют такой халы.
– Но им пришлось бы идти в другую булочную, если бы они захотели ржаного хлеба. Или хлеба на закваске. Или обычного пшеничного. Или любого другого хлеба, который ты решила не печь. – Голос ее становится невероятно мягким. – Я знаю, что это ты уничтожила хлеб с Иисусом, Сейдж.
– Господи!
– Я молилась об этом. Этот хлеб был ниспослан для того, чтобы кого-то спасти. И теперь я вижу, что этот человек – ты.
– Потому что я прогуляла работу? – спрашиваю я. – Мне нужно было навестить бабушку. Она неважно себя чувствовала.
Я изумляюсь, как быстро научилась лгать. Одна ложь накладывается на другую, как слои краски, и ты уже не можешь вспомнить, каким цвет был изначально.
Может быть, Джозеф и сам начал верить, что он именно тот человек, которым его считают окружающие. И возможно, именно это и заставило его сказать правду.
– Сейдж, посмотри на себя, ты витаешь где-то в облаках! Ты вообще меня слушаешь? Выглядишь ты ужасно. Волосы похожи на воронье гнездо, и сегодня ты, наверное, вообще не умывалась, а под глазами такие черные круги, будто у тебя проблемы с почками. Ты сгораешь, как свеча, с обоих концов: по ночам работаешь здесь, а днем совершаешь прелюбодеяние с тем проститутом. – Мэри хмурится. – Как правильно назвать мужчину-проститутку?
– Долбанутый, – подсказываю я. – Послушай, я знаю, что у нас по поводу Адама разные взгляды, но ты же не взбеленилась, когда Рокко спросил, каким удобрением лучше подкармливать кусты конопли…
– Если бы он пришел обкуренным на работу, я бы взбеленилась, – настаивает на своем Мэри. – Можешь не верить, но я не считаю тебя распущенной из-за того, что ты спишь с Адамом. Если честно, мне кажется, что в глубине души это так же гнетет тебя, как волнует меня. И возможно, именно потому ты так увлеклась личной жизнью, что это мешает твоей работе.
Я смеюсь. Да, мои мысли заняты мужчиной. Только так уж получилось, что ему больше девяноста лет.
Неожиданно в голове рождается мысль, хрупкая, как бьющаяся о стекло бабочка: «А что, если все ей рассказать?» А что, если поделиться этим грузом, признанием Джозефа, с кем-то еще?
– Возможно, я действительно немного расстроена. Но Адам тут ни при чем. Дело в Джозефе Вебере. – Я смотрю ей прямо в глаза. – Я кое-что о нем узнала. Нечто ужасное. Мэри, он нацист!
– Джозеф Вебер? Тот самый Джозеф Вебер? Тот, который оставляет двадцать пять процентов чаевых и всегда делится половинкой своей булочки с собакой? Тот самый Джозеф Вебер, которому в прошлом году Торговая палата присвоила звание «Добрый самаритянин»? – Мэри качает головой. – Вот об этом-то я тебе, Сейдж, и толкую. Ты перетрудилась. У тебя в голове все перепуталось. Джозеф Вебер – милый старик, которого я знаю уже лет десять. Если он нацист, милая, то я Леди Гага.
– Но, Мэри…
– Ты кому-нибудь еще об этом говорила?
Я тут же думаю о Лео Штейне.
– Нет, – лгу я.
– Вот и хорошо, потому что, по-моему, это не повод для сплетен.
У меня такое чувство, будто весь мир смотрит через не ту линзу телескопа, и я единственная, кто способен видеть все четко.
– Я не обвиняю Джозефа, – в отчаянии продолжаю я, – он сам мне признался.
Мэри поджимает губы.
– Пару лет назад ученым удалось перевести какой-то древний текст, который, как они предполагали, был Евангелием от Иуды. Они утверждали, что информация, изложенная с точки зрения Иуды, перевернула бы весь христианский мир с ног на голову. Иуда уже не предстает в роли самого подлого в мире предателя, а преподносится единственным доверенным лицом Христа, которое исполнило его волю: Иисус знал, что умрет, и выбрал Иуду, чтобы довериться ему.
– Ты должна мне верить!
– Нет, – спокойно отвечает Мэри, – я тебе не верю. И тем ученым тоже не поверила. Потому что две тысячи лет история говорила, что Иисуса – который, между прочим, Сейдж, был хорошим парнем, как и Джозеф Вебер, – Иуда предал.
– История не всегда права.
– Но нужно с чего-то начать. Если человек не знает, откуда он произошел, как, скажи на милость, он узнает, куда ему стремиться? – Мэри заключает меня в объятия. – Я поступаю так, потому что люблю тебя. Иди домой. Недельку поспи. Сходи на массаж. В горы. Проветрись. А потом возвращайся. Твоя кухня будет тебя ждать.
Я еле сдерживаю слезы.
– Пожалуйста, – молю я, – не лишай меня работы! Это единственное, что я пока не испортила в своей жизни.
– Я не лишаю тебя работы. Хлеб продолжает оставаться твоим. Я взяла с Кларка обещание, что он будет использовать твои рецепты.
Но я сейчас думаю о надрезах.
Во времена коллективных печей люди приносили тесто из дома, чтобы испечь хлеб вместе с остальными жителями деревни. Как можно было отличить, где чья буханка, когда их доставали из печи? Только по тому, как они были надрезаны. Когда надрезаешь тесто, убиваешь двух зайцев: указываешь буханке, где открыться, и позволяешь ей расти изнутри. А еще надрезы позволяют каждому пекарю оставлять свой фирменный знак. Я, например, надрезаю багеты пять раз, самый длинный надрез делаю в конце.
Кларк так делать не будет.
Скажете, глупость, наши покупатели даже не обратят на это внимание, но это моя подпись. Моя печать на каждой буханке.
Пока Мэри спускается по Святой лестнице, я гадаю, не в этом ли кроется еще одна причина, по которой Джозеф Вебер доверился мне: если прятаться довольно долго, стать привидением среди живых, можно навсегда исчезнуть, и никто даже не заметит. Человеку свойственно заботиться о том, чтобы след, который он оставил, кто-нибудь увидел.
– Не знаю, что сегодня на тебя нашло, – говорит Адам, когда я скатываюсь с него и замираю, уставившись в потолок. – Но я чертовски благодарен.
Я бы не назвала то, что сейчас между нами было, занятием любовью; скорее, это попытка заползти Адаму под кожу, раствориться в нем. Мне хочется затеряться в нем, чтобы от меня ничего не осталось.
Я глажу пальцами его грудь.
– Ты не находишь меня странной в последнее время?
Он улыбается.
– Нахожу, особенно в последние полчаса. Но меня полностью устраиваешь новая ты. – Он смотрит на часы. – Мне пора.
Сегодня Адам проводит буддистскую похоронную церемонию в японской семье и предварительно подготовился, чтобы соблюсти все традиции. Девяносто девять и девять десятых процента японцев кремируют, сегодняшний его покойник не исключение. Вчера совершали поминальный обряд.
– Может, останешься хотя бы ненадолго? – прошу я.
– Нет, у меня работы по горло, – отвечает Адам. – Боюсь, как бы не напортачить.
– Ты кремировал уже сотни умерших, – возражаю я.
– Да, но для японцев это целая церемония. Мы не просто, как обычно, перемалываем остатки костей, существует определенный ритуал. Члены семьи берут фрагменты костей специальными палочками и кладут их в урну. – Он пожимает плечами. – Кроме того, тебе необходимо выспаться. Осталось всего несколько часов, прежде чем ты опять пойдешь готовить пончики.
Я натягиваю одеяло до подбородка.
– Если честно, я взяла пару выходных, – говорю я, как будто изначально это была моя идея. – Чтобы попробовать новые рецепты. Провести инвентаризацию имущества.
– Что же Мэри будет продавать, если ты здесь?
– Меня подменяет один парень, – отвечаю я, в очередной раз поражаясь, как гладко выходит у меня лгать и какое после этого остается послевкусие. – Кларк. Думаю, он справится. А еще это означает, что я поживу как нормальный человек, с нормальным распорядком дня. Знаешь, ты мог бы остаться на ночь. Было бы очень приятно заснуть рядом с тобой.
– Ты постоянно засыпаешь рядом со мной, – замечает Адам.
Но речь о другом. Он ждет, пока я отключусь, как свет, потом принимает душ и на цыпочках покидает мой дом. Сейчас я хочу того, что другие воспринимают как само собой разумеющееся: возможность почувствовать, как ночь затягивает нас своим лассо. Хочу спросить: «Ты завел будильник?» Хочу сказать: «Напомни мне, что у нас заканчивается зубная паста». Хочу, чтобы наше проведенное вдвоем время было не настолько насыщенным романтикой, а просто банально скучным.
Я обнимаю Адама и зарываюсь лицом в его грудь.
– Было бы здорово представить, что мы с тобой давным-давно женаты, разве нет?
Он высвобождается из моих объятий.
– Мне притворяться не нужно, – отвечает он, встает с кровати и направляется в ванную.
Как будто я и без него не помню! Я жду, пока польется вода, отбрасываю одеяло и бреду в кухню. Наливаю себе стакан апельсинового сока и сажусь за ноутбук. На экране таблица, по которой я делала опару, когда только-только вернулась домой из булочной. Если я не работаю в «Хлебе нашем насущном», это совсем не означает, что я не смогу усовершенствовать свои рецепты на собственной кухне.
Опара подходит на кухонном столе – нужна еще пара часиков, чтобы она перебродила, но сверху уже образовалась пена, похожая на шапку в кружке пива. Я закрываю свои таблицы и открываю в браузере видеохостинг.
Мне кажется, что я похожа на большинство двадцатипятилетних в нашей стране. Мои знания о Второй мировой войне ограничиваются школьным курсом истории в старших классах, а о холокосте я узнала благодаря программе обязательного чтения – из «Дневника Анны Франк», написанного самой Анной Франк, и «Ночи» Эли Визеля. Даже зная, что холокост непосредственно коснулся моей бабушки, – а возможно, именно из-за этого! – я склонна была относиться к нему как к чему-то абстрактному, как, например, относилась к рабству: к серии кошмаров, происходивших когда-то давным-давно в мире, который кардинально отличается от того, в котором я живу. Да, времена были тяжелые, но, положа руку на сердце, какое они имеют ко мне отношение?
В строке поиска набираю «нацистский концентрационный лагерь», и экран тут же наводняется крошечными, с ноготь большого пальца, картинками: узкое, вытянутое лицо Гитлера; груда переплетенных тел в яме; комната, доверху заваленная обувью… Выбираю видео – хронику 1945 года, сразу после освобождения. Пока оно загружается, читаю комментарии к нему:
«ХОЛОКОСТ – СПЛОШНОЙ ОБМАН. К ЧЕРТУ ЕВРЕЕВ!»
«ЧЕРТОВ ХОЛОКОСТ ПРИДУМАЛИ ЖИДЫ!»
«У моего дяди там была ферма, условия содержания в лагерях оценивал Красный Крест. Прочтите отчет».
«Да пошел ты, нацистская свинья! Хватит скулить, пора признать очевидное».
«По-твоему, свидетели тоже лгут?»
«Холокост продолжается в мире, пока мы относимся к происходящему так же, как немцы семьдесят лет назад. История нас ничему не научила».
Я щелкаю где-то посредине пятидесятисемиминутного фильма. Я понятия не имею, какой лагерь на экране, но вижу груды тел у крематория – зрелище настолько ужасающее, что поистине невозможно поверить, что это не голливудская постановка. Я вижу реальных людей, у которых так явно проступают косточки, что они похожи на скелеты, обтянутые кожей. С таким потухшим взглядом, что трудно поверить, что это взгляд человека, у которого была жена, семья, другая жизнь. Голос за кадром сообщает мне, что это место, где избавлялись от тел. В печах сжигалось более сотни тел в день. А вот носилки – их использовали для того, чтобы загрузить тело в топку, как я использую пекарскую лопату, чтобы поставить в печь домашний хлеб. В жерле одной из печей мелькает скелет, а мгновение спустя на экране – горсть фрагментов костей. Я замечаю табличку с горделивым названием изготовителя печей: «Топф и сыновья».
Мыслями я возвращаюсь к клиентам Адама, которые выбирают из пепла косточки своих любимых и родных.
Потом думаю о своей бабушке… Меня вот-вот стошнит.
Я хочу закрыть сайт, но не могу заставить себя это сделать и смотрю, как улыбающиеся немцы в воскресной, нарядной одежде идут в лагерь, словно на праздник. Выражение их лиц меняется, мрачнеет, некоторые даже плачут, когда их подводят к топке. Я вижу, как немецким бизнесменам в костюмах приказывают поработать на благо родины: перенести и захоронить мертвых.
Эти люди наверняка знали, что происходит, но не признавались в этом даже самим себе. Или предпочитали закрывать глаза, чтобы их это, не дай бог, не коснулось. И я стала бы одной из них, если бы оставила без внимания то, что сообщил мне Джозеф Вебер.
– Так что? – спрашивает Адам, входя в кухню с еще влажными после душа волосами, но уже при галстуке. Он гладит меня по плечу. – В среду, в то же время?
Я захлопываю ноутбук.
– Наверное, нам нужно сделать паузу, – слышу я свой ответ.
Адам недоуменно смотрит на меня.
– Паузу?
– Да. Мне нужно побыть одной.
– Разве не ты еще пять минут назад просила меня вести себя так, будто мы давно женаты?
– А разве не ты пять минут назад ответил, что и так уже давно женат?
Мэри сказала бы, что отношения с Адамом волнуют меня больше, чем я признаю. Я же считаю себя человеком, который отстаивает свои убеждения, а не отрицает то, что находится прямо перед носом.
Он стоит словно громом пораженный, но быстро справляется с удивлением.
– Малышка, я буду ждать столько, сколько нужно. – Адам целует меня так нежно, словно этот поцелуй – обещание или молитва. – Только помни, – шепчет он, – никто и никогда не будет любить тебя так, как я.
Когда Адам уходит, меня вдруг осеняет, что эти слова можно рассматривать и как клятву, и как угрозу.
Я тут же вспоминаю девочку, с которой мы вместе посещали занятия по религиоведению в колледже, студентку из Осаки. Когда мы проходили буддизм, она упомянула о коррупции: сколько ее семье пришлось заплатить священнику за каймио своего усопшего дедушки – специальное имя, которое дается умершему, чтобы тот взял его с собой на небеса. Чем больше заплатишь, тем больше иероглифов будет в твоем посмертном имени, тем выше авторитет твоей семьи. «Вы полагаете, что это имеет значение в жизни буддиста после смерти?» – поинтересовался у нее профессор. «Может, и нет, – ответила девушка. – Но каждый раз, когда произносится твое имя, ты возвращаешься на землю».
Оглядываясь назад, я осознаю, что следовало поделиться этой историей с Адамом.
Анонимность, по-моему, всегда дорого обходится.
* * *
Когда звонит телефон, мне снится кошмар, будто в кухне у меня за спиной стоит Мэри и говорит, что я недостаточно быстро готовлю. Несмотря на то что я формую буханки и отправляю их в печь настолько быстро, что на пальцах появились кровавые мозоли, оставляющие следы на тесте, каждый раз, когда я достаю готовую буханку, на лопате оказываются только выбеленные, как паруса корабля, кости. «Время!» – ворчит Мэри, и я не успеваю ее остановить, как она хватает палочками одну кость, кусает ее изо всех сил, ломает зубы, и те крошечными жемчужинами падают на пол и закатываются мне под туфли.
Я сплю так крепко, что, когда беру трубку и отвечаю на звонок, она тут же выпадает у меня из рук и закатывается под кровать.
– Прошу прощения, – извиняюсь я, когда вновь держу трубку в руках. – Слушаю.
– Сейдж Зингер?
– Да, это я.
– Это Лео Штейн.
Сон мгновенно улетучивается. Я сажусь в кровати.
– Простите.
– Вы уже извинились… Я вас… У вас такой голос, как будто я вас разбудил.
– Так и есть.
– В таком случае это мне стоит извиниться. Я решил, что раз уже одиннадцать часов…
– Я же пекарь, – перебиваю я. – По ночам работаю, а днем сплю.
– Тогда перезвоните мне в более удобное для вас время…
– Вы только скажите, – тороплю я его, – вы что-то выяснили?
– Ничего, – отвечает Лео Штейн. – В архивах нет никаких упоминаний об офицере СС по имени Джозеф Вебер.
– Это, должно быть, какая-то ошибка. Вы пробовали различное написание имени и фамилии?
– Наш историк очень дотошный человек, мисс Зингер. Мне очень жаль, но, похоже, вы неправильно его поняли.
– Я все правильно поняла! – Я убираю волосы с лица. – Вы же сами говорили, что архивы неполные. Разве нет вероятности, что вы просто пока не нашли нужную информацию?
– Возможно. Но пока не найдем, у нас связаны руки.
– А вы будете продолжать искать?
В его голосе слышится колебание, осознание того, что я прошу найти иголку в стоге сена.
– Не знаю, как остановиться… – говорит Лео. – Мы проверим в двух берлинских архивах и по нашим собственным базам данных. Но если не получим никаких веских оснований для…
– Дайте мне время до обеда! – умоляю я.
В конце концов место, где я с Джозефом познакомилась, – занятия по психотерапии – заставляет меня задуматься, что, возможно, Лео Штейн прав и Джозеф лжет. Как ни крути, а он прожил с Мартой пятьдесят два года. Чертовски долго для того, чтобы сохранить все в тайне.
Дождь льет как из ведра, когда я добираюсь до дома Джозефа, а зонтик я не взяла. Пока добегаю до накрытого крыльца – промокаю до нитки. Ева лает с полминуты, пока Джозеф идет к двери. Перед глазами у меня двоится – не из-за проблем со зрением, а из-за того, что образ этого старика накладывается на образ неизвестного молодого, крепкого солдата в форме, которого я видела на экране ноутбука.
– А ваша жена, – спрашиваю я, – она знала, что вы нацист?
Джозеф шире распахивает дверь.
– Входите. Не стоит вести подобные разговоры на улице.
Я иду за ним в гостиную, где осталась на шахматной доске не доигранная нами ранее партия – единороги и драконы замерли после моего хода.
– Я ничего ей не говорил, – признается он.
– Быть этого не может! Она наверняка хотела знать, где вы были во время войны.
– Я сказал, что родители отослали меня в университет в Англию. Марта больше не спрашивала. Вы удивитесь, насколько далеко может зайти человек, если захочет поверить, что тот, кого он любит, лучше, чем есть на самом деле, – отвечает Джозеф.
Тут, разумеется, я вспоминаю об Адаме.
– Должно быть, это очень тяжело, Джозеф, – холодно произношу я, – не запутаться в паутине собственной лжи.
Мои слова как удар – Джозеф вжимается в спинку кресла.
– Именно поэтому я и рассказал вам правду.
– Но… это же не так, верно?
– Что вы хотите сказать?
Я не могу ответить, что точно знаю это, потому что охотник за нацистами из Министерства юстиции проверил его вымышленную историю.
– Концы с концами не сходятся. Жена, которая никогда не натыкалась на правду за все пятьдесят два года… История о чудовище без единого доказательства… И, разумеется, самое большое несоответствие из всего: почему после шестидесяти пяти лет вы сбросили свою личину?
– Я же сказал вам, что хочу умереть.
– Почему именно сейчас?
– Потому что у меня не осталось ради кого жить, – отвечает Джозеф. – Марта была ангелом. Она видела во мне только хорошее, хотя я не мог даже в зеркало смотреться. Мне так истово хотелось стать тем мужчиной, за которого, по ее разумению, она вышла замуж, что я им стал. Если бы она знала, что я натворил…
– Она бы вас убила?
– Нет, – возражает Джозеф, – она бы себя убила. На себя мне было плевать, но я не выносил даже мысли о том, каково было бы Марте узнать, что ее касались руки, которые никогда не отмыть. – Он смотрит на меня. – Сейчас она на небесах. Я пообещал себе, что, пока она жива, останусь тем, кем она хотела меня видеть. Но теперь она умерла, и я пришел к вам. – Джозеф зажал руки между коленями. – Смею надеяться, это означает, что вы размышляете над моей просьбой.
Он говорит официально, как будто пригласил меня на танец на вечеринке. Как будто это деловое предложение.
Но я продолжаю водить его за нос.
– Вы хотя бы понимаете, какой вы эгоист? Хотите, чтобы меня арестовали? По сути, я жертвую остатком своей жизни, чтобы лишить вас вашей.
– Только не в этом случае. Никто не станет вести дознание, когда умирает старик.
– Убийство – это преступление, – говорю я, – на случай, если за последние шестьдесят восемь лет вы это запамятовали.
– Именно поэтому я и ждал такого человека, как вы. Если вы это сделаете, это будет не убийством, а состраданием. – Он встречается со мной взглядом. – Видите ли, Сейдж, до того, как вы поможете мне уйти из жизни, я хочу попросить вас еще об одном одолжении. Прошу меня сначала простить.
– Простить вас?
– За то, что я тогда сделал.
– Не у меня вы должны просить прощения.
– Не у вас, – соглашается он. – Но все те уже умерли.
Медленно вертятся колесики, и я наконец ясно вижу всю картину. Теперь я понимаю, почему со своим ошеломляющим признанием он обратился именно ко мне. Джозеф не знает о моей бабушке, однако во всем городе человека ближе к евреям, чем я, не найти. Я для него как семья жертвы преступления, за которое предусмотрена смертная казнь. Обладают ли родные правом искать справедливости? Мои прадедушка и прабабушка погибли от рук нацистов. Неужели они наделили меня правом вершить правосудие?
Я слышу голос Лео, эхом отдающийся у меня в голове. «Не знаю, как остановиться…» В своем мщении? Или в деле торжества справедливости? Между этими двумя понятиями очень тонкая грань, и, когда я пытаюсь на ней сосредоточиться, она становится все тоньше и тоньше.
Раскаяние, возможно, принесет покой убийце, но как быть с теми, кого он убил? Я могу не считать себя еврейкой, но разве у меня нет обязательств перед моими родными, которые исповедовали иудаизм, из-за чего их и убили?
Джозеф доверился мне, потому что считает меня своим другом. Но если его слова правдивы, человек, с которым я подружилась, которому доверилась, – кукла театра теней, плод воображения. Человек, который обманул тысячи людей.
От этого я чувствую себя грязной, как будто мне следовало бы лучше разбираться в людях.
В эту минуту я даю себе обещание обязательно докопаться, был ли Джозеф Вебер офицером СС. И даже если он окажется нацистом, я не убью его, как он этого хочет. Я предам его, как он предавал других. Выкачаю из него информацию и скормлю ее Лео Штейну. И Джозеф сгниет в тюремной камере.
Но ему не обязательно об этом знать.
– Я не могу вас простить, – спокойно отвечаю я, – потому что не знаю, что вы сделали. Прежде вам придется рассказать мне некоторые достоверные факты из вашего прошлого.
Черты лица Джозефа заметно расслабляются. Глаза наполняются слезами.
– Но фотография…
– Она ничего не значит. Откуда мне знать, что там вообще вы? Может, вы купили ее в Интернете.
– Понимаю. – Джозеф поднимает на меня глаза. – Первое, что вам необходимо обо мне знать, – говорит он, – это мое настоящее имя.
Если Джозефу и кажется странным, что через несколько минут я вскакиваю и прошу разрешения воспользоваться его ванной комнатой, он никак это не комментирует. Наоборот, направляет меня по коридору в небольшую уборную, в которой стены оклеены обоями в пестрых цветочках столистных роз и стоит маленькое блюдце с декоративным нераспечатанным мылом.
Я открываю воду и достаю из кармана мобильный телефон.
Лео Штейн берет трубку после первого же гудка.
– Его зовут не Джозеф Вебер, – приглушенно говорю я.
– Слушаю.
– Это я, Сейдж Зингер.
– Почему вы шепчете?
– Потому что сижу у Джозефа в ванной комнате, – отвечаю я.
– Я подумал, что, возможно, его зовут не Джозеф…
– Верно. Его имя Райнер Хартманн. В конце две «н». И дату рождения он тоже назвал. Двенадцатое апреля тысяча девятьсот восемнадцатого года.
«Как у фюрера», – сказал он.
– Следовательно, ему девяносто пять, – говорит Лео, произведя несложные подсчеты.
– Мне казалось, вы говорили, что искать их никогда не поздно.
– Не поздно. Девяносто пять – лучше, чем усопший. Но откуда вам знать, что он говорит правду?
– Я не знаю, – отвечаю я. – Но вы узнаете. Пробейте по базам данных и посмотрите, что всплывет.
– Все не так просто…
– Ничего сложного. Где ваш историк? Попросите его узнать.
– Мисс Зингер…
– Послушайте, я сижу в туалете старика! Вы же уверяли, что, зная имя и дату рождения, найти человека намного проще.
Он вздыхает.
– Посмотрим, что можно сделать.
Пока жду, я сливаю воду в туалете. Дважды. Я уверена, что Джозеф или Райнер – как он там желает, чтобы его называли! – сейчас гадает, не провалилась ли я в унитаз. Или, может, он думает, что я купаюсь в его раковине.
Минут через десять я вновь слышу голос Лео.
– Райнер Хартманн был членом нацистской партии, – говорит он.
Я чувствую странную эйфорию оттого, что имя совпало, а еще какую-то тяжесть, потому что это означает, что человек по ту сторону двери принимал участие в массовых истреблениях людей. Наконец я выдыхаю:
– Значит, я была права.
– Факт того, что его имя есть в Берлинском документационном центре, не означает, что его можно законно прижать к ногтю, – говорит Лео. – Это только начало.
– И что дальше?
– Дальше по-разному бывает, – отвечает Лео. – Что еще вы можете выяснить?
Я чувствую приставленный к горлу нож.
Слышу, как он разрезает мою кожу, как на грудь капает липкая горячая кровь. Он опять набрасывается на меня, хватает за горло. Единственное, что мне остается, – ждать, когда вонзятся его острые как бритва зубы. Я знаю, что последует дальше.
Я слышала множество историй об упырях, что восставали из мертвых и прогрызали льняной саван в поисках крови, которая придала бы им сил, потому что собственной крови у них больше не было. И эти твари ненасытны… Я слышала истории, а теперь знаю, что это правда.
Клыки не вонзались, кровь никто не пил. Он сожрал меня и понес к краю смерти, на обрыв, откуда скользнул в вечность. Значит, так выглядит ад: медленный безмолвный крик. Нет сил пошевелиться, нет голоса, чтобы произнести хоть слово. Только обострилась реакция на прикосновения, запахи и звуки, когда он разрывал мою плоть. Он стукнул меня головой о землю: один раз, второй. У меня закатились глаза, и темнота упала, как гильотина…
Меня что-то неожиданно, рывком поднимает. Я вся в поту, щеки у меня в муке, на которой я спала, ожидая, пока поднимется тесто. Но грохот продолжает стоять у меня в голове. Я хватаю себя за горло, с облегчением почувствовав, что оно целое и гладкое, и опять слышу, что кто-то стучал в дверь моего домика.
В дверях стоит мужчина с золотистыми глазами, его силуэт резко выделяется в лунном свете.
– Я мог бы печь для вас хлеб, – говорит он. Голос у него глубокий и приятный. С акцентом. Интересно, откуда он родом?
Я все еще в полудреме и не понимаю его.
– Меня зовут Александр Любов, – представляется он. – Я видел вас в деревне. Уже знаю о вашем отце. – Он смотрит поверх моего плеча на багеты, разложенные на льняной скатерти, словно солдаты в строю. – Днем я должен следить за братом. Он нездоров, если его оставить без присмотра, может навредить себе. Но и работу мне искать нужно. Я мог бы работать по ночам, когда он спит.
– А когда же вы сами будете спать? – задаю я вопрос, который, словно стрела, рассекающая туман, проносится у меня в голове.
Он улыбается, и я перестаю дышать.
– А кто говорил, что мне нужен сон?
– Я не могу вам платить…
– Довольствуюсь тем, что есть, – отвечает он.
Я думаю о том, как устала. О том, что сказал бы отец, узнав, что я пустила постороннего человека в его булочную. Вспоминаю Дамиана и Баруха Бейлера и то, чего каждому из них от меня нужно.
Говорят, что лучше иметь дело с дьяволом, которого знаешь, чем с тем, которого не знаешь вообще. Об Александре Любове я не знала ничего. С чего бы мне соглашаться на его предложение?
– А потому, – отвечает он, как будто подслушав мои мысли, – что я вам нужен.
Джозеф
Я никогда не отзовусь на второе имя. Мне хочется думать, что я никогда не был тем человеком.
Но это неправда. Внутри каждого из нас одновременно живет и чудовище, и святой. Вопрос только в том, кого мы откормим сильнее и который из двоих сожрет другого.
Чтобы понять, кем я стал, вы должны знать, откуда я родом. Мы с семьей жили в Вевельсбурге, к северо-востоку от Бюрена недалеко от Падерборна. Отец мой был машинистом, а мама хранила домашний очаг. Мои самые первые воспоминания – то, как мама с отцом ссорятся из-за денег. После Первой мировой войны инфляция вышла из-под контроля, и родительские сбережения, которые они прилежно откладывали все эти годы, в одно мгновение перестали что-либо стоить. Отец только-только получил наличными страховку за десять лет, а на вырученную сумму уже и газету нельзя было купить. Чашка кофе стоила пять тысяч марок, буханка хлеба – двести тысяч марок. Я помню, как мальчишкой бегал с мамой встречать отца в день зарплаты, а потом мы сломя голову неслись по магазинам за покупками. Очень часто в магазинах были пустые полки. Потом меня с братом, Францем, отправляли на рассвете на фермерские поля в окрестностях Вевельсбурга, и мы воровали с деревьев яблоки и выкапывали картофель.
Конечно, страдали не все. Некоторые еще раньше вложили деньги в золото. Некоторые спекулировали тканями, мясом, мылом и другими товарами. Но большинство немцев со средним уровнем дохода, такие, как моя семья, разорились. Веймарская республика – обновленное после войны государство – принесла нам настоящую беду. Родители мои все делали правильно – усердно работали, делали накопления – и что в итоге? Выборы за выборами… Казалось, никто не знает ответа.
Я рассказываю вам об этом потому, что все удивляются: «Как к власти могли прийти нацисты? Как Гитлер мог обладать такой безраздельной властью?» Знаете, что я вам отвечу? Отчаявшиеся люди часто поступают так, как никогда бы в обычной ситуации не поступили. Если вы обратитесь к доктору и тот скажет, что у вас неизлечимое заболевание, скорее всего, вы выйдете из кабинета в совершенно расстроенных чувствах. И когда вы поделитесь этой новостью с друзьями, то, возможно, кто-то из них скажет: «Знаешь, у меня был приятель, которому тоже ставили такой диагноз, а доктор Икс его вылечил». Может, доктор распоследний шарлатан или берет два миллиона за консультацию, но я готов биться об заклад, что вы тут же ему перезвоните. И не имеет значения ни то, насколько вы образованны, ни то, что все это выглядит абсурдно, ибо человек готов хвататься и за соломинку надежды.
Национал-социалистическая рабочая партия Германии и стала такой соломинкой. В Германии ничего не работало. Так почему бы не попытаться? Они обещали вернуть людям рабочие места. Аннулировать Версальский договор. Вернуть немецкие территории, утраченные во время войны. Вернуть Германии ее законное место.
Когда мне было пять лет, Гитлер попытался захватить власть – Мюнхенский пивной путч, но по ряду причин потерпел поражение. Однако неудача стала для него уроком: устраивать революцию нужно не силой, а законными методами. Во время суда над Гитлером в 1924 году каждое сказанное им слово попало в газеты – первая массированная пропаганда национал-социалистической партии.
Как видите, я ни слова не говорю о евреях. Потому что большинство из нас даже не знали, кто это такие. Из шестидесяти миллионов жителей Германии только пятьсот тысяч были евреями, но даже они называли себя немцами, а не евреями. Однако антисемитизм жил и процветал в Германии задолго до появления Гитлера. В нас разжигали антисемитизм в церквях, рассказывая, как две тысячи лет назад евреи убили нашего Господа. Совершенно очевидно, что мы не могли относиться к евреям как к добрым инвесторам, у которых, похоже, были деньги, чтобы вложить их в хиреющую экономику, в то время как больше денег ни у кого не было. А скормить нам мысль о том, что именно евреи виновны во всех проблемах Германии, было совершенно не сложно.
Любой военный скажет вам: чтобы сплотить разрозненные группы, необходимо, чтобы у них появился общий враг. Так поступил и Гитлер, когда в 1933 году пришел к власти и стал канцлером Германии. Этой идеей пронизана вся философия партии нацистов – все свои обличительные речи он направлял против тех, кто придерживался левых политических взглядов. К тому же нацисты указывали на связь между евреями и левыми, евреями и преступлением, евреями и непатриотическим поведением. Поскольку люди и так ненавидели евреев по религиозным и экономическим причинам, дать им еще один повод для ненависти труда не составило. Поэтому, когда Гитлер уверяет, что самая большая угроза для Германии заключается в посягательстве на чистоту немецкой расы, и призывает любыми силами сохранить ее избранность, у нас вновь появляется повод для гордости. А сложить два и два – и получается еврейская угроза. Евреи хотят смешаться с этническими немцами, поднять собственный статус и этим лишить Германию господства. Нам, немцам, необходим лебенсраум, жизненное пространство, чтобы стать великой нацией. Места, куда расти, не было, выбор оказался невелик: ты либо идешь на войну завоевывать территорию и уничтожать людей, представляющих угрозу для Германии, либо ты не этнический немец.
К 1935 году, когда я уже повзрослел, страна вышла из Лиги наций. Гитлер объявил, что Германия вновь собирает армию, что было запрещено после Первой мировой войны. Разумеется, если бы другие государства – Франция, Англия – вмешались и остановили его, того, что последовало дальше, могло и не случиться. Но кому хотелось так быстро снова ввязываться в войну? Проще было находить рациональные объяснения происходящему, заверять, что он забирает назад то, что раньше и так принадлежало Германии. И за короткое время в моей стране опять появились рабочие места – на заводах по производству снаряжения, оружия, самолетов. Люди зарабатывали не так много денег, как раньше, и работали намного больше, но все-таки уже могли содержать семьи. К 1939 году «жизненное пространство» Германии простиралось до реки Саар, Рейна, Австрии, до горных хребтов Судет и Чехии. И наконец, когда немцы вошли в Гданьск, Польша, Англия и Франция объявили войну.
Расскажу немного о своем детстве. Родители страстно желали, чтобы у их детей жизнь была намного лучше их собственной, – и, по их разумению, ключ к этой лучшей жизни лежал в образовании. Люди, которые научились правильно вкладывать деньги, уж точно никогда не окажутся в подобной жуткой нужде. И несмотря на то, что умом я не блистал, родители захотели, чтобы я сдал экзамены в гимназию, где давали самое лучшее образование в Германии и выпускники непременно поступали в университеты. Конечно, очутившись в гимназии, я постоянно ввязывался в драки и паясничал – готов был на что угодно, чтобы скрыть, что учеба здесь мне не по зубам. Родителей каждую неделю вызывали к директору, потому что я не справился с очередным заданием или потому что подрался с другим учеником.
К счастью, у моих родителей имелась другая звездочка, вокруг которой можно было вращаться, – мой брат Франц. На два года младше меня, Франц был прилежным учеником и всегда сидел, погруженный в книги. Он что-то карябал в своих тетрадках, которые прятал под матрас и которые я постоянно воровал, чтобы досадить ему. В них было множество непонятных мне образов: утонувшая из-за несчастной любви девушка, покачивающаяся на поверхности осеннего пруда; подгоняемый голодом олень, пробирающийся по снегу к одинокому желудю; пламя, возникшее в душе и охватившее тело, кровать и весь дом. Он мечтал изучать поэзию в Гейдельберге, и родители поддерживали его устремления.
А потом в один день все начало меняться. В гимназии устроили соревнование, чтобы посмотреть, какой класс первым на сто процентов вступит в гитлерюгенд. Хочу вам напомнить, что в 1934 году вступать в юношескую военизированную организацию «Гитлерюгенд» еще не считалось обязательным. В те годы это была общественная организация вроде американских бойскаутов, с одним отличием – мы клялись в верности Гитлеру как его будущие солдаты. Под руководством старших товарищей мы собирались после занятий, а по выходным дням ходили в поход. Мы носили форму, похожую на форму СС, на лацкане нашивка – руна, символизирующая победу. Мне к пятнадцати годам уже надоело сидеть за партой и нравилось проводить время на улице. Я начал побеждать в спортивных состязаниях. У меня была репутация задиры, но на самом деле половину кровавых драк я затевал с теми, кто называл Франца неженкой и трусом.
Я отчаянно хотел, чтобы выиграл мой класс. И не потому, что как-то по-особому был предан Гитлеру, а потому, что местным фюрером гитлерюгенда стал герр Золлемах, чья дочь Инга была самой красивой девочкой, какую мне доводилось встречать. Она была похожа на Снежную королеву своими платиновыми волосами и голубыми глазами и даже не знала о моем существовании. И я понял, что есть возможность это исправить.
Для подведения итогов соревнования учитель написал на доске имена всех учеников и стал стирать одно за другим имена тех мальчиков, которые вступили в гитлерюгенд. Одни вступили под давлением сверстников, другие – по велению отцов. Но больше десятка человек вступили в организацию потому, что я лично припугнул, что в противном случае изобью их на школьном дворе.
Мой брат отказался вступать в гитлерюгенд. В его классе не вступили только двое – он и еще один мальчик. Все понимали, почему не вступил Артур Гольдман: он просто не мог. Когда у Франца спросили, почему он поставил себя в один ряд с жидом, он ответил, что не хочет, чтобы его друг Артур чувствовал себя изгоем.
Пару недель спустя Артур перестал посещать школу и больше в ней не появлялся. Отец посоветовал Францу вступить в гитлерюгенд и завести новых друзей. Мама взяла с меня обещание присматривать за братом на собраниях.
– Франц не такой сильный, как ты, – говорила она. Она боялась, что он не выдержит поход в лес, простудится, не найдет общего языка с другими мальчиками.
Но впервые в жизни ей не приходилось волноваться обо мне. Потому что оказалось, что для гитлерюгенда я образцовый ребенок.
Мы ходили в походы, пели, занимались гимнастикой. Нас учили строиться, как солдат. Моим любимым занятием был Wehrsport – военные марши, штыковые бои, метание гранат, рытье окопов, ползание под колючей проволокой. Благодаря этим занятиям я уже чувствовал себя солдатом. Я проявлял такой энтузиазм, что герр Золлемах сказал моему отцу: однажды из меня вырастет образцовый офицер СС. Разве можно придумать более приятный комплимент?
Чтобы проверить нас на прочность, проводились Mutproben – испытания мужества. Даже те, кто боялся, были вынуждены делать то, что приказано, поскольку в противном случае клеймо труса прилипло бы к человеку, не отмоешь. Нашим первым заданием было взобраться по отвесной стене замка без страховки. Некоторые мальчики рванули вперед, но Франц замешкался, и мне пришлось задержаться с ним, как и велела матушка. Когда один из парней упал и сломал ногу, тренировки прекратили.
Через неделю в качестве проверки на прочность герр Золлемах завязал группе глаза. Сидящий рядом Франц крепко ухватился за мою руку.
– Райнер, – прошептал он. – Мне страшно.
– Просто делай то, что тебе приказывают, – сказал я ему, – и скоро все закончится.
Я пришел к тому, что стал видеть в этом новом образе мыслей замечательную сторону – как ни смешно, но больше не приходилось думать самому. В гимназии у меня не хватало ума, чтобы самому давать правильный ответ. В гитлерюгенде мне этот правильный ответ подсказывали, и пока я, как попугай повторял, меня считали гением.
Мы сидели в искусственной темноте, ожидая команды. Герр Золлемах прохаживался перед нами.
– Если фюрер прикажет сражаться за Германию, как вы поступите?
– Будем сражаться! – закричали мы хором.
– Если фюрер прикажет умереть за Германию, как вы поступите?
– Умрем!
– Чего вы боитесь?
– Ничего!
– Встать!
Мальчики постарше выстроили нас в ряд.
– Сейчас вас отведут в здание с бассейном, в котором нет воды. Вы будете повторять клятву верности Гитлеру и прыгнете с трамплина. – Герр Золлемах задумался. – Если Гитлер прикажет прыгнуть со скалы, как вы поступите?
– Прыгнем!
У нас были завязаны глаза, поэтому мы не знали, кого из пятнадцати первого подтолкнут к трамплину. И вдруг я почувствовал, как из моей руки вырывают руку Франца.
– Райнер! – крикнул он.
Наверное, в тот момент я не думал ни о чем, кроме маминой просьбы позаботиться о младшем брате. Я сорвал с глаз повязку и как сумасшедший побежал к парням, которые тащили моего брата в здание.
– Ich gelobe meinem Führer Adolf Hitler Treue, – кричал я, проносясь мимо герра Золлемаха. – Ich verspreche ihm und den Führern, die er mir bestimmt, jederzeit Achtung und gehorsam entgegen zu bringen… («Я обещаю быть верным моему фюреру, Адольфу Гитлеру. Я обещаю ему и всем тем командирам, которых он надо мной поставит, безграничное послушание и уважение…»)
И не глядя я прыгнул.
Уже кутаясь в колючее коричневое одеяло, в промокшей до нитки одежде, я признался герру Золлемаху, что просто позавидовал тому, что брат первым удостоен чести доказать свою преданность и смелость. Именно поэтому я вклинился перед ним.
В бассейне вода была. Немного, но достаточно. Я понимал, что никто не допустит того, чтобы мы прыгнули и убились. Но, поскольку всех в здание вводили по одному, всплеска мы не слышали. Однако я знал, что Франц услышит, потому что уже находился на краю бассейна. И поэтому смог бы прыгнуть.
Но герра Золлемаха не так легко было убедить.
– Твоя любовь к брату достойна восхищения, – сказал он мне. – Но фюрера ты должен любить больше.
Остаток дня я намеренно избегал Франца. Вместо этого без удержу играл в охотников и индейцев. Все разделились на отряды по цвету нарукавных повязок и охотились за соперниками, чтобы сорвать с них повязки. Часто игры перерастали в настоящие драки, подобные забавы должны были нас закалить. Вместо того чтобы защищать брата, я его просто игнорировал. Когда Франца втаптывали в грязь, я не спешил его поднимать. Слишком пристально следил за нами герр Золлемах.
Для Франца все закончилось разбитой губой, синяками на левой ноге и отвратительной царапиной на щеке. Я знал, что мама считает виноватым меня. И тем не менее, когда мы возвращались в сумерках домой, он толкнул меня плечом. Помню, что булыжная мостовая была все еще теплой от дневной жары. Всходила полная луна.
– Райнер, – просто сказал он. – Danke[21].
В следующее воскресенье мы встретились в спортзале и готовились к боксерским спаррингам. Идея заключалась в том, чтобы выбрать победителя из группы в пятнадцать человек. Герр Золлемах пригласил посмотреть Ингу с подружками, он прекрасно понимал, что мальчики в присутствии девочек будут больше хорохориться. Он объявил, что победитель получит специальную награду.
– Фюрер говорит, что физически сильные люди с твердым характером намного ценнее для völkisch[22], чем хилые интеллектуалы, – заявил герр Золлемах. – Вы физически сильные люди?
Я точно знал, что один мой орган точно здоров. Я чувствовал это каждый раз, когда смотрел на Ингу Золлемах. Губы у нее были розовые, как конфеты, и, держу пари, такие же сладкие. Она сидела на скамейке, а я наблюдал, как поднимаются и опускаются пуговицы на ее кофточке. Думал о том, как содрать всю эту одежду и коснуться кожи – белой, как молоко, нежной, как…
– Хартманн! – прорычал герр Золлемах. Мы с Францем вскочили оба. На секунду он удивился, но потом его лицо расплылось в улыбке. – А почему бы и нет? – пробормотал он. – На ринг. Оба.
Я взглянул на Франца, на его узкие плечи, мягкий живот, на надежду в его глазах, которая рассеялась, когда он осознал, чего от нас хочет герр Золлемах. Я пролез между канатами, надел шлем, перчатки. Проходя мимо брата, я прошептал:
– Ударь меня.
Инга позвонила в колокольчик, чтобы мы начинали, и убежала к подружкам. Одна из них указала на меня пальцем, и Инга подняла голову. На одно восхитительное мгновение, когда наши взгляды встретились, мир вокруг остановился.
– Бокс! – поторопил герр Золлемах.
Остальные парни улюлюкали, а я продолжал ходить вокруг Франца с поднятыми руками.
– Бей меня, – опять прошептал я.
– Не могу.
– Schwächling![23] – крикнул один из парней. – Перестань вести себя как девчонка!
Я вполсилы ударил брата правой рукой в грудь. Казалось, весь воздух вышел из его тела, когда он сложился пополам. За моей спиной раздались одобрительные возгласы.
Франк с ужасом посмотрел на меня.
– Дерись! – заорал я брату.
Я молотил воздух перчатками, отдергивая руки, чтобы они не коснулись его тела.
– Чего вы ждете? – закричал герр Золлемах.
И я с силой ударил Франца. В спину. Он упал на колено. Кто-то из девочек на скамье охнул. Францу все-таки удалось встать. Он размахнулся и нанес мне удар левой в челюсть.
Не знаю, с чего меня перемкнуло. Наверное, из-за того, что меня ударили и мне было больно. Или потому, что на нас смотрели девочки, на которых я хотел произвести впечатление. А может, из-за науськивания остальных. Я принялся избивать Франца, наносить ему удары по лицу, животу, почкам. Снова и снова, удар за ударом, пока его лицо не превратилось в кровавое месиво и, упав на пол, он не начал харкать кровью.
Один из парней постарше запрыгнул на ринг и поднял мою перчатку – чемпион-победитель. Герр Золлемах похлопал меня по спине.
– Вот это, – сказал он остальным, – воплощение отваги. Вот так выглядит будущее Германии. Heil Hitler! Sieg heil!
Я отсалютовал в ответ. Как и другие парни. За исключением моего брата.
В моей крови бурлил адреналин, я чувствовал себя непобедимым. Мне выставляли противника за противником, и все падали. После стольких лет наказаний за то, что я в школе давал выход своему нраву, меня за это хвалили. Нет, меня превозносили.
Тем вечером Инга Золлемах вручила мне награду, а через пятнадцать минут за спортзалом у меня случился первый настоящий поцелуй. На следующий день мой отец позвонил герру Золлемаху. Его очень тревожили раны, полученные Францем.
– У вас талантливый сын, – объяснил герр Золлемах, – особенный.
– Да, – ответил отец. – Франц всегда отлично учился.
– Я сейчас говорю о Райнере, – сказал герр Золлемах.
Понимал ли я, что такая жестокость – это плохо? Даже в тот первый раз, когда жертвой стал мой брат? Я тысячи раз задавал себе этот вопрос, и ответ был всегда один: конечно. Тот день стал самым трудным, потому что я мог бы сказать «нет». С каждым разом становилось все легче, потому что если бы я не делал этого снова и снова, то вспоминал бы свой первый раз, когда не мог сказать «нет». Снова и снова повторяйте одно и то же, пока это не станет казаться правильным. В итоге не останется даже чувства вины.
Я пытаюсь сказать вам одно: сегодня подобное утверждение тоже справедливо. Это может быть любой. Думаете: «Я? Нет, никогда!» Но при определенных обстоятельствах мы поступаем так, как меньше всего от себя ожидаем. Я всегда знал, что делаю. И ради кого. Я отлично это знал. Потому что в те ужасные, восхитительные мгновения я был тем, кем мечтал стать каждый.
Александр работал у меня уже неделю. Мы обменивались шутками, но чаще всего он приходил печь хлеб, когда я ложилась спать; когда просыпалась, чтобы отнести буханки на рынок, он как раз снимал свой белый фартук.
Однако иногда он ненадолго задерживался, и я выходила чуть позже. Он рассказал мне, что его брат родился с пленкой на лице, ему не хватало воздуха. Их родители умерли от чумы в словацком местечке Гуменна, и вот уже десять лет он заботится о Казимире. Он объяснил, что расстройство Казимира (так он это называл) привело к тому, что он ел то, что не следовало – камни, грязь, ветки, – поэтому за ним постоянно нужно было следить, если он не спит. Александр поведал мне о местах, где жил, о каменных замках, пронзающих небеса, о шумных городах, где ездят повозки без лошадей, как будто ими управляют привидения. По его словам, они нигде надолго не задерживались, потому что люди чувствуют себя неуютно рядом с его братом.
Александр стал печь хлеб. Мой отец всегда полагал, что такое призвание – признак удовлетворенной души. «Нельзя накормить других, если сам постоянно голоден», – говаривал он мне, и когда я рассказала об этом Александру, тот засмеялся. «Я не был знаком с твоим отцом», – признался он. Он всегда оставался в своей белой рубашке с длинными рукавами, как бы жарко ни становилось в кухне, в отличие от моего отца, который, бывало, в изматывающую жару раздевался до майки. Он двигался с такой грацией, как будто работа булочника – это танец. Я хвалила его темп, и Александр признался, что давным-давно уже работал булочником.
Еще мы говорили о звонящих по усопшим колоколах. Алекс спрашивал меня, что говорят в деревне, где обнаружили новых пострадавших. В последнее время нападения стали происходить уже в самой деревне, а не только в ее окрестностях. Одну проститутку нашли прямо у дверей салона практически с оторванной головой; останки школьного учителя, который направлялся на занятия, были обнаружены у подножия статуи основателю деревни. Поговаривали, что зверь как будто играет с нами.
– Говорят, – однажды сказала я Александру, – что это может быть и не животное.
Алекс оглянулся через плечо. Пекарскую лопату он держал в самом сердце печи.
– Ты о чем? Кто же еще мог это сделать?
Я пожала плечами.
– Какое-то чудовище.
Вместо того чтобы рассмеяться, как я ожидала, Алекс уселся рядом со мной, большим пальцем ковыряя трещинку в деревянном столе.
– Ты им веришь?
– Все чудовища, которых я встречала, были людьми, – ответила я.
Сейдж
– Держите, – протягиваю я Джозефу стакан воды.
Он пьет. После трехчасового практически непрерывного монолога голос у него охрип.
– Очень любезно с вашей стороны.
Я молчу.
Джозеф смотрит на меня поверх стакана.
– Вы начинаете мне верить, – говорит он.
Что я должна ответить? Слушая, как Джозеф рассказывает о своем детстве, о гитлерюгенде с такими подробностями, которые может знать только тот, кто это пережил, – да, я начинаю верить в то, что он говорит правду. Но мне почему-то не по себе слушать, как Джозеф, которого знает и так любит этот город, рассказывает о времени, когда он был совершенно другим человеком. Только представьте, что мать Тереза призналась бы, что в детстве сжигала на костре кошек!
– Удобно, не правда ли, списывать причины своих ужасных поступков на приказы других? – говорю я. – Вина от этого меньше не становится. Сколько бы человек ни кричали, чтобы ты прыгал с моста, всегда можно развернуться и уйти.
– Почему я не отказался? – задумчиво произносит Джозеф. – Почему не отказались многие из нас? Потому что нам так отчаянно хотелось верить в то, что говорил Гитлер. Верить, что наше будущее гораздо лучше настоящего.
– Если только у вас вообще есть это будущее, – бормочу я. – Мне известно о шести миллионах людей, у которых его не стало.
Я чувствую, как у меня при виде Джозефа, который спокойно сидит в своем кресле и пьет воду, как будто и не начинал рассказывать историю о невероятных ужасах, все внутри переворачивается. Как человек может быть таким жестоким к другим? И не душат же его слезы, не мучают кошмары, не трясет от ужаса содеянного!
– Разве вы можете желать смерти? – не сдерживаюсь я. – Вы же уверяете, что верующий человек. Вы не боитесь Страшного суда?
Погруженный в свои мысли Джозеф качает головой.
– У них был такой взгляд иногда… Они не боялись, когда другие нажимали на спусковой крючок, даже если оружие было направлено прямо на них. Казалось, они бегут прямо на дуло. Сначала я не мог этого понять. Разве можно не хотеть прожить еще хотя бы один день? Разве может человеческая жизнь быть таким дешевым товаром? А потом я стал понимать: когда живешь в аду, смерть кажется избавлением.
Неужели моя бабушка была одной из тех, кто шел на дуло пистолета? Было это проявлением слабости или храбрости?
– Я устал, – вздыхает Джозеф. – Продолжим беседу в другой раз, хорошо?
Мне хочется одного – выжать из него всю информацию, до последней капли, пока он не станет хрупким и ломким, как кость. Я хочу, чтобы Джозеф говорил, пока у него не начнет саднить горло, пока его тайнами не будет устлан пол вокруг нас. Но он уже старик, поэтому я обещаю, что заеду завтра, чтобы отвезти его на занятия нашей группы психотерапии.
По дороге домой я из машины звоню Лео и пересказываю все, что только что узнала.
– Что ж, – протягивает он, когда я замолкаю, – это уже кое-что.
– Кое-что? Да это масса информации, с которой можно работать!
– Не обязательно, – возражает Лео. – После декабря тридцать шестого года все немецкие дети – неевреи – обязаны были вступить в гитлерюгенд. Информация, которую он сообщил, совпадает с тем, что мне известно от других подозреваемых, но только на ее основании его невозможно осудить.
– Почему?
– Потому что не все члены гитлерюгенда стали офицерами СС.
– А вам что-нибудь удалось выяснить? – спрашиваю я.
Лео смеется.
– Прошло всего три часа с тех пор, как вы разговаривали со мной из туалета, – отвечает он. – К тому же даже если бы я и располагал какими-то подробностями, то не смог бы поделиться с вами, гражданским лицом.
– Он просит, чтобы я перед смертью его простила.
Лео негромко присвистывает.
– Значит, вы должны стать не только его убийцей, но и духовником?
– Похоже, что он предпочитает еврейку – даже не признающую себя таковой – священнику.
– Жуткий и изящный прием, – комментирует Лео, – просить потомков людей, которых убил, простить тебя, прежде чем ты покинешь этот бренный мир. – Он умолкает. – Знаете, заявляю вам официально: вы не можете этого сделать!
– Знаю, – отвечаю я.
И тому есть десятки причин, начиная с того, что не меня он обидел.
Но…
Но если чуть повернуть эту просьбу, посмотреть на нее чуть под другим углом – просьба Джозефа становится не пустой мольбой убийцы. А предсмертным желанием старика.
И если я его не исполню, не стану ли я такой же бессердечной, как и он сам?
– Когда вы с ним снова встречаетесь? – интересуется Лео.
– Завтра. У нас групповые сеансы психотерапии.
– Отлично, – говорит он. – Позвоните мне.
Когда я вешаю трубку, то понимаю, что проехала поворот к своему дому. И более того, я точно знаю, куда направляюсь.
Слово «бабка» происходит от слова «баба», которое по-еврейски и по-польски означает «бабушка». Не могу представить ни одного празднования Хануки, когда бы не готовилась эта сладкая выпечка. У нас существовало неписаное правило: мама покупала индейку размером с маленького ребенка, моя сестра Пеппер готовила картофельное пюре, а бабуля приносила три буханки знаменитой бабки. С детства я помню, как терла горько-сладкий шоколад, боясь, что сотру в процессе костяшки пальцев.
Сегодня я отослала Дейзи домой пораньше. Я сказала, что приехала, чтобы испечь с бабушкой хлеб, но на самом деле мне хотелось побыть с ней наедине. Бабушка смазывает маслом первую форму, пока я раскатываю тесто и смазываю края яйцом. Потом добавляю внутрь шоколадную начинку и крепко скатываю тесто. Быстро перекручиваю заготовки, пять полных оборотов, верх опять смазываю яйцом.
– Дрожжи – это чудо. Щепотка дрожжей, немного воды – и смотри, что происходит.
– Это не чудо, а химия, – отвечаю я. – Настоящее чудо – это когда человек впервые увидел плесневые грибы и подумал: «Что ж, посмотрим, что из этого можно приготовить».
Бабушка протягивает форму, чтобы я положила туда тесто и посыпала его крошкой.
– Мой папа, – говорит она, – когда-то передавал маме с помощью сладкой бабки послания.
Я улыбаюсь.
– Серьезно?
– Да. Если начинка была яблочной, это означало, что день в булочной был удачным, много посетителей. Если миндальной – «я мучительно по тебе скучаю».
– А если шоколадной?
Бабуля смеется.
– Что он просит прощения, если хоть чем-то ее обидел. Не стоит говорить, что шоколадных бабок мы съели без счету.
Я вытираю руки кухонной тряпкой.
– Бабуля, а каким он был? – спрашиваю я. – Что делал, когда работал? Придумывал для тебя какие-то прозвища? Водил в незабываемые места?
Она поджимает губы.
– Ну вот, опять о прошлом.
– Я знаю, что он умер во время войны, – негромко продолжаю я. – Но как?
Она усердно смазывает форму для второй бабки и наконец отвечает:
– Когда я возвращалась домой из школы, меня ждала булочка. Папа называл ее «минкуша» и пек каждый день только одну. У нее была самая вкусная корочка, а начинка из шоколада и корицы такая теплая, что таяла во рту. Папа мог бы сотнями продавать такие булочки, но нет, он говорил, что печет одну-единственную – для меня.
– Его ведь убили нацисты, да? – мягко спрашиваю я.
Бабушка отворачивается.
– Папа рассказывал, как хочет умереть. «Минка, – говорил он, когда мама читала мне историю о Белоснежке, – запомни: я не хочу качаться в хрустальном гробу, чтобы все на меня таращились». Или: «Минка, запомни: вместо цветов я хочу, чтобы устроили фейерверк. Минка, сделай так, чтобы я умер не летом. Слишком много мух, как ты считаешь? Будут надоедать присутствующим на похоронах». Для меня это было игрой, шуткой, потому что я была уверена, что папа никогда не умрет. Мы все знали, что он несокрушим. – Она берет одну из своих палок, которая висит на разделочном столе, подходит к обеденному столу и тяжело опускается на стул. – Отец рассказал мне, как хочет умереть, но в итоге я не смогла исполнить ни одного его желания.
Я опускаюсь на пол и кладу голову ей на колени. Ее маленькая, похожая на птичку рука ложится мне на макушку.
– Ты так долго держала это все в себе, – шепчу я. – Может быть, лучше излить душу?
Она касается изуродованной части моего лица.
– Разве? – спрашивает она.
Я отстраняюсь.
– Это совсем другое. Я не могу делать вид, что ничего не произошло, как бы сильно ни пыталась. Все написано у меня на лице.
– Вот именно, – произносит бабушка и закатывает рукав свитера, под которым на предплечье выбит номер. – Однажды, когда я была моложе, я заговорила об этом со своим врачом, и он попросил меня прийти на занятие к его жене – она преподавала историю в университете. Все шло гладко. Я пересилила страх и смогла рассказать об этом. А потом она спросила, есть ли вопросы… Встал один мальчик. Честно говоря, я подумала, что это девочка – слишком длинные волосы, по плечи. Он встал и заявил: «Никакого холокоста не было!» Я не знала, что говорить, что делать. Внутри у меня все кипело: «Как ты смеешь заявлять такое, если я это пережила? Как ты смеешь вот так, походя, стирать мою жизнь?» Я была так возмущена, что ничего перед собой не видела. Пробормотала какое-то извинение, спустилась с кафедры и вышла из аудитории, зажав рот рукой. Мне казалось, что я не сдержусь, закричу прямо там. Добежала до машины и сидела внутри, пока не поняла, что должна была ответить. История говорит, что во время войны исчезли шесть миллионов евреев. Если это не холокост, то куда же они подевались? – Она качает головой. – Мир ничему не научился. Оглянись. По сей день существуют этнические чистки. Дискриминация. Такая молодежь, как тот глупый мальчик на уроке истории. Я была уверена, что выжила для того, чтобы не допустить повторения подобного, но, знаешь, наверное, я ошибалась. Потому что, Сейдж, это происходит. Постоянно. Каждый день.
– Только потому, что в группе нашелся один неонацист, нельзя утверждать, что твоя история не важна, – говорю я. – Расскажи ее мне.
Бабушка долго, пристально смотрит на меня, потом молча встает, опираясь на палку, и выходит из кухни. Направляется через коридор в кабинет на первом этаже, который она превратила в спальню, чтобы не приходилось карабкаться по лестнице. Я слышу, как она возится в комнате, роется в ящиках.
Потом встаю, ставлю бабки в духовку. Они уже подошли.
Я застаю бабушку сидящей в спальне на кровати. В комнате витает ее запах – пудры и роз. В руках у нее небольшой блокнот в кожаном, уже потрескавшемся переплете.
– Я была писательницей, – говорит она. – Девочкой, которая верила в сказки. Не в те глупые диснеевские сказки, которые тебе читала мама, а в те, где есть кровь и шипы, где девушки знают, что любовь может убивать так же часто, как и делать человека свободным. Я верила в проклятия ведьм, в безумство оборотней. Но еще я по ошибке верила в то, что самые страшные истории существуют только в нашем воображении, а не в реальной жизни. – Она гладит обложку рукой. – Я начала писать в тринадцать лет. Я писала, когда другие девочки мастерили себе прически и пытались флиртовать с мальчиками. Я придумывала героев и диалоги. Я писала главу и давала прочесть своей лучше подруге, Даре, чтобы узнать ее мнение. У нас был план: я стану известной писательницей, а она – моим редактором; мы переедем в Лондон и будем пить терновый джин. Да, тогда мы даже не знали, что такое терновый джин. Я писала, когда началась война. И не прекращала писать. – Она протягивает мне блокнот. – Конечно, это не оригинал. Оригинала у меня больше нет. Но я, как только смогла, записала все по памяти. Я обязана была это сделать.
Я открываю блокнот. Внутри страница испещрена маленькими, плотно написанными словами, без всяких пробелов, как будто пробел – настоящая роскошь. Наверное, так тогда это и было.
– Вот моя история, – продолжает бабушка. – Это не то, что ты хочешь услышать, не о том, что случилось на войне. Но сухое, простое изложение событий даже близко не может сравниться с этим! – Она встречается со мной взглядом. – Потому что только благодаря этой истории я сумела выжить.
Моя бабушка могла бы соперничать с самим Стивеном Кингом.
История ее была о сверхъестественном, об упырях – так в Польше называли вампиров. Но больше всего пугало не само чудовище, от которого знаешь чего ожидать, а простые люди, которые тоже оказывались чудовищами. Складывается впечатление, что бабушка уже тогда, в детстве, знала, что невозможно четко разделить добро и зло, что эти два понятия неразрывно связаны друг с другом, как сиамские близнецы, у которых бьется одно сердце на двоих. Если бы слова можно было попробовать на вкус, ее слова горчили бы, как миндаль и кофейная гуща. Временами, читая историю, я забываю, что ее написала моя бабушка, – такая она интересная.
Я прочла блокнот от корки до корки, потом перечитала историю еще раз, стараясь не упустить ни словечка. Я пытаюсь вобрать в себя историю целиком, так, чтобы проиграть ее в своем воображении слог за слогом, – как, должно быть, поступала моя бабушка. Я ловлю себя на том, что цитирую абзац за абзацем, когда принимаю душ, мою посуду, выношу мусор.
История, написанная бабушкой, – какая-то загадка, но не в том смысле, что она предполагала. Я пытаюсь разделить главных героев и их диалоги, чтобы увидеть основу, которой послужили, скорее всего, события из реальной жизни. Все писатели начинают со слоя правды, разве нет? В противном случае их истории казались бы комком сахарной ваты – ускользающий вкус, обернутый вокруг воздуха.
Я читаю об Ане, от лица которой ведется повествование, о ее отце и слышу бабушкин голос. Представляю лицо своего прадедушки. Когда она описывает лачугу в окрестностях Лодзи, городскую площадь, по которой ездят запряженные лошадьми повозки, лес, где гуляла Аня, а под ногами у нее чавкала болотная жижа, – я чувствую запах горящего торфа и вкус пепла на нижней части буханки. Слышу топот детских ног по булыжной мостовой, когда малыши бегают друг за другом, – задолго до того, как кто-то или что-то будет за ними по-настоящему охотиться.
Я так поглощена историей, что опоздала к Джозефу, чтобы подвезти его на занятия.
– Вы хорошо спали? – спрашивает он, и я уверяю, что хорошо.
Он садится в машину, а я размышляю о параллелях в бабушкиной истории: чудовище охотится за жителями деревни и убивает Аниного отца – и офицеры СС, которые без всякого предупреждения ворвались в жизнь бабушки и уничтожили ее семью. Детство моей бабушки – те крошечные булочки, которые специально для нее пек отец, длинные ленивые вечера, когда они с подружкой мечтали о будущем, даже стены ее квартиры – разворачивается параллельно с историей Джозефа о гитлерюгенде. Тем не менее они медленно, но неумолимо сближаются, и я точно знаю, что судьбой им суждено пересечься.
И из-за этого я ненавижу Джозефа.
Я прикусываю язык, потому что Джозеф не знает, что у меня вообще есть бабушка, не говоря уже о том, что она пережила геноцид, в котором он принимал непосредственное участие. Я не знаю точно, почему хочу утаить от него эту информацию. Возможно, чтобы он не слишком-то радовался, что оказался на шаг ближе к тому, чтобы найти нужного человека, который мог бы его простить. Может быть, потому, что считаю, что он не заслуживает это знать.
Может быть, потому, что мне претит одна мысль о том, что моя бабушка и такие, как Джозеф, продолжают сосуществовать в одном мире.
– Сегодня вы необычно молчаливы, – говорит Джозеф.
– Задумалась.
– Обо мне?
– Не льстите себе, – обрываю я.
Поскольку я опоздала к Джозефу, на занятия мы прибываем последними. К нам тут же подходит Стюарт, выискивая глазами неизменную сумку с булочками, но сегодня сумки у меня нет. Я слишком занята была чтением, и времени на выпечку не осталось.
– Мне очень стыдно, – извиняюсь я, – но я пришла с пустыми руками.
– О Стюарте такого не скажешь! – бормочет Джоселин, и я понимаю, что он опять принес посмертную маску своей жены.
«Минка, запомни, – думаю я, вспоминая своего прадеда. – Когда я умру, никаких посмертных масок, ладно?»
Мардж звонит в маленький колокольчик, отчего мне кажется, что мы находимся на занятии йогой, а не на сеансах групповой психотерапии.
– Начнем? – спрашивает она.
Я не знаю, что в смерти такого, что ее трудно пережить. Наверное, одностороннее общение, осознание того, что мы никогда не сможем спросить у своих родных, не страдали ли они, счастливы ли там, где находятся сейчас… если вообще они где-то есть. Мы не можем смириться со знаком вопроса, который идет вместе со смертью. Вместо точки.
Неожиданно я понимаю, что вижу пустой стул. Нет Этель. Я понимаю это еще до того, как Мардж сообщает нам, что муж Этель, Берни, умер.
– Это случилось в понедельник, – говорит миссис Домбровская. – Мне позвонила старшая дочь Этель. Берни сейчас в лучшем мире.
Я оглядываюсь на Джозефа, который невозмутимо теребит нитку на брюках.
– Как вы думаете, она вернется сюда? – спрашивает Шайла. – Этель?
– Надеюсь, – отвечает Мардж. – Мне кажется, что если кто-то из вас захочет выразить ей соболезнования, она будет рада.
– Я хочу послать ей цветы, – говорит Стюарт. – Берни, должно быть, был очень хорошим человеком, если о нем так долго заботилась такая женщина.
– Мы этого не знаем, – медленно произношу я, и все удивленно поворачиваются ко мне. – Никто из нас не был с ним знаком. Может, он каждый день ее избивал, откуда нам знать?
– Сейдж! – ахает Шайла.
– Не хочу говорить плохо о мертвых, – тут же добавляю я, втягивая голову в плечи. – Мне Берни представляется отличным малым, который по выходным ходил в боулинг и загружал в посудомоечную машину грязную посуду после трапезы, которую готовила Этель. Но неужели вы думаете, что только хорошие люди уходят от таких, как мы, оставляя нас одних? Даже у маньяка и каннибала Джеффри Дамера была мать.
– А это интересная точка зрения, – говорит Мардж. – Мы скорбим потому, что люди, которых мы потеряли, были лучиком солнца? Или из-за того, кем они были для нас?
– Наверное, и то и другое, – отвечает Стюарт, проводя рукой по линиям посмертной маски своей жены, как будто слеп и изучает черты ее лица.
– Значит, я не должна испытывать сожаления, когда умирает ужасный человек? – уточняю я.
Я чувствую, как взгляд Джозефа сверлит мне висок.
– Мир уж точно становится лучше, когда некоторые покидают его, – протягивает Джоселин. – Бен Ладен. Чарли Мэнсон[24].
– Гитлер, – невинно добавляю я.
– Да, я как-то читала о женщине, которая работала его личным секретарем и представила его обычным начальником, таким, как все остальные. Уверяла, что он любил посплетничать с секретаршей о ее женихах, – говорит Шелла.
– Если они не испытывали жалости, убивая людей, почему люди должны сожалеть об их смерти? – удивляется Стюарт.
– Значит, вы считаете, что нацистами остаются навсегда? – уточняю я.
Рядом со мной кашляет Джозеф.
– Надеюсь, в аду есть специально отведенное место для таких людей, – поджимает губы Шайла.
Мардж объявляет пятиминутный перерыв. Пока она негромко беседует с Шайлой и Стюартом, Джозеф трогает меня за плечо.
– Я могу поговорить с вами с глазу на глаз?
Я следую за ним в коридор и жду, скрестив руки.
– Как вы смеете? – шипит он, приближаясь ко мне настолько, что я вынуждена попятиться. – Я рассказал вам по секрету… Если бы я хотел, чтобы весь мир узнал, кто я, то уже давно сдался бы властям.
– Значит, вы хотите, чтобы вам отпустили грехи, а вы не понесли никакого наказания? – говорю я.
Его глаза сверкают. Из-за расширившегося зрачка синевы практически не видно.
– Вы больше не будете обсуждать это публично! – произносит он так громко, что люди в соседней комнате поворачиваются в нашу сторону.
Злость накрывает меня, словно темная волна. Шрам горит, я чувствую себя школьницей, которую учитель поймал на том, что она передает шпаргалку, но делаю над собой усилие и смотрю ему в глаза. Я стою неподвижно, между нами только дыхание – пустое затишье.
– Больше никогда не разговаривайте со мной в подобном тоне! – заявляю я. – Я не одна из ваших жертв.
Разворачиваюсь на каблуках и ухожу. Лишь на секунду, когда Джозеф снял свою посмертную маску, я увидела человека, которого он на много десятилетий похоронил под благообразным видом, – так корень, медленно разрастаясь под тротуаром, все еще способен пробить цемент.
Я не могу уйти с занятия раньше, не привлекая к себе внимания. А поскольку именно я привезла Джозефа на сеанс, придется везти его домой, иначе у Мардж возникнут лишние вопросы. Но я с ним не разговариваю, даже когда мы прощаемся с остальными и направляемся к стоянке.
– Виноват, простите, – извиняется Джозеф через пять минут после начала нашей поездки домой.
Мы стоим на красном сигнале светофора.
– Да уж. Веское замечание.
Он продолжает смотреть в окно.
– Извините за то, что наговорил вам. Во время перерыва.
Я молчу. Не хочу, чтобы он думал, что его простили. И не важно, что он мне сказал, – я не могу просто высадить его у тротуара и уехать навсегда. Я в долгу перед бабушкой. К тому же я пообещала Лео, что «не соскочу». Как ни крути, но то, что Джозеф так на меня рявкнул, лишь придало мне решимости собрать больше улик и отдать его под суд. Вне всяких сомнений, он – человек, который в какой-то период своей жизни делал то, что хотел, без всякого страха расплаты. В каком-то смысле он поступает точно так же, когда просит меня его убить.
По-моему, как раз настало время заплатить по счетам.
– Вероятно, это из-за нервов, – продолжает Джозеф.
– А с чего бы вам нервничать? – интересуюсь я, чувствуя, как покалывает кожу на моей голове. Неужели он умеет читать мысли? Неужели он знает, что я собираюсь водить его за нос, а потом выдать полиции?
– Что вы выслушаете все, что я должен вам рассказать, а потом не сделаете того, о чем я вас попросил.
Я поворачиваюсь к нему.
– Со мной или без меня, Джозеф, вы все равно умрете.
Он выдерживает мой взгляд.
– Вы знаете историю Вечного жида?
От слова «жид» я вздрагиваю, как будто это слово даже мимоходом не должно слетать с его губ. Я качаю головой.
– Это древняя легенда. Один еврей, Ахашверош, глумился над Иисусом, который нес свой крест. Когда этот еврей велел Иисусу двигаться быстрее, Иисус проклял его на вечные скитания по земле до второго пришествия. Сотни лет то тут, то там встречали Ахашвероша, который так и не смог умереть, как ни пытался.
– Вы хотя бы понимаете величайшую иронию судьбы в том, что сравниваете себя с евреем?! – спрашиваю я.
Он пожимает плечами.
– Говорите о них, что хотите, но евреи процветают, несмотря… – он смотрит мне в лицо, – ни на что. Я должен был умереть уже несколько раз. У меня был рак, я попадал в аварии. Я единственный старик, которого увезли в больницу с воспалением легких и он выжил. Вы вольны думать, что хотите, Сейдж, но я знаю причину, по которой до сих пор жив. Как и Ахашверош, в каждой своей жизни я снова и снова прохожу через свои ошибки.
Свет переключился на зеленый, сзади сигналили машины, но я не спешила давить на газ. Джозеф, казалось, тоже ушел в себя, погрузился в собственные мысли.
– Герр Золлемах из гитлерюгенда всегда говорил, что евреи как сорняки. Вырвешь один, на его месте вырастают еще два…
Я вдавливаю педаль газа, нас рывком бросает вперед. Мне противно, что Джозеф оказался именно тем, кем, по его собственному признанию, и являлся. Я противна сама себе из-за того, что изначально ему не поверила, что по глупости решила, что этот человек – добрый самаритянин, как и все остальные, живущие в этом городке.
– …но я раньше думал, – негромко признается Джозеф, – что некоторые сорняки так же красивы, как и цветы.
У меня за спиной что-то было. Я улавливала это шестым чувством, по спине пробегал холодок. Десяток раз с тех пор, как ступила в лес, я оборачивалась, но видела только стоящие, словно на часах, голые деревья.
Тем не менее сердце учащенно билось. Я пошла чуть быстрее, вцепившись в корзинку для хлеба и гадая, достаточно ли близко я подошла к дому. Услышит ли Алекс, если я закричу?
И тут я услышала это. Хруст ветки, хруст снежного пласта…
Можно было побежать.
Но если бы я побежала, то, что было у меня за спиной, стало бы меня преследовать.
Я ускорила шаг. Из уголков глаз полились слезы, но я их сморгнула и шмыгнула за довольно большое дерево, чтобы укрыться. Я чувствовала свое дыхание, когда считала приближающиеся шаги.
На полянку вышел олень, изогнул шею, взглянул на меня и принялся обгрызать кору со стоящей неподалеку березки.
От облегчения ноги стали ватными. Я, продолжая дрожать, оперлась о ствол дерева. Вот что бывает, когда позволяешь пустой болтовне жителей деревушки проникнуть, словно яд, в твои мысли! Шарахаешься от несуществующих теней, слышишь мышиный писк, а мерещится львиный рык. Качая головой от собственной глупости, я вышла из-за дерева и зашагала к дому.
На меня напали сзади. Накрыли голову чем-то горячим и влажным, вроде ткани или мешка, – и я сразу перестала видеть. Мои руки прижимали к земле, что-то давило на спину, мешая встать. Лицом меня ткнули в землю. Я пыталась закричать, но нападавший лишь сильнее вжал мою голову, и рот тут же наполнился снегом. Я чувствовала и жар, и лезвия, и клыки, и зубы… зубы, которые впились мне в шею и кололи, как тысячи иголок, жалили, как пчелиный рой.
Я услышала стук копыт, почувствовала холодный воздух на затылке и поняла, что на меня уже ничего не давит, а боль исчезла. Словно огромная крылатая птица, что-то опустилось сверху и окликнуло меня по имени. Это последнее, что я помню, потому что, открыв глаза, я поняла, что лежу на руках у Дамиана, а он несет меня домой.
Распахнулась дверь, на пороге стоял Алекс.
– Что случилось? – спросил он. Его глаза искали мои.
– На нее напали, – ответил Дамиан. – Ей нужен врач.
– Ей нужен я, – заверил Алекс и взял меня из рук Дамиана.
Я закричала, когда один вырывал меня, а второй не хотел отдавать. Потом Алекс пинком закрыл дверь.
Он отнес меня в спальню и уложил. Я заметила кровь на его рубашке, голова закружилась.
– Тихо, тихо… – шептал он, поворачивая мою голову, чтобы осмотреть рану.
Мне показалось, что он чуть сознание не потерял.
– Все настолько плохо?
– Нет, – ответил Алекс, но я знала, что он врет. – Просто не выношу вида крови.
Он оставил меня на пару минут и вернулся с миской теплой воды, тряпкой и бутылкой виски, которую поднес к моим губам.
– Пей! – велел он.
Я попыталась глотнуть, но только закашлялась.
– Еще, – сказал он.
Когда пожар из горла переместился в желудок, он принялся обмывать мне шею, а потом плеснул на открытую рану из бутылки. Я едва из кожи не выскочила.
– Потерпи, – попросил он. – Так надо.
Я не понимала, что Алекс собирается делать, пока не увидела, как он вдевает нитку в иголку. Когда он проткнул мне шею, я потеряла сознание.
Я пришла в себя ближе к вечеру. Алекс сидел на стуле у моей кровати, молитвенно сложив руки. Когда я пошевелилась, на его лице отразилось видимое облегчение.
На мое плечо легла его теплая рука. Он погладил меня по щеке, по волосам.
– Если ты хотела привлечь мое внимание, – прошептал он, – нужно было просто сказать.
Джозеф
В детстве брат просил завести собаку. У наших соседей был ретривер, и брат часами играл у них во дворе, пытаясь научить его переворачиваться, сидеть и даже разговаривать. Но отца раздражали любые домашние животные, поэтому я знал: как бы сильно Франц ни упрашивал, отец никогда не исполнит его желание.
Как-то ночью, осенью – мне тогда было лет десять, и мы спали с Францем в одной комнате – я услышал свист, проснулся и обнаружил сидящего на кровати Франца, а между ног у него на одеяле лежал маленький кусочек сыра. Его грызла крошечная мышь-полевка. И я увидел, как брат гладит ее по спинке.
Могу уверенно заявить, что мама не из тех хозяек, что разводит в доме грызунов и вредителей. Она постоянно скребет пол, вытирает пыль и все такое. На следующий день я обнаружил, что мама меняет на постелях белье, хотя день был не прачечный.
– Эти мерзкие, грязные мыши – как только холодает, они стараются залезть в дом. Я обнаружила мышиный помет, – с содроганием призналась она. – Завтра, когда будешь идти из школы, купи пару мышеловок.
Я подумал о Франце.
– Ты собираешься их убить?
Мама удивленно взглянула на меня.
– А как еще поступать с паразитами?
Тем же вечером, когда мы ложились спать, Франц принес очередной кусочек сыра, который стащил в кухне, и положил рядом с собой на кровать.
– Я назову его Эрнст, – сказал он.
– Откуда ты знаешь, что это не Эрма?
Но Франц не ответил и скоро уже крепко спал.
Мне не спалось. Я чутко прислушивался и наконец уловил, как крошечные коготки царапают деревянный пол, а после увидел, как в лунном свете на одеяло карабкается мышонок, чтобы полакомиться оставленным Францем сыром. Однако до сыра мышонок не добежал – я схватил его и резко швырнул о стену.
От шума Франц проснулся и, когда увидел на полу своего мертвого любимца, тут же расплакался.
Я уверен, что мышь ничего не почувствовала. В конце концов, это всего лишь мышь. К тому же мама совершенно однозначно объяснила, как нужно поступать с такими созданиями.
Я сделал всего лишь то, что сделала бы мама.
Я только выполнил приказ.
Не знаю, смогу ли объяснить, каково это – внезапно почувствовать себя «золотым ребенком». Если честно, родители мало что могли сказать о Гитлере и политике Германии, но они невероятно гордились, когда герр Золлемах ставил меня в пример остальным мальчикам нашего небольшого отряда. Они больше не жаловались на мою успеваемость, потому что каждые выходные я возвращался домой с лентами победителя и похвалой от герра Золлемаха.
Положа руку на сердце, я не знаю, верили ли мои родители в философию нацистов. Отец не мог бы сражаться за Германию, даже если бы и захотел – после перенесенной в детстве неудачной операции у него осталась хромота. Если у родителей и были свои сомнения относительно гитлеровской версии великой Германии, они отдавали должное его оптимизму и надеялись, что наша страна сможет вернуть себе былое величие. Тем не менее, поскольку я был любимцем герра Золлемаха, их статус в обществе не мог не повыситься. Они были настоящими немцами, которые воспитали такого сына, как я. Ни один злопыхатель не мог «обсасывать» тот факт, что мой отец не присоединился к движению, ведь у него был такой звездный представитель местного гитлерюгенда, как я.
Каждую пятницу я ужинал у герра Золлемаха, приносил цветы его дочери. А однажды летним вечером, когда мне было шестнадцать, я потерял с ней невинность на старом шерстяном одеяле, расстеленном прямо на кукурузном поле. Герр Золлемах называл меня «сынок», как будто я уже стал членом его семьи. И вскоре после моего семнадцатилетия он рекомендовал меня в HJ-Streifendienst – особое патрульное формирование внутри гитлерюгенда. В нашу задачу входило обеспечение порядка на митингах, выявление предателей, доносы на всех, кто плохо отзывался о Гитлере, – даже если это были, как в некоторых случаях, собственные родители. Я слышал о мальчике, Вальтере Гессе, который лично сдал отца в гестапо.
Чудно́, что нацисты не приветствовали религию, однако я могу провести очень близкую аналогию, как нам с детства внушали идеи. Официальная религия Третьего рейха выражалась в попытках служить Германии – разве можно обещать равную преданность и фюреру, и Богу? Вместо празднования Рождества, например, мы отмечали день зимнего солнцестояния. Как ни крути, но ни один ребенок себе религию не выбирает, и лишь воля случая – в одеяло каких верований тебя завернут. С младенчества, когда человек еще не может думать самостоятельно, его крестят, водят в церковь, где он слушает мерное бормотание священника, который учит, что Иисус умер за наши грехи, а поскольку родители кивают и говорят, что это правда, разве можно им не верить? Герр Золлемах и остальные, кто нас учил, давали нам очень похожие наставления. Нам говорили: «Что плохо – зло. Что полезно – добро». Все предельно просто. И когда учителя вешают на доску карикатуру на еврея, указывая на черты, присущие низшим расам, мы верим им. Они же старше нас, им же наверняка виднее! Какому ребенку не хочется, чтобы его страна стала лучшей? Самой большой? Самой сильной в мире?
Однажды герр Золлемах повел Kameradschaft – Боевое сообщество – в особый поход. Вместо того чтобы выйти из города, как мы чаще всего поступали, герр Золлемах повел нас по короткой дороге, ведущей к замку Вевельсбург, который сам Генрих Гиммлер избрал официальным штабом СС.
Разумеется, нам всем был знаком этот замок, мы выросли в нем. Возвышающийся на скале над аллеей Альме, он представлял собой три башни с треугольным внутренним двором и являлся частью местной истории. Но никто из нас не бывал внутри, с тех пор как СС начали реконструкцию. Теперь уже во внутреннем дворике в футбол не поиграешь, теперь тут жила элита.
– Кто мне скажет, почему этот замок имеет такое значение? – спросил герр Золлемах, когда мы устало тащились наверх.
Первым ответил мой брат-грамотей:
– Замок имеет историческое значение, поскольку является образчиком ранней немецкой истории – Германн-херуск[25] одержал победу над римлянами в девятом году нашей эры.
Остальные мальчики заржали. В отличие от гимназии, в гитлерюгенде энциклопедические знания Франца никого не интересовали.
– Но чем этот замок важен для нас? – уточнил герр Золлемах.
Мальчик по имени Лукас, который, как и я, был членом HJ-Streifendeinst, поднял руку.
– Сейчас замок принадлежит рейхсфюреру СС, – сказал он.
Рейхсфюрер СС Гиммлер, которому подчинялись СС, вся немецкая полиция и концлагеря, посетил замок в 1933 году и в тот же день взял его в аренду на сто лет, планируя отреставрировать его для СС. В 1938 году в северной башне все еще проводилась реконструкция – мы заметили это еще на подходе.
– Гиммлер говорит, что Зал обергруппенфюреров после окончательной победы станет центром мира, – заявил герр Золлемах. – Он углубил ров и пытается отреставрировать внутреннее убранство. Ходят слухи, что сегодня он приедет сюда, чтобы проверить, как ведутся работы. Вы слышите, парни? Сам рейхсфюрер СС, прямо здесь, в Вевельсбурге!
Не знаю, как герру Золлемаху удалось добиться разрешения на вход в замок, поскольку он строго охранялся и даже лидеры Боевого сообщества местного разлива не имели привычки вращаться в высших эшелонах национал-социалистической партии. Но когда мы подошли, герр Золлемах отдал салют, и стражи отсалютовали ему в ответ.
– Вернер, – обратился к одному из них герр Золлемах, – какой волнующий день, верно?
– Вы вовремя, – ответил солдат. – Как Мария? А девочки?
Мне следовало бы знать, что герр Золлемах никогда не полагается на случай.
Брат потянул меня за рукав, чтобы привлечь внимание к стоящему посреди двора человеку, который обращался к группе офицеров:
– Кровь говорит! Законы арийской избранности благоволят тем, кто сильнее, умнее, добродетельнее, чем его менее совершенные соплеменники. Преданность. Послушание. Правда. Долг. Братство. Вот краеугольные камни древнего рыцарского сословия и будущих СС[26].
Если честно, я не понимал, о чем он говорит, но по почтению, которое демонстрировали окружающие, решил, что это, должно быть, и есть сам Гиммлер. Однако этот худощавый, сердитый человек больше походил на служащего банка, чем на начальника немецкой полиции.
И тут я осознал, что он тычет в меня пальцем.
– Вот ты, парень! – Он поманил меня к себе.
Я шагнул вперед и отсалютовал, как нас учили на собраниях.
– Ты отсюда родом?
– Так точно, рейхсфюрер, – ответил я. – Я член патрульной службы гитлерюгенда.
– Так скажи мне, парень, почему страна, которая стремится к чистоте расы и к будущему в новом мире, избрала этот ветхий замок в качестве своего тренировочного центра?
Вопрос с подвохом. Очевидно, что настолько важный человек, как Гиммлер, не случайно избрал такое место, как Вевельсбург. Во рту у меня пересохло.
Стоящий рядом со мной брат закашлялся. «Хартманн», – прошептал он.
Я не понял, что он пытался мне сказать, когда шептал эту фамилию. Возможно, хотел, чтобы я представился. Чтобы Гиммлер точно знал, что за идиот стоит перед ним.
И тут я понял, что брат шептал вовсе не «Хартманн». Он говорил «Германн».
– Потому что это не ветхий замок.
Гиммлер медленно улыбнулся.
– Продолжай.
– Именно здесь Германн-херуск сражался с римлянами и одержал победу. И хотя остальные народы стали частью Священной Римской империи, немецкое своеобразие осталось нетронутым. Как случится и с нами, когда мы опять выиграем войну.
Гиммлер прищурился.
– Как тебя зовут, парень?
– Командир боевого сообщества Хартманн, – ответил я.
Он прошел через толпу и положил руку мне на плечо.
– Воин, ученый, лидер – все в одном. Вот это будущее Германии! – Когда толпа с приветственными возгласами расступилась, он подтолкнул меня вперед. – Пойдешь со мной, – велел он.
Он повел меня вниз по ступеням в die Gruft (подвал). В подвале замка, где все еще велась реконструкция, находилось круглое помещение. Посредине в пол была вмонтирована газовая труба. По периметру комнаты располагалось двенадцать ниш, в каждой свой пьедестал.
– Здесь все заканчивается, – сказал Гиммлер. Голос в этом маленьком помещении звучал глухо. – Прах к праху, земля к земле.
– Рейхсфюрер!
– Здесь и я буду после окончательной победы. Здесь найдут приют все двенадцать главных генералов СС. – Он повернулся ко мне. – Возможно, пришло время такому умному молодому человеку, как ты, стремиться к подобным высотам.
В этот момент я решил вступить в партию.
* * *
В той же мере, в какой герр Золлемах гордился тем, что я стал одним из СС-штурмманнов[27], мама моя была раздавлена. Она тревожилась обо мне, когда угроза войны обострилась. Но в равной степени она боялась за моего брата, который в свои восемнадцать лет продолжал жить, с головой погрузившись в книги, и которого я больше не смогу защищать.
Они с отцом устроили небольшие проводы накануне моей отправки с одним из отрядов подразделения «Мертвая голова» в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Пришли соседи и друзья. Один из соседей, герр Шеффт, который работал в местной газете, сфотографировал, как я задуваю свечи на шоколадном торте, испеченном мамой, – вот этот снимок, мама позже переслала мне его по почте, и я до сих пор его храню. Я часто смотрю на эту фотографию. Видите, какой я на ней счастливый? Не только потому, что уже занес вилку над тарелкой в предвкушении чего-то очень вкусного. И не только потому, что я пил пиво, как настоящий мужчина, а не мальчишка. А потому, что для меня все еще было впереди. Это последний снимок, где в моем взгляде не сквозит понимание и осмысление происходящего.
Один из приятелей отца начал напевать: «Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch!» («Долгих лет ему жизни, долгих лет ему жизни, три раза ура!») Неожиданно распахнулась дверь и, дрожа от возбуждения, вбежал младший братишка моего друга Лукаса.
– Герр Золлемах говорит, что мы должны немедленно явиться, – сказал он. – И форму не надевать.
Вот это было любопытно: мы всегда с большой гордостью носили свою форму. И мама не очень-то хотела отпускать нас среди ночи. Но все члены гитлерюгенда, включая Франца и меня, последовали приказу. Мы побежали в местный клуб, где проводили свои собрания, и увидели одетого так же, как и мы, в гражданское герра Золлемаха. Перед клубом стоял грузовик, похожий на те, на которых ездят военные, с откинутым задним бортом и скамейками в кузове, чтобы было где сесть. Мы загрузились в кузов, и по обрывкам информации, полученной от других парней, я узнал, что немецкого дипломата по имени фон Рат убил какой-то польский еврей, и сам фюрер заявил, что не сможет удержать немецкий народ от спонтанных актов возмездия. Когда грузовик подъезжал к Падерборну, всего в нескольких километрах от Вевельсбурга, улицы были заполнены вооруженными кувалдами и топорами людьми.
– Здесь живет Артур, – прошептал мне Франц, имея в виду своего бывшего школьного приятеля.
Это меня ничуть не удивило. Последний раз я был в Падерборне год назад, когда отец ездил покупать подарок маме на Рождество – пару модных кожаных сапожек, сшитых сапожником-евреем.
Нам приказали:
1. Не портить имущество немцев-неевреев, не угрожать их жизни.
2. Не разграблять еврейские дома и магазины, а только ломать.
3. Иностранцы – даже если они евреи – не должны подвергаться насилию.
Герр Золлемах вложил мне в руку тяжелую лопату.
– Вперед, Райнер, – сказал он, – накажи этих свиней по заслугам!
Темноту ночи разрезало пламя факелов. Воздух был наполнен криками и дымом. Словно непрекращающийся дождь, слышался звон бьющегося стекла, и осколки хрустели у нас под сапогами, когда мы бежали по городу, вопя изо всех сил и разбивая витрины магазинов. Мы вели себя дико и разнузданно, страх вместе с по́том высыхал на нашей коже. Даже Франц, который, насколько я видел, не разбил ни одной витрины, бежал раскрасневшийся, со слипшимися от пота волосами – затянутый в водоворот безумия толпы.
Было непривычно получить приказ что-то разрушать. Мы были послушными немецкими мальчиками, которые хорошо себя вели, которых мамы ругали за разбитую лампу или чашку. Мы росли в крайней бедности и потому понимали ценность чужих вещей. И все же этот мир, наполненный огнем и неразберихой, стал последним доказательством того, что мы попали, как Алиса, в Зазеркалье. Все перевернулось с ног на голову, все изменилось. И доказательство тому – сверкающие осколки у нас под ногами.
Наконец мы добежали до дома, куда я заходил с отцом, – до крошечной сапожной мастерской. Я подпрыгнул, ухватился за вывеску, рванул ее, и она осталась болтаться на одной цепи. Я ударил острием лопаты в витрину, просунул ее через торчащие острые стекла, вытащил обувь – десяток пар сапог, туфель-лодочек, мокасин – и швырнул их в лужу. Члены штурмовых отрядов стучали в дома, вытаскивали хозяев прямо в пижамах и ночных сорочках на улицу и гнали в центр города. Они сбивались небольшими группками, закрывая собой детей. Одного отца заставили раздеться до белья и танцевать перед солдатами.
– Kann ich jetzt gehen? – молил мужчина, вращаясь как заведенный. («Теперь я могу идти?»)
Не знаю, что на меня нашло, но я подошел к семье этого мужчины. Его жена, наверное, заметив мою гладкую, небритую кожу и юное лицо, вцепилась в мой сапог.
– Bitte, die sollen aufhören! – взмолилась она. («Пожалуйста, заставьте их остановиться!»)
Она рыдала, цеплялась за мои брюки, хватала за руку. Я не хотел, чтобы на меня попали ее слезы, сопли и слюни. Ее горячее дыхание и пустые слова упали мне в ладонь.
И я поступил так, как велел инстинкт. Оттолкнул ее ногой.
Как говорил в тот день рейхсфюрер СС: «Голос крови». Я не хотел бить эту еврейку. Я о ней вообще, если честно, не думал. Я защищал себя.
И в ту же секунду я понял, зачем вся эта ночь. Дело не в жестокости, не в погромах, не в прилюдном унижении. Эти меры стали своеобразным посланием евреям, чтобы они поняли, что не имеют на нас, этнических немцев, никакого влияния – ни экономического, ни общественного, ни политического – даже после совершенного убийства.
Только на рассвете наша колонна двинулась назад в Вевельсбург. Юноши дремали друг у друга на плече, их одежда блестела от стеклянной пыли. Герр Золлемах храпел. Не спали только мы с Францем.
– Ты видел его? – спросил я.
– Артура?
Франц отрицательно покачал головой, и его белокурые волосы упали на один глаз.
– Может быть, он уже уехал. Я слышал, многие уехали из страны.
Франц взглянул на герра Золлемаха.
– Я ненавижу этого человека.
– Тс-с… – предостерег я. – Мне кажется, он слышит даже порами.
– Жопой он слышит.
– И ею наверняка тоже.
Брат едва заметно усмехнулся.
– Нервничаешь? – спросил он. – Перед отъездом?
Я нервничал, но ни за что бы в этом не признался. Негоже офицеру бояться.
– Все будет отлично, – заверил я, надеясь, что смогу и себя убедить в этом. Я ткнул его локтем в бок. – А ты смотри не влезь куда-нибудь, пока меня не будет.
– Не забывай, откуда ты родом, – ответил Франц.
Иногда он любил так говорить: как будто он умудренный жизнью старик в теле восемнадцатилетнего подростка.
– Ты на что намекаешь?
Франц пожал плечами.
– Что ты не обязан верить всему, что говорят. Может быть, это все неправда. Ты не должен всему верить.
– Дело в том, Франц, что я искренне верю. – Если я смогу объяснить ему свои чувства, может, он перестанет быть белой вороной на собраниях гитлерюгенда, когда меня не будет рядом. И чем меньше он будет выделяться, тем меньше его будут дразнить. – Сегодня ночью задача была не в том, чтобы наказать евреев. Евреи – это сопутствующие потери. Суть в том, чтобы мы оставались в безопасности. Мы, немцы.
– Сила не в том, чтобы совершить что-то ужасное с тем, кто слабее тебя, Райнер. Сила в том, чтобы, имея возможность совершить что-то ужасное, иметь мужество этого не делать. – Он повернулся ко мне. – Помнишь мышонка, который жил в нашей спальне много лет назад?
– И что?
Франц встретился со мной взглядом.
– Помнишь. Того, которого ты убил, – сказал он. – Я прощаю тебя.
– Я не просил у тебя прощения! – заявил я.
Брат пожал плечами.
– Но это не значит, что ты не хотел бы его получить.
Первому убитому мною человеку я выстрелил в спину.
Я больше не работал в концентрационном лагере. В августе 1939 года наши подразделения «Мертвая голова» отозвали из Заксенхаузена и послали с немецкими войсками. Было 20 сентября. Я помню это точно, потому что это день рождения Франца, а у меня не было ни времени, ни возможности написать и поздравить брата. Семь дней назад мы вошли в Польшу вслед за основными войсками. Путь наш лежал из Острово через Калиш, Турек, Жуки, Кросневице, Клодава, Пшедбуш, Влоцлавек, Дембрице, Быдгощ, Выжиск, Зарникау и наконец Ходзеж. Мы обязаны были подавлять любое оказанное нам сопротивление.
Однажды мы занимались тем, для чего нас, собственно, сюда и отправили: обыскивали дома, сгоняли в одно место бунтовщиков, брали под арест всех подозрительных: евреев, поляков, активистов. Еще один солдат, Урбрехт – парень с похожим на квашню лицом и слабым желудком – сопровождал меня в этом местечке. Стояла мерзкая, дождливая погода. И у меня сел голос от крика на этих тупых поляков, которые не понимали немецкого: приходилось постоянно орать, чтобы они вставали и присоединялись к остальным. Семья состояла из матери, девочки лет десяти и мальчика-подростка. Мы искали отца семейства, который являлся лидером местной еврейской общины. Но в доме больше никого не было – так после расспросов заявил Урбрехт. Я орал женщине в лицо, допытывался, где спрятался ее муж, но она молчала. А потом вдруг упала на колени и зарыдала, указывая в сторону дома. У меня чудовищно разболелась голова.
Сын все никак не мог ее успокоить. Я ткнул ее в спину ружьем, чтобы они вставали, но женщина продолжала сидеть на коленях в грязной луже. Когда Урбрехт рывком поднял женщину, мальчик побежал к дому.
Я понятия не имел, зачем он это сделал. Откуда мне было знать, может быть, Урбрехт не заметил оружия. И я поступил так, как меня учили: выстрелил.
Вот мальчик бежит – и в следующую секунду уже нет. Звук выстрела оглушил. Сперва я вообще ничего не слышал. А потом слух вернулся.
Крики были негромкими и цеплялись друг за друга, как вагоны поездов. Я перешагнул через сломанное тельце мальчика и вошел в кухню. Не понимаю, как этот идиот Урбрехт не заметил лежащего в корзине для белья ребенка, который теперь проснулся и орал во все горло.
Говорите что хотите о бесчеловечности отрядов «Мертвая голова» во время вторжения в Польшу, но я отдал женщине ребенка и только потом погнал ее к остальным.
Начинали мы с синагог.
Наш командир, штандартенфюрер Ностиц, объяснил нам суть «еврейской акции», которую мы должны были проводить во Влоцлавеке. Действия наши были во многом похожи на то, чем мы занимались с герром Золлемахом в Падерборне почти год назад, но в большем масштабе. Мы сгоняли еврейских лидеров, заставляли их мыть туалеты талитами[28] и рыть канавы между лужами воды. Некоторые солдаты избивали стариков, которые шли недостаточно быстро, или кололи их штыками, а другие это фотографировали. Мы заставляли религиозных лидеров сбривать бороды, швырять священные книги в грязь. У нас был динамит, мы взрывали синагоги и поджигали их. Били витрины еврейских магазинов и загоняли толпы евреев в камеры. Лидеров еврейской общины выстраивали в шеренгу прямо на улице и расстреливали. Происходящее напоминало хаос: воздух рассекал дождь из стекла; лопались трубы, и вода заливала улицы; лошади вставали на дыбы, переворачивая телеги; булыжная мостовая от крови становилась красной. Поляки, гражданское население, приветствовало нас криками. Им евреи на их земле надоели так же, как и нам, немцам.
После двух дней «акции» штандартенфюрер приказал сформировать две штурмовые бригады из батальона для выполнения особого задания. Полиция и служба безопасности составили список, куда были внесены имена представителей интеллигенции и лидеров сопротивления в Познани и Померании. Мы должны были найти и уничтожить этих людей.
Быть избранным почиталось за честь. Но я начал понимать истинные масштабы этой операции, только приехав в Быдгощ. «Список смертников» не уместился на одном листе бумаги. В нем было восемьсот человек. Целый том.
Откровенно говоря, найти их оказалось легко. В списке значились польские учителя, священники, лидеры националистических организаций. Некоторые были евреями, многие – нет. Всех согнали вместе. Отделили небольшую группу, чтобы рыли канаву, – они считали, что копают противотанковую траншею. Но потом к канаве подвели первую группу арестованных, и мы должны были их расстрелять. Эту обязанность возложили всего на шестерых из нас. Трое должны были целиться в голову, трое – в сердце. Прозвучали выстрелы, фонтаном брызнули кровь и мозги. К краю канавы шагнула следующая группа…
Стоявшие в конце очереди видели, что происходит, и, должно быть, поняли, что, поворачиваясь к нам, солдатам, они смотрят в лицо смерти. Тем не менее большинство даже не пытались спастись, не пытались избежать своей участи. Свидетельствовало это о неимоверной глупости или о беспрецедентной храбрости, не знаю.
Один подросток смотрел прямо на меня, когда я вскидывал ружье к плечу. Поднял руку, ткнул в себя пальцем и на безупречном немецком произнес: «Neunzehn». («Девятнадцать».)
После первых пятидесяти я перестал смотреть им в лицо.
* * *
После того как в Польше я продемонстрировал стойкость духа, меня послали в гитлерюгенд-СС в Бад-Тольце – школу подготовки офицеров. Перед отправкой в школу мне предоставили трехнедельный отпуск, и я поехал домой.
Прошел всего год, а я стал совершенно другим человеком. Когда уезжал – был еще ребенком, теперь же я превратился во взрослого мужчину. Я вырывал вопящего ребенка из рук матери. Убивал своих сверстников, мальчишек и девчонок, и даже детей значительно младше. Я привык брать то, что хочу и когда хочу. Пребывание в родительском доме раздражало, я чувствовал себя здесь неуютно.
Мой брат, напротив, считал наш маленький домик в Вевельсбурге подарком небес. Он был лучшим учеником своего класса в гимназии и собирался поступать в университет. Хотел стать писателем, а если не получится, то профессором. Казалось, он не понимал элементарных вещей: Германия начала войну, все изменилось. Все наши детские мечты остались в прошлом, принесены в жертву великому будущему страны.
Франц получил повестку, в которой ему предписывалось явиться в военкомат, и швырнул ее в огонь. Как будто таким образом он мог оградить себя от того, что СС его найдет и заставит туда пойти!
– Им такие, как я, не нужны, – сказал он за обедом.
– Нужны все годные к военной службе мужчины, – ответил я.
Мама боялась, что Франца примут за политического противника режима Третьего рейха, а не просто воздержавшегося. Я не мог ее винить. Я знал, что происходит с политическими противниками рейха. Они исчезали.
В первый же день после возвращения домой я проснулся и увидел, как в окна струится солнечный свет, а на краю моей узкой кровати сидит мама. Франц уже ушел в гимназию. Я проспал почти до обеда.
Я натянул одеяло до подбородка.
– Что-то случилось?
Мама склонила голову.
– Когда ты только родился, я постоянно наблюдала, как ты спишь, – сказала она. – Твой отец считал, что я сошла с ума. Но я верила: если отвернусь, ты можешь забыть сделать очередной вдох.
– Я уже не ребенок, – напомнил я.
– Да, – согласилась мама, – не ребенок. Но это не значит, что я перестала за тебя волноваться. – Она прикусила губу. – Тебя там не обижают?
Разве я мог рассказать маме о том, чем занимался? Как я выбивал двери в еврейские дома, забирал радиоприемники, ценные вещи – все, что могло пригодиться на войне… Как избил старика раввина за то, что он молился после наступления комендантского часа… Разве я мог рассказать о мужчинах, женщинах и детях, которых мы сгоняли посреди ночи и расстреливали?
Как было объяснить ей, что я напивался до беспамятства, чтобы меня не преследовали образы тех, кого я убил днем? Или рассказать, что в перерыве между расстрелами я садился на край ямы, свесив ноги, и чувствовал, как болит от отдачи плечо? Как я выкуривал сигарету, дулом автомата указывая, куда поставить следующую партию заключенных, чтобы они падали туда, куда нужно. Потом я стрелял. И меткость не имела значения, хотя нас учили не тратить зря патроны. Две пули в голову – слишком много. Ударной волной голову едва не отрывало от тела.
– А вдруг тебя в Польше ранят? – спросила она.
– Меня могли ранить и в Германии, – напомнил я. – Мама, я очень осторожен.
Мама коснулась моей руки.
– Не хочу, чтобы пролилась кровь Хартманнов.
По ее лицу я сразу понял, что она думала о Франце.
– С ним все будет хорошо, – заверил я маму. – Существуют специальные отряды, которые возглавляют люди с докторской степенью. В СС найдется место и для ученых.
Лицо мамы просветлело.
– Может быть, ты расскажешь об этом брату?
Она ушла, пообещав приготовить обед, достойный короля, поскольку завтрак я уже проспал. Я принял душ и переоделся в гражданское, прекрасно осознавая, что теперь даже по осанке во мне угадывался солдат.
Когда я покончил с едой, которую приготовила мама, в доме царила тишина. Отец был на работе, мама – на собрании волонтеров в церкви, у Франца до двух занятия. Я мог бы прогуляться по городу, но мне не хотелось выходить на люди. Поэтому я вернулся в спальню, которую мы делили с братом.
На его письменном столе стояла деревяшка – грубо вырезанный небольшой оборотень. Рядом с промокательной бумагой стояли еще две фигуры различной степени готовности. И еще вампир со скрещенными руками и запрокинутой головой. В мое отсутствие братишка стал искусным мастером.
Я держал вампира, большим пальцем пробуя остроту его зубов, когда услышал голос Франца:
– Что ты делаешь?
Я обернулся.
– Ничего.
– Это мое! – возмутился он, вырывая фигурки у меня из рук.
– С каких пор ты занялся резьбой по дереву?
– С тех пор, как решил сделать себе шахматы, – ответил Франц.
Он отвернулся и принялся что-то искать на книжных полках. Как некоторые люди собирают марки и монеты, Франц коллекционировал книги. Они наводнили полки, письменный стол и стопками лежали у него под кроватью. Он никогда не отдавал книги в церковь, на благотворительную распродажу, потому что, по его словам, не знал, не захочет ли еще раз перечитать их. Я наблюдал за тем, как он достает стопку книг ужасов из узкой щели между стеной и письменным столом. «Крымский волк». «Жажда крови». «Охота»…
– Кто читает такую ерунду? – удивился я.
– А тебе какое дело? – Франц высыпал содержимое портфеля на кровать и вместо учебников положил книги. – Вернусь попозже. Нужно выгулять Отто, собаку Мюллеров.
Я совершенно не удивился, что Франц взялся за такую странную работу; удивило меня другое – что собака Мюллеров до сих пор жива.
– Собираешься ему почитать?
Франц промолчал. Я пожал плечами и устроился на узком матрасе с одной из его книжек. Я трижды прочел одно и то же предложение, когда услышал щелчок входной двери, подошел к окну и увидел, как брат переходит улицу.
Он прошел мимо дома Мюллеров.
Я спустился вниз, выскользнул на улицу и, используя знания, полученные на занятиях по тактической подготовке, несколько минут незамеченным шел за Францем к дому, который был мне незнаком. Я понятия не имел, кто его хозяин, но было ясно, что в доме никто не живет. Ставни были закрыты, сам дом находился в плачевном состоянии. Однако, когда Франц постучал, его немедленно впустили.
Я ждал минут пятнадцать, прячась за живой изгородью. Когда мой брат снова появился, портфель его был пуст.
Я вышел из-за кустарника.
– Ты что здесь забыл, Франц?
Он прошел мимо меня.
– Носил книги другу. Насколько мне известно, это не преступление.
– Тогда почему ты соврал, что выгуливаешь собаку?
Брат не ответил, но на его щеках вспыхнули два ярко-красных пятна.
– Кто там живет, что ты не хочешь, чтобы знали о твоих визитах? – Я удивленно приподнял бровь и усмехнулся, решив, что братишка в мое отсутствие стал дамским угодником. – Это девушка? Неужели тебя наконец-то стало волновать что-то еще, кроме рифмованного метра? – Я шутливо схватил Франца за плечо, но он отпрянул.
– Прекрати!
– Ах, бедняжка! Если бы ты поговорил со мной, я бы посоветовал тебе принести ей конфеты, а не книги…
– Это не девушка! – выпалил Франц. – Это Артур Гольдман. Он здесь живет.
Я не сразу понял, что он говорит о мальчике-еврее, своем однокласснике из гимназии.
Большинство евреев уехали из нашего города. Не знаю, куда они направились – в большие города, может быть, в Берлин… Если честно, меня их судьба совершенно не волновала. Однако, похоже, она волновала моего брата.
– О господи! И поэтому ты не хочешь идти в СС? Потому что любишь евреев?
– Не будь идиотом…
– Это не я идиот, Франц! – возразил я. – Не я вожу дружбу с врагами рейха!
– Он мой друг. Он не ходит в школу, поэтому я ношу ему книги. Вот и все.
– У тебя брат, который вот-вот станет офицером СС, – негромко произнес я. – Перестань водиться с жидами!
– Нет, – ответил брат.
Нет.
Нет!
Я уже и не помнил, когда мне кто-нибудь отказывал.
Я схватил его за горло.
– И как, по-твоему, это будет выглядеть, когда о вашей дружбе узнает гестапо? После всего, что я сделал, чтобы защитить тебя, ты готов разрушить мою карьеру! – Я ослабил хватку, и Франц, согнувшись, закашлялся. – Брат, будь мужчиной! Хоть однажды за свою никчемную жизнь будь, черт побери, мужчиной!
Он отпрянул от меня.
– Райнер, в кого ты превратился!
Я нащупал в кармане сигарету, прикурил, затянулся.
– Возможно, я погорячился, – признал я, смягчившись. – Но я должен тебя предупредить… – Я выпустил колечко дыма. – Скажи Артуру, что больше не можешь к нему приходить. Или я сделаю так, что тебе некого будет навещать.
Спокойное лицо брата дрогнуло. Он смотрел на меня с выражением, которое я настолько часто видел за минувший год, что у меня выработался к нему иммунитет.
– Пожалуйста, – взмолился Франц, – ты этого не сделаешь!
– Если ты действительно хочешь спасти своего друга, держись от него подальше, – посоветовал я.
Через две ночи я проснулся оттого, что брат сжал мою шею.
– Ты обманул, – прошипел он. – Ты обещал ничего не делать Артуру!
– И ты солгал, – ответил я. – Иначе откуда бы ты знал, что они уехали?
Было несложно посеять семена нетерпимости, дать семье понять, что они здесь нежеланные жители. Я, если честно, не заставлял их уезжать из города. Они руководствовались только инстинктом, чувством самосохранения. Я поступил так, потому что знал: там, где я силен, мой брат слабак, и он будет продолжать навещать Артура. Вот и доказательство того, что я поступил правильно. Сегодня это книги, завтра будет еда. Деньги. Убежище. Этого я допустить не мог.
– Я сделал тебе одолжение, – стиснув зубы, произнес я.
Брат ослабил хватку. В неярком свете луны я рассмотрел на его лице выражение, которого не видел прежде. Глаза у него были черные и пустые, зубы яростно стиснуты. Создавалось впечатление, что в эту секунду он готов меня убить.
Я понял, что мама может не волноваться. Даже если Франца силой приведут в военкомат, даже если он так и не поступит в университет и его, как и меня, отправят на курсы офицеров; даже если он будет сражаться на передовой – он сможет выжить в этой войне.
Больше мы об Артуре Гольдмане не заговаривали.
За месяцы, проведенные в гитлерюгенде, я изучил книгу «Майн кампф» – «Моя борьба», участвовал в военных стратегических играх, сдавал бесконечные экзамены, на основании которых исключался каждый третий курсант нашей программы. У нас были занятия по тактике, ориентированию на местности и по карте, строевая и политическая подготовка, стрелковая подготовка. Мы изучали технические достижения в области вооружения, ходили на стрельбища, зубрили иерархию СС и полиции. Нас учили управлять танком, выживать в дикой природе, чинить сломанный автомобиль… Из нас воспитали солдат, обладающих знаниями, решимостью и выносливостью выше среднего. В 1940 году я окончил школу в звании младшего лейтенанта СС, унтерштурмфюрера. Меня командировали в центральное представительство в Польше, и я служил там до 24 апреля 1941 года, когда была сформирована первая пехотная бригада СС.
Мы являлись специальным подразделением СС, подчиненным непосредственно личному штабу рейхсфюрера СС, и нас использовали для расстрелов мирного населения. Будучи унтерштурмфюрером, я руководил одной из пятнадцати операций, которые проводил 8-й пехотный полк СС, подчиненный вермахту. Мы продвигались по северной Украине, от Дубно к Ровно и Житомиру. Делали мы все то же самое, что и в Польше несколько лет назад, с одним исключением – еврейских лидеров и политических противников оставалось все меньше.
Мой начальник, гаумпштурмфюрер Фолькель, отдавал приказы сгонять всех политически неугодных, всех этнически неполноценных – цыган, например, и евреев – мужчин, женщин, детей. Мы должны были забирать все ценные вещи и одежду, выводить их в поле или к рвам в окрестностях завоеванных деревень и городов и уничтожать.
Reinigungsaktionen (акции по зачистке) происходили следующим образом: мы приказывали евреям явиться в определенное место – в школу, тюрьму или на завод – и отводили их туда, где все было подготовлено заранее. Некоторые из этих мест были естественными рвами, другие – вырыты самими заключенными. После того как они отдавали одежду и ценности, мы отводили их к яме. Будучи командиром подразделения, я отдавал приказ, а добровольцы и унтер-офицеры, солдаты СС, поднимали карабины и стреляли арестованным в затылок. Перед тем как подвести к яме очередную группу, трупы сбрасывали вниз.
Я ходил между тел, находил тех, кто еще шевелился, и делал контрольный выстрел.
Я не задумывался над тем, что делаю. Да и как я мог думать? Человек раздет донага, ему кричат, чтобы он быстрее бежал к яме, а рядом бегут его дети. Он смотрит вниз, видит родных и друзей, которые умерли за минуту до него, и ждет своего часа. Потом чувствует, как в затылок вонзается пуля, как на него валится тело незнакомого человека… Думать – значит допускать, что мы убиваем людей, а для нас это были не люди. Иначе что бы они сказали о нас?
Поэтому после каждой такой акции мы напивались до беспамятства, а потом нам снились кошмары: после того как все тела оказывались в яме, оттуда начинал бить кровавый гейзер… Мы напивались, чтобы не чувствовать зловония, исходившего от трупов. Мы пили до тех пор, пока перед мысленным взором не переставал появляться, словно вытатуированный в памяти, ребенок, который выбрался из-под завала сплетенных тел и, окровавленный, бегал вокруг ямы, плакал и звал родителей, пока я не положил конец нашим страданиям и не пристрелил его…
Некоторые сходили с ума, и я боялся, что меня может постигнуть та же участь. Среди нас был лейтенант, чей боец однажды ночью вышел из лагеря и застрелился. На следующий день этот лейтенант отказался – просто взял и отказался! – стрелять в арестованных. Фолькель отправил его на передовую.
В июле Фолькель сообщил нам, что будет проводиться операция на дороге между Ровно и Житомиром. Туда согнали восемьсот евреев.
Несмотря на то что я подробно объяснил солдатам, как себя вести и куда стрелять, когда к краю ямы подвели третью группу людей – голых, дрожащих, рыдающих, – один из моих солдат, Шульц, «поплыл». Он отбросил винтовку и опустился на землю.
Я приказал ему встать и взять оружие.
– Чего вы ждете? – рявкнул я на солдат и выстрелил первым. Показал пример. Так же я поступил со следующими тремя группами и только стискивал зубы, когда на мою форму брызгали кровь и мозги.
Шульца убрали с первой линии. СС не нужны на переднем фланге люди, которые не могут выстрелить.
Тем же вечером мои солдаты отправились кутить в местную пивнушку, а я остался сидеть на улице, вслушиваясь в восхитительную тишину. Ни свиста пуль, ни криков, ни плача… У меня была бутылка виски, которую я успел за два часа высосать почти полностью. В пивную я не совался, пока мои солдаты оттуда не ушли, пошатываясь и опираясь друг на друга. Я полагал, что в пивнушке уже никого нет, но там кутили еще человек шесть офицеров, а в углу перед одним из столиков стоял Фолькель. Перед ним сидела Анника Бельзер, которая сопровождала гауптштурмфюрера везде. Исполнительная секретарша была намного моложе самого Фолькеля и его оставшейся дома жены. А еще она ужасно печатала. Все в 8-м пехотном полку знали, для чего ее наняли и почему гауптштурмфюреру необходима была эта секретарша, даже когда полк перебрасывали. У Анники были волосы невероятного платинового оттенка, она сильно красилась и в данный момент плакала. На моих глазах Фолькель засунул ей в рот дуло своего пистолета.
Остальные присутствующие в пивной не обращали на них внимания, по крайней мере делали вид, что не обращают, – никому не хотелось связываться с командиром полка.
– Тогда, может, – сказал Фолькель, взводя курок, – заставишь пистолет «встать»?
– Что вы делаете? – крикнул я.
Фолькель оглянулся через плечо.
– А-а, Хартманн… Думаешь, если у тебя есть подчиненные, то ты можешь указывать и мне?
– Пистолет не «встанет»… И вы ее застрелите?
Он повернулся ко мне, губы дрогнули в улыбке.
– Не тебе же одному веселиться…
Тут совсем другое дело: то евреи, а эта девушка – немка.
– Если нажмете на спусковой крючок, – негромко произнес я, хотя сердце колотилось настолько сильно, что я чувствовал, как подрагивает тяжелый шерстяной мундир, – об этом узнает оберштурмбанфюрер.
– Если об этом станет известно оберштурмбанфюреру, – ответил Фолькель, – я буду знать, кто меня сдал, верно?
Он вытащил пистолет у Анники изо рта и наотмашь ударил ее по лицу. Она упала на колени, с трудом встала и убежала. Фолькель подошел к группе офицеров СС и начал с ними пить.
Внезапно у меня разболелась голова. Мне не хотелось оставаться там, вообще не хотелось быть в Украине. Мне было всего двадцать три года. Мне хотелось сидеть в кухне у мамы, за столом, есть ее суп с ветчиной. Хотелось смотреть, как по улицам ходят красивые девушки на высоких каблуках. Хотелось целоваться с одной из них на мощеной аллее за лавкой мясника.
Мне хотелось быть юношей, у которого впереди вся жизнь, а не солдатом, который каждый божий день сталкивается со смертью и каждую ночь отчищает форму от кишок.
Я, пошатываясь, вышел из пивной и краем глаза заметил какую-то вспышку света. Это была секретарша, ее волосы блеснули в свете уличного фонаря.
– Мой рыцарь в сияющих доспехах… – произнесла она, вытаскивая сигарету.
Я помог ей прикурить.
– Он обидел тебя?
– Не больше, чем обычно, – пожала она плечами.
Как по мановению волшебной палочки, двери пивнушки распахнулись, и вышел Фолькель. Он ухватил ее за подбородок и поцеловал в губы.
– Идем, моя дорогая, – сказал он чарующим голосом. – Ты же не станешь сердиться на меня всю ночь, верно?
– Никогда, – ответила она. – Только дай я докурю.
Он взглянул на меня и снова исчез в пивнушке.
– Он неплохой человек, – сказала Анника.
– Тогда почему ты позволяешь ему так с собой обращаться?
Анника посмотрела мне прямо в глаза.
– Тебя я могу спросить о том же, – ответила она.
На следующий день казалось, что никакой ссоры и не было. Когда мы приехали в Звягель, то в наших акциях стали использовать пулеметы вместо винтовок. Солдаты сгоняли бесконечные потоки евреев во рвы. На этот раз их было так много, две тысячи! Чтобы расстрелять всех, понадобилось целых два дня.
Не было смысла пересыпать песком ряды тел, и подразделения сгоняли евреев прямо на их расстрелянных родных и близких – некоторые все еще продолжали корчиться в предсмертной агонии. Я слышал, как они шептали друг другу успокаивающие слова за секунду до того, как сами умирали.
В одной из последних групп оказалась мать с ребенком. В этом не было ничего необычного – я повидал тысячи таких семей. Но эта мать… Она баюкала маленькую девочку и говорила, чтобы та не смотрела, не открывала глазки. Она положила малышку между двумя телами, как будто укладывала на ночь. А потом запела.
Слов я не понимал, но узнал мелодию. Эту же колыбельную в детстве пела нам с братом мама, только на другом языке. Малышка тоже подпевала.
– Nite farhaltn… – пела еврейка. («Не останавливайся…»)
Я отдал приказ, и застрекотал пулемет, вздрогнула земля под ногами. Но когда огонь прекратился и у меня в ушах перестало звенеть, я услышал, что девочка продолжает петь.
Она была вся липкая от крови, и голос ее больше напоминал шепот, но мелодия поднималась, как мыльные пузыри. Я прошелся по яме и прицелился в нее. Она лежала, уткнувшись лицом в мамино плечо, но когда почувствовала, что я навис над ней, подняла голову.
Я выстрелил в тело ее мертвой матери.
Потом раздался еще один выстрел, и песня стихла.
Рядом со мной Фолькель прятал в кобуру пистолет.
– Целься лучше! – велел он.
Я провел в Первом пехотном полку СС три месяца, и меня постоянно преследовали кошмары. Я садился завтракать и видел в противоположном конце комнаты призраки расстрелянных. Смотрел на свою выстиранную, безупречно чистую форму и замечал места, куда попала кровь. По вечерам я напивался до беспамятства, потому что опаснее всего были эти несколько часов перед сном.
И даже после того, как в Звягеле был расстрелян последний еврей и Фолькель похвалил нас за отлично проделанную работу, я продолжал слышать пение той девочки. Она была погребена под бесчисленными телами своих односельчан, но ветер играл ветвями деревьев, как на скрипке, и я снова и снова слышал ее колыбельную. Ее голос засел в моих ушах, словно шум океана.
В тот вечер я начал пить рано и пропустил ужин. Пивная плыла перед глазами, и, казалось, с каждой выпитой стопкой я все больше врастал в стул, на котором сидел. Я даже подумал, не вздремнуть ли прямо здесь, на липком столе, который никогда начисто не вытирался.
Не знаю, сколько времени прошло, когда появилась она, Анника. Открыв глаза, я понял, что сижу, прижавшись щекой к деревянному столу, а она устроилась сбоку и смотрит на меня.
– Ты в порядке? – спросил она.
Я поднял голову, которая казалась чугунной, и перед глазами все поплыло.
– Похоже, тебе самому домой не добраться, – сказала Анника.
Потом помогла мне встать, хотя я никуда не хотел идти. Она говорила без умолку и потащила меня из бара туда, где я останусь один на один со своими воспоминаниями. Я принялся вырываться, что было совсем нетрудно, поскольку я был намного выше и сильнее ее.
Анника сжалась, ожидая удара. Подумала, что я такой же, как Фолькель.
От одного этого у меня в голове прояснилось.
– Я не хочу домой, – признался я.
Не помню, как мы добрались до ее квартиры. Там были ступеньки, но я был не в состоянии их преодолеть. Понятия не имею, кто меня раздел. Понятия не имею, что потом произошло, – о чем, скажу вам откровенно, очень-очень жалею.
С абсолютной ясностью помню одно: как проснулся от холодного поцелуя пистолета в лоб. Надо мной навис Фолькель.
– У меня для тебя сюрприз, – сказал Алекс, когда я вошла в кухню. – Садись.
Я уселась на стул, глядя, как напряглись мышцы на его спине, когда он открывал заслонку кирпичной печи и что-то оттуда доставал.
– Закрой глаза, – попросил он. – Не подглядывай.
– Если это новый рецепт, я все же надеюсь, что ты испек наш обычный заказ…
– Ладно, – перебил меня Алекс, находясь так близко, что я чувствовала тепло его тела. – Теперь можно смотреть.
Я открыла глаза. Алекс стоял с раскрытой ладонью. На ней лежала булочка, в точности похожая на те, что раньше пек для меня отец. От одного этого хотелось расплакаться.
Я уже чувствовала запах корицы и шоколада.
– Откуда ты узнал? – спросила я.
– В тот вечер, когда я зашивал тебе шею, ты напилась и много болтала. – Он улыбнулся. – Пообещай, что съешь все до крошки.
Я разломила булочку. Пар, словно тайна, окутал нас. Мякоть была немного розоватой, теплой, похожей на плоть.
– Обещаю, – сказала я и откусила.
Сейдж
Разве можно винить креациониста[29], который не верит в эволюцию, если его всю жизнь пичкали сомнительной теорией, что Бог создал человека, а он заглотнул не только крючок, но и леску с грузилом?
Скорее всего, нет.
Разве можно винить нациста, который был рожден в антисемитской стране и получил антисемитское воспитание, а потом вырос и убил пять тысяч евреев?
Да. Да, можно.
Я продолжаю сидеть в кухне у Джозефа по той же причине, которая заставляет водителей сбросить скорость при виде аварии на дороге, – хочется увидеть ущерб, невозможно проехать и мысленно не оценить повреждения. Ужас одновременно и притягивает, и отталкивает.
На столе разложены доказательства, которые он показывал мне несколько дней назад: он в военной форме в лагере и газетная вырезка со снимком, сделанным в Хрустальную ночь, когда улыбающийся Джозеф-Райнер ел испеченный мамой торт.
Как может человек, который убивал невинных людей, выглядеть так… так… обыденно?
– Я просто не понимаю, как вам удалось… – говорю я в тишину. – Вы прожили обычную жизнь, делая вид, что ничего этого не происходило.
– Вы удивитесь, во что может заставить себя поверить человек, если захочет, – отвечает Джозеф. – Если постоянно убеждать себя, что ты такой-то и такой-то, то в конечном итоге становишься именно таким человеком. Вообще, именно в этом суть окончательного решения еврейского вопроса. Сперва я убедил себя, что я чистокровный ариец. Что я заслуживаю того, чего не заслуживают остальные, уже по факту своего рождения. Подумайте, какое высокомерие, какая заносчивость! По сравнению с этим убедить себя и остальных в том, что я хороший человек, честный, скромный учитель, было совсем просто.
– Не знаю, как вы спите по ночам, – отвечаю я.
– А кто говорит, что я сплю? – вопрошает Джозеф. – Теперь вы знаете, какие ужасные вещи я совершил. И видите, что я заслуживаю смерти.
– Да, – резко обрываю я. – Вижу. Но если я убью вас, то чем буду от вас отличаться?
Джозеф размышляет над сказанным.
– Сложнее всего, когда первый раз принимаешь подобное решение, решение, которое противоречит всем твоим моральным принципам… Но во второй раз легче. И тебе уже становится чуточку лучше. И так далее. Можете со мной не согласиться, но никогда не избавиться от горечи, которую ощущаешь, вспоминая тот первый раз, когда ты мог сказать «нет».
– Если вы пытаетесь заставить меня помочь вам, ничего не получается.
– Да, но существует разница между тем, что сделал я и что прошу сделать вас. Я хочу умереть.
Я думаю о тех несчастных евреях, голых и униженных, которые шли к ямам, наполненным телами людей, прижимая к себе детей. Может быть, в тот момент им тоже хотелось умереть. Лучше принять смерть, чем жить в мире, где происходят подобные ужасы.
Я думаю о бабушке, которая – как и Джозеф – так долго отказывалась говорить на эту тему. Неужели она думала, что если не будет об этом говорить, то не придется пережить это снова? Или ей казалось, что даже одно слово о прошлом – словно ключ к ящику Пандоры: откроешь его, и зло, словно яд, вновь просочится на землю?
Еще я думаю о чудовищах, которых она описала в своей истории. Они прятались в тени от других? Или от самих себя?
А еще я вспоминаю Лео. Как он может каждый день добровольно выслушивать подобные истории? Вероятно, по прошествии шестидесяти пяти лет дело уже не только в том, чтобы поймать преступников. Может быть, он понимает: важно, что кто-то продолжает слушать об этом ради памяти погибших.
Я усилием воли снова сосредоточиваю внимание на Джозефе.
– И что произошло потом? После того как Фолькель застукал вас в постели своей подружки?
– Как видите, он меня не убил, – отвечает Джозеф. – Но он сделал так, чтобы я не служил в его полку. – Он замолкает в нерешительности. – Тогда я еще не знал, то ли это благословение, то ли проклятие. – Он протягивает руку к фотографии, которую мне показывал, к той, на которой он в лагере с пистолетом. – Тех, кто не хотел выполнять приказ, в расстрельной роте не наказывали и не принуждали. У них оставался выбор. Их просто перебрасывали в другое место. После дисциплинарного взыскания меня отправили на Восточный фронт. В Bewährungseinheit – карательный отряд. Меня перевели в действующую армию, понизив до унтер-офицера. Надо было реабилитироваться, чтобы восстановить звание. – Джозеф расстегнул рубашку и снял ее с левой руки. Подмышкой у него имелся небольшой круглый шрам. – Мне сделали татуировку с группой крови, как всем солдатам войск СС. Мы должны были иметь подобные татуировки, хотя они и не всегда помогали. Один маленький значок черными чернилами… Если бы мне необходимо было переливание крови, а я находился без сознания и потерял жетон военнослужащего, доктора могли узнать мою группу крови и оказать помощь. Как оказалось, это спасло мне жизнь.
– Но тут только шрам.
– Потому что я вырезал татуировку швейцарским армейским ножом, когда попал в «Канаду». Слишком многие знали, что у СС были такие метки; по ним опознавали военных преступников. Я поступил так, как должен был поступить.
– Значит, в вас стреляли, – говорю я.
Он кивает.
– Есть было нечего, погода стояла ужасная, и однажды ночью наш отряд попал в засаду. Я получил пулю, которая предназначалась моему командиру, потерял много крови и едва не умер. Рейх счел это героическим поступком. В то время я подумывал о самоубийстве. – Он качает головой. – Однако этого оказалось достаточно, чтобы вернуть мне звание. У меня был задет нерв на правой руке, и я уже не мог держать винтовку ровно. Но к концу сорок второго года я оказался нужен в другом месте. Не на передовой. – Джозеф обращает на меня взгляд. – Раньше я служил в концентрационных лагерях, там я начинал свою карьеру в СС. Поэтому, провалявшись в госпитале девять месяцев, я отправился назад в концлагерь. На сей раз в должности лагерфюрера в женском лагере. Я отвечал за узниц, где бы они ни находились. «Anus Mundi» – так называли его заключенные. Помню, как вышел из машины, взглянул на те железные ворота, на слова, скрученные из проволоки, между двух параллельных проволок: «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»). И тут я услышал, как кто-то окликнул меня по имени. – Джозеф смотрит на меня. – Это был мой брат, Франц. При всем его неприятии режима рейха теперь он был гауптшарфюрером[30] – оберфельдфебелем – и работал в том же самом лагере на административной должности.
– Никогда не слышала об «Anus Mundi», – признаюсь я.
Джозеф смеется.
– Это всего лишь прозвище. Вы же знаете латынь? Это означает «Всемирная задница». Но вам он, скорее всего, известен как Освенцим, или Аушвиц.
Он слышал каждый удар ее сердца. Оно билось почти в такт ее поспешному шагу. Он убеждал себя, что ей следовало быть осторожнее. Она сама виновата.
Когда она свернула за угол, он напал сзади. Она больно ударилась о камни, а он потянулся к вороту ее платья и рванул до пояса, переворачивая ее на спину. Чтобы она не дергалась, достаточно было прижать предплечьем ключицу. Она молила, как они всегда поступают, но он не слушал. Теперь ее сердечко неистово колотилось. И это сводило его с ума.
Первый укус показался почти благодатью, как будто лезвие вошло в глину. Ее пульс в ложбинке на шее дрожал, как осиновый лист. Кожа была нежной, один несильный рывок – и он уже видел беззащитные мышцы, пульсирующие вены. Он слышал, как кровь бежит, словно полноводная река, и во рту у него образовалось целое море слюны. За долгие годы он мастерски научился резать мышцы и, словно тетиву, перекусывать сухожилия, разрывать плоть и вскрывать артерии, и наконец сладкая кровь с медным привкусом брызгала ему на язык. Кровь текла у него по подбородку, как сок дыни, когда она обмякла под ним, а кожа ее сморщилась. Когда он зубами наткнулся на хребет, то сразу понял, что больше от нее толку не будет. Ее голова, которая держалась на одной связке, откатилась немного в сторону.
Он вытер рот и зарыдал.
Сейдж
Несмотря на то что Джозеф так много говорил о смерти, что даже губы у него потемнели, как от ягодного сока, несмотря на то что из головы у меня не шел образ поющей маленькой девочки и юноши, тычущего в себя пальцем и сообщающего, сколько ему лет, я ловлю себя на мысли, что думаю о других. О тех, о ком Джозеф мне еще не рассказал. О тех, кто не оставил даже следа в его памяти, – что, как мне кажется, намного ужаснее.
Он был в Освенциме, как и моя бабушка. Знала ли она его? Пересекались ли их пути? Может, он ей угрожал? Бил ее? Возможно, она лежала ночью на своей вонючей койке, наделяя чудовище чертами, похожими на его черты?
У меня имеются веские причины не говорить бабушке о Джозефе: она больше шести десятилетий хранила воспоминания плотно закупоренными. Но, покидая дом Джозефа, я не могу не задаваться вопросом: неужели моя бабушка – одна из тех, кого Джозеф совершенно не помнит? И из тех ли он, кого она так силится забыть? От такой несправедливости у меня все сжимается внутри.
Когда я выхожу от Джозефа, на улице уже темно, хоть глаз выколи, идет дождь. Я дрожу под тяжестью его признаний. Мне так нужен человек, которому я могу броситься на шею, который крепко-крепко прижмет меня к себе и скажет, что все будет хорошо! Человек, который будет держать меня за руку, пока я не засну. Моя мама могла бы стать этим человеком, но ее больше нет. Бабушка, наверное, тоже могла бы, но ей наверняка захочется знать, кто меня так сильно расстроил.
Поэтому я отправляюсь к дому Адама, хотя и сказала, что больше не хочу его видеть. Несмотря на то что ночь – это часть его жизни, которая принадлежит другой. Я останавливаю машину у тротуара и заглядываю в зарешеченные окна гостиной. Мальчик смотрит по телевизору викторину, а рядом с диваном, за кухонным столом, сидит и читает девочка. Мягкий свет, словно пелерина, ниспадает ей на плечи. Из крана в кухне бежит вода, жена Адама моет посуду. Я вижу, как он сам появляется со свежим кухонным полотенцем и берет у нее из рук салатницу. Он вытирает ее, ставит на стол, а потом обнимает Шэннон сзади.
Небесные хляби разверзлись… Я бросаюсь к машине и забираюсь внутрь как раз в тот момент, когда ночь пронзает фиолетовая вспышка молнии. Я отъезжаю от тротуара, от этой счастливой семьи и слишком быстро несусь к многополосной магистрали. Лужи на асфальте черные и огромные. Я думаю о Джозефе, о залитой кровью земле и настолько отвлекаюсь, что не сразу замечаю, как из леса прямо мне под колеса бросается олениха. Я резко выворачиваю руль, пытаясь не потерять управление, и врезаюсь в парапет, ударяюсь головой о стекло. Машина с визгом останавливается.
На секунду я теряю сознание.
Когда открываю глаза – у меня мокрое лицо. Мне кажется, что это слезы, но потом я касаюсь щеки и вижу на руке кровь.
Одно ужасное мгновение, от которого замирает сердце, я вновь переживаю прошлое.
Смотрю на пустое пассажирское сиденье, а потом пытаюсь разглядеть что-то сквозь треснувшее лобовое стекло, и вспоминаю, кто я и что произошло.
На дороге под белой завесой фар лежит олениха. Я выбираюсь из машины. Под проливным дождем опускаюсь на колени, касаюсь ее морды, шеи и начинаю рыдать.
Я настолько отрешена от всего остального, что не сразу замечаю, что ночь освещает еще одна машина – на мое плечо мягко ложится чья-то рука.
– Мисс, – спрашивает полицейский, – с вами все в порядке?
Как будто просто ответить на этот вопрос… Как будто я могу ответить одним словом…
* * *
Патрульные связываются с Мэри, и она настаивает, чтобы меня осмотрели в больнице. Когда врач наклеивает мне на лоб пластырь и сообщает, что надо бы понаблюдать, не повторятся ли обмороки, Мэри заявляет, что я переночую у нее, и никаких возражений не принимает. Голова у меня просто раскалывается, и нет сил спорить – так я оказываюсь у Мэри в кухне с чашкой чая.
На руках Мэри засохшая пурпурная краска – она работала над фреской, когда ей позвонили из полиции. Меня окружают картины, на стенах уютного уголка – незаконченное видение Апокалипсиса. Иисус – насколько я понимаю, это именно Иисус, потому что у него длинные волосы и бородка, но лицо подозрительно похоже на Бредли Купера, – протягивает руку к низвергающимся в ад, к Мефистофелю – который предстает в образе женщины и похож на Мишель Бэкменн. Бедные души падших полуодеты, некоторые даны лишь в набросках, но я различаю черты Снуки, Дональда Трампа, Джо Патерно. Я касаюсь пальцем фрески за спиной.
– Элмо? – спрашиваю я. – Неужели Элмо?
– А сколько он еще будет ребенком? – удивляется Мэри, пожимая плечами, и протягивает мне сахар. – Он никогда не стареет. Явно заключил сделку с дьяволом. – Она через стол пожимает мне руку. – Знаешь, для меня это много значит. Твой звонок.
Я решаю не уточнять, что звонила не я, а полиция.
– Я думала, ты злишься на меня за то, что я предложила тебе отдохнуть. Но, честно, Сейдж, это для твоего же блага. – Она улыбается. – Так, бывало, говаривала мне сестра Иммакьюлата, когда я ходила в церковно-приходскую школу. Я постоянно болтала. И однажды она посадила меня в мусорный бак. Я была маленького роста, поэтому влезла туда. Как только я начинала жаловаться, она била по баку ногой.
– Выходит, я должна быть благодарна, что ты не засунула меня в мусорный бак?
– Нет, ты должны быть благодарна за то, что есть человек, который готов помочь тебе вернуться на путь истинный. Ты ведь знаешь – именно этого хотела бы твоя мама.
Моя мама… Именно поэтому я оказалась на сеансах психотерапии. Если бы она не умерла, я бы никогда не завела дружбу с Джозефом Вебером.
– И что сегодня произошло? – интересуется Мэри.
Да уж, некорректный вопрос.
– Ты же знаешь. Я сбила оленя, моя машина влетела в парапет…
– И куда ты ехала? Погода просто ужасная.
– Домой, – отвечаю я, потому что это правда.
Мне хотелось рассказать ей о Джозефе, но однажды она уже отмахнулась от меня, когда я пыталась откровенно поговорить. Всё, как он и говорил: мы верим в то, во что хотим верить, в то, что нам нужно. Последствия – вот что мы предпочитаем не видеть, чего предпочитаем не замечать. Мэри не может принять мысль о том, что Джозеф Вебер – чудовище, потому что это означает, что он водил ее за нос.
– Ты была с ним? – напряженно спрашивает она.
Сначала мне кажется, что Мэри говорит о Джозефе, но потом понимаю, что она имеет в виду Адама.
– Если честно, я сказала Адаму, что не хочу его какое-то время видеть.
У Мэри рот приоткрывается.
– Аминь!
– Но потом поехала к нему домой. – Мэри закрывает лицо руками, и я поджимаю губы. – Я не собиралась входить, клянусь.
– Здравствуйте! А почему ты сюда не приехала? – интересуется Мэри. – У меня достаточно травяного чая и мороженого, чтобы пережить любой разрыв, и я гораздо больше, чем Адам, готова раскрыться навстречу чужим эмоциям.
Я киваю.
– Ты права. Я должна была тебе позвонить. Но я увидела его жену и детей. Я… расстроилась, отвлеклась от дороги, потому и сбила оленя.
Я понимаю, что придумала всю эту историю от начала до конца, даже не упомянув имени Джозефа. У нас с бабушкой намного больше общего, чем я думала раньше.
– Хорошая попытка, – хвалит Мэри. – Но ты врешь.
Я недоуменно смотрю на нее, даже дух перехватило.
– Я тебя знаю. Ты поехала к нему, чтобы сказать, что совершила ошибку, и если бы не увидела эту семейную идиллию, то, скорее всего, стала бы швырять в окно камешки, пока он не вышел бы на улицу поговорить с тобой.
Я бросаю на Мэри сердитый взгляд.
– По-твоему выходит, что я просто неудачница.
Мэри пожимает плечами.
– Послушай, вот что я хочу сказать: тебе стоило бы сдерживать свое недовольство чуть дольше, чем один вздох.
– Разве это не постулаты монахини, взятые из Ветхого Завета?
– Бывшей монахини. Знаешь, что я тебе скажу: вся эта безмятежность, показанная в «Звуках музыки»[31]… Все это сказки. В стенах монастыря сестры такие же мелочные, как и люди за его пределами. Одних ты любишь, других ненавидишь. Я сама плевала в купель со святой водой перед тем, как в ней умывались другие монахини. Это стоило двадцати молитв, которые я читала в наказание.
Я потираю левый висок, который дико ломит.
– Можешь дать мне телефон?
Она встает, роется у меня в сумочке, находит телефон.
– Кому собираешься звонить?
– Пеппер.
– Врешь. Последний раз, когда ты разговаривала с сестрой, она повесила трубку, потому что ты заявила: нанимать репетитора, чтобы четырехлетний ребенок поступил в эксклюзивный садик, так же глупо, как и нанимать тренера по плаванию для гуппи. Ты бы не стала звонить Пеппер, даже если бы оказалась зажатой в машине, которая вот-вот взорвется…
– Просто дай мне проверить полученные сообщения, договорились?
Мэри сует мне телефон.
– Давай, отправляй ему сообщения. К завтрашнему утру ты все равно будешь молить его тебя простить. В этом вся ты.
Я ищу в списке контактов номер Лео.
– Только не в этот раз, – уверяю я.
По всей видимости, даже охотники за нацистами иногда отдыхают. Несмотря на то что я в тот вечер и на следующее утро оставляю для Лео три голосовых сообщения, он не отвечает и не перезванивает. Я забываюсь беспокойным сном в гостевой спальне Мэри, где над головой висит искусно вырезанный из дерева Иисус, несущий свой крест. Мне снится, что я должна тащить этот крест на гору и после, глядя с вершины вниз, вижу тела тысяч обнаженных мужчин, женщин и детей.
Мэри по дороге в булочную завозит меня домой, хотя я и уверяю, что мне лучше поехать с ней на работу. Когда я оказываюсь дома, меня охватывает чувство тревоги. Мне кажется, что я не выдержу очередной беседы с Джозефом. Я не хочу с ним разговаривать, пока не переговорю с Лео.
Я хочу выбросить Джозефа из головы, поэтому решаю испечь то, что требует неусыпного внимания, – бриоши. Это кондитерская аномалия: тесто для бриошей на пятьдесят процентов состоит из масла, но вместо того, чтобы превратиться в кирпич, из него получается сладкая, тающая во рту, воздушная выпечка. Еще сложнее выпекать их в такой жаркий, влажный день, как сегодня, потому что все ингредиенты должны быть холодными. Я даже миску для замешивания и нож для теста засовываю в холодильник.
Я начинаю с того, что, пока замешивается тесто, взбиваю масло. Потом маленькими порциями добавляю масло в чашу миксера. Это мой самый любимый момент. Тесто не знает, что делать со всем этим маслом, и начинает расслаиваться. Но со временем ему удается вновь стать единой шелковистой массой.
Я выключаю миксер, отрываю кусочек теста размером со сливу и медленно начинаю его растягивать, чтобы проверить консистенцию, – тесто становится прозрачным. Я помещаю его в контейнер, плотно закрываю пластмассовой крышкой, ставлю на стол и начинаю убирать в кухне.
Звонок в дверь.
Неожиданный звук пугает меня. Обычно днем дома меня не бывает, а по ночам в двери никто не звонит. Даже Адам – у него есть свой ключ.
Я ожидаю увидеть почтальона или посыльного, но мужчина, который стоит на пороге, не носит форму. На нем мятый пиджак и галстук, хотя на улице почти тридцатиградусная жара. У него черные волосы, щетина и глаза орехового цвета. И рост у него под метр девяносто.
– Сейдж Зингер? – уточняет он, когда я открываю дверь. – Я Лео Штейн.
Совсем не таким я его представляла, и не только внешне. Я тут же качаю головой, чтобы прикрыть волосами лицо, но вижу, что уже поздно. Лео смотрит на меня так, как будто может видеть сквозь завесу волос.
– Откуда вы узнали, где я живу? – удивляюсь я.
– Вы шутите? Мы же работаем в Министерстве юстиции. Мне известно даже то, что вы ели на завтрак.
– Правда?
– Нет конечно.
Он улыбается, чем еще больше сбивает меня с толку. Мне казалось, что такие, как он, редко улыбаются. Я думала, что после всего услышанного он уже забыл, как это делается.
– Можно войти?
Не знаю, как следует вести себя в подобных ситуациях. Могу ли я вообще отказаться его впускать? Но не совершила ли я чего-то предосудительного? А может, за мной и Джозефом следили скрытые камеры? Или мне грозит опасность?
– Первое, что вы должны сделать, – это начать спокойно дышать. Я здесь для того, чтобы помочь, а не арестовывать вас, – говорит Лео.
Я поворачиваюсь боком, чтобы он не мог видеть обезображенной половины моего лица.
– Что-то не так? – спрашивает он.
– Нет. А почему вы спрашиваете?
– Потому что вы вывернули шею так, как я, когда заснул за письменным столом. Потом целую неделю не мог выпрямить шею, так она затекла.
Я собираюсь с духом и встречаюсь с ним взглядом. Ладно, пусть глазеет!
– Ох, – негромко произносит он, – такого я не ожидал.
У меня такое чувство, будто мне дали пощечину. Большинство вежливых людей никак не комментируют мои шрамы. Если бы Лео промолчал, я могла бы сделать вид, что он ничего не заметил.
– Глупо, но я представлял вас с карими глазами. А не с голубыми, – говорит он.
Я замираю с открытым ртом.
– Хотя мне очень нравятся голубые, – добавляет Лео. – Вам идет голубой.
– И это все, что вы можете сказать? – отвечаю я. – Честно?
Он пожимает плечами.
– Если вы полагали, что я с воплями убегу, потому что у вас на лице пара едва заметных серебристых шрамиков, как у киборга, – жаль, но мне придется вас разочаровать.
– Как у киборга?
– Послушайте, мы с вами едва знакомы, но, похоже, вы слишком зациклены на своей внешности. Она интересует меня гораздо меньше, чем то, что вы сообщили о Джозефе Вебере.
При упоминании Джозефа я трясу головой, чтобы в ней прояснилось.
– Я разговаривала с ним вчера. Он совершил столько ужасного…
Лео лезет в потертый портфель и достает оттуда папку.
– Знаю, поэтому я и решил, что пришло время нам познакомиться, – отвечает он.
– Но вы говорили, что я буду беседовать с одним из ваших историков…
Его шею заливает краска.
– Я был неподалеку, – говорит он.
– Вы приехали в Нью-Хэмпшир по своим делам?
– В Филадельфию, совсем рядом, – отвечает он.
До Филадельфии восемь часов на машине. Я отступаю назад, приглашая его войти.
– В таком случае, – говорю я, – вы, должно быть, проголодались.
Лео Штейн не может оторваться от бриошей. Первая партия вышла из печи невероятно воздушной. Я подаю их теплыми с вареньем и чаем.
– М-м-м… – восхищается он, блаженно прикрыв глаза. – Никогда ничего подобного не пробовал!
– В Вашингтоне нет булочных?
– Не знаю. Мой рацион состоит из дрянного кофе и бутербродов из автомата.
Предыдущие два часа я посвятила тому, что пересказывала Лео все, что открыл мне Джозеф. Между делом я формовала бриоши, придавая им традиционную форму, смазывала яйцом и выпекала. Мне проще разговаривать, когда руки заняты. С каждым словом, что слетало с губ, мне становилось легче. Лео что-то записывал в своем блокноте. Внимательно разглядывал вырезку, которую я незаметно спрятала в карман перед уходом от Джозефа, и снимок из вевельсбургской газеты, на котором он ест мамин торт.
А на мне он даже повторно взгляд не задерживал.
– Вы намерены пообщаться с ним лично? – интересуюсь я.
Лео поднимает на меня глаза.
– Пока нет. У вас установился контакт. Он вам доверяет.
– Он доверился мне, потому что хочет получить от меня прощение, – говорю я, – а не для того, чтобы я выдала его полиции.
– Прощение – из сфер нематериальных. А наказание – из области права, – заявляет Лео. – Одно не исключает другого.
– Значит, вы бы его простили?
– Я этого не говорил. Если хотите знать мое мнение, это не в моей власти и не в вашей. Прощение – слепое подражание Богу.
– Как и наказание, – вставляю я.
Он приподнимает бровь и улыбается.
– Разница в том, что Бог никогда не испытывает ненависти.
– Удивительно, что вы верите в Бога после встречи с таким количеством злых людей.
– Разве можно в него не верить, когда видел столько выживших? – изумляется Лео. Он вытирает рот салфеткой. – Значит, вы видели его татуировку, – уточняет он.
– Я видела отметину, где могла быть эта татуировка.
– Где? – Лео сгибает руку. – Покажите мне.
Я касаюсь левого бицепса в области подмышки. Через хлопчатобумажную ткань рубашки ощущаю тепло его кожи.
– Вот здесь. Похоже на ожог от сигареты.
– Там действительно наносили группу крови солдатам СС, – подтверждает Лео. – Что мы пока имеем по делу? Он утверждает, что в сорок первом году служил в Первой пехотной бригаде СС, а после сорок третьего работал в Освенциме.
Он открывает папку и кладет ее на стол между нами. Я вижу зернистую фотографию молодого мужчины в нацистской форме, с черепами на погонах кителя. Это мог быть Джозеф, но точно я сказать не могу. «ХАРТМАНН РАЙНЕР», – читаю я, пытаясь разглядеть снимок, пока Лео достает его из конверта. На нем угловатым почерком написан адрес, который я прочесть не могу, и стоят буквы «АВ»[32] – скорее всего, группа крови. Лео быстро закрывает папку – наверное, это секретная информация – и выкладывает фото рядом с газетным снимком.
– Возникает вопрос: тот ли это человек?
На первом фото Джозеф еще юноша, на втором – взрослый мужчина. Качество обоих снимков, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
– Не знаю. Неужели это имеет значение? Я имею в виду, если сходится все остальное из его рассказов.
– Как сказать, – отвечает Лео. – В тысяча девятьсот восемьдесят первом году Верховный Суд постановил, что все, кто охранял нацистские концлагеря, принимали участие в происходящем там, – включая массовые казни, если мы говорим об Освенциме-2. В судебном решении упоминалось о суде, который несколько лет назад проходил в Германии, когда во время процесса один из подсудимых заявил, что если немецкие власти намерены осудить его, то им следует осудить всех, кто служил в лагере. Ведь он функционировал по цепочке: каждое звено выполняло свои обязанности – в противном случае машина уничтожения остановилась бы. Поэтому все в Освенциме – от охранника до бухгалтера – виновны в том, что там происходило, уже потому, что они знали, что творится за проволокой. Взгляните на это с такой стороны. Скажем, вы с приятелем решили убить меня прямо в моем кабинете. Пока ваш парень станет гоняться за мной с ножом, вы будете стоять и держать дверь, чтобы я не сбежал. Вас обоих посадят за убийство первой степени, ведь речь идет только о распределении обязанностей между сообщниками.
– У меня нет парня, – признаюсь я. Оказывается, признаться в этом вслух легче, чем я ожидала, и сердце мое не рвется из груди, а кажется, что я становлюсь невесомой, как будто сделана из гелия. – У меня был парень, но все… – Я пожимаю плечами. – В любом случае… Он не станет убивать вас в вашем кабинете.
Лео заливается краской.
– Похоже, сегодня ночью я могу спать спокойно.
Я откашливаюсь.
– Значит, нам необходимо доказать, что Джозеф служил в Освенциме? – уточняю я. – И одного его признания недостаточно?
– Все зависит оттого, насколько можно доверять его словам.
– А почему суд может решить, что он врет?
– А почему люди лгут? – отвечает мне Лео. – Он старик… У него старческий маразм… Он мазохист… Кто знает? Пока нам даже неизвестно, был ли он там. Он мог прочесть книгу и пересказать вам ее содержание. Это вовсе не означает, что это его собственная история.
– Несмотря на то, что у вас есть дело, на котором значится его имя?
– Он уже однажды назвался вымышленным именем, – замечает Лео. – Это может быть очередная выдумка.
– Как нам тогда удостовериться, что он настоящий Райнер?
– Есть два пути, – отвечает Лео. – Он будет продолжать вести с вами задушевные беседы и в итоге проговорится о том, что есть в этом досье, – это секретная информация СС, ее не узнаешь, пересматривая канал «История». Или нам нужен очевидец, который помнит его по лагерю. – Он касается газетной вырезки и фотографии с регистрационной формы нацистской партии. – Человек, который может точно сказать, что эти двое – один и тот же человек.
Я смотрю на бриоши, уже не горячие, но ароматные и теплые. На мраморную столешницу капнуло варенье. Бабушка рассказывала, как отец любил загадывать ей загадку: «Что нужно разломить, чтобы собрать семью вместе?»
Хлеб, разумеется.
Я вспоминаю об этом и, хотя и не религиозна, молюсь о том, чтобы она меня простила.
– По-моему, я знаю человека, который может помочь, – признаюсь я.
– Говори, что хочешь, – возразил Дамиан. – Я только пытаюсь тебя уберечь.
Я открыла дверь, потому что ждала Алекса, и увидела на пороге капитана. Я сказала ему, что занята, и не солгала. На этой неделе дела пошли лучше. Мы не успевали выпекать багеты, чтобы удовлетворить спрос. Мои булочки были вкуснее, чем все, что когда-либо пек отец. Алекс шутил, что он знает секретный ингредиент, но никогда не признается мне, что это. По его словам, тогда никакого секрета не останется.
Теперь я слушаю, как Дамиан читает мне нотации в кухне.
– Упырь? – удивляюсь я. – Это всего лишь сказки.
– На пустом месте они не возникли бы! А какое еще можно найти объяснение? Домашний скот – это одно, Аня. Но это… это чудовище охотится на людей.
Конечно, я слышала об упырях. О живых мертвецах, которые, не обретя покоя, вставали из своих могил и питались кровью живых. Упырь, если придется, будет пожирать и собственную плоть.
Старуха Сэл, которая торгует на городской площади корзинами, слишком суеверна. Она даже близко не подходит к черной кошке, бросает соль через плечо, а в полнолуние носит одежду навыворот. Это она прожужжала всем уши, что наш городок держит в страхе упырь, – она начинала нашептывать о нежити, как только мы выставляли свой товар на рынке. «Их можно увидеть в толпе, – говорила она. – Они живут среди нас, у них красные щеки и губы. После смерти они завершают свое перевоплощение. Если это произошло, уже ничем не поможешь. Единственный способ убить упыря – отрубить ему голову или вырвать сердце. Единственный способ защитить себя – глотнуть его крови».
Я не обращала внимания на болтовню старухи Сэл и не буду обращать внимания на Дамиана. Я скрестила руки на груди.
– И чего ты от меня хочешь?
– Говорят, что можно поймать упыря, если отвлечь его, – объясняет Дамиан. – Если он увидит узел, то должен его развязать. Если будет лежать кучка семян, он должен будет их пересчитать. – Дамиан протянул руку у меня над головой, взял пакет с ячменем и рассыпал его на столе.
– А с чего бы это упырю заходить ко мне в булочную?
– Возможно, – ответил Дамиан, – он уже здесь.
Я не сразу поняла, о чем он. А поняв, разозлилась.
– Только потому, что он не местный, на него проще повесить всех собак? Потому что он не сидел с тобой за одной партой в школе, как твои дружки-солдаты, или потому, что он по-другому произносит слова? Он не чудовище, Дамиан. Он просто другой.
– Ты на самом деле в этом уверена? – не сдается он, прижимая меня к стенке кирпичной печи. – Его приезд совпал с убийствами.
– Он всю ночь здесь, а днем дома, с братом. Когда бы у него было время совершать все то, в чем ты его обвиняешь?
– Ты всегда рядом с ним, когда он работает? Следишь за ним? Или спишь?
Я открыла рот, чтобы достойно ответить. На самом деле я все больше и больше времени проводила с Алексом в кухне. Рассказывала ему об отце, о Барухе Бейлере. Он поведал мне, что хотел стать архитектором, хотел строить дома – такие высокие, что, если стоять на верхнем этаже, кружится голова. Часто я засыпала прямо за столом, но потом всегда просыпалась в собственной кровати – меня спящую переносил туда Алекс.
Иногда мне казалось, что я намеренно сижу с ним допоздна, потому что знаю, что он отнесет меня в постель.
Я принялась сметать ячмень со стола в ладонь, но Дамиан схватил меня за руку.
– Если ты так уверена, почему не оставишь ячмень и не посмотришь, что произойдет?
Я подумала об Алексе, вспомнила его руки на своей шее, когда он зашивал мне рану, и смело посмотрела Дамиану в глаза.
– Ладно, – ответила я.
Тем вечером я не ждала Алекса в кухне. Я даже не спустилась, когда он вошел. А когда он негромко постучал в дверь моей спальни, сказалась больной и заявила, что хочу отдохнуть.
Но я солгала. Я представила, как он отвлекся на ячмень, как начал раскладывать зерна по кучкам. Представила кровь на его руках и то, как его рот наполняется слюной.
Я так и не смогла заснуть, поэтому зажгла свечу и тихонько пошла по коридору в кухню.
Через деревянные двери я чувствовала исходящий от печи жар. Если привстать на цыпочки, можно заглянуть в щель в двери. Всю кухню я, конечно, не увидела бы, но, возможно, разглядела бы Алекса, как обычно, за работой, и это развеяло бы мои худшие опасения.
Мне прекрасно был виден разделочный стол, на котором Дамиан рассыпал ячмень.
Но сейчас все зернышки были сложены в строгом порядке, одно к одному.
Дверь распахнулась так неожиданно, что я ввалилась в кухню и упала на четвереньки. Свечка выпала из подсвечника и покатилась по каменному полу. Я потянулась было за ней, но Алекс погасил пламя ногой.
– Шпионишь за мной?
Я с трудом поднялась с пола и покачала головой. При этом я не могла отвести взгляда от сложенного аккуратными рядами ячменя.
– Я немного отстаю с выпечкой, – сказал Алекс. – Когда приехал, нужно было привести все в порядок.
Я заметила, что предплечье у него перебинтовано, на повязке проступила кровь.
– Ты ранен?
– Пустяки.
Он был так похож на человека, с которым я вчера смеялась, когда он изображал местных пьяниц. Он был так похож на человека, который подхватил меня на руки, когда я увидела, как по полу пробежала мышь, и отказалась заходить в кухню, пока не убедилась, что грызун пойман.
Сейчас он был так близко, что я чувствовала запах его мятного дыхания, видела зеленые прожилки в расплавленном золоте его глаз. Я сглотнула.
– Ты тот, кто я думаю?
Он даже глазом не моргнул.
– А разве это имеет значение?
Когда он меня поцеловал, я почувствовала, что пропала. Я оторвалась от земли, меня распирало изнутри, мне было досадно, что между нами есть кожа – и я не могу стать еще ближе. Я вцепилась в него, мои пальцы скользнули ему под рубашку. Он обхватил мою голову руками и нежно – так нежно, что я даже не почувствовала! – укусил меня.
У меня во рту и у него на губах была кровь. Она имела металлический привкус, словно боль. Я отстранилась от него, впервые испив саму себя.
Оглядываясь назад, могу только вспомнить, что он увлекся так же, как увлеклась я. В противном случае он почувствовал бы приближение Дамиана, который вломился в дом с солдатами, наставившими на нас штыки.
Лео
Мы лично встречаемся с теми, кто правдоподобно рассказывает о предполагаемых нацистах, чтобы убедиться, что эти люди не сумасшедшие. Через пару минут можно сказать, насколько ваш информатор уравновешен и вменяем, или им движет злоба и зависть, либо он параноик, либо просто безумен.
Через несколько минут после знакомства с Сейдж Зингер я знал одно: она не пытается выдумать этого Джозефа Вебера, никакой выгоды оттого, что его посадят, она не получит.
Она невероятно ранима, потому что вся левая щека ее от самой брови рассечена шрамом.
И еще: из-за упомянутого шрама она понятия не имеет, что невероятно сексуальна.
Я ее понимаю, честно, понимаю. Когда мне было тринадцать, у меня появились ужасные угри – клянусь, из-за одного прыща возникло еще несколько. Меня стали дразнить «Колбаса пепперони» или Луиджи, потому что так звали владельца пиццерии в моем родном городе. Когда фотографировали класс для школьного альбома, я так нервничал, что таким меня запечатлят навечно, что усилием воли вызвал рвоту, чтобы остаться дома. Мама уверяла, что когда я стану старше, то научусь не судить о книге по обложке, – практически именно это и подразумевает моя работа. Но иногда, глядя в зеркало, даже через столько лет я вижу того испуганного подростка.
Держу пари, что, глядя на свое отражение в зеркале, Сейдж кажется, что все гораздо хуже, чем на самом деле видят окружающие.
Чаще всего с теми, кто звонит в наш отдел, встречается Женевра, я встречался с информаторами только два-три раза. Это были евреи лет под восемьдесят, которые продолжали видеть лица своих палачей в каждом, с кем им доводилось встречаться. И ни одно из этих заявлений не подтвердилось.
Сейдж Зингер не восемьдесят. И она не лжет.
– Ваша бабушка, – переспрашиваю я, – она пережила войну?
Сейдж кивает.
– А почему за все наши четыре предыдущие беседы вы ни словом об этом не обмолвились?
Я никак не могу решить, хорошо это или плохо. Если бабушка Сейдж захочет и сможет опознать в Райнере Хартманне офицера из Освенцима-Биркенау, появится прямая связь между материалом, собранным Женеврой, и информацией, которую Сейдж выведала у подозреваемого. Но если Сейдж каким-либо образом настроила бабушку против подозреваемого – например, сказала, что уже имела с ним беседу, – то даже показания очевидца могут считаться предвзятыми.
– Не хочу, чтобы вы подумали, что я позвонила вам из-за бабушки. Мое решение не имеет к ней никакого отношения. Она никогда не рассказывала о своем прошлом, никогда.
Я подаюсь вперед.
– Значит, вы не говорили ей о своих встречах с Джозефом Вебером?
– Нет, – заверяет Сейдж. – Она даже не подозревает о его существовании.
– И она никогда не обсуждала с вами, как выжила в Освенциме?
Сейдж качает головой.
– Даже когда я спросила напрямую, она не захотела об этом говорить. – Она смотрит на меня. – Это нормально?
– Не знаю, если ли какие-то нормы в случае с выжившими на войне, – отвечаю я. – Некоторые полагают, что, раз уж они выжили, их долг – рассказать всему миру, что произошло, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Чтобы люди помнили. Другие верят, что единственный способ выжить – это вести себя так, как будто ничего не произошло. – Я стряхиваю крошки в салфетку и отношу тарелку в раковину. И продолжаю размышлять вслух: – Я могу позвонить своему историку. Она сможет за пару часов подобрать снимки, и тогда…
– Она и с вами не станет разговаривать, – заявляет Сейдж.
Я улыбаюсь.
– Я умею очаровывать бабушек.
Она скрещивает руки на груди.
– Если вы ее обидите, я…
– Зарубите себе на носу: никогда не угрожайте федеральному агенту! И второе: не волнуйтесь. Даю слово, я не стану на нее давить, если она не захочет откровенничать.
– А если захочет? Что тогда? Вы арестуете Джозефа?
Я качаю головой.
– У нас нет юридических полномочий судить нацистов, – объясняю я. – Преступления происходили за пределами Соединенных Штатов задолго до того, как мы получили экстерриториальный юридический статус. Только в две тысячи втором году в Американский Статут о геноциде была внесена поправка, которая регламентировала привлечение к ответственности неамериканцев, совершивших данное преступление за пределами США. До того этот документ касался, в основном, американских граждан, притесняющих, как и генерал Джордж Кастер[33], коренных жителей Америки. Единственное, что мы можем сделать, – это попытаться поймать его на незаконном пересечении границы и депортировать. И даже в этом случае – хотя я уже много лет добиваюсь, чтобы европейцы, следуя принципам морали, начали забирать нацистов и предавать их суду, – суд вряд ли состоится.
– Значит, все наши усилия напрасны? – спрашивает Сейдж.
– Мы делаем это потому, что ваша бабушка живет в США и мы просто обязаны обеспечить ей душевный покой.
Сейдж долго и пристально смотрит на меня.
– Хорошо, я отвезу вас к ней, – обещает она.
Есть в деле Райнера Хартманна факты, о которых Сейдж Зингер не знает.
Моя работа заключается в том, чтобы как можно меньше делиться с ней информацией, наоборот – выведывать все то, что знает она. Но даже в этом случае я не могу быть уверен, что суд соединит все точки воедино и осудит его. Я не уверен, что Хартманн проживет достаточно долго и получит по заслугам.
Пока все то, что пересказала Сейдж, – это информация, которую можно почерпнуть из американских архивов Мемориального музея «Холокост» или из книг. Военные действия и даты, военизированные формирования, карьерный путь. Даже о татуировках с группой крови можно узнать, внимательно изучая историю Третьего рейха. В жизни встречаются и более странные вещи, чем человек, который придумывает себе фальшивую биографию, каким бы невероятным это ни казалось.
Но в этом досье собраны подробности о Райнере Хартманне, которые только Райнер Хартманн – либо его непосредственное начальство и, возможно, ближайшее доверенное лицо – мог знать.
Ничего из этого Сейдж Зингер пока не упомянула.
Это может означать, что Джозеф Вебер не собирается обо всем этом рассказывать. Или Джозеф Вебер – не Райнер Хартманн.
В любом случае, если бабушка Сейдж, Минка, его опознает – это всего лишь еще один кусочек мозаики. Именно поэтому я возвращаюсь назад в Бостон – той же дорогой, что приехал из аэропорта Логана в Нью-Хэмпшир, – только сейчас рядом со мной сидит Сейдж.
– Вот так новость, – говорю я. – Еще никто в моем отделе не был настолько расстроен признанием, что потерял управление и сбил машиной оленя.
– Это случайность, – бормочет Сейдж.
– A bi gezunt. – Я поворачиваюсь к ней. – Это означает «Чтоб вы были здоровы!». Похоже, на иврите вы не говорите.
– Я не иудейка, я вам уже говорила.
Если откровенно, она спрашивала, какое это имеет значение.
– Ох, я просто подумал… – извиняюсь я.
– Моральные принципы не имеют никакого отношения к религии, – возражает она. – Можно поступать по совести и не верить в Бога.
– Значит, вы атеистка?
– Мне не нравится, когда навешивают ярлыки.
– Если вы выросли здесь, то держу пари, что не веруете. Непохоже, что местная община являет собой разнообразие религий.
– Наверное, именно поэтому Джозеф Вебер так долго и не мог найти кого-нибудь из еврейской семьи, – выдвигает предположение Сейдж.
– Знаете, на самом деле это не имеет никакого значения, если вы не намерены его прощать.
Она молчит.
– Вы же не собираетесь это делать? – переспрашиваю я удивленно. – Или я ошибаюсь?
– Я не хочу. Но часть меня говорит, что он всего лишь больной старик.
– Который, возможно, совершил преступление против человечества, – отвечаю я. – И даже если он стал матерью Терезой, сделанного не изменишь. Он ждал более полувека, чтобы признаться? Это не врожденная доброта. Это отсрочка.
– Значит, вы не верите, что люди меняются? Если однажды оступились, значит, вы плохой человек?
– Не знаю, – признаюсь я. – Но мне кажется, что некоторые пятна не смоешь. – Я смотрю на Сейдж. – В городе знают, что вы из еврейской семьи?
– Да.
– И Джозеф выбрал именно вас, чтобы покаяться. Вы для него такое же безликое создание, как и любой еврей шестьдесят пять лет назад.
– Или, может быть, он выбрал меня, потому что считает своим другом.
– Вы действительно в это верите? – удивляюсь я, но Сейдж не отвечает. – Чтобы получить прощение, человек должен раскаяться. В иудаизме это называется «teshuvah». Это означает «отвернуться от зла». А еще это не один шаг, а последовательность действий. Единичный акт раскаяния облегчает душу того, кто совершил зло, но не приносит облегчения тому, против кого это зло было направлено. – Я пожимаю плечами. – Именно поэтому евреи не ходят на исповедь и не читают молитвы по четкам.
– Джозеф утверждает, что с Господом уже примирился.
Я качаю головой.
– Примиряться нужно не с Господом, а с людьми. Грех – это не нечто глобальное. Это глубоко личное. Если ты с кем-то поступил плохо, единственная возможность все изменить – подойти к этому человеку и все исправить. Именно поэтому убийство у евреев не прощается.
Мгновение она молчит.
– К вам когда-нибудь приходили в кабинет и признавались в преступлении?
– Нет.
– В таком случае, может быть, Джозеф совсем другой, – говорит Сейдж.
– Он обратился к вам потому, что сам хотел почувствовать облегчение? Или для того, чтобы его жертвам было легче?
– Это же невозможно, – отвечает она.
– И потому вам его жаль?
– Не знаю. Может, и так.
Я сосредоточиваюсь на дороге.
– Немецкий народ выплатил миллионы долларов компенсации. Отдельным людям. Израилю. Но знаете что? Прошло почти семьдесят лет, а они так и не провели открытое заседание и не извинились перед евреями за преступления холокоста. Извинились где угодно – например, в Южной Америке. Но Германия? Союзникам пришлось силой тащить ее на Нюрнбергский процесс. Чиновники, которые помогали строить Третий рейх, остались у власти после войны, когда открестились от того, что они нацисты, и немецкий народ это проглотил. Молодежь в сегодняшней Германии, когда им рассказывают о холокосте, отмахивается, уверяя, что это давняя история. Поэтому я не думаю, что вы можете простить Джозефа Вебера. Мне кажется, что вы не сможете простить никого, кто имел отношение к холокосту. Мне кажется, вы захотите, чтобы они получили по заслугам. И попытаетесь смотреть в глаза их детям и внукам, не обвиняя их в грехах предков.
Сейдж качает головой.
– Разумеется, были немцы, которые лучше остальных, те, кто не хотел следовать тому, что говорил Гитлер. Если не видеть в них людей – не уметь прощать тех, кто просит прощения, – чем тогда вы лучше любого нациста?
– Тем, что я – человек, – отвечаю я.
* * *
Минка Зингер – миниатюрная женщина с такими же пронзительными голубыми глазами, как и у внучки. Она проживает в небольшом домике, у нее приходящая сиделка, которая тенью ходит вокруг своей подопечной, подавая очки для чтения, трость или свитер еще до того, как Минка надумает их попросить. Вопреки всем опасениям Сейдж, Минка заинтригована нашим знакомством.
– Расскажите-ка еще раз, – просит она, когда мы устраиваемся на диване в гостиной, – где вы познакомились с моей внучкой.
– Это связано с работой, – осторожно отвечаю я. И внезапно понимаю, почему Минка так рада мне. Ей хочется, чтобы мы с ее внучкой встречались.
Не стану лукавить: от одной мысли об этом меня словно током ударило.
– Бабуля, – вмешивается Сейдж, – Лео приехал сюда не для того, чтобы обсуждать мой хлеб.
– Знаете, что говорил мой отец? Настоящая любовь – как хлеб. Необходимо подобрать правильные ингредиенты, немного тепла и магии, чтобы она расцвела.
Сейдж заливается краской. Я кашляю в кулак.
– Миссис Зингер, я приехал сюда в надежде, что вы расскажете мне свою историю.
– Ах, Сейдж, я ведь дала почитать ее только тебе! Всего лишь глупая сказка о молоденькой девушке.
Я понятия не имею, о чем она говорит.
– Мадам, я работаю на американское правительство. Преследую военных преступников.
Глаза Минки Зингер тут же гаснут.
– Мне нечего сказать. Дейзи! – зовет она. – Дейзи, я очень устала. Хотелось бы прилечь…
– Я же вас предупреждала, – бормочет Сейдж.
Краешком глаза я вижу, как подходит сиделка.
– Сейдж очень повезло, – продолжаю я. – А вот моей бабушки больше нет. Мой дедушка был родом из Австрии. Каждый год двадцать второго июля на заднем дворе он устраивал большой праздник. Взрослых угощал пивом, а для нас, детей, надувал бассейн и кормил всех самым большим пирогом, какой только могла испечь бабушка. Я всегда думал, что это день его рождения. И только когда мне исполнилось пятнадцать лет, я узнал, что день рождения у дедушки в декабре. Двадцать второго июля он стал гражданином Америки.
Дейзи уже стоит рядом с Минкой, подхватив старушку под слабую руку, чтобы помочь ей встать. Минка поднимается и делает два шаркающих шага от меня.
– Мой дед участвовал во Второй мировой войне, – продолжаю я, вставая с дивана. – Как и вы, он никогда не рассказывал о том, что видел. Но когда я закончил университет, в качестве подарка он повез меня в Европу. Мы посетили Колизей в Риме, Лувр в Париже, поднимались в швейцарские Альпы. Последней мы посетили Германию. Он повез меня в Дахау. Мы увидели бараки, крематорий, где сжигали тела умерших… Я помню стену, у которой был вырыт под углом котлован, чтобы туда стекала кровь расстрелянных. Дедушка заявил, что сразу же после посещения концлагеря мы уезжаем из страны. Потому что я готов был убить первого встречного немца.
Минка Зингер оглядывается через плечо. В ее глазах стоят слезы.
– Папа обещал мне, что я умру от пули в сердце.
Сейдж охает и замирает.
Бабушка переводит на нее взгляд.
– Мертвые были повсюду. Иногда приходилось через них переступать, чтобы выбраться. Мы многое повидали. Пуля в голову, когда вылетают мозги, – я боялась такого. Но пуля в сердце в сравнении с этим – не такая уж страшная участь. Поэтому папа мне ее и пообещал.
И в эту секунду я понимаю, что Минка никогда не рассказывала о том, что пережила во время войны, не потому, что забыла подробности. А именно потому, что она помнила все в мельчайших деталях и не хотела, чтобы ее детям и внукам довелось пережить такие же муки.
Она опускается на диван.
– Не знаю, что вы хотите от меня услышать.
Я подаюсь вперед, беру ее за руку. Она холодная и сухая, как пергаментная бумага.
– Расскажите о вашем отце, – прошу я.
Часть II
Когда двадцати своих лет я дождусь, Начну этот мир с высоты познавать. В железную птицу один заберусь И буду под солнцем в лазури летать. И буду парить над далекой землей, И буду к земле возвращаться назад, Летя над рекой, над морскою волной, И туча – сестра мне, а ветер – мой брат[34]. Из стихотворения «Мечта», написанного Абрамом (Абрамеком) Копловицем, родившимся в 1930 г. Он рос в Лодзи в гетто. В 1944 г. его последним эшелоном увезли из гетто в Освенцим-Биркенау, где убили, когда ему было всего четырнадцать. Стихотворение переведено с польского на английский в 2012 г. Идой Меретик-СпинкаВсе, что рассказывали мне об упырях, – неправда. Хлыст Дамиана распорол спину Алекса, кожа его повисла полосами, он истекал кровью. Разве чудовище, у которого нет собственной крови, может истекать кровью?
Но это не имело значения. Собралась толпа, чтобы поглазеть на наказание, насладиться болью создания, которое стало причиной их страданий. В свете луны исполосованное тело Алекса блестело от пота, извивалось в агонии, когда он пытался вырваться из пут. Жители городка плескали ему в лицо водой, уксусом, посыпали раны солью. Пошел легкий снег, покрывая белым одеялом площадь, – пасторальная открытка, если не обращать внимания на жестокость в самом ее центре.
– Пожалуйста! – взмолилась я, вырываясь из рук солдат, которые сдерживали зевак, чтобы схватить Дамиана за руку. – Вы должны остановиться!
– Почему? Он же не остановился. Тринадцать человек погибли. Тринадцать!
Он кивнул солдату, тот обхватил меня за талию и оттянул назад. Дамиан снова поднял плеть и, разрезав ею воздух, рассек плоть Алекса.
Я поняла, что не имеет значения, виноват Алекс или нет. Дамиан знал, что жителям просто необходим козел отпущения.
Щека у Алекса рассечена. Лицо его невозможно узнать. Рубашка свисает лохмотьями. Он упал на колени.
– Аня! – выдохнул он. – У… уходи.
– Ублюдок! – заорал Дамиан. Он так сильно бьет его по лицу, что кровь из носа брызгает фонтаном. Голова Алекса откидывается назад. – Ты мог ее ранить!
– Прекратите! – завопила я, ударила солдата, который меня держит, по ноге и бросилась к Алексу. – Вы его убьете! – рыдала я.
Алекс обвисает у меня на руках. На лице Дамиана вздуваются желваки, когда он видит, что я пытаюсь поднять его.
– Невозможно убить того, кто уже мертв, – холодно произносит он.
Неожиданно сквозь толпу прорвался солдат, чтобы отсалютовать Дамиану:
– Капитан! Очередное убийство.
Жители деревни расступились перед солдатами, которые несли тело жены Баруха Бейлера. Горло у нее вырвано, глаза открыты.
– Нигде нет сборщика налогов, – доложил один из солдат.
Я выступила вперед, когда Дамиан опустился перед жертвой на колени. Тело женщины еще теплое, от крови идет пар. Убийство произошло всего несколько минут назад. Когда Алекс был здесь, когда его избивали…
Я оборачиваюсь, но веревки, которые опутывали его всего минуту назад, извиваются в снегу, как гадюки. В мгновение ока – за время, которое потребовалось воинствующей толпе, чтобы понять, что человека осудили напрасно, – Алексу удалось бежать.
Минка
Отец заранее оговаривал со мной детали своих похорон.
– Минка, – говорил он жарким летом, – позаботься о том, чтобы на моих похоронах был лимонад. Свежий лимонад для всех.
Когда на свадьбу сестры отец надел взятый напрокат костюм, то сказал:
– Минка, на моих похоронах ты должна позаботиться о том, чтобы я выглядел таким же элегантным, как сегодня.
Эти разговоры безмерно расстраивали маму.
– Абрам Левин, – возмущалась она, – у девочки от твоих разговоров будут кошмары!
Но папа только подмигивал мне и говорил:
– Она совершенно права, Минка. И кстати, никакой оперы у меня на похоронах. Ненавижу оперу. А вот танцы… Да, танцы было бы отлично!
Мама напрасно думала, что меня ранят эти разговоры. Разве можно испугаться, зная моего отца? Дела в булочной шли хорошо, и я выросла, наблюдая за тем, как он в одной майке засовывает буханки в кирпичную печь – и его мышцы вздуваются. Папа был высоким, сильным, непобедимым. Соль его шутки заключалась в том, что он был слишком полон жизни, чтобы умереть.
После занятий я сидела в булочной и выполняла домашнее задание, пока моя старшая сестра, Бася, продавала хлеб. Отец не разрешал мне сидеть за кассой, потому что школа для него была важнее. Он называл меня «мой маленький профессор», потому что я была очень умной – перепрыгнула через два класса, сдала в прошлом году длившийся три дня экзамен, чтобы поступить в гимназию. С изумлением я обнаружила, что, несмотря на хорошую подготовку, в школу меня не приняли. В этом году в нее уже взяли двух евреев. Моя сестра, которая всегда немного ревновала из-за того, что мое образование ставили на первое место, делала вид, что расстроена, но в глубине души была счастлива, что в конечном счете мне придется заняться торговлей, как и ей самой. Однако вмешался один из покупателей моего отца. Папа был таким отличным пекарем, что помимо халы, ржаного и белого хлеба, которые ежедневно покупали все еврейские хозяйки, у него были особые клиенты среди христиан, которые приходили сюда за бабками, пирогами с маком и мазуриками. Именно благодаря вмешательству одного из таких клиентов, бухгалтера, я смогла посещать католическую школу. Во время уроков религии я выходила из класса, делала домашнее задание в коридоре с еще одной еврейской девочкой. После занятий я шла к папе в булочную в Лодзи. Когда булочная закрывалась, Бася возвращалась к своему молодому мужу, Рувиму, а мы с папой шли пешком домой по улицам, которые населяли как христиане, так и евреи.
Однажды вечером мы увидели роту солдат, и папа спрятал меня в нишу у двери на время, пока они пройдут. Я еще не знала, что это солдаты СС, или вермахта, или гестапо, – я была глупой четырнадцатилетней девчонкой, которая не обращала на такое внимания. Единственное, что я заметила, – они никогда не улыбались. Отец прикрыл глаза от садящегося за горизонт солнца, а потом понял, что этот жест очень напоминает «хайль», их приветствие, и опустил руку.
– На моих похоронах, Минка, – сказал он даже без намека на улыбку в голосе, – никаких парадных маршей.
Я была очень избалована. Моя мама, Хана, убирала у меня в комнате, и вся готовка была на ней. Когда она не суетилась вокруг меня, то изводила Басю разговорами о том, что пора бы уже сделать ее бабушкой, хотя моя сестра всего полгода была замужем за парнем, в которого влюбилась еще в подростковом возрасте.
У меня были подруги-соседки. Одна девочка, Грета, даже ходила вместе со мной в школу и иногда приглашала к себе домой послушать пластинки или радио. Она была очень милая, но в школе, если мы встречались в коридоре, никогда не смотрела мне в глаза. Так уж было заведено: поляки-христиане не любили евреев, по крайней мере прилюдно. Хотя Шиманские, которые жили в другой половине дома, приглашали нас на Рождество и Пасху – вот когда я набивала себе желудок некошерной пищей! – и никогда не смотрели на нас из-за нашей религии свысока. Однако, как уверяла мама, это потому, что пани Шиманская нетипичная полька, поскольку родилась в России.
Моей лучшей подругой была Дара Горовиц. Мы вместе учились в школе, пока я не поступила в гимназию, но и после нам удавалось встречаться почти каждый день и обмениваться новостями, которые мы пропустили в жизни друг друга. Отец Дары владел фабрикой в городском предместье, иногда мы брали лошадь и в тележке отправлялись на пикник у озера. Возле Дары всегда вились мальчики. Она была красавицей – высокая и грациозная, как балерина, с длинными темными ресницами и губками бантиком. Я была не так красива, но решила, что мальчишки, которые вьются возле Дары, не могут все с ней встречаться, и для меня останется кто-то с разбитым сердцем, кого так поразит мой ум, что он не заметит моего кривого переднего зуба и живота, который немного выдавался под юбкой.
Однажды мы с Дарой занимались в моей комнате. Мы строили грандиозные планы, связанные с книгой, которую я писала. Дара ее читала, страница за страницей, и красной ручкой вносила правки – мы считали, что именно так поступают редакторы. Мы собирались переехать в Лондон и снять квартиру: Дара будет работать в издательстве, а я – писать романы. Мы будем пить модные коктейли и танцевать с красивыми мужчинами.
– В нашем мире, – говорила Дара, отбрасывая в сторону исправленную главу, – не будет точек с запятой.
Это было нашим любимым занятием – представлять совершенный мир, где будем верховодить мы с Дарой; место, где можно есть сколько захочешь булочек, не боясь растолстеть; место, где в школах не будет математики; место, где не станут столько внимания уделять правописанию.
Я оторвала взгляд от блокнота, в котором писала.
– Кажется неоконченной, да? Либо точку нужно поставить, либо запятую, но нужно выбрать.
В главе, над которой я трудилась уже час, было всего несколько предложений. Ничего не приходило в голову, и я знала почему. Я слишком устала творить. Вчера ночью родители повздорили, и шум меня разбудил. Я не слышала всей ссоры, но речь шла о миссис Шиманской. Она предлагала спрятать меня с мамой в случае необходимости, но всех нас она приютить не могла. Я не понимала, почему папа так расстроен. Мы с мамой вовсе не собирались от него уезжать.
– В нашем мире, – сказала я, – у каждого будет автомобиль с радиоприемником.
Дара хлопнула себя по животу, глаза ее загорелись.
– Не напоминай мне.
На прошлой неделе мы видели машину у «Водопада» – модного ресторана, где я однажды встретила кинозвезду. Когда из машины вышел шофер, мы услышали, как откуда-то изнутри льется музыка, проникает в душу и повисает в воздухе, как запах духов. Удивительно представлять, что можно взять музыку с собой в путешествие!
В тот же день я заметила на двери ресторана новую табличку: Psy i żїydzi nie pozwolonо. («Собакам и евреям вход воспрещен».)
Мы слышали рассказы о Хрустальной ночи. У мамы был двоюродный брат, чей магазинчик в Германии сожгли дотла, а наши соседи усыновили мальчика, родителей которого убили во время погрома. Рувим умолял мою сестру эмигрировать в Америку, но Бася не хотела оставлять родителей. Когда она сказала, что мы должны переехать в еврейский квартал, пока не стало еще хуже, отец заявил, что она преувеличивает. Мама кивнула на красивую деревянную буфетную стойку, которая весила килограммов сто и досталась нам от прабабушки. «Разве можно в один чемодан упаковать всю жизнь? – спросила она тогда. – Все воспоминания окажутся позади».
Я поняла, что Дара тоже вспомнила табличку на ресторане, потому что она сказала:
– В нашем мире никаких немцев не будет. – Потом засмеялась. – Бедняжка Минка! Такое впечатление, что тебе становится плохо при одной мысли об этом. Мир без немцев означает мир без герра Бауэра.
Я откладываю в сторону блокнот и придвигаюсь к Даре.
– Сегодня он вызвал меня три раза. Я единственная, кого он за занятие спрашивает больше одного раза.
– Наверное, потому, что ты все время тянешь руку.
Это правда. Немецкий – мой любимый предмет. Нам предоставляли выбор: французский или немецкий. Учительница французского, мадам Жениер, была старой монашкой с огромной бородавкой на подбородке, из которой торчали волосы. Зато учитель немецкого, герр Бауэр, был молодым мужчиной, немного похожим на актера Леона Либгольда, если прищуриться и немного помечтать, – как я обычно и поступала. Иногда, когда он заглядывал мне через плечо, чтобы исправить согласование рода в написанном тексте, я представляла, как он обнимает меня, целует и предлагает убежать с ним. Как будто подобное возможно между учителем и ученицей или христианином и иудейкой! Но герр Бауэр был очень симпатичным, и мне хотелось, чтобы он меня заметил, поэтому я посещала все занятия, какие он вел: немецкую грамматику, устную практику, литературу. Я была его лучшей ученицей, «звездой». Мы встречались с ним во время обеда, чтобы попрактиковаться в немецком.
– Glauben Sie, dass es regnen wird? – спрашивал он. («Полагаете, будет дождь?») – Ach ja, ich denke wir sollten mit, schlechtem Wetter rechen. («Да, мне кажется, нам стоит ожидать ненастья».) Иногда герр Бауэр даже позволял себе шутить со мной по-немецки. Noch eine weitere langweilige Besprechung! («Очередное скучное заседание!») – бросал он мимоходом, идя по коридору с отцом Янковяком и вежливо улыбаясь. Он знал, что священник не поймет ни слова, но я-то все понимала!
– Сегодня я заставила его покраснеть, – улыбнувшись, призналась я. – Сказала, что пишу стихи, и спросила его, как по-немецки будет: «Он заключил ее в свои объятия, и от поцелуя у нее дыхание перехватило». Надеялась, что, вместо того чтобы рассказывать, он мне это покажет.
– Ух ты! – вздрогнула Дара. – От одной мысли о немецком поцелуе у меня мурашки бегут по коже.
– Не смей так говорить! Герр Бауэр не такой. Он никогда не говорит со мной о войне. Он слишком образован для этого. Кроме того, если всех немцев стричь под одну гребенку, то чем мы отличаемся от тех, кто стрижет под одну гребенку всех евреев?
Дара взяла с прикроватной тумбочки книгу.
– Ох, герр Бауэр, – проворковала она, – я готова идти за вами на край света. В Берлин. Ой, подождите, это же одно и то же, не так ли? – Она прижимает книгу к лицу и делает вид, что целует ее.
Я почувствовала вспышку раздражения. Дара была красавицей с длинной шеей и фигурой танцовщицы. Я не смеялась над тем, что она водила за нос нескольких парней одновременно, которые постоянно толпились вокруг нее на вечеринках, соревнуясь за честь принести своей даме пунш или конфету.
– Это даже и к лучшему, – заявила она, отбрасывая книгу в сторону. – Если ты начнешь бегать за профессором-немцем, то разобьешь сердце Йосеку.
Теперь настала моя очередь краснеть. Йосек Шапиро – мальчик, который не удостоил Дару второго взгляда. Он никогда не приглашал меня на прогулку, никогда не делал комплиментов по поводу моего свитера или прически, но последний раз, когда мы ездили на пикник на озеро возле фабрики, он целый час провел со мной, беседуя о моей книге. Его совсем недавно приняли на работу в «Хронику», он был на три года старше меня, но, казалось, не видел ничего смешного в том, что я верила: однажды мой роман опубликуют!
– Знаешь, – сказала Дара, указывая на страницы, которые прочла, – это на самом деле всего лишь рассказ о любви.
– А что не так?
– Любовный роман – это совсем не роман. Людям не нужны счастливые концы. Им подавай конфликты. Читателю нравится, когда героиня влюбляется в человека, с которым не будет вместе никогда. – Она улыбнулась мне. – Я просто хочу сказать, что Аня – скучная.
При этих словах я заливаюсь смехом.
– Она же списана с тебя и с меня!
– Тогда, наверное, мы обе зануды. – Дара садится, скрестив ноги. – Может быть, нам стоит избавиться от национальных черт. Думаю, я могла бы быть дамой, которая подъезжает к ресторану в автомобиле с радио.
Я закатила глаза.
– Хорошо. А я – английской королевой.
Дара схватила меня за руку.
– Давай сделаем что-нибудь из ряда вон выходящее!
– Отлично, – ответила я. – Завтра я не стану сдавать домашнюю работу по немецкому.
– Нет-нет! Что-нибудь глобальное. – Она улыбнулась. – Мы могли бы выпить водки в «Гранд-Отеле».
Я фыркнула.
– Кто станет обслуживать двух девочек?
– Мы не будем похожи на девочек. Можно же стащить что-нибудь из маминого шкафа.
Мама убила бы меня, если бы узнала.
Моя мама обладает шестым чувством. Готова поклясться, что у нее есть глаза на затылке: она тут же ловила меня, когда я пыталась отведать жаркое прямо из кастрюли еще до того, как подадут ужин, или сразу узнавала, если я в спальне писала свою историю вместо того, чтобы делать уроки.
– Когда ей не о чем волноваться, она волнуется обо мне.
Неожиданно из гостиной раздался вопль. Я побежала туда, за мной следом бросилась Дара. Отец похлопывал по спине Рувима, мама обнимала Басю.
– Хана! – ликовал папа. – За это следует выпить!
– Минуся! – крикнула мама, называя меня ласковым прозвищем. Такой радостной я ее еще никогда не видела. – У твоей сестры будет ребенок!
Было необычно жить одной в комнате, когда сестра после свадьбы переехала. Еще удивительнее думать о ней как о чьей-то матери. Я обняла Басю и поцеловала в щеку.
– Боже, сколько дел! – воскликнула мама.
Бася засмеялась.
– Мама, у нас есть еще время.
– К этому невозможно быть абсолютно готовым. Завтра же пойдем за нитками. Нужно начинать вязать! Абрам, тебе придется обходиться без Баси на кассе. Ты же понимаешь, что это не слишком подходящая работа для беременной женщины. Целый день простоять за кассой, когда спина болит и ноги распухли…
Отец переглянулся с Рувимом.
– Назовем это отпуском, – пошутил он. – Возможно, следующие пять месяцев она будет слишком занята, чтобы на меня жаловаться…
Я посмотрела на Дару. Она улыбалась, приподняв брови.
Мы были похожи на переодетых детей. Я нацепила одно из маминых шелковых платьев и лодочки Дариной мамы – каблучки постоянно застревали между камнями булыжной мостовой. Дара меня накрасила – макияж должен быть сделать нас старше, но я чувствовала себя разрисованным клоуном.
«Гранд-Отель» возвышался над нами, как свадебный торт, – окна ярус над ярусом. Я представляла, какие истории разворачиваются за каждым из них. Силуэты двоих людей за окнами второго этажа – силуэты влюбленных. Женщина, которая смотрела из окна третьего в угловом номере, вспоминала свою утраченную любовь, с которой она договорилась впервые за двадцать лет выпить кофе…
– Ну? – спрашивает Дара. – Мы заходить будем?
Как оказалось, выдавать себя за другого намного сложнее, чем просто набраться смелости и войти в гостиницу в наших модных платьях.
– А если мы встретим кого-то из знакомых?
– Кого мы встретим? – усмехнулась Дара. – Отцы готовятся к вечерним молитвам. Мамы стряпают ужин.
Я взглянула на подругу.
– Ты первая.
Моя мама думает, что я у Дары, а мама Дары – что она у нас. Нас легко могли поймать, но мы надеялись, что такое приключение компенсирует любое наказание, которое нас могло ожидать. Пока я не решалась зайти, мимо меня по лестнице поднялась женщина. От нее сильно пахло духами, а ногти и губы у нее были огненно-красными. Она была одной из тех женщин, от которых меня уводила мама. «Ночные бабочки» чаще встречались в Балуту, районе победнее, – женщины, которые, казалось, никогда не спали и, кутая голые плечи в шали, выглядывали из окон, – но это вовсе не означало, что здесь не было женщин легкого поведения. Мужчина, который шагал за этой, носил крошечные усики, как у Чарли Чаплина, и трость. Когда дама вплывала в гостиницу, он шлепнул ее по ягодицам.
– Какая мерзость! – возмутилась Дара.
– Именно так все и подумают, когда мы войдем, – прошептала я в ответ.
Дара надула губы.
– Минка, я не понимаю, если ты не собиралась сюда заходить, то зачем сказала…
– Я ничего не говорила! Это ты сказала, что хочешь…
– Минка!
Я замерла, услышав свое имя. Хуже того, что моя мама узнает, что я не у Дары, только то, что кто-то увидит меня и расскажет об этом ей.
Сделав серьезное лицо, я повернулась и увидела Йосека в костюме и галстуке.
– Это ты? – улыбнулся он, даже не взглянув на Дару. – Не знал, что ты сюда ходишь.
– Что ты хочешь этим сказать? – ощетинилась я.
Дара ткнула меня локтем.
– Разумеется, мы пришли сюда. Разве сюда не все ходят?
Йосек засмеялся.
– Не знаю, как остальные, но лично я считаю, что кофе здесь не лучший в городе.
– А ты почему здесь? – поинтересовалась я.
Он показал блокнот.
– Брал интервью. Собираю интересные истории. Пока мне доверяют только это. Редактор говорит, что я должен землю рыть в поисках сногсшибательных новостей. – Он посмотрел на мое платье, сколотое сзади булавкой, поскольку было мне велико, на позаимствованные туфли. – Вы на похороны собрались?
Вот и старайся после этого выглядеть красивой!
– Мы спешим на двойное свидание, – ответила Дара.
– Правда? – удивился Йосек. – Не думал… – Он прикусил язык.
– Что ты не думал?
– Что отец разрешает тебе встречаться с мальчиками, – признался он.
– Ты явно ошибся. – Дара тряхнула волосами. – Мы уже не дети, Йосек.
Он улыбнулся мне.
– В таком случае, может быть, сходим куда-нибудь, Минка? Уверен, что кофе в «Астории» заставит «Гранд-Отель» покраснеть от стыда.
– Завтра в четыре, – заявила Дара, как будто неожиданно стала моим личным секретарем. – Она обязательно там будет.
Йосек, попрощавшись, ушел. Дара подхватила меня за руку.
– Я тебя убью! – пригрозила я.
– Почему это? Потому что я устроила тебе свидание с красивым парнем? Минка, ради бога, если уж мне не везет, по крайней мере позволь порадоваться за тебя.
– Я не хочу никуда идти с Йосеком.
– Но Ане просто необходимо, чтобы ты с ним пошла, – напомнила Дара.
Аня, моя главная героиня, казалась нам слишком скучной. Слишком положительной.
– Позже будешь меня благодарить, – заверила подруга, похлопывая меня по руке.
Кафе «Астория» было злачным местом на улице Пиотрковской. Здесь постоянно можно было встретить евреев-интеллектуалов, драматургов, композиторов, которые беспрестанно спорили за утопающими в сигаретном дыму столами и чашкой горького кофе о тончайших гранях артистического дарования, или оперных див, потягивающих чай с лимоном. И хотя я была в том же платье, что и день назад, оттого, что я находилась рядом с этими людьми, у меня кружилась голова, как будто я могла поумнеть, только лишь вдохнув один с ними воздух.
Мы сидели у вращающихся дверей в кухню, и каждый раз, когда они открывались, до нас доносился восхитительный аромат. Мы с Йосеком ели пирожки и пили кофе, который, как он и обещал, был просто божественным.
– Упыри и нежить, – покачал он головой, – совсем не то, что я ожидал.
Я смущенно пересказывала ему сюжет истории об Ане и ее отце-булочнике, о чудовищах, которые, скрываясь под личиной обычных людей, наводнили их городок.
– Бабушка, когда была жива, частенько рассказывала мне об упырях, – объяснила я. – По ночам она оставляла на столике в булочной зерна, чтобы упырю, если он появится, до рассвета пришлось их пересчитывать. Если я не ложилась спать, как мне было велено, бабушка пугала, что придет упырь и выпьет мою кровь.
– Жуть какая!
– Дело в том, что я совсем не боялась. Мне всегда было жаль упыря: он же не виноват, что стал нечистью! Но кто в это поверит, когда такие, как моя бабушка, твердят обратное? – Я подняла глаза на Йосека. – Поэтому я начала придумывать историю об упыре, который был не таким уж злым, как все думали. По крайней мере, не таким жестоким, как люди, которые пытались его уничтожить. И уж точно не в глазах девушки, которая начинает в него влюбляться… пока не понимает, что он, похоже, убил ее отца.
– Ничего себе! – восхитился Йосек.
Я засмеялась.
– Ты рассчитывал на любовную историю?
– Гораздо больше, чем на такие ужасы, – признался он.
– Дара говорит, что мне следует смягчить краски, или никто не станет это читать.
– Но ты же не веришь…
– Нет, – ответила я. – Людям приходится переживать свои страхи. Если они не будут их переживать, то как смогут оценить безопасность?
Лицо Йосека медленно расплылось в улыбке. В это мгновение он показался мне очень красивым. По крайней мере, таким же красивым, как герр Бауэр. Или еще красивее.
– Понятия не имел, что в Лодзи есть свой Януш Корчак.
Я поиграла ложечкой.
– Значит, я не кажусь тебе сумасшедшей? Девушка, которая пишет подобные романы…
Йосек наклоняется ближе.
– По-моему, это гениально. Я понимаю, что ты пишешь. Это не просто сказка, это ведь аллегория, верно? Эти упыри… они как евреи. Для большинства они кровопийцы, темное и пугающее племя. Их нужно бояться, сражаться с ними любым оружием, крестами и святой водой. А рейх, который поставил себя на сторону Господа, избрал себе миссию – избавить мир от чудовищ. Но упыри вечны. Что бы они ни пытались с нами сделать, мы, евреи, слишком долго были рядом, чтобы нас можно было забыть. Стереть с лица земли.
Однажды на занятии у герра Бауэра я допустила ошибку в сочинении: перепутала одно немецкое слово с другим. Я писала о достоинствах приходского образования и хотела написать «Achtung», что значило «внимание, уважение». Но вместо него написала «ächtung», что означало «объявление вне закона». Как вы понимаете, это совершенно изменило смысл моего сочинения. Герр Бауэр попросил меня остаться после занятий, чтобы обсудить проблему отделения церкви от государства и то, каково быть еврейкой в католической школе. В то время я не обиделась, поскольку даже не обращала внимания на то, что отличаюсь от других учеников, и еще радовалась тому, что смогла провести с герром Бауэром полчаса наедине, разговаривая на равных. Конечно, то, что герр Бауэр счел тонким пониманием предмета, было ошибкой, а не озарением… Но признаваться в этом я не собиралась.
Как и сейчас не собиралась признаваться, что, когда писала свою историю, ни на секунду не думала о политической подоплеке. Если честно, я представляла Аню и отца евреями, как и я сама.
– Да уж, – протянула я, пытаясь перевести толкование Йосека в шутку. – Похоже, от тебя ничего не утаишь.
– Минка Левина, ты нечто особенное! – заявил он. – Я никогда не встречал такой девушки, как ты. – Он переплел свои пальцы с моими, поднес мою руку к губам и поцеловал, неожиданно став галантным.
Это были старомодные, какие-то рыцарские слова, и я вздрогнула. Попыталась запомнить свои ощущения, которые внезапно стали ярче – вплоть до электрического света, который танцевал на моей ладони, как летом молния в поле. Мне хотелось рассказать Даре все до мельчайших подробностей. Хотелось вписать это в свою историю.
Не успела я составить в уме перечень воспоминаний, как Йосек обхватил мою голову ладонями, притянул к себе и поцеловал.
Это был мой первый поцелуй. Я чувствовала пальцы Йосека на своем затылке, его колючий свитер под своей рукой. Мое сердце – словно фейерверк: когда его наконец-то подожгли, весь порох должен был куда-то деваться.
– Что ж… – через секунду протянул Йосек.
Я откашлялась и оглянулась на других посетителей. Думала, что окружающие будут на нас таращиться, но нет, все были заняты своими разговорами, жесты разрезали сигаретный дым…
Я на секунду представила себя с Йосеком… Мы живем за границей, работаем за одним столом. Вот он сидит, закатав по локти рукава белой рубашки, и яростно печатает статью, чтобы успеть в срок. А вот я – грызу кончик карандаша, добавляя последние штрихи к своему первому роману.
– Йосек Шапиро! – воскликнула я, отстраняясь. – Что на тебя нашло?
Он засмеялся.
– Наверное, всему виной эти разговоры о чудовищах и влюбленных в них дамах.
Дара советовала мне изображать недотрогу. Уйти, заставить Йосека бежать следом… Для Дары любые отношения – игра. Я уже устала от попыток постичь ее правила.
Не успела я ответить, как двери кафе распахнулись и в зал ворвались солдаты СС. Они начали избивать посетителей дубинками и переворачивать стулья прямо с сидящими на них людьми. Упавших на пол стариков топтали и били ногами, женщин отбрасывали к стене.
Я застыла на месте. Я уже оказывалась рядом с солдатами, когда те проходили мимо, но никогда не бывала в такой ситуации. Они выглядели огромными, неуклюжими животными в тяжелой зеленой шерстяной форме. Стиснутые кулаки и серебристые глаза, блестящие, словно слюда. От них пахло ненавистью.
Йосек толкнул меня к кухонной двери.
– Беги, Минка! – прошептал он. – Беги!
Я не хотела оставлять его одного и схватила за рукав, пытаясь потащить за собой, но за другую руку его уже держал солдат. Последнее, что я увидела, прежде чем повернулась и сломя голову бросилась бежать, – удар, после которого из сломанного носа и рассеченного виска Йосека брызнула кровь, а сам он рухнул на пол.
Солдаты вытаскивали посетителей из кафе и заталкивали их в машины. Я выбралась через окно кухни и, насколько могла естественно, пошла в противоположном от «Астории» направлении, а когда почувствовала, что удалилась на безопасное расстояние, бросилась бежать. Я подвернула ногу из-за туфель на каблуках, поэтому сбросила их и бежала дальше уже босиком, хотя на дворе стоял октябрь и ноги ужасно мерзли.
Я продолжала бежать, даже когда в боку закололо, даже когда распугала, словно голубей, стайку маленьких попрошаек. И побежала еще быстрее, когда женщина, толкающая тележку с овощами, схватила меня за руку, чтобы узнать, все ли у меня в порядке. Я бежала полчаса, пока не оказалась в булочной отца. Баси за кассой не было – наверное, пошли с мамой за покупками, – но колокольчик над дверью зазвонил, поэтому отец сразу узнал, что кто-то пришел.
Он вышел из кухни – широкое лицо блестело от жара каменной печи, борода была в муке. Его хорошее настроение мгновенно испарилось, когда он увидел мое лицо: потекший от слез макияж, босые ноги и растрепанные волосы.
– Минуся, – воскликнул он, – что случилось?
И я, которая мнила себя писательницей, не могла найти слов не только для того, чтобы описать, что произошло, но и просто сказать, что все изменилось, – как будто Земля немного сошла с орбиты, стесняясь Солнца, поэтому нам теперь придется учиться жить в темноте.
Всхлипнув, я бросилась отцу в объятия. Я изо всех сил пыталась быть космополитом, а оказалось, что больше всего я хотела остаться маленькой девочкой.
Но в одно мгновение я повзрослела.
В тот вечер мир перевернулся с ног на голову – меня не наказали. В другое время меня бы отправили в комнату без ужина и по крайней мере на неделю запретили бы видеться с Дарой. Разрешили бы только в школу ходить. Но когда мама услышала, что произошло, она крепко прижала меня к себе и уже не спускала с меня глаз.
Прежде чем выйти из дому, папа, крепко обняв меня, окинул взглядом улицу, как будто боялся, что в любую минуту из переулка могут выскочить враги (а разве он мог ожидать другого после того, что я ему рассказала?), и мы отправились к отцу Йосека на работу. Мой отец познакомился с ним в синагоге.
– Хаим, – серьезно сказал он. – У нас новости.
Он попросил меня все рассказать отцу Йосека – начиная с того момента, как мы пришли в кафе, и до той минуты, когда я увидела, как солдат бьет Йосека железным прутом. Я заметила, как его отец побледнел, увидела, как его глаза наполнились слезами.
– Они увозили людей на грузовике, – сказала я. – Не знаю куда.
На лице мужчины отразилась борьба – надежда боролась со здравым смыслом.
– Вот увидишь, – негромко сказал отец. – Он обязательно вернется.
– Да, – кивнул Хаим, как будто хотел убедить себя самого. Потом поднял голову и словно удивился, что мы продолжаем здесь стоять. – Мне пора. Я должен рассказать все жене.
Когда после обеда пришла Дара, чтобы узнать, как прошло мое свидание с Йосеком, я попросила маму, чтобы она извинилась от моего имени, сославшись на мое плохое самочувствие. В конце концов, это была правда. Само свидание настолько померкло перед огненной бурей событий, что я уже не помнила, как же оно, собственно, прошло.
Папа в тот вечер только поковырялся в тарелке и после того, как посуда была вымыта, куда-то ушел. Я сидела в кровати, плотно зажмурившись, и спрягала немецкие глаголы. «Ich habe Angst. Du hast Angst. Er hat Angst. Wir haben Angst». («Я боюсь. Ты боишься. Он боится. Мы боимся»).
Wir haben Angst.
В комнату вошла мама и села рядом со мной.
– Думаешь, он жив? – задала я вопрос, который никто не решался произнести вслух.
– Ох, Минуся, – вздохнула мама. – У тебя богатое воображение.
Но руки ее дрожали, и она попыталась скрыть это, потянувшись за щеткой на прикроватной тумбочке. Она нежно повернула меня так, чтобы я сидела спиной к ней, и принялась расчесывать мои волосы, как расчесывала, когда я была маленькой.
Из информации, которая поступала короткими, как орудийные залпы, порциями, мы узнали, что в тот вечер СС захватили в «Астории» человек сто пятьдесят. Они увезли их в штаб, допрашивали отдельно женщин и мужчин, избивали их железными прутами и резиновыми дубинками, ломали им руки и пальцы и требовали выкуп в размере нескольких сотен марок. Те, у кого с собой денег не было, должны были назвать имена тех, у кого они были. Эсэсовцы застрелили сорок шесть человек, пятьдесят освободили за выкуп, остальных отправили в тюрьму в Радогощ.
Йосек оказался одним из счастливчиков. Хотя после того свидания мы не встречались, отец сказал мне, что он вернулся домой к родным. Хаим, у которого, как и у моего отца, были клиенты-христиане, как-то договорился, чтобы деньги были переданы в штаб СС в обмен на свободу сына. Он рассказывал всем и всюду, что, если бы не храбрость Минки Левиной, счастливого конца им не дождаться.
Я много думала о счастливых концах. Вспоминала то, о чем мы с Йосеком беседовали за мгновение до того, как все произошло. О злодеях, о героях. Разве упырь из моей истории был тем, кто терроризировал окрестности? Разве его нужно было преследовать?
Однажды, пока у остальных учеников был урок Закона Божьего, я сидела на ступеньках, которые вели на второй этаж школы, и вместо сочинения писала свою историю. Я только-только начала описывать сцену, когда разгневанная толпа стучит в двери Ани. Карандаш не успевал за моими мыслями. Я чувствовала, как колотится сердце, когда представляла, как раздается стук, как дверь разносят в щепки ударами орудий, которые горожане принесли для суда Линча. Я чувствовала, как пот струится по спине Ани. Я слышала их немецкий акцент через толстые входные двери…
Но на самом деле немецкий акцент, который я слышала, принадлежал герру Бауэру. Он сел рядом со мной на ступеньки, наши плечи почти соприкоснулись. Мой язык, казалось, стал раза в четыре больше – я не смогла бы ничего произнести, даже если бы от этого зависела моя жизнь.
– Фрейлейн Левин, – сказал он, – я бы хотел, чтобы вы узнали об этом от меня.
Что узнала? Что?
– Сегодня мой последний рабочий день, – признался он по-немецки. – Я возвращаюсь в Штутгарт.
– Но… зачем? – с трудом выговорила я. – Вы нам здесь нужны.
Он улыбнулся своей прекрасной улыбкой.
– По всей видимости, я понадобился и своей стране.
– А кто же будет нас учить?
Он пожал плечами.
– Мое место займет отец Черницкий.
Отец Черницкий был пьяницей, и я уверена, что единственное немецкое слово, которое было ему известно, – слово «lager» («пиво»). Но мне не нужно было даже озвучивать свои мысли, герр Бауэр думал то же самое.
– Ты сможешь учиться дальше сама, – твердо сказал он. – Обязательно совершенствуйся. – Потом герр Бауэр посмотрел мне в глаза и впервые за время нашего знакомства обратился ко мне по-польски: – Для меня было большой честью учить тебя.
Когда он спустился вниз, я побежала в женский туалет и разрыдалась. Я плакала из-за герра Бауэра, из-за Йосека, из-за себя самой. Я плакала потому, что не могла отказаться от грез о герре Бауэре, и понимала, что его больше не будет в реальной жизни. Я плакала потому, что, когда вспоминала свой первый поцелуй, чувствовала, как внутри все сжимается. Даже после того, как я умылась холодной водой, глаза оставались красными и опухшими. Когда на математике отец Йармик поинтересовался, все ли у меня в порядке, я сказала, что вчера получила грустное письмо от своей кузины из Кракова.
В те дни никого подобные ответы не удивляли.
Когда я вечером вышла из школы и направилась, как обычно, в булочную, то подумала, что вижу призрак. Опираясь на фонарный столб, на противоположной стороне улицы стоял Йосек Шапиро. Я ахнула и бросилась к нему, а когда подбежала, то заметила, что кожа вокруг глаз у него желтая с пурпурным отливом и синяки на лице всех оттенков драгоценных камней. Через левую бровь у него тянулся заживающий шрам. Я хотела коснуться его лица, но он перехватил мою руку. На одном из пальцев была шина.
– Осторожно, – предупредил он. – Еще болит.
– Что с тобой сделали?
Йосек сжал мою руку.
– Не здесь, – предупредил он, глядя на пешеходов.
Все так же за руку, он потянул меня подальше от школы. В глазах прохожих мы, наверное, выглядели, как обычная влюбленная пара. Но я знала по тому, как Йосек сжимал мою руку – крепко, как будто тонет в зыбучих песках и его нужно спасать, – что не в этом дело.
Я без оглядки следовала за ним по уличному базару, мимо торговцев рыбой и палаток зеленщика. Я поскользнулась на листе капусты, и Йосек прижал меня к себе. Я почувствовала жар его тела. Почувствовала надежду.
Он не останавливался, пока мы не миновали мощеные улочки перенаселенного района, пока не оказались за служебным входом в здание, которое я даже не узнала. Что бы Йосек ни хотел мне сказать, я надеялась, он не оставит меня одну, чтобы я сама искала дорогу назад.
– Я так волновался за тебя, – наконец сказал он, – не знал, удалось ли тебе сбежать.
– Я намного сильнее, чем кажется, – ответила я, вздернув подбородок.
– А я, как оказалось, нет, – признался он. – Меня били, Минка. Мне палец сломали, заставляя признаться, кем работает мой отец. Я не хотел, чтобы они узнали. Решил, что они придут за ним… Но они взяли только деньги.
– Почему? – спросила я. – Что ты им сделал?
Йосек взглянул на меня.
– Просто то, кем я есть, – негромко ответил он.
Я прикусила губу. Снова захотелось расплакаться, но рыдать перед Йосеком было стыдно.
– Мне жаль, что с тобой это случилось.
– Я пришел, чтобы кое-что отдать тебе, – сказал Йосек. – На следующей неделе моя семья уезжает в Ленинград. Мы поедем туда по христианским документам.
Я смотрела на него. Если у тебя христианские документы, можно ехать куда угодно. Это так называемые «правильные документы», которые доказывают, что ты ариец. А значит, никто не будет в чем-то ограничивать тебя или пытаться депортировать.
Если бы неделю назад у Йосека были эти документы, СС его и пальцем не тронули бы. С другой стороны, и в кафе «Астория» он бы не сидел.
– Отец хочет быть уверен, что случившееся со мной больше не повторится. – Йосек торжественно развернул документы. Они, насколько я поняла, были не для мальчика – его ровесника. Это были документы для девочки-подростка. – Ты спасла мне жизнь. Настал мой черед спасти твою.
Я попятилась от бумаг, как будто они могли обжечь.
– Для всей семьи достать не удалось, – объяснил Йосек. – Но ты, Минка, могла бы поехать с нами. Мы скажем, что ты моя двоюродная сестра. Мои родители позаботятся о тебе.
Я покачала головой.
– Как я могу стать частью твоей семьи, если буду знать, что бросила свою?
Йосек кивнул.
– Я так и думал, что ты откажешься. Но однажды ты, возможно, передумаешь.
Он сунул мне в руку документы, а потом заключил меня в объятия. Бумаги оказались зажаты между нашими телами – клин, который разделил нас, как любая другая ложь.
– Береги себя, Минка, – прошептал Йосек и поцеловал меня.
На этот раз его губы были чужими, как будто он общался со мной на непонятном языке.
Через час я уже была в душном нутре отцовской булочной, ела булочку, которую папа пек для меня каждый день, – с особой закрученной верхушкой, с шоколадом и корицей. В это время дня мы были одни; его помощники приходили до рассвета, чтобы печь хлеб, а уходили в полдень. Я сидела, обхватив ногами стул, и наблюдала, как папа формует выпечку. Он оставлял ее подходить на посыпанном мукой пекарском столе, похлопывал каждую круглую с выемкой буханку, упругую, как попка младенца. Христианские документы, которые я засунула в лифчик, жгли мне кожу. Я представила, что, когда буду сегодня вечером раздеваться, на моей груди останется вытатуированное имя какой-то нееврейской девочки.
– Семья Йосека уезжает, – сообщила я.
Руки отца, которые всегда были чем-то заняты, неожиданно замерли над тестом.
– Когда ты его видела?
– Сегодня. После школы. Он хотел попрощаться.
Отец кивнул и сложил очередную порцию теста в маленький прямоугольник.
– А мы будем уезжать из города? – поинтересовалась я.
– Если мы уедем, Минуся, – ответил отец, – кто же будет кормить людей?
– Наша безопасность гораздо важнее. Особенно когда Бася на сносях.
Отец хлопнул рукой по разделочной доске, подняв облако мучной пыли.
– Ты думаешь, я не в состоянии защитить свою семью? – закричал он. – Думаешь, ваша безопасность для меня не важна?
– Нет, папа, я так не думаю, – прошептала я.
Отец обошел стол и схватил меня за плечи.
– Послушай, – сказал он, – семья для меня – все. Ты для меня – все. Я лично разнесу эту булочную по кирпичику, если это поможет уберечь вас.
Еще никогда я не видела его таким. Мой отец, который всегда был настолько уверен в себе, всегда готов был шутя выйти из любой сложной ситуации, едва сдерживался.
– Тебя ведь зовут Минка. А полное имя – Вильгельмина. Ты знаешь, что это означает? «Избранная оберегать». Я всегда буду тебя оберегать. – Он долго и пристально смотрел на меня, потом вздохнул. – Хотел приберечь их как подарок на Хануку, но, наверное, придется отдать сейчас.
Я присела, а он пошел в заднюю комнату, где хранил запасы зерна, соли и масла, и вернулся с мешком из пеньки, который был завязан так же крепко, как плотно сжат рот у старой девы.
– A Freilichen Chanukah![35] – поздравил он. – Хотя и на пару месяцев раньше.
Я нетерпеливо рванула веревку, развязывая узел. Мешок упал – внутри была пара блестящих черных сапог.
Они были абсолютно новые – ничего себе! – но совершенно немодные: не было в них ничего, что заставляло бы восхищаться их пошивом или стилем.
– Спасибо, – выдавила я улыбку и обняла отца за шею.
– Они единственные в своем роде. Ни у кого нет таких сапог. Ты должна пообещать, что будешь носить их не снимая. Даже во сне. Ты поняла меня, Минка?
Он взял сапог у меня из рук и потянулся за ножом, которым отрезал куски теста. Воткнул кончик в желобок на каблуке, повернул, и подошва отвалилась. Сперва я не поняла, зачем он портит свой же подарок; потом разглядела, что внутри было потайное отделение, где лежало несколько золотых монет. Целое состояние.
– Никто не знает, что они там, – сказал отец. – Только ты и я.
Я подумала о сломанной руке Йосека, о солдатах СС, которые требовали у него деньги. Вот это и есть папина гарантия безопасности.
Он показал мне, как открыть обе подошвы, как потом вернуть на место, и несколько раз стукнул каблуками по столу.
– Как новенькие, – восхитился он и отдал мне сапоги. – Я говорю серьезно: я хочу, чтобы ты постоянно их носила. Каждый день. В жару и в холод… Когда идешь на рынок или на танцы… – Он улыбнулся. – Минка, запомни: на своих похоронах хочу видеть тебя в этих сапогах.
Я улыбнулась в ответ, с облечением ощутив знакомую почву под ногами.
– Тебе не кажется, что «видеть» – слишком мудрено для мертвого?
Он засмеялся раскатистым грудным смехом, который я всегда вспоминала, когда думала об отце. Сидя в обнимку с сапогами, я думала о нашей общей тайне и о том, что мы еще друг другу не доверили. Я так и не рассказала папе о христианских документах – ни тогда, ни потом. Главным образом потому, что он обязательно заставил бы меня ими воспользоваться.
Я доела булочку, которую отец испек только для меня, и взглянула на свой голубой свитер. На плечах остались следы муки после того, как он обнял меня за плечи. Я попыталась стряхнуть муку, но бесполезно. Как бы я ни старалась, все равно видела отпечатки пальцев, как будто меня предупредило привидение.
В ноябре последовали перемены. Однажды отец вернулся домой с желтыми звездами, которые нам предписывалось постоянно носить на одежде. Наш городок Лодзь был переименован немцами, которые теперь здесь верховодили, в Лицманштадт. Все больше и больше евреев переезжало в Старый город, в Балуту, – некоторые по собственной воле, некоторые потому, что власти решили, что квартиры и дома, которые много лет принадлежали этим людям, должны быть переданы этническим немцам. В городе появились улицы, по которым нам ходить запрещалось, – мы должны были пользоваться обходными путями или мостами. Также нам запрещалось ездить общественным транспортом и выходить из дома, когда стемнеет. У моей сестры стал хорошо заметен живот. Дара несколько раз сходила на свидание с мальчиком по имени Давид и внезапно решила, что знает все, что касается любовных историй.
– Если тебе не нравится то, что я пишу, – как-то сказала я, – никто тебя читать не заставляет.
– Дело не в том, что мне не нравится, – ответила Дара. – Я просто пытаюсь помочь тебе сделать книгу более реалистичной!
Говоря о реализме, Дара хотела оживить в памяти минуты страсти с Давидом – чтобы у моей главной героини, Ани, был такой же романтический поцелуй. По словам Дары, Давид являлся чем-то средним между актером Майклом Гольдштейном в фильме «Зеленые поля» и Мессией.
– От Йосека вестей нет?
Дара спросила из лучших побуждений, но должна же она была понимать, что мои шансы получить письмо ничтожно малы. Письма доставляли уже не так регулярно, как прежде. Я предпочитала думать, что Йосек часто пишет мне, может быть два-три раза в день, и эти письма пылятся где-то на закрытом почтамте.
– Что ж, – протянула она, когда я покачала головой, – уверена, он просто очень занят.
Мы сидели в студии, где Дара три раза в неделю занималась балетом. Она хорошо танцевала – по крайней мере, была так же искусна в танцах, как я в писательстве. Раньше она мечтала о том, чтобы поступить в какой-нибудь танцевальный коллектив, но теперь о будущем никто не заговаривал. Я наблюдала, как она натягивает куртку с желтыми звездами на плече и спине, обматывает шею шарфом.
– А то место, где ты пишешь, что надо напиться крови упыря… – сказала она. – Ты это выдумала?
Я покачала головой.
– Так рассказывала мне бабушка.
Дару передернуло.
– Просто мурашки по коже.
– В хорошем смысле или в плохом?
Она подхватила меня под руку.
– В хорошем, – улыбнулась она. – Мурашки оттого, что люди обязательно захотят это прочесть.
Вот такую Дару я знала, такой Дары мне не хватало, потому что она была слишком занята шашнями со своим новым парнем.
– Может быть, останешься у нас сегодня переночевать? – предложила я, понимая, что она, скорее всего, собралась на свидание с Давидом.
Мы вышли на улицу, наткнулись на роту солдат и инстинктивно втянули головы в плечи. Раньше при виде солдат у меня даже холодело в животе, сейчас же это становилось обыденностью.
Вдалеке раздался шум, послышались крики.
– Что происходит? – спросила я, но Дара уже бежала в том направлении.
На одной из площадей мы увидели трех повешенных мужчин. Виселицы были только что установлены – я чувствовала запах свежеспиленной древесины. Собралась толпа. Впереди, пытаясь дотянуться до одного из повешенных, рыдала какая-то женщина, но солдаты ее не пускали.
– Что они сделали? – спросила Дара.
Стоящая рядом с ней пожилая дама ответила:
– Критиковали немецкий режим в городе.
Солдаты начали разгонять толпу, приказывая всем вернуться домой, и получилось, что нас с Дарой разделили. Я слышала, как она звала меня, и принялась пробираться вперед, пока не оказалась у самой виселицы. Солдаты не обратили на меня внимания, слишком занятые тем, чтобы не подпустить близких повешенных.
Впервые я увидела мертвеца так близко. Когда умерла бабушка, я была еще слишком маленькой и на похоронах запомнила только гроб. Мужчина, который покачивался, как осенний лист на ветру, казался спящим. Его шея была странным образом вывернута, глаза закрыты, язык немного вывалился. На штанах темнело пятно, наверное, он описался. «До или после?» – гадала я.
Я подумала о крови и внутренностях, которые описывала в своей страшной истории, об упыре, который съедал сердце жертвы, и поняла, что страшно не это. Ужас заключается не в количестве пролитой крови. Весь ужас в том, что только что этот человек был жив – и вот его уже нет.
Днем, когда мы с отцом проходили мимо виселицы, он пытался отвлечь меня разговорами о соседях, о булочной, о погоде, как будто я не знала о закоченевших телах за своей спиной.
Вечером родители поссорились. Мама говорила, что мне не следует выходить в город. Отец возражал, что это невозможно: как же мне посещать школу? Я заснула под их сердитые голоса, и мне приснился кошмар. Мы с Дарой снова были у виселицы, но на этот раз, когда я подошла ближе, тело медленно повернулось, и я смогла рассмотреть лицо. Это был Йосек.
Утром я побежала к Даре. Когда ее мама впустила меня, я замерла как громом пораженная – в доме, который всегда сверкал чистотой, сейчас царил полный хаос.
– Пора, – сказала мне мама Дары. – Мы переезжаем в Старый город, там безопаснее.
Я не верила, что в Старом городе безопаснее. Я считала, что безопаснее не станет до тех пор, пока Британия не начнет побеждать в этой войне. В конце концов, они же никогда не проигрывали, поэтому я знала: это только вопрос времени, и Гитлер с его Третьим рейхом будет побежден.
– Она очень расстроена, Минка, – призналась Дарина мама. – Может быть, тебе удастся поднять ей настроение.
Из-за закрытой двери спальни лилась музыка из балета Чайковского «Спящая красавица». Когда я вошла, то увидела, что коврик свернут: она его иногда сворачивала, когда танцевала. Но сейчас Дара не танцевала. Она сидела на полу и плакала.
Я откашлялась.
– Мне нужна твоя помощь. Я застряла на пятьдесят шестой странице.
Дара на меня даже не взглянула.
– Это глава, в которой Аня отправляется к Александру домой, – продолжала я, выдумывая прямо на ходу. – Что-то должно ее расстроить. Я только не могу придумать, что именно. – Я взглянула на Дару. – Сначала решила, что это будет Александр с другой женщиной, но теперь мне кажется, что это не подходит.
Мне казалось, что Дара совсем меня не слушает, но она вздохнула.
– Почитай мне.
И я прочла. Хотя на странице не было написано ни строчки, я вытягивала из себя слово за словом, переплетала, словно паук шелковую паутину, придуманную жизнь. Ведь именно поэтому мы и читаем художественную литературу, правда? Чтобы напомнить себе, что, как бы тяжело нам ни приходилось, страдаем не мы одни.
– Смерть… – произнесла Дара, когда я закончила и последнее предложение повисло над нами, как утес. – Кто-то должен умереть.
– Зачем?
– А чем еще ее можно напугать? – спросила Дара, и я поняла, что она говорит вовсе не о моем рассказе.
Я достала из кармана карандаш и сделала пометки.
– Смерть… – повторила я. И улыбнулась своей лучшей подруге. – Что бы я без тебя делала!
Слишком поздно я поняла, что сболтнула лишнее. Дара расплакалась.
– Я не хочу уезжать.
Я села рядом и крепко ее обняла.
– Я тоже не хочу, чтобы ты уезжала, – заверила я.
– Я больше никогда не увижу Давида! – рыдала она. – И тебя!
Она была так расстроена, что я даже не обиделась, что обо мне она вспомнила во вторую очередь.
– Ты переезжаешь всего лишь в другой конец города. Не в Сибирь же!
Но я понимала, что мои слова – пустой звук. Каждый день появлялись новые стены, заборы, ограждения… С каждым днем в этом городе буферная зона между немцами и евреями становилась все шире и шире. В конце концов и нас заставят переехать в Старый город, как Дарину семью, или вообще вышвырнут из Лодзи.
– Не таким я представляла наше будущее, – плакала Дара. – Мы должны были поступить в университет, а потом переехать в Лондон.
– Может быть, однажды так и будет, – ответила я.
– А может быть, нас повесят, как тех несчастных!
– Дара, что ты несешь!
– Только не говори, что ты об этом не думала, – заявила она и, разумеется, была права.
Почему именно их, когда все вокруг ругали немцев? Неужели они говорили громче остальных? Или просто подвернулись под руку, чтобы другим неповадно было?
На кровати стояли две коробки, лежали клубок бечевки и нож. Я схватила нож и резанула по ладони.
– Лучшие подруги навсегда, – поклялась я, протягивая нож Даре.
Не колеблясь ни секунды, она разрезала свою ладонь.
– Лучшие подруги, – сказала она.
Мы прижались ладонями – обещание, скрепленное кровью.
Я понимала, что это невозможно, потому что в гимназии мы учили биологию, но мне нравилось представлять, что кровь Дары течет по моим венам. Так было проще поверить, что я уношу ее частичку с собой.
Через два дня семья Дары примкнула к длинной очереди еврейских семей, змеящейся из этой части города в Балуту со всеми пожитками, которые они могли унести. В тот же день наконец-то разрешили снять трупы повешенных. Это было вызывающим оскорблением, потому что по нашей религии умерших нужно хоронить как можно скорее. За двое суток я шесть раз прошла мимо виселицы – когда шла в булочную, к Даре домой, в школу. После первых двух раз я перестала обращать на нее внимание. Как будто смерть стала частью пейзажа.
У моего племянника, Меира Каминского, было Scheine Punim[36]. Стоял март 1940 года, ему было шесть недель от роду, и он уже улыбался в ответ на мою улыбку. И уже научился держать головку. У него были голубые глаза, черные волосы и беззубая улыбка, которая, по словам моего отца, способна растопить сердце самого Гитлера.
Еще никогда ребенок не был таким желанным – для Баси и Рувима, которые каждый раз, проходя мимо люльки, смотрели на него, как на настоящее чудо; для моего отца, который уже пытался рассказать ему, как печь хлеб, и для меня, которая придумывала бессмысленные стишки, чтобы его убаюкать. Только мама держалась отстраненно. Разумеется, она любила своего внука, ворковала с ним, когда Бася и Рувим приносили его к нам в гости, но редко брала Меира на руки. Если Бася давала ей малыша, мама обязательно находила предлог, чтобы положить его, либо передавала мне или папе.
Я ничего не могла понять. Она всегда мечтала стать бабушкой. А теперь, когда стала, даже не хочет обнимать внука?
Мама всегда готовила самые вкусные блюда к пятничному ужину, когда сестра с Рувимом приходили на шаббат. Наш рацион обычно состоял из овощей и картофеля, но сегодня каким-то чудом маме удалось купить цыпленка – яство, которое мы не видели несколько месяцев, с тех пор как немцы оккупировали страну. По всему городу существовали «черные рынки», где можно было достать что угодно – только деньги плати. Оставался один вопрос: чем она заплатила за это пиршество?
У меня так наполнился слюной рот, что я об этом не задумывалась. Я ерзала во время молитвы над свечами и киддуша – благодарственной молитвы за освященные и дарованные Богом Израилю дни субботы и праздников над вином, «Ха-Мотци» – молитвы перед каждым приемом пищи – над вкуснейшей папиной халой. И наконец пришло время садиться за стол.
– Хана, – воскликнул отец, пробуя цыпленка, – ты настоящее чудо!
Сначала мы молчали, занятые бесподобным блюдом, потом тишину нарушил Рувим:
– Гершель Беркович, мой сослуживец… На прошлой неделе ему приказали покинуть дом, где он жил.
– И он уехал? – поинтересовалась мама.
– Нет.
– И? – спросил папа, замерев с вилкой у рта.
Рувим пожал плечами:
– Пока ничего.
– Вот видишь, Хана, я был прав. Я всегда прав! Если откажешься переезжать, небеса на землю не упадут. Ничего не случится.
Восьмого февраля начальник полиции перечислил улицы, где позволялось жить евреям. И хотя у многих были знакомые, которые эмигрировали в Россию или переехали в район, где предписывалось жить евреям, некоторые – как, например, мой отец – не собирались этого делать.
– Да что они могут? – Папа пожал плечами. – Выгонят всех из домов? – Он промокнул рот салфеткой. – Я не позволю, чтобы такой великолепный обед испортили разговоры о политике. Минка, расскажи Рувиму то, что рассказывала мне вчера о горчичном газе…
Об этом мы узнали на уроке химии. Причина, по которой срабатывает горчица, заключается в том, что вещество частично состоит из хлорина, который имеет настолько плотную атомную структуру, что притягивает к себе электроны от всего, с чем вступает в контакт. Включая человеческие легкие. Газ в буквальном смысле разрывает клетки нашего тела.
– А эта тема, по-твоему, подходит для разговора за столом? – вздохнула мама и повернулась к Басе, которая баюкала Меира. – Как спит мой ангелок? По ночам не просыпается?
Неожиданно раздался стук в дверь.
– Ты кого-то ждешь? – всполошилась мама и взглянула на отца.
Она направилась в коридор, но дойти не успела – дверь распахнулась, и в гостиную ввалились офицер и двое солдат вермахта.
– На улицу! – по-немецки приказал офицер. – У вас пять минут!
– Минка! – воскликнула мама. – Что им нужно?
Бася спряталась в углу, загораживая ребенка собой. С бешено колотящимся сердцем я перевела.
Один из солдат смахнул хрусталь с дубового подноса моей бабушки – осколки разлетелись по полу. Другой перевернул стол вместе с едой и горящими свечами. Рувим поспешно затоптал пламя, пока оно не перекинулось на весь дом.
– Шевелитесь! – кричал офицер. – Чего ждете?
Мой отец – мой храбрый, сильный отец! – обхватил голову руками.
– Через пять минут всем быть на улице. Иначе мы вернемся и начнем стрелять! – пригрозил офицер, и они вышли из дома.
Этого я переводить не стала.
Первой опомнилась мама.
– Абрам, доставай из буфета серебро. Минка, хватай наволочки и складывай в них все, что представляет хоть какую-то ценность. Бася, Рувим, отправляйтесь домой и собирайте вещи. Пока вы не вернетесь, я побуду с ребенком.
Отец тут же принялся копаться в ящиках буфета, двигать стоящие на полках книги, полез в кувшины в серванте, собрал все деньги в тайниках, о которых я даже не подозревала. Мама, не обращая внимания на крики Меира, уложила его в колыбельку и начала собирать зимние пальто, шерстяные шарфы, шапки, рукавицы, теплую одежду. Я бросилась в родительскую спальню, схватила мамины драгоценности, папины тфилин[37] и талиты. Потом оглядела собственную спальню. Что бы вы взяли, если бы пришлось за пять минут собрать всю жизнь? Я выбрала свое самое новое платье и пальто в тон, которые надевала прошлой осенью на праздник, а еще несколько смен белья и зубную щетку. Разумеется, я не забыла свою тетрадь, несколько карандашей и ручек. Потом взяла «Дневник падшей» Маргарет Беме и ее оригинал на немецком – эту книгу я нашла в скупке и по понятным причинам прятала от родителей. Я сдала экзамен, и герр Бауэр по-немецки написал на ней «Одаренной ученице».
А еще взяла христианские документы, полученные от Йосека, и спрятала их в сапоги, которые обещала отцу носить днем и ночью.
Я обнаружила маму в гостиной среди битого хрусталя. На руках она держала Меира и шептала ему:
– Я молилась, чтобы родилась девочка…
– Мама… – пробормотала я.
Она подняла глаза, и я увидела, что мама плачет.
– Пани Шиманская вырастила бы малышку, как свою кровинку…
Я почувствовала себя так, словно меня вываляли в грязи. Она хотела отдать Меира, нашего Меира на воспитание чужим людям, забрав его у Баси и Рувима? Может быть, именно поэтому она предложила присмотреть за ним, пока они сбегают домой за вещами? Да, поняла я в момент болезненного озарения: потому что это единственный способ спасти его! Именно поэтому семьи отправляли детей в Англию и США. Именно поэтому семья Йосека хотела, чтобы я поехала с ними в Ленинград. Чтобы выжить, нужно чем-то жертвовать.
Я взглянула на крошечное личико Меира, на ручки, которыми он размахивал.
– Так отдай его ей прямо сейчас! – поторопила я. – Я ничего не скажу Басе.
Она покачала головой.
– Минка, он же мальчик.
Мгновение я недоуменно таращилась на маму и лишь потом поняла, что она имеет в виду. Конечно же, Меиру сделали обрезание. Если Шиманская скажет властям, что их малышка – христианка, доказать обратное невозможно. Но маленький мальчик… Достаточно развернуть его пеленки.
А еще я поняла, почему мама не хотела брать внука на руки. Глубоко внутри она понимала, что привязываться не стоит: а вдруг мы потеряем малыша?
Появился отец с рюкзаком за плечами и доверху набитыми наволочками в каждой руке.
– Пора, – сказал он, но мама не шелохнулась.
Я слышала крики солдат, которые прочесывали дома соседей. Мама поморщилась.
– Давайте подождем Басю внизу, – предложила я.
И только тут заметила, что у мамы на руке нет часов. Вот на что она выменяла цыпленка! А теперь этот недоеденный цыпленок валялся на полу гостиной – ужин, который она приготовила, чтобы у семьи создалась иллюзия, что все хорошо.
– Мама, – негромко позвала я, – идем со мной.
Я помню, что впервые тогда повела себя не как ребенок, а как взрослая. Я взяла маму за руку, а не она меня, как обычно.
Нам, можно сказать, повезло, потому что у отца в Балуту жил двоюродный брат. Тем, кого выселили и кому некуда было идти, жилье выделяли власти. Властью в еврейском гетто был юденрат[38], который возглавлял Хаим Румковский, юденэльтестер – еврейский староста. Моя мама никогда не жаловала папиных братьев, они жили бедно и принадлежали к более низкому социальному классу, она их стыдилась. Когда они приехали к нам на свадьбу моей сестры, моя троюродная сестра Ривка постоянно подносила к свету вещи, оценивая их, и повторяла: «Сколько, по-вашему, это стоит?» Мама раздражалась, что-то бормотала и заставила отца поклясться, что больше их в нашем доме не будет. И вот, по иронии судьбы, мы стояли у них на пороге в роли попрошаек. Мама поджала губы, полностью полагаясь на их великодушие.
На четырех квадратных километрах, которые немцы определили под еврейский квартал, проживали сто шестьдесят человек. В квартире, рассчитанной на одну семью, проживало по четыре-пять. И лишь в половине из этих домов была ванная. У нас она была, и за это я каждый день благодарила судьбу.
Гетто обнесли деревянным забором с колючей проволокой. Через месяц после нашего приезда его полностью отгородили от остальной Лодзи. В квартале существовали Fabriken (фабрики), некоторые располагались на складах, но большинство прямо в комнатах и подвалах – там шили обувь, форму, перчатки, текстильные изделия, шубы. Это была идея старосты Румковского – стать для немцев незаменимыми, быть настолько полезной группой рабочих, чтобы немцы поняли, как сильно в нас нуждаются. В обмен на то, что мы изготовляли необходимое для военных нужд, нам давали еду.
Отец получил работу в пекарне. Мордехай Лайжерович руководил всеми пекарнями в гетто и подчинялся старосте Румковскому. Бывало, что не подвозили ни муки, ни зерна и не из чего было печь хлеб. Отец не нанимал себе работников, этим занимался Румковский. Громкоговорители, которые весь день лаяли на площади на немецком, приказывали тем, кому нужна работа, собираться здесь по утрам, откуда людей направляли то на одну, то на другую фабрику. За все свое детство я ни разу не видела, чтобы мама работала, а сейчас она получила работу швеи в меховом магазине. До этого я даже не предполагала, что она умеет управляться с иголкой, – раньше мы все свои вещи носили к портному. Всего за пару недель мама исколола пальцы и натерла мозоли, а еще она начала щуриться от плохого освещения на фабрике. Всю еду, получаемую в качестве оплаты, мы делили с Басей и Рувимом, потому что Басе приходилось сидеть дома с малышом.
Я совсем не возражала против того, чтобы жить в гетто, если бы нам с мамой и отцом не приходилось ютиться в крошечной комнатушке. У меня появилось больше времени для написания своей истории. Мы опять вместе с Дарой ходили в школу – по крайней мере, пока не закрыли все школы. После обеда мы шли в квартиру, которую ее семья делила с двумя другими, бездетными, семьями, и играли в карты. Часто из-за комендантского часа я оставалась ночевать у Дары. Иногда жизнь в гетто напоминала жизнь в клетке, но эта клетка казалась золотой, когда тебе пятнадцать лет. Меня окружали родные и друзья. Я чувствовала себя в безопасности. Я верила, что, если оставаться там, где предписывалось, я буду в безопасности.
В конце лета в гетто не стало хлеба, потому что не завезли муку, и отец чуть не обезумел: он чувствовал личную ответственность за то, чтобы накормить своих соседей. Тысячи людей вышли на улицы, и отец опускал ставни в булочной и прятался в страхе перед толпой. «Мы хотим есть!» И это монотонное скандирование поднималось на жаре, как тесто. Немецкая полиция стреляла в воздух, чтобы разогнать демонстрантов.
Стрельба слышалась все чаще. В гетто стекалось все больше и больше людей, хотя его границы оставались неизменными. Куда они собирались всех селить? Чем кормить? Хотя к зиме пайки стали разнообразнее, еды постоянно не хватало. Каждые две недели каждый из нас получал 100 граммов картошки, 350 граммов свеклы, 300 граммов ржаной муки, 60 граммов гороха, 100 граммов ржаных хлопьев, 150 граммов сахара, 200 граммов мармелада, 150 граммов масла и 2,5 килограмма ржаного хлеба. Работая в булочной, отец получал дополнительную порцию хлеба, которую всегда приберегал для меня.
Разумеется, больше он не мог печь мне булочки.
Зимой булочная опять закрылась. На сей раз не потому, что закончилась мука, а потому, что нечем стало топить. В гетто дрова вообще не привозили, только немного угля. Отец с братом и Рувимом разбирали заборы и дома и приносили дрова. Однажды утром я застала сестру Ривку за тем, что она разбирает деревянный пол в кладовке.
– Кому нужен здесь пол? – заявила она, увидев мой недоуменный взгляд.
Несмотря на все экстренные меры, люди замерзали в домах до смерти. «Хроника» – газета, которая освещала все происходящее в гетто, – каждый день сообщала о подобных случаях.
Неожиданно в гетто перестало быть безопасно.
Однажды мы с Дарой возвращались домой из школы. Дул северный ветер, отчего казалось еще холоднее, чем показывал термометр. Мы жались друг к дружке, шагая под руку по мосту на Зжерской улице, по которой евреям ходить уже не разрешалось. Мимо проезжал трамвай, на платформе стояла женщина в длинной шубе, ноги обтянуты шелковыми чулками.
– Как можно быть настолько глупой, чтобы надеть в такую погоду шелковые чулки? – пробормотала я.
К счастью, на мне самой были шерстяные колготы, две пары. Когда мы в спешке покидали дом, я взяла с собой всякие глупые вещи, например нарядные платья и цветные карандаши, но родители оказались дальновиднее и взяли зимние пальто и свитера. В отличие от других в гетто, у нас была теплая одежда, чтобы пережить эту ужасную зиму.
Дара не ответила. Я видела, что она не сводит глаз с женщины в трамвае.
– Если бы у меня были чулки, я бы их надела, – заявила она. – Просто потому, что они есть!
Я сжала ее руку.
– Когда-нибудь мы будем носить шелковые чулки.
Когда мы подошли к квартире Дары, там никого не было, взрослые были на работе.
– Здесь дикий холод, – сказала она, потирая руки.
Ни одна из нас пальто не сняла.
– Да уж, – согласилась я. – Ног не чувствую.
– У меня есть идея, как согреться.
Дара швырнула сумку с книгами на пол и включила граммофон. Но поставила пластинку не с популярной музыкой, а с классической и начала танцевать. Я со смехом пыталась за ней повторять, но я и летом неповоротлива, как же быть грациозной в зимнем пальто и стольких одежках? Невозможно! В конечном итоге я едва не упала.
– Танцуй лучше сама, – сказала я.
Но танцы помогли: мои щеки порозовели, стало тепло. Я достала блокнот и перечитала все, что написала вчера за ночь.
Моя история принимала новый оборот, теперь я перенеслась в гетто. Неожиданно очаровательная деревушка, которую я придумала, стала зловещей – стала тюрьмой. Я уже сама не понимала, кто герой, а кто злодей. Тяжелые обстоятельства, в которых мне приходилось выстраивать сюжет, заставляли наделять персонажей чертами и того и другого. Подробнее всего я описала запах свежеиспеченного хлеба в булочной Аниного отца, а описывая, как свежее масло мажется на хлеб, я поймала себя на том, что рот наполняется слюной. Я не могла наколдовать еды, и уже несколько месяцев во рту у меня, кроме жидкого супа, ничего не было – но я все так живо представляла, что сводило живот.
Еще я могла писать о крови. Одному Богу известно, сколько я ее повидала. За несколько месяцев своего пребывания в гетто я трижды видела, как немецкие солдаты убивали людей. Один слишком близко стоял у забора, поэтому охранник его застрелил. А две женщины шумно дрались из-за буханки хлеба. Офицер, чтобы положить конец ссоре, застрелил обеих, а хлеб швырнул в грязь.
Вот что я знаю о крови: она ярче, чем можно себе представить, и у нее глубокий рубиновый цвет, пока она не станет черной и липкой.
И пахнет она сахаром и металлом.
Ее невозможно отстирать от одежды.
Я стала замечать, что нами и моими героями двигали одни и те же мотивы. Либо желание обладать властью, либо месть, либо любовь – все это лишь различные формы голода. Чем больше пустота внутри тебя, тем отчаяннее хочется ее заполнить.
Пока я писала, Дара продолжала танцевать. Поворачивала и вскидывала голову, исполняя chaînе́s и piques[39]. Казалось, она может пробурить дыру в полу своими ногами. Когда она начала двигаться с головокружительной скоростью, я отложила блокнот и зааплодировала. И только тогда заметила в окне полицейского.
– Дара! – прошипела я, пряча блокнот под свитером, и кивнула в сторону окна.
Ее глаза расширились от страха.
– Что нам делать?
В гетто было два полицейских формирования – еврейское, члены которого носили звезду Давида, как и все остальные, и немецкая полиция. Несмотря на то что обе эти полиции вводили правила, которые сложно было исполнять, потому что они ежедневно менялись, между ними была огромная разница. Когда мы проходили по улице мимо немецкой полиции, то опускали головы, а мальчики снимали шапки. Других контактов мы с ними не имели.
– Может, он сам уйдет, – предположила Дара, отводя глаза от окна, но немец постучал в стекло и указал на дверь.
Я открыла. Сердце колотилось так громко, что я решила: он точно его слышит.
Офицер был молод и чем-то напоминал герра Бауэра, и если бы не темная форма, которой, как я уже была научена, стоило бояться, мы с Дарой, возможно, похихикали бы, прикрыв ладошкой рот, над тем, какой он красавчик.
– Чем вы здесь занимаетесь? – спросил он.
Я ответила по-немецки:
– Моя подруга танцовщица.
Полицейский приподнял бровь, удивленный тем, что я говорю на его языке.
– Это я вижу.
Возможно, издали новый закон, запрещающий танцевать в гетто, я не знала. Или Дара ненароком обидела солдат, включив музыку так громко, что ее было слышно через окно. А может, ему не нравился балет. Или просто хотелось кого-нибудь обидеть. Я видела, как солдаты на улице походя пинали стариков – просто потому, что могли это сделать. В это мгновение мне так не хватало отца, у которого всегда была наготове улыбка и что-то вкусненькое в печи, чтобы отвлечь солдат, иногда заглядывавших в булочную и задававших слишком много вопросов.
Полицейский полез в карман. Я закричала, обхватила Дару руками и повалила ее на пол. Знала, что он потянулся за пистолетом, чтобы убить нас!
Мы умрем, даже не успев влюбиться, закончить книгу, выучиться в университете, подержать на руках своего ребенка.
Но выстрела не последовало. Полицейский откашлялся. Когда я набралась смелости, чтобы искоса взглянуть на него, то увидела, что он протягивает визитную карточку – крошечный кремового цвета прямоугольник, на котором написано: «ЭРИК ШАФЕР, ШТУТГАРТСКИЙ БАЛЕТ».
– До оккупации я работал там художественным руководителем, – сказал он. – Если твоя подруга захочет прийти ко мне за рекомендациями, я с удовольствием их предоставлю.
Дара, которая ни слова по-немецки не понимала, взяла карточку у него из рук.
– Что ему от меня нужно?
– Хочет давать тебе уроки танцев.
Она округлила глаза.
– Ты шутишь?
– Нет. Раньше он работал в Штутгартском балете.
Дара вскочила с пола и завертелась по комнате с такой широкой улыбкой, что меня затопило ее счастьем. Но потом, так же быстро, свет в ее глазах погас, они стали злыми.
– Значит, уроки мне брать можно, а ходить по улице Зжерской нельзя?
Она разорвала визитку и швырнула клочки в печь.
– По крайней мере, есть что жечь, – сказала Дара.
Оглядываясь назад, я удивляюсь, что Меир, мой племянник, не заболел раньше. Моя сестра с Рувимом и еще шесть других семей ютились в крошечной квартирке, где всегда кто-нибудь кашлял, чихал, ходил с температурой. Однако Меир оказался выносливым. Когда он достаточно подрос, Бася, работавшая на текстильной фабрике, оставляла его в яслях. Но на этой неделе она прибежала к маме в слезах. Меир кашлял, у него поднялась температура. Ночью он задыхался, а губы его посинели.
Стоял конец февраля 1941 года. Мама и Бася всю ночь сидели с Меиром, по очереди носили его на руках. Им обоим нужно было идти на работу, иначе они могли ее потерять. Когда в гетто каждый день стекаются сотни людей, работника заменить легко. Некоторых вывозили на работы за пределы гетто. Мы не хотели рисковать и разбивать семью.
Поскольку Меир заболел, отец планировал отослать Рувима домой пораньше. По нескольким причинам это было трудной задачей: во-первых, и самое главное, у моего отца не было достаточных полномочий для этого; во-вторых, это означало минус один человек, который будет перевозить груженные хлебом тележки к месту назначения – на склад на улицу Якуба, 4.
– Минка, – объявил утром отец, – придешь днем, займешь место Рувима.
Занятий в школе больше не было, поэтому я тоже устроилась на работу – посыльной в кожевенной мастерской, где шили и чинили туфли, сапоги, пояса, кобуру. Мы работали вместе с Дарой. Нас посылали по всему гетто с различными поручениями, включая доставку товара. Моего отсутствия, скорее всего, не заметят, а если и заметят, то Дара меня прикроет. Я знала, что папа будет рад моему появлению в булочной. Рувим не был пекарем по призванию – ему пришлось работать с отцом только потому, что они вместе стояли в очереди, когда искали работу. И хотя для того, чтобы печь хлеб, университетского диплома не нужно, талант для этого точно требовался – талант, которого, по словам моего отца, у меня хоть отбавляй. Я интуитивно знала, сколько теста отщипнуть от аморфной массы, чтобы испечь багет длиной тридцать три сантиметра, и даже спросонок могла сплести халу из шести полос. Но Рувим постоянно все путал: месил тесто, когда оно или уже пересохло, или было слишком влажным, витал в облаках, когда следовало переворачивать буханки в печи, чтобы не подгорела корочка.
Выполнив все утренние и дневные поручения, я тайком направилась в булочную, вместо того чтобы вернуться в мастерскую. Я заметила чье-то отражение в зеркальной витрине фабрики, где изготовлялись текстильные товары, и отвела взгляд – так я обычно поступала, когда проходила мимо людей на улице. И только потом поняла, что это мое отражение – и в то же время совершенно незнакомое. Круглые щеки и детская полнота исчезли. Черты заострились, выступили скулы, глаза на лице казались огромными. Волосы, длинные и густые, которые когда-то были моей гордостью и радостью, стали сухими и тусклыми, и я прятала их под шапкой. Я была настолько худой, что могла бы, как Дара, стать балериной.
Интересно, почему я не заметила, как похудела? Хотя, коли на то пошло, похудели и все остальные члены моей семьи. Мы постоянно недоедали. Даже несмотря на дополнительную порцию хлеба, еды не хватало, а та, что была, часто оказывалась испорченной, гнилой или прогорклой.
Я вошла в булочную и остановилась, глядя на отца, который стоял, раздевшись до майки, перед кирпичными печами. Живот у папы стал плоским, щеки запали. И все равно для меня он оставался главнокомандующим, когда громко отдавал приказы рабочим и одновременно обминал тесто, чтобы оно подходило.
– Минуся! – окликнул он, и голос его зазвенел над посыпанным мукой столом. – Иди сюда, помоги.
Рувим снял фартук. Они с отцом договорились, что он незаметно выскользнет через заднюю дверь булочной, чтобы его уход не выглядел особым одолжением. Я встала рядом с отцом и начала профессионально отрывать куски теста и формовать батоны.
– Как дела на работе? – спросил он.
Я пожала плечами.
– Все так же. Есть новости о Меире?
Отец покачал головой.
– Нет. Но отсутствие новостей – уже хорошая новость.
И это единственные слова, которыми мы обменялись. Разговоры отнимали много времени и сил, тогда как необходимо было выпечь множество буханок, а потом еще отправить их на склад. Я формовала батоны и вспоминала, как все было в булочной моего отца, как иногда он напевал скрипучим баритоном и Бася за кассой жаловалась, что он распугивает покупателей. Как лучи проникали в булочную летом примерно в половине пятого утра, когда солнце начинало подниматься из-за зданий на противоположной стороне улицы. Как я, свернувшись калачиком, сидела с учебником на мягком стуле у окна и дремала. В животе булочка, которую испек для меня папа, юбка блестит от сахарной присыпки и корицы… Как он будил меня восклицанием: чем же он заслужил такую ленивую дочь?! При этом отец улыбался, и я понимала, что он думает совсем иначе.
А еще я думала о Меире, который только-только научился произносить мое имя.
Когда пришло время складывать буханки в корзины и отправлять на улицу Якуба, вдруг, впустив трепещущий язычок холодного воздуха, дверь открылась и в булочную вошел Рувим. Руки он держал в карманах, а подбородок прятал в обмотанном вокруг шеи шарфе.
– Рувим! – воскликнула я.
Внутри все похолодело. Если Рувим здесь, то только для того, чтобы сообщить нам что-то ужасное!
Он покачал головой.
– Без изменений, – сказал Рувим. – Бася и бабушка дома с Меиром. – Он повернулся к отцу. – Чего мне без толку там сидеть?
– Тогда хватай корзину, – велел отец, сжимая его плечо.
Мы с Рувимом и остальными работниками пекарни принялись укладывать хлеб в корзины, снимая его с полок, где он остывал. Работа изнурительная – уложенный плотно в корзину хлеб весил больше, чем казалось. Я потащила корзину к тележке, которая стояла у главного входа в булочную. На противоположной стороне улицы сгрудились трое ребятишек. Они дрожали, но продолжали, притопывая, стоять в снегу. Они вдыхали запах хлеба и муки – а это лишь немногим хуже, чем есть хлеб!
Когда тележка была наполнена, двое работников покрепче впряглись в нее, а отец начал толкать. Он махнул мне рукой, чтобы я шла рядом, потому что ни на что другое сил у меня не было.
– Ой! – воскликнула я, вспомнив, что оставила на стуле в булочной шарф. – Я сейчас.
Я вбежала в булочную и увидела Рувима. Он как раз расстегнул пальто и спрятал под одежду буханку.
Наши взгляды встретились.
Кража хлеба – преступление. Как и любые спекуляции едой. Но время от времени люди продавали свои порции на черном рынке, обычно по трагической необходимости.
– Минка, – спокойно сказал Рувим, – ты ничего не видела.
Я кивнула. Потому что если бы я «сдала» Рувима отцу, он бы посмотрел на это по-другому. А если Рувима поймают на том, что он менял хлеб, и узнают, что отец принимал участие в краже, его тоже могут наказать.
Тележка со скрипом двигалась по улице Якуба, над корзинами вился парок и щекотал нам ноздри. Рувим исчез. Вот только что он шел рядом со мной, а в следующее мгновение исчез. Отец ничего не сказал, и я не удивилась: наверное, он уже знал то, что я пыталась от него утаить.
Я обманула отца, сказав, что должна отдать Даре ее книгу, и мы договорились встретиться с ним дома до наступления комендантского часа, а сама направилась в ту часть города, где между ворами и перекупщиками происходили сделки. Я надеялась перехватить Рувима, пока он не наделал глупостей. Наступили сумерки, небо посерело и слилось с булыжной мостовой, и уже трудно было отделить реальное от воображаемого. В полумраке скользили отчаянные, готовые обменять еду, драгоцености, душу…
Найти мужа Баси не составило труда – рыжая борода и буханка хлеба, завернутая в коричневую бумагу.
– Рувим! – окликнула я. – Подожди!
Он поднял на меня взгляд, как и человек с пустыми черными глазами, который брал у него пакет.
Вот только что пакет был здесь, а в следующий миг уже исчез, скользнул в складки ветхого пальто покупателя.
– На что бы ты ни решился, – взмолилась я, хватая Рувима за руку, – остановись! Бася не одобрила бы…
Рувим отмахнулся от меня:
– Минка, ты еще ребенок. Ничего не понимаешь.
Но я уже выросла. В этом гетто детей вообще не осталось. Нам пришлось повзрослеть. Даже малыш Меир уже не был ребенком, потому что он не помнил другой жизни.
– Избавься от девчонки, – прошипел мужчина, – или сделка не состоится.
Я не обращала на него внимания.
– Разве есть что-нибудь дороже собственной жизни?
Рувим, который поцеловал меня в лоб в тот вечер, когда обручился с Басей, и признался, что всегда хотел иметь младшую сестру; который на мой прошлый день рождения разыскал для меня экземпляр сказок братьев Гримм на немецком языке; Рувим, который пообещал лично беседовать со всеми мальчиками, назначающими мне свидание, – тот самый Рувим толкнул меня так сильно, что я упала.
Мои шерстяные колготы порвались. Я села, потирая оцарапанную о мостовую коленку, и в это мгновение заметила, как мужчина вложил в ладонь Рувима маленький коричневый пакет.
В то же мгновение раздался выстрел, свист, и их окружили трое солдат.
– Минка! – крикнул Рувим и швырнул пакет мне.
Я поймала его как раз в тот момент, когда Рувима повалили на землю и прикладом винтовки ударили в висок. Я бросилась бежать.
Я не останавливалась – даже когда добежала до моста на улице Зжерской, даже когда поняла, что никто из солдат меня не преследует. Я ворвалась в дом, упала в мамины объятия и, рыдая, рассказала ей о Рувиме. Стоявшая в проеме двери Бася, баюкающая Меира, закричала.
И только тогда я вспомнила о пакете, который крепко сжимала в руках. Я вытянула руку, и мои пальцы раскрылись, как лепестки розы.
Мама разрезала бечевку кухонным ножом. Вощеная бумага упала, внутри обнаружился крошечный пузырек с лекарством.
«Разве есть что-нибудь дороже собственной жизни?» – вопрошала я.
Жизнь сына.
Информация в гетто распространялась, как плющ: вилась, переплеталась, время от времени расцветала невероятным цветом. Именно по слухам мы узнали, что Рувима посадили в тюрьму. И хотя Бася каждый день ходила к нему на свидание, ее не пускали.
Отец пытался задействовать все свои связи за пределами гетто, чтобы разузнать о Рувиме, а еще лучше – вернуть его домой. Но связи, которые раньше помогли устроить меня в католическую гимназию, теперь были бесполезны. Если только у отца случайно не появятся друзья в СС, Рувим останется в тюрьме.
Поэтому я подумала о Дарином полицейском, том самом, из балета Штутгарта. Не было никакой уверенности, что он в состоянии чем-то помочь, тем не менее его имя было единственным знакомым нам именем в мире людей в немецкой форме. Но Дара сожгла его карточку, и даже эта тоненькая ниточка оборвалась.
Мы не знали, что с Рувимом, однако в начале месяца староста Румковский издал указ: всех воров и преступников высылать на работу в Германию. Таким способом он пытался избавить нашу общину от всякого сброда. С другой стороны, кто мог бы отнести Рувима к сброду? Я гадала, сколько людей в тюрьмах являются настоящими преступниками.
От одной мысли о том, что Рувима увезут, Бася становилась безутешной, хотя ей следовало думать о Меире – малыш быстро пошел на поправку после того, как стал принимать лекарство. Однажды ночью она заглянула ко мне в комнату. Было три часа ночи, и я тут же решила: что-то случилось!
– Что такое?
– Мне нужна твоя помощь, – ответила Бася.
– Почему?
– Потому что ты умная.
Бася редко признавалась, что ей что-то от меня нужно, и менее всего – мой ум. Я села на кровати.
– Ты задумала сделать какую-то глупость, – догадалась я.
– Это не глупость. Необходимость.
Я тут же вспомнила Рувима, который продавал хлеб, и сердито взглянула на сестру.
– Из вас двоих кого-нибудь волнует малыш, который зависит от вас? А если тебя тоже арестуют?
– Именно поэтому мне и нужна твоя помощь, – ответила Бася. – Минка, пожалуйста!
– Ты жена Рувима. Если ты не можешь добиться свидания с ним, что я-то могу сделать?
– Знаю, – негромко произнесла Бася. – Но я не с ним хочу встретиться.
Репутация старосты Румковского в гетто балансировала на тонкой грани между любовью и ненавистью. Следовало прилюдно восхищаться старостой, иначе жизнь твоя могла превратиться в ад, поскольку именно он распределял блага, занимался расселением и распределением еды. Но невозможно было не удивляться человеку, который добровольно согласился сотрудничать с немцами, морил голодом свой народ и оправдывал ужасные условия, в которых мы существовали, тем, что мы, по крайней мере, живы.
Еще ходили слухи, что Румковский падок на красивых девушек. Именно на это мы с Басей и рассчитывали.
Было несложно уговорить маму присмотреть за Меиром, сказав, что Бася в очередной раз хочет попытаться добиться свидания с мужем. Этим объяснялось ее желание надеть свою лучшую блузку и уложить волосы так, чтобы выглядеть в глазах мужа как можно привлекательнее. Я маму не обманывала, всего лишь умолчала о том, что мы отправляемся не в тюрьму, а в кабинет старосты Румковского.
Мне нечего было добавить к тому, что могла сказать сестра, добившись аудиенции у еврейского старосты, но я понимала, почему она зовет меня. Чтобы ей хватило смелости войти – и получить поддержку, когда она выйдет.
Его приемная выглядела настоящим дворцом по сравнению с тесными комнатушками, где мы ютились, либо с булочной. Разумеется, у него были подчиненные. Его секретарша, от которой пахло духами, а не дымом и копотью, как от нас всех, взглянула на меня, потом на полицейского-еврея, стоявшего, словно страж, у закрытой двери.
– Старосты нет, – заявила она.
Румковский много времени проводит в гетто: принимает парады у школьников, выступает с речами, проводит свадебные церемонии, посещает фабрики, которые по его замыслу делали нас незаменимыми для немцев. Вполне вероятно, что его не было на месте, когда мы с Басей только подошли к конторе. Но мы несколько часов просидели на холоде и видели, как пятнадцать минут назад староста вошел в здание в окружении свиты.
Его легко было узнать: грива седых волос, круглые черные очки, тяжелое шерстяное пальто с желтой звездой на рукаве. Именно из-за этой эмблемы мне пришлось на улице схватить Басю за руку, когда она вздрогнула, увидев проходившего мимо старосту. «Вот видишь, – прошептала я тогда, – он ничем не отличается от нас с тобой».
Поэтому я взглянула секретарше прямо в глаза.
– Вы лжете.
Она удивленно приподняла брови.
– Старосты нет на месте, – повторила она. – А даже если бы и был, без предварительной записи к нему не попадешь. Но на следующий месяц все расписано.
Я знала, что это тоже ложь, потому что слышала, как она по телефону договаривалась о встрече с начальником отдела снабжения на завтрашнее утро на девять. Я открыла рот, чтобы сказать об этом, но Бася ткнула меня локтем в бок.
– Простите, – сказала она, делая шаг вперед. – По-моему, это вы обронили.
И она протянула ей сережки. Я точно знала, что секретарша их не роняла. Они были в ушах сестры, когда она собиралась на эту встречу. Это были красивые сережки – свадебный подарок Рувима.
– Бася! – охнула я. – Не смей!
Она улыбнулась секретарше и прошипела сквозь зубы:
– Минка, заткнись!
Секретарша поджала губы и схватила сережки с ладони сестры.
– Ничего не обещаю, – сказала она и направилась к закрытой двери.
На ней были шелковые чулки, которые удивили меня. Я не могла дождаться, когда же смогу рассказать Даре, что видела еврейку, которая выглядела не хуже, чем немецкая дама. Она постучала, и через мгновение я услышала низкий рокот из-за двери – позволение войти.
Секретарша оглянулась на нас и скользнула внутрь.
– Что ты будешь ему говорить? – прошептала Бася.
Мы решили, что переговоры буду вести я. Бася пришла как верная жена, но она боялась, что из-за своего косноязычия не сможет объяснить цель прихода.
– Я еще даже не знаю, попадем ли мы к нему, – ответила я.
У меня был план. Я хотела попросить старосту освободить Рувима хотя бы на время, чтобы на следующей неделе он смог отпраздновать с женой годовщину свадьбы. Это будет выглядеть как проявление настоящей любви, и если староста Румковский любил кого-нибудь, он в глазах своего народа станет адвокатом такой любви.
Двери распахнулись, к нам вышла секретарша.
– У вас пять минут, – заявила она.
Мы шагнули вперед, но секретарша схватила меня за руку.
– Она может войти, ты – нет.
– Но… – Бася растерянно оглянулась через плечо.
– Умоляй его, – подстегнула ее я. – Падай на колени.
Бася вздернула подбородок и шагнула в кабинет.
Секретарша села и начала печатать. Я нервно переминалась посреди приемной. Полицейский встретился со мной взглядом и отвернулся.
Через двадцать две минуты после того, как моя сестра ступила в личный кабинет еврейского старосты, она оттуда вышла. Ее блузка сзади выбилась из-за пояса. От красной помады, которую я взяла у Дары, осталось лишь пятнышко в левом уголке рта.
– Что он сказал? – выпалила я, но Бася схватила меня за руку и потащила из приемной Румковского.
Как только мы оказались на улице и горький ветер растрепал наши волосы, я опять пристала к сестре с вопросами. Бася отпустила мою руку, согнулась, и ее вырвало прямо на булыжную мостовую.
Я убрала волосы с ее лица. Решила, что это значит, что ей не удалось спасти Рувима. Именно поэтому я удивилась, когда через мгновение Бася повернулась ко мне – ее лицо было мертвенно-бледным, заострившимся, но глаза сияли.
– Его не отправят в Германию, – сообщила она. – Староста обещал, что отправит его в рабочий лагерь в Польше. – Бася схватила мою руку и сжала. – Я спасла его, Минка. Я спасла мужа!
Я обняла сестру, она обняла меня в ответ, но потом отстранилась.
– Маме с папой о том, что мы ходили сюда, рассказывать нельзя, – предупредила она. – Пообещай мне.
– Но они захотят узнать, как…
– Они решат, что Рувим сам договорился, – настаивала она. – Они не должны знать, что мы в долгу у старосты.
Это правда. Я достаточно наслушалась, как отец ворчит по поводу Румковского, чтобы понять: он не захочет быть обязанным этому человеку.
Ночью, когда Меир спал между нами, я услышала, что она тихонько плачет.
– Что случилось?
– Ничего. Все в порядке.
– Ты радоваться должна. С Рувимом все будет хорошо.
Бася кивнула. Я видела ее профиль, освещенный серебристым светом луны, – как будто статуя. Она посмотрела на Меира, коснулась пальцем его губ, как будто призывая его молчать либо запечатывая их поцелуем.
– Бася, – прошептала я, – как тебе удалось убедить старосту?
– Как ты и советовала. – Слеза скользнула по ее щеке, капнула на простыню. – Упала на колени.
* * *
Когда Рувима отослали в трудовой лагерь, Бася с сыном переехали к нам. Как в былые времена, мы с сестрой спали вместе, но сейчас между нами, как маленькая тайна, спал мой племянник. Меир учился распознавать цвета, звуки, которые издавали домашние животные, – раньше он видел их только на картинках. Мы постоянно твердили о том, какая он загадка, как Рувим будет гордиться сыном, когда вернется домой. Мы говорили так, словно этот день может наступить завтра.
Рувим не писал, и мы придумывали для него всяческие оправдания. Он слишком устал, слишком занят. У него нет доступа к бумаге и карандашам. Почтовая служба фактически перестала существовать. Только у Дары хватило смелости сказать вслух то, о чем все думали: может, Рувим не писал потому, что его уже нет в живых?
В октябре 1941 года мы с Дарой отравились едой. В этом не было ничего удивительного, учитывая качество пищи, – странно, что этого не произошло раньше. Мы оказались достаточно крепкими, чтобы после двух дней непрерывной рвоты встать с постели, но к тому времени уже потеряли работу курьерами.
Мы явились на площадь Лютомирскую, чтобы получить новую работу. Впереди в очереди стоял мальчик, ходивший с нами в одну школу. Его звали Арон, он насвистывал в классе во время экзамена и постоянно нарывался на неприятности. Между передними зубами у него была щель, и он был настолько высоким, что ходил сгорбившись: человек – вопросительный знак.
– Надеюсь, меня отправят куда угодно, только не в пекарню, – заявил Арон.
Я ощетинилась.
– А что не так с пекарней? – спросила я, думая об отце.
– Ничего, просто в пекарне слишком хорошо, так не бывает. Будто чистилище. Слишком жарко зимой, а вокруг еда, которую трогать нельзя.
Я покачала головой и улыбнулась. Мне нравился Арон. С виду ничего особенного, но он умел меня рассмешить. Дара, которая разбиралась в парнях, заявила, что я нравлюсь ему. Арон всегда оказывался рядом, чтобы придержать дверь школы, когда я выходила; провожал меня в гетто до поворота на улицу, где жил сам, а однажды даже поделился своей пайкой хлеба в обед в школе – Дара сказала, что в наше время это почти предложение руки и сердца.
Арон, конечно, не герр Бауэр. И не Йосек, если уж на то пошло. Но иногда, лежа рядом со спящими Басей и Меиром, я прижимала тыльную сторону ладони к губам и представляла, что это его поцелуй. Не то чтобы он поразил мое воображение – меня удивляла сама мысль о том, что кто-то может смотреть на девушку в рваной одежде, тяжелых ботинках, с тусклыми патлами вместо волос и видеть в ней красавицу.
В очереди были даже десятилетние дети и старики, которые не могли стоять без посторонней помощи. Родители научили меня, что говорить, в надежде, что я попаду к отцу в пекарню или к маме на фабрику. Иногда власти при распределении работ принимали во внимание таланты или предыдущий опыт. Иногда распределяли наугад.
Дара схватила меня за руку.
– Мы могли бы сказать, что сестры. Может, тогда нас отправят вместе.
По-моему, это не имело никакого значения. Кроме того, подошла очередь Арона, и я заглядывала через его костлявое плечо, пока чиновник за столом что-то писал на клочке бумаги. Парень обернулся с улыбкой на лице.
– Текстильная фабрика, – сообщил он.
– Ты умеешь шить? – удивилась Дара.
Арон пожал плечами.
– Нет, но придется научиться.
– Следующий!
Окрик прервал наш разговор. Я шагнула вперед и потянула за собой Дару.
– По одному, – приказал сидящий перед нами мужчина.
Я вышла вперед.
– Мы с сестрой умеем печь. И шить…
Он посмотрел на Дару. Все и всегда таращились на Дару, она же красавица. Мужчина указал на грузовик в углу площади.
– Вам туда.
Я запаниковала. Люди, покидавшие гетто, как Рувим, назад не возвращались.
– Пожалуйста! – взмолилась я. – Пекарня… седла шить. – Я вспоминала работы, за которые больше никто не хотел браться. – Мы готовы могилы рыть. Только из гетто не увозите!
Мужчина смотрел мимо меня.
– Следующий!
Дара расплакалась.
– Прости, Минка, – всхлипывала она. – Если бы мы не пытались держаться вместе…
Я не успела ответить, как солдат схватил ее за плечо и потащил к грузовой платформе без бортов. Я взобралась вслед за Дарой. Остальные находящиеся там девушки были приблизительно нашими ровесницами, некоторых я знала по школе. Кое-кто, казалось, поддался панике, другие сидели со скучающим видом. Все молчали. Я понимала, что лучше не спрашивать, куда мы едем. Возможно, ответ я знать не хотела.
Через мгновение мы уже выезжали из ворот гетто – места, которое я не покидала больше полутора лет.
Когда ворота за нами закрылись, я физически почувствовала это. За пределами гетто дышалось легче. Цвета здесь были ярче. Воздух чуть теплее. Попав в другой мир, мы потрясенно молчали, хотя нас отрывали от семей.
Я гадала, кто скажет моим родителям, что меня увезли. Интересно, будет ли Арон скучать по мне? Узнает ли меня Меир, если увидит снова? Я сжала руку Дары.
– Если придется умереть, – сказала я, – по крайней мере, умрем вдвоем.
При этих словах сидящая рядом девушка засмеялась.
– Умрете? Глупая корова! Никто не будет вас убивать. Я уже неделю каждый день езжу на этом грузовике. Мы едем в немецкий штаб.
Я вспомнила мужчину, который пялился на Дару, и задумалась, что же нам предстоит делать для офицеров.
Мы ехали по улицам города, в котором я выросла, но все было другим. Мальчишка, продающий газеты, торговец рыбой в огромной шляпе, портной, который вышел покурить и щурился от яркого солнечного света, всякие прочие мелочи, которые я помнила с детства, – все исчезло. Демонтировали даже виселицу, которую немцы соорудили на площади. Это напоминало однажды написанную мной историю о девочке, которая проснулась и обнаружила, что все ее следы исчезли из знакомого мира: семья ее не узнала, в школе она не числилась, с ней ничего не происходило. И сейчас создавалось впечатление, что мне всего лишь приснилась жизнь, которой я жила раньше.
Через пятнадцать минут мы въехали в ворота, которые тут же закрылись за нами. Немецкие солдаты расположились в бывших административных зданиях Лодзи. Нас выгрузили и передали широкоплечей женщине с обветренными красными руками. Она говорила по-немецки, и было видно, что некоторым девушкам все это знакомо: раньше им уже объясняли, что необходимо делать. Нам дали ведро, тряпки, нашатырный спирт и приказали следовать за этой женщиной. Время от времени она останавливалась и направляла кого-то из девушек в дом. Дару и девушку, которая обозвала меня коровой, отправили в большое каменное здание, на крыше которого развевался нацистский флаг.
Я проследовала за женщиной через несколько переходов, и мы наконец дошли до места, где располагались небольшие квартирки.
– Ты, – сказала женщина по-немецки, – вымоешь вот эти окна.
Я кивнула. Похоже, здесь жили немецкие офицеры, поскольку раньше я не видела других военных бараков. Я осторожно повернула ручку двери. В комнате не было коек и тумбочек, только красивое резное бюро и кровать со смятым покрывалом. Тарелки аккуратно стояли в сушке у раковины, кроме одной – с ярко-фиолетовой каплей варенья.
У меня слюнки потекли. Целую вечность не ела варенья!
Однако, насколько я понимала, за мной обязательно кто-нибудь да наблюдал. Поэтому я выбросила из головы все мысли о еде, взяла тряпку, нашатырный спирт и направилась к одному из окон.
Я никогда в жизни ничего не убирала. Подбирала, убирала, готовила для меня мама. Даже теперь кровать в нашей комнате застилала Бася.
Я посмотрела на нашатырь, открыла пузырек, вдохнула запах… И тут же закрыла. Из глаз брызнули слезы. Я села за стол и оказалась лицом к лицу с тарелкой.
Я молниеносно коснулась пальцем капли варенья и тут же сунула его в рот.
Боже мой! На глаза снова навернулись слезы, но уже по другой причине. В каждой клеточке мозга вспыхнули воспоминания. О том, как я ела папины булочки, намазанные свежим маслом и маминым клубничным вареньем. О том, как собирала черную смородину в деревне, где работал отец Дары. О том, как лежала на спине и представляла, что облака в небе – это мотоцикл, попугай, черепаха. О том, как нечем было заняться, потому что бездельничать – главное занятие детей.
Это варенье на вкус напоминало ленивый летний день. Напоминало свободу.
Я настолько потерялась в своих чувствах, что не услышала шагов офицера, который уже через секунду повернул ручку двери и вошел в комнату. Я вскочила и поспешно схватила ведро, бутылочка с нашатырем упала на пол.
– Ой! – воскликнула я, опускаясь на колени, чтобы вытереть лужу.
Офицер был ровесником моего отца. Он скользнул взглядом по моей съежившейся фигуре.
– Побыстрее заканчивай! – приказал он по-немецки, а потом, не ожидая, что я его пойму, указал на окно.
Я кивнула и отвернулась. Я услышала скрип стула – это он уселся за письменный стол, потом начал перелистывать газеты. Задержав дыхание, дрожащей рукой я снова открыла пузырек с нашатырем и попыталась скрутить тряпочку так, чтобы просунуть ее в узкое горлышко и смочить. Потом осторожно прижала тряпку к самому грязному месту на окне, как будто промокала рану.
Через несколько минут офицер поднял голову.
– Schneller! – еле сдерживаясь, сказал он. («Быстрее!»)
Я обернулась, сердце ухнуло вниз.
– Простите, – пролепетала я на немецком языке, чтобы не злить его еще больше. – Я раньше никогда не мыла окна.
Он изумленно выгнул брови.
– Ты говоришь по-немецки?
Я кивнула.
– Это был мой любимый предмет.
Офицер встал и направился ко мне. Я была настолько испугана, так дрожала, что колени стучали друг о друга. Я прикрыла голову рукой в ожидании удара, который, я полагала, обязательно последует, но вместо этого офицер вытащил тряпку из моих скрюченных пальцев, плеснул на нее немного нашатыря и размеренными движениями протер окно. Тряпка сразу стала грязной и черной. Офицер сложил ее чистой стороной наружу, плеснул еще нашатыря и снова прошелся по окну, а когда закончил, то взял газету и принялся тереть стекло.
– Газета не оставляет разводов, – пояснил он.
– Danke, – поблагодарила я, протягивая руку за тряпкой и пузырьком нашатыря.
Но офицер только покачал головой и продолжал мыть окна, пока они не стали кристально чистыми, пока не начало казаться, что между комнатой, где мы заключили странное перемирие, и внешним миром, где ничего нельзя было принимать как должное, не осталось никаких преград.
Потом он посмотрел на меня.
– Повтори все, чему научилась.
Я молниеносно отбарабанила каждый шаг мытья окон, как будто от этого зависела моя жизнь, – наверное, так оно и было. Безукоризненно, на его родном языке. Когда я закончила, офицер смотрел на меня, как на диковинный музейный экспонат.
– Если бы я не видел тебя собственными глазами, никогда бы не сказал, что ты не völkisch. Ты говоришь как настоящая немка.
Я поблагодарила его, вспоминая дни, проведенные за разговорами с герром Бауэром, и мысленно сказала «спасибо» своему бывшему учителю, где бы он сейчас ни находился. Я потянулась за ведром, намереваясь закончить работу в других помещениях до того, как начальница над уборщицами придет за мной, но офицер покачал головой и поставил ведро на пол между нами.
– А печатать ты умеешь? – спросил он.
С запиской от офицера, научившего меня мыть окна, я отправилась на фабрику, которой руководил герр Фассбиндер, этнический немец. Он был ростом всего метр пятьдесят, и в одном из цехов у него работало множество девочек, многие были даже младше меня. Он называл всех meine Kleiner («мои малышки»). В их обязанности входило пришивать эмблемы на немецкие формы. Если в первый день я вздрагивала, когда видела, как десятилетние девочки пришивают свастику, то потом это стало обыденным явлением.
Я не была одной из швей. Я работала в кабинете герра Фассбиндера. В мои обязанности входило обрабатывать заказы, отвечать на телефонные звонки, каждую пятницу раздавать детям конфеты.
Поначалу герр Фассбиндер обращался ко мне, когда ему необходимо было получить какую-то информацию или продиктовать письмо, которое я должна была напечатать. Но однажды в цеху появились несколько парней, среди которых оказался Арон. Они принесли рулоны ткани, которую нужно было раскроить и сшить согласно заказам. Похоже, Арон удивился не меньше, чем я.
– Минка! Ты здесь работаешь?
– В конторе, – ответила я, провожая их в кладовую.
– Ух ты! Превосходная работа.
Я опустила глаза на свою юбку, которая на коленях совсем протерлась.
– О да! – отшутилась я. – Я почти особа королевской крови.
Но мы оба знали, насколько мне повезло: в отличие от мамы, которая потеряла зрение, потому что шила практически в темноте, и от красавицы Дары, которая убирала в квартирах офицеров, отчего ее руки танцовщицы потрескались и кровоточили от щелочи и мыла. В сравнении с этим двенадцать часов работы в теплой конторе за печатной машинкой – всего лишь прогулка в парке.
Как раз в этот момент через цех прошел герр Фассбиндер. Он перевел взгляд с меня на Арона, потом снова на меня и велел мне отправляться в кабинет, а остальным продолжать работать. Я села за письменный стол, собираясь печатать, когда заметила, что герр Фассбиндер стоит передо мной.
– Вот как! – широко улыбнулся он. – У тебя уже и жених есть.
Я покачала головой.
– Он мне не жених.
– Да, а я тебе не начальник.
– Он просто мой школьный приятель.
Я занервничала, опасаясь, что Арону влетит от начальства за то, что он разговаривал со мной на работе.
Герр Фассбиндер тяжело вздохнул.
– В таком случае, это возмутительно, – заявил он, – потому что ты очень ему нравишься. Ах, посмотрите, я заставил тебя краснеть! Ты должна дать молодому человеку шанс.
С тех пор, если нам необходимо было сырье, герр Фассбиндер просил, чтобы Арон был среди тех, кто это сырье доставляет. И он – какое совпадение! – всегда посылал меня открывать кладовую, хотя на фабрике были другие девушки, более подходящие для этой работы, чем его секретарша. После этого герр Фассбиндер приходил в контору и засыпал меня вопросами, пытаясь узнать подробности нашей встречи. Насколько я поняла, в душе он был настоящим сводником.
В конце концов он начал доверять мне свои тайны. Рассказал о жене Лизл, которая была настолько красива, что тучи рассеивались, когда она выходила на улицу. Герр Фассбиндер уверял меня, что она могла вскружить голову любому мужчине, но выбрала его, потому что он умел заставить ее улыбаться. А шесть лет назад его супруга умерла от туберкулеза. Больше всего он сожалел о том, что у них не было детей. Я уже привыкла к тому, что все мы у него на фабрике, от самых маленьких девочек до меня, считались детьми.
Иногда работа в цеху останавливалась, потому что сырья не хватало: не доставляли то одного, то другого. На этот раз не привезли нитки. Герр Фассбиндер пошел прогуляться, а когда вернулся, выглядел расстроенным. Прежде я его таким не видела.
– Нам нужны еще работники! – неожиданно заявил он.
Я испугалась: что нам делать с новыми рабочими, если нечем занять тех, которые уже есть?
На следующий день в придачу к обычным ста пятидесяти работникам герр Фассбиндер привез еще пятьдесят матерей с детьми. Дети были слишком малы, чтобы делать что-то полезное в цеху, поэтому он посадил их сортировать нитки по цвету. Арон привез тюки белой ткани. Летом текстильный цех получил заказ на пошив пятидесяти шести тысяч маскировочных костюмов для Восточного фронта, и мы должны были сшить эмблемы в тон.
Я знала, поскольку сама обрабатывала все заказы, что договор на эту работу пока не заключен, а значит, мы просто превратились в ясли на общественных началах.
– Это тебя не касается, – отрезал герр Фассбиндер, когда я сказала ему об этом.
На этой же неделе объявили, что двадцать тысяч евреев будут депортированы из гетто. Староста Румковский договорился, чтобы количество сократили вдвое, но списки десяти тысяч тех, кто покидал гетто, были уже составлены. Первыми туда вошли цыгане, жившие в отдельной части гетто. Вторыми – преступники. Потом те, у кого не было работы.
Например, как эти пятьдесят матерей, которым повезло, что они сюда прибыли. Что-то мне подсказывало, что если бы герр Фассбиндер мог забрать все десять тысяч человек из списков на свою маленькую фабрику, то он бы обязательно это сделал.
В первую неделю января все внесенные в списки получили повестки – «приглашения на свадьбу», как мы иронически их называли, на вечеринку, на которую никто не хотел идти. Тысячу людей каждый день сажали в вагоны и вывозили из гетто. К этому времени наши новые работницы пообвыклись и стали пришивать эмблемы, как будто с рождения этим занимались.
Однажды вечером, когда я накрывала машинку чехлом, герр Фассбиндер спросил, как обстоят дела у моей семьи. Он впервые заговорил со мной о жизни вне этих стен. Я вздрогнула.
– Нормально.
– Никто в списки не попал? – напрямую спросил он.
И я поняла, что он знает обо мне гораздо больше, чем я думала, поскольку в эти списки попали родственники тех, у кого не было работы, или тех, кто совершил преступление.
Но какую бы сделку ни заключила Бася со старостой, он не обманул. Она не знала, где ее муж, жив ли он, но ее не рекомендовали к депортации из-за преступления Рувима.
Герр Фассбиндер выключил свет, и на фоне маленького окна в кабинете я видела только очертания его профиля.
– Вы знаете, куда их увозят? – выпалила я, неожиданно обретя в темноте смелость.
– На фермы в Польше, – ответил он.
Наши взгляды встретились. Так нам сказали о Рувиме несколько месяцев назад. По моему выражению лица герр Фассбиндер видел, что я ему не поверила.
– Это война, – тяжело вздохнул он. – От войны не убежишь.
– А если бы у человека были документы? – прошептала я. – Христианские документы.
Не знаю, что толкнуло меня приоткрыть ему, немцу, свою самую большую тайну, которую не знали даже родители. Но что-то в этом человеке, в том, на что он пошел, чтобы защитить людей, которые были ему чужими, вызвало у меня доверие.
– Если бы у человека были христианские документы, – произнес он после продолжительной паузы, – я бы посоветовал ему ехать в Россию и оставаться там, пока война не закончится.
Я вышла в тот вечер с работы и расплакалась. Не потому, что герр Фассбиндер был прав, не потому, что я знала, что никуда не уеду, ведь это означало бы оставить свою семью.
А потому, что, когда мы запирали контору в темноте, герр Фассбиндер придержал для меня дверь, как будто я была юной дамой, а не простой еврейкой.
* * *
Несмотря на то что мы верили, будто составленные в январе списки – единственный ужасный момент в истории войны, несмотря на то что староста в своих выступлениях уверял, что мы стали для Германии незаменимой рабочей силой, прошло всего две недели, и немцы потребовали депортировать еще больше людей. Теперь слухи распространялись мгновенно, как пожар, потому что о тех, кто уезжал, больше никто и никогда не слышал. Сложно было представить, что человек, устроившись на новом месте, не попытался бы послать весточку своей семье.
– Я слышала, – однажды утром сказала Дара, когда мы ждали паек у бесплатной столовой, – что их убивают.
Мама настолько уставала на работе, что не могла часами выстаивать в огромных очередях, – мы стояли за едой гораздо дольше, чем ели ее. Отец продолжал трудиться в пекарне, а Бася забирала сына из яслей – официально ясли расформировали, но они продолжали функционировать нелегально на многих фабриках. На меня возложили обязанность получать еду и приносить ее домой. По крайней мере, со мной была Дара, и мне было не скучно.
– А зачем убивать, если мы работаем на них бесплатно?
Дара наклонилась ко мне ближе.
– Газовые камеры, – прошептала она.
Я закатила глаза.
– Я считала, это выдумки.
Но хотя я полагала, что Дара рассказывает дичайшие истории, какие-то моменты были похожи на правду. Например, теперь власти вызывали добровольцев, обещая им усиленное питание. Одновременно продуктовый паек снова урезали – словно для того, чтобы убедить тех, кто еще колебался. И если человек принимал все сказанное за чистую монету и мог выбраться из этой дыры, в придачу набив желудок, кто стал бы отказываться?
Но потом издали новый закон, согласно которому скрывать лиц, указанных в списке на депортацию, считалось преступлением. И тут произошел случай с раввином Вейсом, которому поручили выбрать триста человек из паствы для ближайшего выселения. Он отказался назвать фамилии, и когда солдаты пришли его арестовать, то обнаружили раввина с женой мертвыми в кровати. Они лежали, крепко взявшись за руки. Мама сказала, что им повезло умереть вместе. Неужели она считает меня настолько глупой, чтобы я могла верить в подобные сказки?
К концу марта 1942 года у каждого были знакомые, которых депортировали: мою троюродную сестру Ривку, тетю Дары, родителей Рувима, моего бывшего врача. Началась еврейская Пасха, и она принесла дополнительные проблемы, но никакой кровью жертвенного ягненка невозможно было спасти семью от трагедии. Казалось, единственная кровь, которая годится, – та, что течет в жилах семьи.
Родители пытались защитить меня и делились только частью информации о Aussiedlungin (выселениях). «Сохраняй достоинство в любой ситуации, – учила меня мама. – Будь добра к людям, а потом уже заботься о себе. Пусть окружающие чувствуют, что их судьба тебе не безразлична». Отец велел мне спать в сапогах.
Лишь через несколько часов я забрала скудный паек, который полагался нам на две недели. К этому времени ноги мои превратились в ледышки, ресницы слиплись. Дара дышала на руки, пытаясь их согреть.
– Конечно, не лето, – сказала она, – зато меньше вероятность, что молоко скиснет.
Я проводила ее немного: до поворота на другую улицу, где она жила.
– Чем завтра займемся?
– Не знаю, – ответила Дара. – Может, по магазинам прогуляемся.
– Только сначала чаю зайдем выпить.
Дара улыбнулась.
– Минка, честное слово, ты когда-нибудь перестанешь думать о еде?
Я засмеялась и повернула за угол. Одна я шла быстрее, пряча глаза от проходящих мимо солдат и даже знакомых. Слишком тяжело стало смотреть на людей. Казалось, можно упасть в их пустые глаза и уже никогда оттуда не выбраться.
Когда я добралась до квартиры, перепрыгнув через отсутствующую деревянную ступеньку, – ее сожгли еще в декабре – то сразу заметила, что дома пусто. По крайней мере, ни света, ни признаков жизни не было.
– Есть здесь кто? – окликнула я, вошла и поставила полотняный мешок с провиантом на стол.
Отец сидел на стуле, обхватив голову руками. Кровь сочилась сквозь его пальцы.
– Папа! – воскликнула я, подбежала и убрала его руку, чтобы осмотреть рану. – Что случилось?
Он смотрел на меня невидящими глазами.
– Они забрали ее… – Голос его оборвался. – Они забрали твою маму.
Оказалось, что необязательно быть в списке, чтобы тебя депортировали. Или, возможно, мама получила свое «приглашение на свадьбу» и решила ничего нам не рассказывать, чтобы не волновать. Всего мы не знали; единственное, что нам было известно: отец вернулся с работы домой и застал в гостиной солдат СС, которые орали на мою маму и дядю. К счастью, Бася унесла Меира на прогулку, и ее дома не было. Мама бросилась к отцу, но его ударили прикладом винтовки, и он упал без сознания. Когда очнулся, мамы уже не было.
Отец рассказал мне это, пока я обрабатывала рану у него на лбу. Потом он усадил меня на стул, опустился на колени, снял с моей левой ноги сапог и ударил каблуком об пол. Тот отскочил, открылся тайничок с золотыми монетами. Папа достал их.
– В другом сапоге есть еще, – сказал он, словно пытаясь убедить себя, что поступает правильно.
Потом опять надел сапог мне на ногу, взял меня за руку и повел на улицу. Несколько часов мы бродили по гетто, пытаясь узнать, кто занимается депортацией. Люди шарахались от нас, как будто несчастье заразно. Солнце опускалось все ниже и ниже, пока не разбилось о крыши домов, словно желток.
– Папа, – напомнила я, – скоро начнется комендантский час.
Но он, казалось, меня не слышал. Я испугалась, что отец решил: если он не сможет найти маму, ему незачем жить.
Очень скоро нас арестовал патруль СС. Один из полицейских ткнул пальцем в отца и завопил:
– Убирайся с улицы!
Но отец продолжал приближаться к нему, протягивая монеты на ладони. Солдат прицелился.
Я прикрыла собой отца.
– Пожалуйста! – взмолилась я по-немецки. – У него в голове помутилось.
Второй патрульный шагнул вперед, положил руку на плечо товарища, и тот опустил пистолет. Я опять смогла дышать.
– Was ist los? – спросил он. («В чем дело?»)
Отец взглянул на меня. На его лице читалась такая мука, что мне было больно смотреть ему в глаза.
– Спроси, куда ее увели.
Я послушалась. Объяснила, что мою маму и дядю сегодня увели из дома солдаты, и мы пытаемся их разыскать. Потом отец заговорил на международном языке: начал совать золотые монеты в защищенную перчаткой руку солдата.
В свете уличных фонарей ответ полицейского обрел форму. Слова заполнили все пространство между нами.
– Verschwenden Sie nicht ihr Geld![40] – рявкнул он и швырнул монеты на камни. Потом кивнул в сторону нашего дома – напомнил о том, что мы нарушаем комендантский час.
– Мое золото ничем не хуже, чем у остальных! – гневно крикнул им в спину отец. – Мы найдем кого-нибудь другого, Минка, – пообещал он. – Обязательно найдется в гетто солдат, готовый за деньги поделиться информацией.
Я опустилась на колени и собрала блестевшие на булыжной мостовой монеты.
– Да, папа, – ответила я, зная, что это неправда. Потому что поняла, что сказал солдат.
«Не тратьте понапрасну деньги».
* * *
На следующий день после маминого исчезновения я отправилась на работу. Несколько девушек отсутствовали, остальные плакали над нашивками. Я села за печатную машинку, попыталась погрузиться в требования-заказы, но ничего не получилось. Когда я сделала опечатку пятый раз подряд, то ударила кулаком по клавишам, и они одновременно взлетели вверх, печатая строку какой-то чепухи, словно весь мир начал говорить одновременно.
Герр Фассбиндер вышел из своего кабинета и застал меня в слезах.
– Ты расстраиваешь других девочек, – заявил он.
Еще бы! Я видела, как некоторые таращатся на меня через окно, которое отделяло мой стол от цеха.
– Иди сюда.
Я прошла в его кабинет и села, как садилась, собираясь записывать под диктовку.
Герр Фассбиндер не стал делать вид, что ничего не знает о вчерашнем Aussiedlung. И не начал успокаивать меня. Просто протянул носовой платок.
– Сегодня будешь работать здесь, – сказал он и вышел, закрыв за собой дверь.
Пять дней я двигалась на работе, как автомат, а потом дома – как привидение, молча ухаживая за отцом, который перестал есть и все время молчал. Бася кормила его с ложечки бульоном, как кормила Меира. Я понятия не имела, как папа выстаивает смену в пекарне, и решила, что его товарищи делают за него то, что он не способен сделать сам. Я не знала, что хуже: в одно мгновение потерять мать или постепенно терять отца.
Однажды вечером, возвращаясь с фабрики, я почувствовала за собой тень – она дышала мне в спину, словно дракон! – однако, оборачиваясь, не видела никого, кроме изможденных соседей, которые спешили попасть домой и закрыть за собой дверь, пока беда не вползла к ним через порог. Тем не менее я не могла отделаться от ощущения, что меня преследуют. Страх все нарастал, удваивался, увеличивался, заполнял каждую клеточку мозга – так поднималось папино тесто, если дать ему достаточно времени. Сердце бешено колотилось. Я ворвалась в квартиру, которая стала неуютной, когда обе мои кузины исчезли, – как будто мы незаконно заняли жилплощадь, а не находились там на правах гостей.
– Бася! – крикнула я. – Папа!
Но, как обычно, мне не повезло: я была дома одна.
Я размотала шарф, расстегнула пальто, но снимать не стала, потому что в квартире отопления не было. Потом сунула в рукав нож – так, на всякий случай.
Из одной спальни – той, где жили мои троюродные сестры, когда мы только переехали, – раздался шум. Я, насколько могла тихо в своих тяжелых ботинках, прокралась по коридору и заглянула в открытую дверь. Одно из оконных стекол было разбито. Я огляделась в поисках камня, но ничего похожего на полу не валялось. Я опустилась на колени и принялась руками сгребать осколки в подол юбки.
Там… Ничего мне не показалось! Краем глаза я заметила метнувшуюся тень.
Я вскочила, стекло с грохотом посыпалось на пол. Я рванула дверь спальни и увидела за ней высокого худого парня, который разбил окно, чтобы спрятаться в квартире. Я выхватила нож из рукава, удерживая его в углу.
– У нас ничего для тебя нет! – воскликнула я. – Ни еды. Ни денег. Уходи!
У парня были глаза как блюдца, рваная и обтрепанная одежда. В отличие от нас, голодающих, у него под рубашкой бугрились мышцы. Он шагнул вперед.
– Стой, или я убью тебя! – воскликнула я и в ту секунду поняла, что способна на это.
– Я знаю, что случилось с твоей мамой, – произнес он.
Я, выдумавшая историю о живом мертвеце, который влюбился в обычную девушку, поверить не могла в те невероятные вещи, что рассказывал парень. Звали его Герш, он был с моей мамой в товарном поезде, который отправили из гетто. Поезд проехал от Лодзи в сторону Коло километров семьдесят, потом всех пересадили в другой состав, который поехал по узкоколейке до Поверче. Когда они приехали, день уже клонился к вечеру, и ночь они провели на заброшенной мельнице в нескольких километрах от города.
Там Герш и познакомился с моей мамой. Она рассказала, что у нее есть дочь – его ровесница, сказала, что волнуется за меня. Мама надеялась, что найдет способ передать весточку в гетто. Еще она спросила, есть ли у Герша там семья.
– Она напомнила мне мою маму, – признался Герш. – Моих родителей забрали во время второй волны выселения. Я надеялся, что нас повезут на работу в то же место, и мы встретимся.
Мы сидели всей семьей: Бася, я и отец, который цеплялся за каждое сказанное Гершем слово. В конце концов, если он здесь, возможно, и мама скоро вернется?
– Продолжай, продолжай! – торопил он.
Герш уставился на коросты на своих руках, губы его задрожали.
– На следующее утро солдаты разделили нас на небольшие группки. Твоя мама с одной группой села в грузовик, а я с еще десятью высокими и крепкими парнями поехал в другом. Мы остановились у большого каменного особняка. Нас отвели в подвал. Все стены его были исписаны, а одно предложение было на идиш: «Тот, кто сюда войдет, живым отсюда не выйдет». Еще там было забитое досками окно… – Герш тяжело сглотнул. – Через него было слышно, что происходит на улице. Подъехал другой грузовик, и один из немцев сообщил тем, кого привезли, что их отправляют на Восток на работы. Но сперва они обязаны вымыться и надеть чистую одежду, которую даже обработали от паразитов. Сидящие в грузовике зааплодировали, и несколько минут спустя мы услышали, как мимо подвального окна прошлепали голые ноги.
– Значит, с ней все в порядке, – выдохнул отец.
Герш опустил взгляд.
– На следующий день меня отправили на работу в лес вместе с другими парнями, которые ночевали в подвале. Уходя, я заметил фургон, припаркованный у дома. Двери были открыты, внутрь вел пандус. На полу лежала деревянная решетка, похожая на те, что бывают в общественных банях. Но мы туда не заходили, поехали на грузовике с брезентовыми бортами. С нами отправились тридцать эсэсовцев. В лесу была вырыта яма. Нам раздали лопаты и приказали копать еще. В начале девятого приехал первый фургон. Похожий на тот, что я видел у особняка. Солдаты открыли дверцу и тут же отскочили в сторону. Из фургона вырвался серый дым. Через пять минут троих из нас отправили внутрь. Я был одним из тех троих… – Он втянул воздух, как будто дышал через соломинку. – Люди внутри отравились газом. Тела были еще теплыми. Они так и продолжали держаться друг за друга. И были в одном белье. Тех, которые остались живы, эсэсовцы добили. После того как мы выгрузили тела, их обыскали на предмет наличия золота, драгоценностей или денег. А потом мы похоронили их в яме. Полотенца и куски мыла, которые им выдали перед помывкой, собрали и отправили назад к особняку для следующей партии.
Я уставилась на Герша. Какая-то бессмыслица! Зачем убивать людей – людей, которые производили столь необходимые на войне вещи? А потом я сложила два и два… Герш здесь, а моей мамы нет. Герш видел трупы, которые выгружали из фургонов…
– Ты лжешь! – не сдержалась я.
– Если бы… – прошептал он в ответ. – Твоя мама… Она была в третьем фургоне.
Отец уронил голову на стол и зарыдал.
– Шестерых парней, которых отобрали для работы в лесу, в тот же день убили – застрелили, потому что они недостаточно быстро копали яму. Я выжил. Ночью хотел повеситься в подвале, но потом вспомнил, что, хотя у меня семьи не осталось, у твоей мамы семья была. Может быть, я смогу вас найти… На следующий день по дороге в лес я попросил сигарету. Эсэсовец протянул мне ее, и тут всем в грузовике захотелось покурить. Его окружила толпа, а я достал из кармана ручку и проткнул брезент, потом проделал довольно большую дыру. И выпрыгнул из грузовика. Раздались выстрелы, но мне удалось убежать в лес и добраться до какого-то сарая. Я спрятался под стогом сена и пролежал там два дня, а после тайком вернулся сюда.
Я слушала Герша, и мне хотелось кричать. Какой же он дурак: вернулся в гетто, когда все хотят отсюда выбраться! С другой стороны, если выбраться отсюда означает умереть в наполненном газом фургоне… В глубине души я не могла поверить в то, что он рассказывал, и продолжала гнать от себя страшные мысли. Но мой отец… Он тут же завесил единственное зеркало в квартире. И сел на пол, а не на стул. Разорвал рубашку. Мы с Басей последовали его примеру – стали оплакивать маму, как велит наша религия.
Ночью, услышав, что отец плачет, я присела на край матраса, на котором они спали с мамой. У нас, раньше с трудом размещавшихся в этой квартире, сейчас оказалось места больше, чем требовалось.
– Минка, – сказал отец таким тихим голосом, что я едва расслышала. – На моих похоронах… убедись, чтобы… убедись, чтобы… – Он запнулся, не в силах произнести свое пожелание.
За одну ночь он весь поседел. Если бы я не видела это собственными глазами, никогда бы не поверила.
Сложнее всего, наверное, поверить, что даже ужас может стать обыденным. Раньше я представляла, каково это – видеть, что упырь пьет кровь только что убитого человека, и не отвернуться. Теперь я по собственному опыту знала: можно стать свидетелем того, как старухе выстрелили в голову, и вздохнуть, потому что брызги ее крови испачкали твое пальто. Можно глохнуть под заградительным огнем и даже глазом не моргнуть. Перестаешь ожидать самого страшного, потому что оно уже случилось.
Или тебе кажется, что случилось.
В первый день сентября у больниц гетто появились военные грузовики, и эсэсовцы принялись выгонять и грузить в них больных. Дара рассказала мне, что люди видели, как в детских больницах младенцев выбрасывали прямо из окон. По-моему, именно тогда я поняла, что Герш не преувеличивал. Этих мужчин и женщин в больничных халатах – некоторые были настолько слабы, что не могли самостоятельно стоять, – не могли увозить на работу на восток.
На следующий день староста выступил с речью. Мы с сестрой стояли на площади, по очереди качая Меира. Малыш кашлял и капризничал. Отец, от которого осталась одна тень, с нами не пошел. Он с трудом ходил на работу и возвращался домой, но в остальное время на людях не появлялся. В каком-то смысле мой маленький племянник был более способен позаботиться о себе.
Голос старосты Румковского хрипел в громкоговорителях, развешанных по углам площади.
– Гетто постиг суровый удар, – начал он. – Они требуют от нас самое дорогое – наших детей и стариков. Мне Бог детей не подарил, поэтому свои лучшие годы я посвятил чужим детям. Я жил и дышал с детьми одним воздухом. И представить себе не мог, что собственными руками придется возлагать на алтарь такую жертву. В моем возрасте я должен воздеть руки и молить… Братья и сестры, отдайте их мне! Матери и отцы, отдайте мне ваших детей!
Из толпы неслись вздохи, крики, вопли. Я как раз держала Меира на руках и еще крепче прижала его к себе, но Бася вырвала малыша у меня из рук и зарылась лицом в его волосы. Рыжие, совсем как у Рувима…
Староста продолжал говорить о том, что придется депортировать еще двадцать тысяч человек. Кто-то рядом со мной воскликнул:
– Мы все уедем!
Какая-то женщина выкрикнула свое предложение: никто из родителей не станет отдавать единственного ребенка, пусть отдают те, у кого их двое-трое.
– Нет, – прошептала Бася с полными слез глазами, – я не позволю его забрать!
Она так крепко обняла Меира, что он заплакал. Теперь староста убеждал всех, что это единственный способ ублажить немцев. Что он осознает весь ужас своей просьбы. Что его заверили: немцы будут забирать только детей младше десяти лет, потому что они не поймут, что с ними происходит.
Бася согнулась пополам, и ее стошнило прямо на мостовую. Прижимая к себе Меира, она начала выбираться из толпы, держась подальше от возвышения, на котором стоял староста.
– Я понимаю, это все равно, что оторвать от себя руку или ногу… – вещал Румковский, пытаясь оправдаться.
Я тоже все понимала.
Это означало, что человек истечет кровью.
* * *
В конце рабочего дня герр Фассбиндер не разрешил нам покинуть фабрику, не разрешил даже съездить домой, чтобы предупредить родителей, что мы задержимся допоздна. Офицерам, которые потребовали объяснений, он ответил, что у него горит план и он оставляет всех работать на ночь. Он забаррикадировал двери и встал около них с пистолетом, которого я раньше у него не видела. Я думаю, если бы какой-то солдат пришел забрать работающих здесь детей, герр Фассбиндер выступил бы против своей страны. И все это, я точно знала, ради того, чтобы нас защитить.
Во время комендантского часа эсэсовцы и полиция обыскивали дома и забирали детей.
Мы слышали крики и выстрелы, но герр Фассбиндер велел всем сидеть тихо. Молодые матери, с трудом сдерживая слезы, качали на руках малышей, а детям постарше он велел раздать леденцы и разрешил играть с пустыми бобинами, как с кубиками.
К утру я была сама не своя. Не могла не думать о Басе и Меире – кто защитит их, если от отца осталась лишь тень?
– Герр Фассбиндер, – взмолилась я. – Отпустите, пожалуйста, меня домой. Мне восемнадцать, я уже взрослая.
– Для меня ты Meine Kleine, ребенок, – ответил он.
И тогда я совершила невероятно дерзкий поступок. Коснулась его руки. Как бы хорошо герр Фассбиндер ко мне ни относился, я не позволяла себе думать, что мы ровня.
– Если я вернусь домой завтра или послезавтра и обнаружу, что, пока меня не было, забрали еще кого-то, мне незачем будет жить.
Герр Фассбиндер долго и пристально смотрел на меня, потом направился к двери. Вышел на улицу и подозвал немца-полицейского.
– Эта девушка должна добраться домой целой и невредимой, – сказал он. – Это очень важно. В противном случае спросится с тебя. Ты понял?
Полицейский был немногим старше меня. Он кивнул, угроза наказания напугала его. Он поспешно повел меня домой и остановился, только когда я подошла к крыльцу.
Пробормотав по-немецки слова благодарности, я влетела внутрь. Света не было, но я знала, что это не остановит немецких солдат от того, чтобы войти внутрь и найти Меира. Отец вскочил, когда услышал, что я вошла. Он обнял меня и погладил по голове.
– Минуся, – прошептал он, – я думал, что потерял тебя.
– Где Бася? – спросила я.
Отец отвел меня к кладовке, пол в которой моя троюродная сестра Ривка сорвала больше двух лет назад. Кипа газет прикрывала лаз в подпол. Я отодвинула газеты и увидела блестящие Басины глаза, со страхом вперившиеся в меня. Я услышала, как Меир тихо сосет пальчик.
– Отлично, – сказала я. – Очень хорошо. Давайте сделаем еще лучше.
Я лихорадочно осмотрела квартиру, и взгляд мой упал на бочку, которую отец принес из пекарни. Раньше в ней хранилась мука, а теперь она служила нам кухонным столом, поскольку сам стол мы уже давно сожгли в печке. Я перевернула бочку на бок и покатила к кладовой, а потом водрузила над дырой в полу. Нет ничего странного в том, что бочка из-под муки хранится в кладовой.
Мы понимали, что они приближаются, потому что слышали людей в соседних квартирах – крики тех, кого забирали из семьи, и тех, кто оставался. Однако прошло еще три часа, прежде чем они вошли к нам и потребовали указать местонахождение Меира.
– Я не знаю, – ответил отец. – Дочь не возвращалась домой с тех пор, как объявили комендантский час.
Один из эсэсовцев повернулся ко мне.
– Скажи нам правду.
– Мой отец и говорит правду, – подтвердила я.
И тут я услышала… Покашливание, тихий плач.
Я тут же прикрыла рот рукой.
– Ты больна? – спросил эсэсовец.
Я не могла ответить «да», потому что меня забрали бы как больную, которая подлежит депортации.
– Водой поперхнулась, пошла не в то горло, – ответила я, в доказательство громко хлопая себя по груди.
После этого эсэсовцы перестали обращать на меня внимание и начали открывать шкафы, ящики, заглядывать всюду, где не спрятался бы и ребенок. Они тыкали штыками в матрасы: а вдруг мы спрятали Меира там? Искали даже в недрах дровяной печи. Когда они направились к кладовой, я замерла. Один из солдат пошарил винтовкой по полкам, сбрасывая на пол наш скудный провиант, потом подошел к пустой бочке и заглянул в нее. После обернулся и равнодушно посмотрел на меня.
– Если окажется, что она прячет ребенка, мы ее убьем, – сказал он и пнул бочку.
Бочка не опрокинулась, не покачнулась, только чуть-чуть сдвинулась вправо, потянув за собой газеты и открывая крошечную черную трещину – всего лишь намек на то, что газеты прикрывают зияющую дыру.
Я затаила дыхание, уверенная, что солдат ее заметил, но он уже крикнул другим, чтобы шли в следующую квартиру.
Мы с отцом смотрели вслед удаляющимся эсэсовцам.
– Пока рано, – прошептал отец, хотя я порывалась броситься к кладовой.
Он украдкой указал на окно, откуда мы могли видеть, как наших соседей выгоняют из домов, уводят, расстреливают. Через десять минут, когда солдаты ушли с улицы и отовсюду слышался только вой несчастных матерей, отец побежал в кладовую и отодвинул бочку в сторону.
– Бася, – воскликнула я, – пронесло!
Она всхлипывала и улыбалась сквозь слезы. Отец помог ей выбраться из узкого подпола. Бася села, продолжая прижимать Меира к себе.
– Я думала, они услышат, как он кашляет, – сказала я, крепко обнимая сестру.
– Я тоже, – призналась Бася. – Но он был молодцом. Правда, мой маленький мужчина?
Мы взглянули на Меира, личико которого Бася крепко прижимала к своей шее – единственный способ, чтобы он не кричал.
Меир больше не кашлял. И не кричал. Теперь выла моя сестра, глядя на посиневшие губы и пустые глаза сына.
* * *
Детей в фургонах вывозили через ворота гетто. Некоторые были нарядно одеты – вернее, одеты в то, что к этому моменту осталось от этих нарядов. Они плакали и звали матерей. А те обязаны были вернуться на работу, как будто ничего экстраординарного не случилось.
Гетто стало городом-призраком. Мы превратились в обессиленные серые тени, которые не хотели вспоминать своего прошлого и не верили, что у них есть будущее. Никто не улыбался, никто не играл в «классики». Никаких лент в волосах. Никакого смеха. Ни цвета, ни красоты не осталось.
Именно поэтому говорили, что смерть стала ее спасением. Словно птица, Бася слетела с моста над улицей Лютомерской на дорогу, по которой евреям ходить запрещалось. Говорили, что распущенные волосы развевались у нее за спиной, как крылья, а юбка напоминала хвост. Пули, которые попали в Басю в полете, добавили алого цвета в ее оперение – она напоминала птицу феникс, которая должна восстать из пепла.
В темноте раздалось негромкое рычание, скорее даже урчание. Чирканье спички. Запах серы. Вновь ожил факел. Передо мной в луже крови сидел человек с безумным взглядом и спутанными волосами. Кровь капала у него изо рта и с рук, в которых он держал кусок мяса. Я отпрянула, задыхаясь. Мы находились в пещере в скале, где, по словам Алекса, он устроил себе скромное жилище. Я пришла сюда в надежде найти Алекса после того, как он сбежал с городской площади. Но это… Это был не Алекс.
Человек – хотя как можно назвать это чудовище человеком? – шагнул ко мне. Кусок мяса, который он держал в руках, имел руку, пальцы… И эти пальцы продолжали сжимать набалдашник позолоченной трости, которую я не смогла бы забыть, даже если бы и хотела. Нашелся Барух Бейлер!
Я почувствовала, как перед глазами все плывет.
– Виновато не дикое животное, – выдавила я из себя. – Это ты сделал.
Каннибал улыбнулся, зубы его были в алой крови.
– Дикое животное, упырь… К чему эти тонкости?
– Ты убил Баруха Бейлера.
– Ханжа. Ты можешь, положа руку на сердце, сказать, что не желала ему смерти?
Я вспомнила все те случаи, когда сборщик налогов приходил к нам в дом и требовал денег, которых у нас не было, принуждая отца заключать сделки, чем все больше и больше загонял его в долги. Внезапно я почувствовала, что меня вот-вот вырвет.
– Мой отец… – прошептала я. – Его ведь ты убил?
Когда упырь не ответил, я набросилась на него – ногти и злость были моим главным оружием. Я впивалась в его плоть, пиналась, била его руками. Я либо отомщу за смерть отца, либо погибну, пытаясь отомстить!
Внезапно я почувствовала, как кто-то обхватил меня за талию и рванул назад. Я упала.
– Прекрати! – крикнул Александр, всем весом навалившись на меня.
В этом положении я видела цепи, которые были надеты на голые, грязные ноги упыря, и кучку побелевших костей рядом с ним. Еще я видела оборванные рукава на пропитанной кровью рубашке Александра. Что бы он ни сделал, пытаясь освободиться от веревок, которыми связал его Дамиан, ему было больно.
– Оставь меня! – кричала я. Я не хотела, чтобы Александр меня спасал, только не сейчас, когда я хочу отомстить за смерть отца.
– Прекрати! – взмолился Алекс, и я поняла, что не меня он пытается защитить. – Пожалуйста, он мой брат!
Я перестала сопротивляться. Это и есть Казимир? Слабоумный мальчик, с которым Алексу приходится сидеть днем и которого нужно запирать по ночам, чтобы он не съел то, что не должен? Честно говоря, я никогда не видела его лица без кожаной маски. И Алекс говорил, что он глотает всякую дрянь: камни, ветки, грязь… Но ведь не людей же! Выходит, я не могу доверять тому, что говорит Алекс?
Я покачала головой, пытаясь понять. Алекс защищал меня. Он спас мне жизнь, когда на меня напали, – напал его собственный брат. Но у него были такие же загадочные янтарного цвета глаза, как и у находящегося рядом со мной создания; а в его венах текла такая же кровь.
– Он твой брат, – повторила я, и голос мой сорвался. – А у меня больше нет отца! – Я отскочила от Алекса и посмотрела в лицо Казимиру. – Потому что ты убил его, признайся!
Я дрожала так сильно, что едва стояла на ногах. Но Казимир молчал, глухой к моим мольбам.
Я бросилась к выходу, ударяясь о стены пещеры и спотыкаясь, упала и больно ударилась. Когда я с трудом встала, Александр заключил меня в объятия. Я застыла, помня, что он косвенно стал причиной моих страданий.
– Ты должен был его остановить! – рыдала я. – Он убил единственного человека, который меня любил!
– Твой отец не единственный, кто тебя любит, – признался Алекс. – В его смерти Казимир не виноват. – Он отвернулся, скрывая лицо. – Потому что его убил я.
Минка
Какое-то время люди исчезали из гетто, как отпечатки пальцев с оконного стекла, – на мгновение появлялись в поле зрения, как привидения, а в следующую секунду их уже не было. Смерть шла рядом со мной, когда я тащилась по улице, нашептывала мне на ухо, когда я умывалась, заключала в свои объятия, когда я дрожала в постели. Я больше не работала у герра Фассбиндера, меня перевели на фабрику, где изготавливали кожаные сапоги. У меня дрожали руки, даже когда я не шила, – так трудно было проткнуть иглой жесткую кожу. Мы жили в ожидании того, что в любую секунду нас могут депортировать. Некоторые женщины на фабрике снимали бриллианты с обручальных колец и просили дантистов запломбировать их в зубы. Другие прятали во влагалище мешочки с монетами и так и ходили на работу на случай, если их увезут прямо оттуда. Тем не менее мы продолжали жить. Работали, ели, праздновали дни рождения, читали, писали, молились, каждое утро просыпались – и все повторялось сначала.
Однажды в июле 1944 года я пошла к Даре, стоявшей в очереди за пайком, и не нашла подругу. Однако горевать у меня времени не было. Потеря самых близких людей уже перестала быть неожиданной. Кроме того, через три дня мы с отцом обнаружили свои имена в списках на депортацию.
Стояла жара, невероятное пекло, и невозможно было поверить, что несколько месяцев назад мы, как ни пытались, не могли согреться. На фабрике было не продохнуть, окна закрыты, воздух такой тяжелый, что, казалось, в горле у тебя губка. Впервые за двенадцать часов я вышла на улицу, обрадовалась свежему воздуху и неспешно побрела домой, где мы с отцом будем сидеть всю ночь и гадать, что же будет завтра утром, ждать решения своей участи на городской площади.
Вдруг я поймала себя на том, что свернула в узкие улочки и извилистые переулки гетто. Я знала, что Арон живет где-то здесь, но мы уже несколько недель не виделись, и вполне вероятно, что его, как и Дару, депортировали.
Я спросила у случайного прохожего, не знает ли он Арона, но мужчина только покачал головой и пошел дальше. Я поступала против правил. Мы старались не вспоминать о тех, кого забрали, как некоторые народы не упоминают мертвых, опасаясь, что они будут преследовать живых.
– Арон, Арон Сендик. Вы его видели? – остановила я какую-то старуху.
Она взглянула на меня, и я ужаснулась, поняв, что эта женщина – седая, с проплешинами на голове, с кожей, свисающей с костей, словно тяжелая ткань с вешалки, – ненамного старше меня.
– Он живет вон там, – неохотно указала она на дом дальше по улице.
Дверь открыл перепуганный Арон. А как ему было не испугаться? После стука в дом обычно вваливались солдаты. Но когда он увидел меня, его лицо преобразилось.
– Минка!
Он протянул руку и втащил меня в квартиру. Там было жарко, как в печке.
– Дома есть кто-нибудь?
Арон покачал головой. Он был в майке и брюках, которые заколол булавкой, чтобы они хоть как-то держались на костлявых бедрах. Плечи его лоснились от пота и блестели, словно медный клотик флагштока.
Я встала на цыпочки и поцеловала его.
От него пахло сигаретами, волосы на затылке были влажными. Я прижалась к нему всем телом и поцеловала еще более страстно, как будто много лет только об этом и мечтала. Наверное, так оно и было. Только не с Ароном.
В конце концов Арон, должно быть, понял, что это не галлюцинация, потому что его руки обвили мою талию и он начал отвечать на мои поцелуи – сперва осторожно, потом неистово, как голодающий, которого подпустили к праздничному столу.
Я отстранилась, посмотрела Арону в глаза и расстегнула блузку. Распахнула ее. Смотреть было не на что. Ребра выдавались вперед больше, чем грудь.
Под глазами у меня были круги, волосы стали тусклыми и спутанными, но, по крайней мере, они остались длинными.
Я не сразу заметила выражение глаз Арона.
– Минка, ты что делаешь? – прошептал он.
Я смутилась и запахнула блузку. Наверное, я стала слишком уродливой даже для этого парня, которому когда-то нравилась.
– Если ты не понимаешь, значит, я плохо объяснила, – ответила я. – Прости за беспокойство…
Я повернулась и поспешила к двери, на ходу застегивая пуговицы, но Арон схватил меня за руку.
– Не уходи, – негромко попросил он. – Пожалуйста!
Когда он снова меня поцеловал, я подумала, что если бы у меня было время и, может быть, другая жизнь, то я бы в конце концов могла в него влюбиться.
Арон уложил меня на матрас, на котором спал прямо посреди однокомнатной квартиры. Не было необходимости спрашивать, почему именно сейчас, почему именно он. Я не хотела отвечать, а ему бы не понравился мой ответ. Он сел рядом и взял меня за руку.
– Ты уверена? – спросил Арон.
Когда я кивнула, он раздел меня и подождал, пока моя кожа высохнет от пота. Потом стянул майку, сбросил штаны и лег на меня.
Было больно, когда он двигался между моими ногами. Когда вошел в меня. Я не понимала, вокруг чего такая суета, почему поэты воспевают эти мгновения в стихах. Почему Пенелопа ждала Одиссея, почему рыцари рвались в бой, а рукояти мечей у них были обвязаны лентами, подаренными любимыми. Но потом поняла. Мое сердце, которое билось в груди, словно мотылек, забилось медленнее в такт его сердцу. Я чувствовала, как кровь в его венах течет в унисон с моей, словно постоянный припев песни. С ним я стала другой, превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. На минуту я стала девушкой чьей-то мечты. Смыслом продолжать жить.
После близости, когда я оделась, Арон настоял на том, чтобы проводить меня домой, как подобает настоящему кавалеру. Мы остановились у моей квартиры. Я знала, что отец дома, собирает вещи в чемодан, который разрешали взять с собой, и гадает, почему я задержалась. Арон наклонился и прямо на улице, на глазах у соседей, поцеловал меня. Он казался таким счастливым, и я подумала, что должна открыть ему хоть крупинку правды.
– Я хотела узнать, что это такое, – прошептала я.
«Возможно, это был мой первый и последний раз…»
– И?
Я посмотрела ему в глаза.
– Большое тебе спасибо.
Арон засмеялся.
– Как-то слишком официально. – Он театрально поклонился. – Пани Левина, я могу зайти за вами завтра?
Если я хоть немного его люблю, то должна ему не просто крупицу правды. Должна ложь в утешение.
Я сделала реверанс, выдавила из себя улыбку, как будто завтра буду здесь и смогу принять ухаживание.
– Разумеется, мой добрый господин, – ответила я.
Это был наш последний разговор.
Если бы вам пришлось сложить всю свою жизнь в один чемодан – не только необходимые вещи, такие, как, например, одежда, но и память о людях, которых вы потеряли, о девочке, которой были раньше, – что бы вы взяли? Последнюю мамину фотографию? Подарок на день рождения от лучшей подруги – закладку для книги, которую она вышила своими руками? Корешок билета в цирк шапито, который заезжал в ваш город два года назад, и вы с отцом, затаив дыхание, смотрели, как девушки, украшенные сверкающими камнями, летали по воздуху, а смельчак дрессировщик совал голову в пасть льва? Вы будете забирать все это с собой, чтобы на новом месте чувствовать себя как дома? Или потому, что должны помнить, откуда вы родом?
В конце концов я собрала все эти вещи, «Дневник потерянной девочки», пинетки Меира и Басину фату. И, конечно, свою повесть. Я уже исписала четыре тетради. Три засунула в чемодан, четвертую положила в ранец. В сапоги с золотыми монетами я спрятала христианские документы. Отец в последний раз открыл дверь квартиры, которая и нашей-то не была.
На улице стояло лето, но мы надели зимние пальто. Это говорило о том, что мы продолжали надеяться, несмотря на слухи. Или были просто глупы. Потому что продолжали верить, что у нас есть будущее.
Нас не стали сажать в вагоны. Наверное, нас было слишком много – похоже, сотни. Мы шли в колоннах, а рядом ехали верхом солдаты. Их автоматы блестели на солнце.
Отец двигался медленно. Он так и не пришел в себя после того, как увезли маму, утрата Меира и Баси тоже оставила свой след. Он не мог поддерживать разговор, вид у него был потерянный, мышцы атрофировались – он не шагал, а едва переставлял ноги. Он словно поблек на ярком солнце, и хотя еще можно было разглядеть в отце человека, каким он был раньше, теперь он скорее напоминал привидение.
Солдаты приказали нам идти быстро, и я боялась, что отец не будет успевать. Я сама была слаба, организм обезвожен, да и дорога, по которой мы шли, плыла перед глазами – но я была крепче, чем отец.
– Вокзал недалеко, – подбодрила я его. – Ты сможешь дойти, папа.
Я взяла его чемодан в свободную руку, чтобы ему хоть тяжести не пришлось нести.
Когда шедшая впереди меня девушка споткнулась и упала, я остановилась. Отец тоже встал. Началась давка – как будто волна ударилась о дамбу.
– Was ist los?[41] – спросил ближайший к нам солдат.
Он пнул девушку ногой, наклонился и поднял лежащую на обочине палку. Ударил ею девушку и приказал встать.
Когда она не послушалась, он намотал ее волосы на палку, потянул, рванул сильнее. Снова велел ей подняться, а когда она осталась лежать, принялся поворачивать палку, пока девушка не закричала, – ее волосы отрывались от головы, как кромка от платья.
Подошел второй солдат и выстрелил девушке в голову.
И неожиданно опять стало тихо.
Я закричала. Не смогла сдержаться. Мозги девушки, имени которой я даже не знала, брызнули мне на сапоги.
На моих глазах убивали десятки людей – я уже перестала пугаться. Те, кому стреляли в грудь, падали, словно камни, чисто и аккуратно. Те, кому выстрелили в голову, оставляли беспорядок: брызги серого вещества, пенистые розовые ткани… И теперь они оказались у меня на сапогах, застряли в швах… Я гадала, что это была за часть мозга. Которая отвечала за речь? За двигательную активность? За воспоминания о первом поцелуе? О домашнем любимце? Или о дне, когда она переехала в гетто?
Я почувствовала, как отец с силой, которую, как мне казалось, уже утратил, схватил меня за руку.
– Минуся, – прошептал он, – посмотри на меня. – Он дождался, пока я встретилась с ним взглядом и мое дыхание немного успокоилось. – Если ты умрешь, то от пули в сердце, а не в голову. Обещаю.
Я осознала, что это ужасная версия игры, в которую мы когда-то играли, планируя его похороны. Только на этот раз мы планировали мою смерть.
До самой посадки в поезд отец молчал. Наши чемоданы куда-то унесли, а нас самих загнали в товарные вагоны, словно скот. Отец сел на пол и обнял меня, как обнимал в детстве.
– Мы с тобой, – негромко сказал он, – откроем еще одну пекарню там, куда приедем. И люди будут приходить издалека, чтобы поесть нашего хлеба. Каждый день я буду печь для тебя булочку с корицей и шоколадом. И когда я достану ее из печки, пахнуть она будет божественно…
В вагоне стало тихо, все начали прислушиваться к папиным фантазиям.
– У меня можно отнять дом, – продолжал он, – деньги, жену и дочь. Можно отнять средства к существованию, пищу и… – он запнулся, – …внука. Но мечту у меня отнять нельзя.
Его слова, как паутина, затягивали всех. Раздался одобрительный ропот.
– А я мечтаю о том, – сказал сидящий напротив мужчина, – чтобы сделать с ними то, что они сделали с нами.
Нас напугал стук в деревянную стену вагона.
Мы, они…
Но не все евреи были жертвами. Староста Румковский сидел с супругой в тепленьком местечке и составлял списки руками, на которых осталась кровь моих родных. И не все немцы – убийцы. Например, герр Фассбиндер спас в ночь, когда увозили детей, столько людей.
Еще один резкий удар по вагону, на этот раз прямо у меня над головой.
– Бегите, – прошептали снаружи. – Если можете, бегите. Этот поезд идет в Освенцим.
Начался хаос.
Платформа, на которой нас высадили, напоминала людское море. Тела наши затекли, мы задыхались от жары и жадно хватали ртами свежий воздух. Все кричали, пытаясь разыскать родных, докричаться через шеренги солдат, которые стояли через каждый метр с направленными на нас автоматами. Мужчинам приказали идти в одну сторону, женщинам – в другую. Вдалеке виднелась длинная очередь из тех, кто приехал до нас. Я разглядела кирпичное здание с трубами.
Несколько мужчин в полосатых робах помогали нас рассортировать. Они напоминали одуванчики – когда-то яркие и живые, а сейчас высохшие и ожидающие, что их унесет одним дуновением ветра. Нам по-польски приказали оставить вещи на платформе. Я схватила какого-то мужчину за рукав.
– Это фабрика? – спросила я, указывая на здание с дымовыми трубами.
– Фабрика, – ответил он, обнажая желтые зубы. – Фабрика, где убивают людей.
В ту же секунду я вспомнила Герша, который рассказывал о том, что случилось с моей мамой. Тогда я решила, что он нас обманывает или сошел с ума.
Отец пошел налево с другими мужчинами.
– Папа! – крикнула я, бросаясь к нему.
Меня ударили прикладом в висок, да так, что искры посыпались из глаз. Когда я пришла в себя, папа уже шел по платформе в толпе мужчин. К моему удивлению, меня вела, почти тащила на себе женщина, с которой мы работали у герра Фассбиндера на фабрике. Я оглянулась, вытянула шею и увидела отца перед офицером в начале очереди. Тот стоял, приложив палец к губам, и оценивающе разглядывал каждого, кто к нему приближался.
– Links[42], – бормотал он. – Rechts[43].
Отца отправили налево, в более длинную очередь.
– Куда его уводят? – истошно закричала я.
Но мой вопрос остался без ответа.
Меня толкали и дергали, пока я не оказалась перед одним из эсэсовцев. Он стоял рядом с человеком в белом халате. Именно этот в белом халате указывал, кому куда идти. Солдат, высокий блондин, держал пистолет. Я оглянулась, пытаясь разглядеть отца в движущейся людской массе. Человек в белом халате схватил меня за подбородок, и я едва сдержалась, чтобы не плюнуть в него. Он осмотрел синяк на моем лице, который уже начал наливаться, и пробормотал:
– Links.
И указал налево.
Я обрадовалась. Меня отправили в ту же сторону, что и папу, а это означает, что мы встретимся.
– Danke, – прошептала я по привычке.
Но эсэсовец услышал, что я пробормотала себе под нос.
– Sprichst du deutch? – спросил он.
– J-ja, fließend, – заикаясь, ответила я. («Свободно разговариваю».)
Он наклонился к человеку в белом халате и что-то сказал шепотом. Тот пожал плечами.
– Rechts, – заявил он.
Я запаниковала.
Отца отправили налево, а меня отправляют направо из-за моей глупости, ведь я заговорила по-немецки. Может, я их обидела? Может, я не должна была отвечать? К тому же на их родном языке? Но я явно оказалась в меньшинстве. Остальных женщин, включая и ту, с которой мы работали у герра Фассбиндера, отправили налево. Я начала умолять, чтобы и меня отправили налево, но один из поляков в полосатой робе толкнул меня направо.
Знаете, я потом часто думала об этом: что бы произошло, если бы меня отправили налево, куда тянулась каждая клеточка моего тела? Но все любят истории со счастливым концом. Я знала, что обязана выполнять все их приказы, если хочу еще раз, хоть когда-нибудь увидеть отца.
Проходя мимо эсэсовца, который заговорил со мной, я заметила, что его правая рука – та, в которой он держал пистолет, – подергивается, как от судороги. Я испугалась, что он может выстрелить, если не умышленно, то случайно. Поэтому я поспешно прошла мимо и присоединилась к небольшой группе женщин. Потом другой эсэсовец отвел нас в здание из красного кирпича в форме буквы «I». Через улицу я видела толпы людей – у высаженных вдоль дороги деревьев и молча сидящих у длинного здания с трубами. Я гадала, есть ли среди них мой отец, видит ли он меня.
Нас загнали в помещение и приказали раздеться. Снять все: одежду, обувь, белье, заколки. Я оглянулась, испытывая стыд при виде незнакомых голых женщин, но мне стало еще более неловко, когда я поняла, что солдаты-мужчины не намерены оставлять нас одних. Хотя они даже не смотрели на нас. Я двигалась медленно, словно сдирала с себя слои кожи, а не одежду. Одной рукой я пыталась прикрыться, другой вцепилась в сапоги, как велел мне отец.
Подошел один из надзирателей, скользнул по мне ледяным взглядом, задержался на сапогах.
– Отличные сапоги, – сказал он.
Я еще крепче прижала их к себе.
Он протянул руку и вырвал их у меня, вручив взамен пару деревянных колодок-шлепанцев.
– Слишком хороши для тебя, – заявил он.
Вместе с сапогами исчезли все шансы выбраться отсюда и что-то разузнать об отце. С ними пропали и христианские документы, которые вручил мне Йосек.
Нас направили к столу, где стояли еврейки в полосатых робах с электрическими бритвами. Подойдя ближе, я увидела, что они остригают волосы. Некоторым оставляли короткие прически, остальным везло меньше.
Я не тщеславна. Красавицы из меня не получилось – я всегда оставалась в тени Дары и даже Баси. Пока мы не переехали в гетто, я была такой круглолицей пышечкой, что, когда ходила, натирала между ногами. От голода я превратилась в скелет, но краше от этого не стала.
Мое единственное достоинство – это волосы. Да, сейчас они были тусклыми и неживыми, но все равно глубоких каштановых оттенков: от красного дерева до цвета тикового дерева. Они ниспадали естественной волной и на концах вились. Даже когда я заплетала их в косу, она была толщиной с кулак.
– Пожалуйста, – взмолилась я, – не стригите мне волосы!
– Может быть, у тебя есть аргументы, которые убедят меня лишь слегка их подровнять. – Она наклонилась к моему уху: – Ты, похоже, из тех, кому удалось кое-что пронести сюда.
Я вспомнила о сапогах, которые забрал солдат. Подумала об этой женщине, которая, скорее всего, однажды стояла в такой же очереди. Если немцы хотели превратить нас в скот, судя по всему, им это удалось.
– Даже если бы и так, – прошептала я в ответ, – вы последний человек на свете, с которым бы я поделилась!
Она подняла машинку и обрила меня наголо.
В ту секунду я поняла, что я больше не Минка. Я превратилась в другое создание, перестала быть человеком. Дрожа и рыдая, я поспешила исполнить приказ и отправилась, ничего не видя перед собой, в душевую. Я могла думать только о маме, о псевдодушевых, о которых рассказывал Герш, о наполненных газом фургонах, из которых выгружали в лесу тела. Я таращилась на душевое отверстие и гадала, что оттуда польется. Вода или яд? Неужели я единственная, до кого дошли эти слухи и чье сердце готово вырваться из груди?
Послышалось шипение. Я закрыла глаза и попыталась представить тех, кого любила за свою короткую жизнь: родителей, Басю, Дару, Рувима и Меира, Йосека, герра Бауэра. Даже Арона. Я хотела умереть с их именами на устах.
Стало щекотно. Вода. Холодная, с неравномерной подачей. Ее включали и отключали – я даже не успевала повернуться. «Только не газ, только не газ…» – повторяла я про себя, как молитву. Может быть, тот парнишка ошибался. Возможно, здесь все было иначе. Вероятно, это, как и говорили солдаты, – трудовой лагерь.
И опять этот робкий проблеск надежды…
– Raus![44] – крикнул надзиратель.
Я, вся мокрая, выскочила из душевой. Мне выдали одежду: платье, косынку, жакет в синюю и серую полоску. Ни носков, ни белья.
Я поспешно одевалась. Хотелось быстрее прикрыть наготу, чтобы меня невозможно было отличить от остальных женщин. Я застегивала пуговицы на жакете, когда надзиратель схватил меня за руку и потянул к столу. Там какой-то мужчина натер мое левое предплечье спиртом, а второй начал писать прямо на коже. Сперва я не поняла, что он делает. Потом почувствовала запах горелой плоти. Посмотрела на руку: А14660. Мне поставили клеймо, как скотине. Больше у меня не было имени.
Нас загнали в барак без света. Сюда набилось несколько сотен женщин. Когда глаза привыкли к темноте, я смогла различить трехъярусные нары, на них лежала солома, как будто это не барак, а конюшня. Окон не было. Стояла жуткая вонь.
Я вспомнила о товарном вагоне, о том, как нас запихнули внутрь и несколько дней везли. Мы не видели солнца, не останавливались, чтобы размять ноги или сходить в туалет. Я не хотела еще раз проходить через этот ад, лучше умереть. «И прямо сейчас!» – подумала я.
Прежде чем я осознала, что делаю, ноги сами повернули в противоположную от барака сторону. И я уже бежала изо всех сил, какие только смогла собрать, по грязи в своих деревянных колодках-шлепанцах прямо на забор с электрическими проводами.
Я знала: если подберусь достаточно близко – буду свободна. Чтобы Арон, Дара и – прошу тебя, Господи! – папа запомнили меня как Минку, а не как обритое животное, не просто как номер. Я распахнула объятия, словно бежала навстречу любимому.
За спиной раздался женский крик. Я услышала грозные окрики надзирателя, который через мгновение догнал меня, толкнул на землю и навалился сверху. Потом, ухватив за шиворот, поднял меня на ноги и швырнул назад в барак. Я распласталась на бетонном полу.
Дверь с грохотом захлопнулась. Я с трудом поднялась на колени и увидела протянутую руку.
– О чем ты только думала! – воскликнул девичий голос. – Ты могла погибнуть, Минка!
Я прищурилась. Сперва из-за плохого освещения, бритой головы и синяков на лице я ничего разглядеть не могла. Но уже в следующую секунду узнала Дару!
И мгновенно опять стала человеком.
* * *
Дара попала сюда двумя днями ранее и уже успела выучить все правила. Над женскими бараками надзирала Aufseherin, которая подчинялась лагерфюреру – коменданту женского лагеря. В первый день Дара видела, как он до смерти забил женщину, которая замешкалась во время переклички. Внутри бараков были свои Stubenältesten (староста барака) и Blockältesten (староста блока) – женщины-еврейки, отвечавшие за отдельные блоки в бараке и за весь барак в целом соответственно. Иногда они были хуже немецких надзирателей. Старостой нашего блока была венгерка по имени Борбала, которая походила скорее на гренадера. Жила она в отдельной комнате в бараке, подбородок у нее плавно перетекал в складки шеи, а глаза блестели, как раскаленные угли. У нее был низкий мужской голос, и в четыре утра она будила нас криком «Подъем!». Дара велела мне спать в обуви, иначе ее кто-нибудь украдет, а миску прятать под рубашку – по той же причине. Она объяснила мне, в чем заключается уборка постели: как правильно, по-военному, застилать наши соломенные подстилки тонким одеялом. Конечно, невозможно сложить солому так же ровно, как настоящий матрас, и это часто являлось для Борбалы предлогом наказать кого-нибудь из нас, чтобы другим неповадно было. Именно Дара посоветовала мне быстрее бежать в уборную, потому что туалетов на сотни заключенных не хватает, а до переклички времени было совсем мало. Опоздание являлось основанием для избиения. Рассказывая мне о порядках, Дара коснулась головы – на виске наливался фиолетовый синяк. Ей пришлось учиться на своих ошибках.
На Appell (плацу для переклички) иногда нас считали по нескольку часов. Мы должны были стоять и внимательно слушать, когда Борбала назовет наши номера. Если кого-то не хватало, перекличку останавливали и определяли местонахождение отсутствующей – обычно несчастная лежала больная или уже мертвая в бараке. Больную вытаскивали наружу, и перекличка начиналась сначала. Иногда нас заставляли заниматься «спортом» – бегать по нескольку часов на одном месте или падать на землю, а иногда Борбала приказывала нам прыгать, как лягушки. И только потом выдавали паек: темную воду, которая считалась кофе, и кусочек ржаного хлеба.
– Половину прибереги, – в первый день посоветовала мне Дара, и я решила, что она шутит.
Но она не шутила. Хлеб – единственная твердая пища за день. В обед нас кормили водянистым бульоном с гнилыми овощами, а на ужин давали бульон из протухшего мяса. Дара убедила меня, что лучше засыпать на полный желудок.
Иногда мы выполняли упражнения, хотя без еды сил на это не было. Бывало, разучивали немецкие песни и фразы, включая простейшие команды.
Все это происходило в тени длинного здания, которое я заметила сразу, как только сошла с поезда, – здания, где днем и ночью дымили трубы. От тех, кто находился в карантине дольше нас, мы узнали, что это крематорий. Его построили евреи. И единственный путь из этой проклятой дыры – через дымоходы.
На пятый день после моего приезда после утренней переклички Борбала приказала нам раздеться донага. Мы выстроились в шеренгу во дворе, а мужчина в белом халате, которого я видела еще на платформе, прошелся перед нами. Рядом с ним шел эсэсовец, у которого дрожала рука, – теперь я знала, что это и есть лагерфюрер. А если он вспомнит, что я пыталась говорить по-немецки? Однако он даже не взглянул на меня. Да и как он мог меня узнать? Просто еще одна костлявая бритая заключенная. В присутствии эсэсовца лучше не шевелиться и молчать. Если мы подведем Борбалу, потом об этом пожалеем.
Человек в белом халате отобрал восемь девушек, которых тут же увели из барака в 10 блок – медсанчасть. Всех, кто порезался, ударился, обжегся, натер мозоль, тоже отобрали. Взгляд человека в белом халате скользнул мимо Дары и остановился на моем лице. Я почувствовала, как его глаза шарят по моему лбу, подбородку, ключицам. Несмотря на удушающую жару, у меня стучали зубы.
Он отвел взгляд, и я услышала, как Дара тяжело выдохнула через нос.
Через час всем оставшимся приказали одеваться и брать миски. После завтрака нас переведут из карантина, как сказала Борбала.
Девушка по имени Илонка вызвалась нести огромную кастрюлю с кофе, потому что за это полагалась дополнительная порция хлеба.
– Ты только посмотри, – шепнула я Даре, когда мы стояли в шеренге, прижимая свои миски к груди, – кастрюля больше ее.
Это правда, Илонка была очень хрупкой, но все равно несла огромную железную бадью, как будто она была наполнена манной небесной, а не помоями. Потом осторожно поставила ее, чтобы не расплескать ни капли.
Борбала не была такой аккуратной. Когда подошла моя очередь, почти половина кофе пролилась на землю. Я посмотрела на лужу у ее ног – этого оказалось достаточно, чтобы Blockälteste заметила разочарование на моем лице.
– Ах, какая жалость! – воскликнула она таким тоном, что было ясно: ей ничуть не жаль. Она взяла кусок хлеба, но не отдала его мне, а уронила в лужу из моего пролитого кофе.
Я упала на колени, чтобы поднять его, потому что даже вывалявшийся в грязи хлеб гораздо лучше, чем ничего. Но мои пальцы не успели до него дотянуться, как хлеб был раздавлен сапогом, окончательно втоптан в грязь. И ногу не сразу убрали, чтобы я поняла: это сделано намеренно. Щурясь от солнца, я заметила черный силуэт немецкого офицера и осталась на коленях, ожидая, пока он пройдет.
Когда эсэсовец ушел, я схватила хлеб и прижала к платью, пытаясь оттереть с него грязь. И хотя лица офицера я не разглядела, я точно знала, кто это был. Когда он уходил, его правая рука продолжала подергиваться.
Мы с Дарой делили койку еще с пятью женщинами. Барак, в который нас поселили, ничем не отличался от карантина, за исключением того, что здесь узниц было еще больше – около четырех сотен человек втиснули в блок. Неописуемая вонь – немытые тела, пот, гниющие раны и зубы и постоянно витающий в воздухе сладковатый, тошнотворный запах жженой плоти. Однако в новинку было состояние этих женщин. Некоторые прожили здесь уже несколько месяцев и больше походили на скелеты, обтянутые кожей, с черными, ввалившимися глазами. По ночам в бараках было так тесно, что я чувствовала, как тазовые кости лежащей сзади соседки впиваются, словно сдвоенные кинжалы, мне в поясницу. Если одна из нас ночью поворачивалась, остальным приходилось делать то же самое.
Целую неделю я пыталась узнать хоть что-нибудь об отце. Работает ли он, как и мы, но только в другой части лагеря? Наверное, гадает, жива ли я. Анат, женщина, с которой мы делили койку, прямо заявила мне, что его отправили в газовую камеру в первый же день.
– Чем, по-твоему, занимаются в этом лагере? – проворчала она. – Уничтожают людей.
Анат провела здесь уже целый месяц и слыла нарушительницей порядка. Она заговорила с Blockälteste – женщиной, которую мы прозвали Зверюга, – и ее избили дубинкой; она плюнула в надзирателя – ее отстегали кнутом. А еще она отогнала узницу, которая попыталась среди ночи украсть мой жакет, пока я забылась беспокойным сном. За это маленькое проявление человечности я была ей безмерно благодарна.
Два дня назад в бараке провели обыск. Нас всех построили, а Blockälteste с надзирателем сдергивали тонкие одеяла, которыми мы пытались прикрыть свои постели, отодвигали койки от стены, чтобы посмотреть, ничего ли не спрятано. Я знала, что у некоторых узниц есть запрещенные предметы: колоды карт, деньги, сигареты. Видела, как одна девушка, которая была настолько слаба, что не смогла доесть свой обед, припрятала его под соломой, чтобы съесть позже, несмотря на то что хранить еду в бараке считалось серьезным нарушением.
Надзиратель подошел к нашей койке, сдернул одеяло и, к моему изумлению, обнаружил книгу Марии Домбровской[45].
– Это что?
Он наотмашь ударил одну из наших соседок по койке, пятнадцатилетнюю девочку, по лицу. Его золотое кольцо рассекло ей кожу, потекла кровь.
– Это моя, – шагнула вперед Анат.
Я сомневалась, что книга принадлежит ей. Анат была родом из маленькой польской деревушки и едва умела читать вывески, что уж говорить о романе. Но она гордо стояла перед надзирателем, уверяя, что книга принадлежит ей, пока ее не потащили на улицу и не забили кнутами до бессознательного состояния. Я вспомнила совет, который дала мне мама перед тем, как начались облавы: «Будь добра к людям». Именно такой и была Анат.
Мы с Дарой и пятнадцатилетней Геленой подняли Анат и занесли в барак. Поделились с ней ужином, потому что она не могла встать, чтобы получить свою порцию. Еще одна женщина, которая в прежней жизни была медсестрой, как смогла, обработала и перевязала ее раны.
Мы жили с крысами и вшами, воды, чтобы помыться, не было. Раны Анат покраснели, воспалились, загноились. Ночью она все не могла улечься.
– Завтра мы отнесем тебя в санчасть, – решила Дара.
– Нет, – возразила Анат. – Если я отсюда уйду, то больше не вернусь. – Санчасть располагалась рядом с крематорием. Из-за этого ее называли «залом ожидания».
Я лежала рядом с Анат и чувствовала идущий от нее жар. Она схватила меня за рукав.
– Обещай мне… – произнесла она, но не закончила предложения. А может, и закончила, только я уже заснула.
На следующее утро, когда Blockälteste с криками явилась нас будить, мы с Дарой, как обычно, побежали в туалет и строиться на Appell. Анат там не было. Зверюга дважды выкрикнула ее номер, потом ткнула в нас пальцем.
– Найдите ее! – приказала она.
Мы поспешили в барак.
– Скорее всего, она так ослабела, что не смогла встать, – прошептала Дара, когда мы увидели очертания тела Анат под тонким одеялом.
– Анат, – шепотом окликнула я и потрясла ее за плечо, – ты должна встать.
Она не шевелилась.
– Дара, мне кажется… по-моему… она….
Я не смогла этого произнести, потому что это означало признать реальность происходящего. Одно дело – видеть вдалеке вонючий дым и догадываться, что творится в тех зданиях. И совсем другое – знать, что целую ночь к тебе прижимался мертвец.
Дара наклонилась и закрыла Анат глаза. Потом взяла ее за руку, которая уже окоченела.
– Не стой столбом, – пробормотала она.
Я наклонилась над койкой и взяла Анат за другую руку. Она была совсем легкой, как пушинка. Мы обвили ее руки вокруг наших шей, как школьные подружки, позирующие перед фотографом, и вытащили тело Анат, держа его вертикально, во двор, чтобы ее посчитали, поскольку если кого-то не досчитывались, то перекличку начинали сначала. Мы продержали Анат на своих плечах целых два с половиной часа, пока шла перекличка, а у ее глаз и рта кружились мухи.
– Зачем Господь посылает нам такие испытания? – прошептала я.
– Господь тут ни при чем, – ответила Дара. – Это немцы.
Когда перекличка закончилась, мы погрузили тело Анат в тележку к еще десяти женщинам, которые умерли в нашем блоке за прошедшую ночь. Я гадала, что же стало с книгой Домбровской. Неужели немцы конфисковали ее и уничтожили? Или в мире, который превратился в ад, еще осталось место для таких вещей?
В Освенциме не росло ничего. Ни трава, ни грибы, ни сорняки… Все вокруг было серым и пыльным – пустошь.
Каждое утро по дороге на работу я думала об этом, когда проходила мимо мужских бараков и непрерывно работающего крематория. Нам с Дарой повезло, потому что нас послали работать в «Канаду» – место, куда отправлялись и где сортировались пожитки прибывших на поездах людей. На ценные вещи навешивали бирки и передавали надзирателям, которые относили вещи уполномоченному эсэсовцу, отправлявшему их в Берлин. Одежду увозили в другое место. Но оставались вещи, которые оказывались никому не нужными, – например, очки, протезы, фотографии. Их следовало уничтожать. Причина, по которой это место назвали «Канада», крылась в том, что мы все представляли эту страну как край изобилия, – именно изобилие мы наблюдали ежедневно, когда с каждым новым эшелоном в сарай складывались горы чемоданов. В «Канаде», если надзиратель отворачивался, можно было украсть пару перчаток, белье, шапку. На кражу я пока не решалась, но по ночам становилось все холоднее. Знать, что у тебя под робой есть еще один слой теплой одежды – да, это стоило того, чтобы рискнуть…
Но наказание ждало настоящее и жестокое. Мало того, что надзиратели приказывали работать быстрее и для убедительности размахивали оружием, в придачу ко всему дежурный эсэсовец прохаживался между нами и следил, чтобы мы ничего не украли. Это был худощавый мужчина, чуть выше меня ростом. Я видела, как он вытащил на улицу женщину, которая спрятала в рукаве жакета золотой подсвечник. И хотя самого избиения мы не видели, но все отлично слышали. Несчастную оставили лежащей без сознания прямо перед бараком, а офицер вернулся и продолжил прохаживаться между рядами, где мы работали. На лице его было написано отвращение, отчего он сразу стал похож на человека. А если он человек, то как же мог так поступать?
Мы с Дарой обсуждали это.
– Скорее всего, он расстроился из-за того, что испачкал руки. И вообще, какая разница? – пожала она плечами. – Все, что тебе нужно знать, – он чудовище.
Но чудовища бывали разными. В конце концов, несколько лет я писала об упырях. Однако упыри – это ожившие мертвецы. А есть чудовища, которые вселяются в живых. У нас в Лодзи был сосед, которого увезли в больницу, а когда выписали, он не помнил, где живет и как зовут его жену. Он ругался как сапожник и забил ногами домашнего кота… Казалось, он стал абсолютно другим человеком. Не этого человека его жена любила, поэтому и обратилась к целительнице. Пришедшая в дом старуха заявила, что ничего поделать нельзя: диббук[46], душа какого-то мертвеца, который совершает ужасные поступки в новом теле, потому что не успел сделать все это в старом, вселилась в ее мужа, когда он находился в больнице. Его обуял демон, его разумом овладел посторонний дух.
Этого прохаживающегося мимо нас эсэсовца я про себя называла герр Диббук. Человек слишком слаб, чтобы сопротивляться злому духу, который в него вселился.
– Какая ты глупая! – заявила Дара, когда однажды вечером мы лежали на койке и я поделилась с ней этой мыслью. – Жизнь не сказка, не вымысел, Минка!
Я ей не поверила. Потому что и этот лагерь, и весь этот ужас… В существование чего-то подобного никто и никогда бы не поверил. Например, возьмем союзников. Если бы они знали, что людей сотнями душат в газовых камерах, неужели не поспешили бы нас спасти?
Сегодня мне выдали ножницы и велели отрезать подкладку от одежды. Передо мной лежала гора шуб, которые я должна была обработать. Под подкладками я находила обручальные кольца, золотые серьги, монеты и тут же отдавала их надзирателю. Иногда я гадала, у кого же оказались мои сапоги. Как скоро их новая владелица обнаружит сокровища в каблуках?
Когда уезжал и приезжал герр Диббук, всегда ощущалось небольшое волнение, как будто его присутствие наполняло пространство электрическим зарядом. Даже не оборачиваясь, я почувствовала его приближение в компании еще одного эсэсовца. Они беседовали, а я слушала их разговор по-немецки, пока отпарывала кайму.
– Значит, в пивнушке?
– В восемь.
– И не вздумай сказать, что ты опять занят! Я начинаю думать, что ты избегаешь собственного брата.
Два офицера редко разговаривали друг с другом таким дружеским тоном. Чаще всего они орали друг на друга, как орали и на нас. Но эти двое точно были родственниками.
Я тайком оглянулась через плечо.
– Я приду, – со смехом пообещал герр Диббук.
Он обращался к офицеру, который проводил перекличку. Начальнику женского лагеря. Тому, у кого дергалась правая рука.
К тому, в кого не вселился злой дух. Он сам являлся злом. Точка. Он приказал избить Анат, он выходил из себя и остывал, когда проводилась перекличка. Либо он скучал, и тогда перекличка проходила очень быстро, либо неистовствовал и сгонял злость на нас. Например, сегодня утром он застрелил девушку, которая оказалась слишком слаба, чтобы стоять прямо. Когда стоящая рядом с ней подскочила от неожиданности, он и ее застрелил.
Выходит, они родственники?
Впрочем, они были похожи: одинаковые подбородки, одинаковые песочного цвета волосы… И сегодня вечером, после того как изобьют нас, помучают голодом, унизят, они вместе отправятся в пивную.
Я замерла, задумавшись, и приставленный ко мне надзиратель крикнул, чтобы я поискала шубы в чемоданах и сумках. Я протянула руку к куче, которая, казалось, никогда не уменьшалась, и вытащила кожаный чемодан. Достала из него ночную сорочку, лифчики, белье, кружевной чепчик. Там же лежал шелковый сверток с ниткой жемчуга. Я подозвала офицера, который стоял, опираясь о стену сарая, и курил, чтобы он записал и присвоил находке инвентарный номер.
Взяла следующий чемодан.
И узнала его мгновенно.
Наверное, не у одного папы был такой «тревожный» чемодан, но у скольких ручка была обмотана проволокой в том месте, где она порвалась, когда чемодан много лет назад стал воображаемой крепостью в моей игре? Я присела, повернувшись к надзирателю спиной, и расстегнула ремни.
Внутри лежали аккуратно завернутые в папино молитвенное покрывало подсвечники, доставшиеся нам от бабушки. Внизу – носки и белье. И свитер, который связала мама. Однажды папа признался мне, что терпеть его не может: рукава слишком длинные и шерсть колючая. Но мама потратила столько сил, чтобы его связать… Разве мог он не притвориться и не сказать, что свитер безумно ему нравится?!
Я не могла ни дышать, ни шевелиться. Несмотря на слова Анат, на все, что я видела, каждый день проходя мимо крематория, на эти длинные очереди вновь прибывших, которые ждали, когда же попадут внутрь, я не верила, что папа умер. Пока не открыла его чемодан.
Я стала сиротой. У меня никого не осталось.
Дрожащими руками я взяла молитвенное покрывало, поцеловала его и положила в кучу с бесполезными вещами. Отложила подсвечники, вспоминая, как мама молилась над ними за субботним ужином. Взяла в руки свитер.
Руки моей мамы держали спицы, набрасывали петли… Отец надевал его…
Не позволю, чтобы его носил кто-то другой, кто понятия не имеет, что за каждым сантиметром вязки скрывается целая история. За каждым узелком и накидом – частичка саги о моей семье. Этот рукав мама вязала, когда Бася упала и ударилась головой об угол стоящего перед пианино табурета и ей наложили швы в больнице. Этот ворот оказался таким сложным, что маме пришлось просить помощи у нашей домработницы, которая была более опытной вязальщицей. Этот край мама измеряла по папиной талии и смеялась, что не собиралась выходить замуж за такого толстого мужчину.
Вот для чего пишется мировая история, в ее основе – рассказы о чьих-то жизнях.
Я зарылась лицом в свитер и зарыдала, раскачиваясь взад-вперед, хотя знала, что этим привлеку к себе внимание надзирателя.
Отец обговаривал со мной все детали своих похорон. Но все равно я опоздала…
Я вытерла слезы и потянула за нитку, распуская свитер. Намотала ее вокруг запястья как повязку, как жгут для истекающей кровью души.
Надзиратель подскочил ко мне, начал кричать и тыкать в лицо пистолетом.
«Давай же, – подумала я. – Забери и меня».
Я продолжала распускать свитер. Около меня уже образовалось волнистое рыжеватое облако. Дара, наверное, замерла в страхе за мою жизнь, которая могла оборваться, если я не остановлюсь. Но я не могла. Я распускалась вместе со свитером.
Шум привлек других надзирателей, которые подошли посмотреть, что происходит. Когда один из них наклонился за подсвечниками, я одной рукой схватила их, а второй ножницы, которыми распарывала подкладку шуб, раскрыла их и прижала лезвия к горлу.
Неожиданно раздался негромкий голос:
– Что здесь происходит?
Сквозь толпу пробирался дежурный эсэсовец. Он навис надо мною, оценивая происходящее: открытый чемодан, распущенный свитер, побелевшие костяшки пальцев, сжимающих подсвечники.
Только сегодня утром я видела, как по его приказу узницу настолько сильно избили дубинкой, что она блевала кровью. Та женщина отказалась выбрасывать тфилин, которые обнаружила в чемодане. То, что сделала я – уничтожила собственность, которую немцы считали своей, – намного хуже. Я закрыла глаза, ожидая удара. Поскорее бы!
Я почувствовала, как из моих рук вырвали подсвечники.
Когда открыла глаза, лицо герра Диббука было всего в нескольких сантиметрах от моего. Я видела, как у него подергивается щека, могла разглядеть белокурую щетину.
– Wen gehört dieser Koffer? («Кому принадлежит этот чемодан?»)
– Meinem Vater, – пробормотала я. («Моему отцу».)
Эсэсовец прищурился. Долго и пристально разглядывал меня, потом повернулся к остальным надзирателям и крикнул, что хватит глазеть. Опять перевел взгляд на меня.
– Продолжай работать, – велел он и ушел.
Я перестала считать дни, и они слились в одну бесконечную череду, как мел под дождем: тащилась из одного конца лагеря в другой, стояла в очереди за миской супа, который оказывался всего лишь горячей кипяченой водой с репой… Мне казалось, я знала, что такое голод. Да я понятия об этом не имела! Некоторые девушки воровали банки с едой из чемоданов, но мне смелости не хватало. Иногда я мечтала о папиных булочках, о корице, которая взрывалась на языке фейерверками вкуса. Я закрывала глаза и видела стол, ломящийся под тяжестью субботнего ужина, ощущала вкус жирной хрустящей корочки, которую я незаметно обдирала с курицы, когда ее доставали из духовки, хотя мама шлепала меня по рукам и велела ждать, пока сядем за стол. Во сне я пробовала всю эту вкуснятину, и она превращалась у меня на языке в пепел – не в золу от углей, а в пепел, который днем и ночью выгребали из крематория.
Еще я научилась выживать. Лучшее место во время переклички, когда нас выстраивали в колонну по пять человек, посредине – подальше от эсэсовских пистолетов и хлыстов, а если потеряешь сознание, другие узницы тебя поддержат. Когда стоишь в очереди за едой, тоже лучше оказываться в середине. Если стоишь в начале – паек получишь первой, но это будет водянистый бульон сверху. Если держаться ближе к середине, больше вероятность получить что-то питательное.
Надзиратели и капо всегда бдительно следили за тем, чтобы мы не разговаривали: ни когда работали, ни когда маршировали, ни когда передвигались по лагерю. Только по ночам в бараке мы могли свободно поговорить. Но дни превращались в недели, и я осознала, что разговоры отнимают слишком много сил. Кроме того, о чем было говорить? Если мы о чем-то и говорили, то тема была одна – еда. То, чего нам не хватало больше всего. Где в Польше можно было купить самый вкусный горячий шоколад? Или самые сладкие марципаны? Или сдобные птифуры? Иногда, когда я делилась своими воспоминаниями о еде, то замечала, что остальные прислушиваются.
– А все потому, что ты не просто рассказываешь истории, – объясняла Дара, – ты рисуешь словами.
Возможно, но краска – забавный материал. При первых проблесках холодной действительности она смывается, и поверхность, которую ты так тщательно пытался прикрыть, вновь такая же отвратительная.
Каждое утро, шагая к «Канаде», я видела толпы людей, ожидающих у крематория. Они все еще были в своей одежде, и я гадала, сколько пройдет времени, прежде чем я буду отпарывать подкладку с их шерстяных пальто или рыться в карманах их брюк. Проходя мимо, я опускала глаза в землю. Если бы я подняла голову, то заметила бы жалость в их глазах из-за своей бритой головы и похожего на скелет тела. Если бы я подняла голову, они увидели бы мое лицо и поняли: все, что им обещали (душ – лишь мера предосторожности, а потом их пошлют на работу), – сплошная ложь. Если бы я подняла голову, то могла бы не сдержаться и выкрикнуть правду, признаться, что вонь идет не от фабрики и не с кухни, а от их родных и друзей, которых сожгли. Я начала бы кричать и, скорее всего, так и не смогла бы остановиться.
Некоторые женщины молились, я же не видела в этом смысла: если бы Бог существовал, он никогда бы ничего подобного не допустил. Другие говорили, что условия в Освенциме такие ужасающие, что Господь предпочитает сюда не заглядывать. Если я о чем-то и молилась, так только о том, чтобы поскорее уснуть и не чувствовать, как мой желудок переваривает собственные стенки. В нашей жизни было лишь одно: построиться на перекличку, построиться на работу, встать в очередь за едой, вернуться в барак, построиться на перекличку, встать в очередь за едой, заползти на койку.
Работу, которой я занималась, тяжелой не назовешь, особенно в сравнении с тем, чем приходилось заниматься другим женщинам. Мы сидели не на улице, а в сарае, где сортировали вещи. Таскали чемоданы и одежду, а не ворочали камни. Самым сложным в моей работе было осознание того, что я последняя, кто прикасается к вещам, которые носил человек, последняя, кто видит его лицо на фотографиях, последняя, кто читает написанные им любовные письма. Тяжелее всего было с вещами детей – игрушками, одеяльцами, красивыми кожаными пинетками. Здесь не выжил ни один ребенок, детей первыми отправляли в душ. Когда мне в руки попадали детские вещи, я начинала плакать. Когда держала в руках плюшевого мишку, которого больше никогда не подержит хозяйка, а потом бросала его в кучу вещей, подлежащих уничтожению, я чувствовала себя раздавленной.
Я начала ощущать огромную ответственность, как будто мой разум был сосудом и мне вменялось в обязанность помнить тех, кто умер. У нас было достаточно возможностей, чтобы украсть одежду, но первое, что я украла в «Канаде», были не шарф и не пара теплых чулок. Это были чужие воспоминания.
Я пообещала себе, что, даже если получу от надзирателя по голове, все равно буду задерживать взгляд на этих приметах жизни, которые вот-вот будут уничтожены. Я благоговейно прикасалась к очкам, завязывала розовые ленточки на вязаных ботиночках, запоминала один из адресов из кожаной записной книжечки с деловыми контактами.
Но тяжелее всего было с фотографиями. Потому что они являлись единственным доказательством того, что человек, которому они принадлежали, носил этот чемодан и был жив. Был счастлив. Моя работа состояла в том, чтобы уничтожить эти доказательства.
Но однажды я этого не сделала.
Дождалась, пока надзиратель отойдет от того ряда, где я работала, и открыла альбом с фотографиями. Под каждой фотографией были сделаны аккуратные подписи и проставлены даты. На фотографиях все улыбались. Я увидела молодую женщину, наверное, владелицу этого чемодана, которая улыбалась, глядя на молодого человека. Посмотрела на их свадебные фотографии, на отпускные где-то за границей, на девушку, позирующую перед камерой. Интересно, сколько лет назад это было?
Потом шла серия аккуратно подписанных фотографий младенца: «Аня, 3 дня». «Аня сидит». «Первые Анины шаги». «Первый день в школе». «Первый выпавший зуб!».
А потом снимки закончились.
Девочка с таким же именем, как и главная героиня моей истории, – это еще больше привлекло мое внимание. Я услышала, как надзиратель кричит на сидящую за мной женщину. Поспешно выхватила снимок из маленького уголка, которым он крепился в альбоме, и спрятала в рукав.
Когда надзиратель подошел, я запаниковала, уверенная, что он заметил мои манипуляции. Но он лишь приказал мне работать быстрее.
В ту первую ночь я вернулась домой с фотографией Ани, Гершеля и Герды, малыша Хаима, у которого не хватало двух передних зубов. На следующий день я осмелела настолько, что взяла восемь фотографий. Потом меня перевели на другой участок: загружать вещи в тележки и перевозить в сарай. Но как только меня опять поставили сортировать пожитки, я продолжила засовывать фотографии в рукав, а потом прятать их в соломе на койке.
Я не считала это воровством. Относилась к этому как к архиву. Перед сном я вытаскивала фотографии, эту все растущую колоду мертвецов, и шептала их имена. Аня, Гершель, Герда, Хаим. Вольф, Миндла, Двойра, Израэль. Шимон, Элка, Рохл и Хая – близнецы, Эльяс, который продолжает плакать после обрезания, Шандла в день свадьбы…
Пока я их помню, они здесь, с нами.
Дара работала с нами, когда у нее разболелся зуб. Я видела, как вздрагивают ее плечи от попыток сдержать стоны. Если покажешь, что больна, станет еще опаснее, чем обычно: надзиратели цеплялись за малейшее проявление слабости.
Краешком глаза я заметила, как она взяла изящную записную книжечку в блестящей обложке. Когда мы были маленькими, у Дары была такая же книжечка. Иногда мы стояли у театра или модного ресторана в ожидании красивых женщин в белых меховых накидках, на серебристых каблуках, которые выходили под руку со своими мужественного вида спутниками. Я понятия не имею, был ли кто-то из них по-настоящему известен, но таковыми они нам казались. Дара украдкой взглянула на меня и протянула книжечку через скамью. Я спрятала ее под пальто, подкладку которого как раз отпарывала.
В книжечке были корешки билетов в кинотеатр, какие-то схемы, обертка от мятной конфеты, коротенькое стихотворение, в котором я узнала игру в ладушки. Лента для волос, обрезки тюля от модного платья. Выигрышный билет из бесплатной раздачи в пекарне. На обратной стороне были написаны три слова: «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». На первой страничке была приклеена фотография двух подружек. «Гитла и я» – гласила надпись. Я не знала, кто из них «я». Не было никакой дополнительной информации, но почерк, аккуратный и витиеватый, явно принадлежал юной девушке.
Я решила, что назову ее Дара…
Я оглянулась на подругу и увидела, как она вытирает рукавом слезу. Наверное, она думала, что стало с ее собственной записной книжкой. Или оплакивала счастливую девочку, которой когда-то была.
Если бы я сама не видела, как это произошло, никогда бы Дару не узнала. Ее изящная, словно литая, фигурка танцовщицы, которой я раньше завидовала, сейчас напоминала мешок костей. Позвонки выпирали под одеждой, как столбики забора. Глаза впали, губы пересохли. Ногти она изгрызла до крови.
Уверена, я казалась ей такой же страшной, как и она мне.
Я оторвала страницу с фотографией и спрятала в рукаве – движение, отточенное до автоматизма.
Неожиданно через мое плечо протянулась рука и схватила книжечку.
Герр Диббук стоял так близко, что я чувствовала запах его хвойного лосьона после бритья. Я не повернула головы, молчала, ничем не выдавая того, что узнала его. Услышала, как он листает страницы.
Он точно заметит, что из книжечки что-то вырвали!
Он двинулся дальше, швырнув книжечку в кучу вещей, которые собирались сжечь. Но по крайней мере еще добрую четверть часа я ощущала у себя на затылке его обжигающий взгляд. Больше я в тот день из «Канады» ничего не вынесла.
* * *
Ночью Дара не могла спать, так сильно болел зуб.
– Минка, – прошептала она, дрожа. – Если я умру, у тебя и фотографии моей не останется.
– Мне она ни к чему, потому что ты не умрешь, – ответила я.
Я знала, что зуб воспалился. Изо рта у Дары так воняло, как будто она гнила изнутри, щека распухла, увеличившись в размере вдвое. Если зуб не вырвать, Дара не выживет. Я прижалась к ее спине, чтобы поделиться теплом, которое у меня осталось.
– Повторяй за мной, – попросила я. – Это тебя отвлечет.
Дара покачала головой.
– Больно…
– Пожалуйста, – взмолилась я. – Просто попробуй!
Мне уже и на фотографии не нужно было смотреть. Аня, Гершель, Герда, Меир, Вольф… С каждым произнесенным именем я представляла лицо на фотографии.
Едва слышный голос Дары произнес:
– Миндла?
– Правильно. Двойра, Израэль…
– Шимон, – добавила Дара. – Элка.
Рохл и Хая. Эльяс. Фишель, Либа и Байла. Лейбус. Мажа, Брайн. Гитла и Дара…
Дара закончила перечислять имена, и тело ее обмякло.
Я проверила, дышит ли она, а потом заснула.
На следующий день Дара проснулась с распухшим, красным лицом, кожа ее горела. Она не в силах была подняться с койки, поэтому мне пришлось тащить ее на себе в туалет, а потом назад в барак застилать постель. Когда вошла Зверюга, я вызвалась нести кастрюлю с овсяной кашей, потому что за это полагалась дополнительная порция. Я отдала ее Даре, которая была настолько слаба, что не смогла даже поднести ложку ко рту. Я пыталась заставить ее открыть рот, напевая, как поступала Бася, когда хотела накормить Меира, а он отказывался есть.
– Ты не умеешь петь, – проворчала Дара, едва заметно улыбаясь, и этого оказалось достаточно, чтобы я влила ей в рот немного жидкой похлебки.
Во время переклички я поддерживала ее, помогая стоять прямо, молясь о том, чтобы начальник – офицер с подергивающейся рукой, которого я про себя называла герр Тремор, – не заметил, что она нездорова. Наверное, герр Тремор чем-то болел, но тремор был не настолько сильным, чтобы помешать ему вершить суд и самолично нас наказывать. На прошлой неделе, когда новенькая девушка по его приказу повернулась налево, а не направо, он наказал весь блок. Нам пришлось заниматься физкультурой целых два часа на холоде под проливным дождем. Стоит ли говорить, что по крайней мере десять женщин упали, а герр Тремор подошел и принялся пинать лежащих в грязи. Но сегодня он, видимо, спешил и, наказав одну из нас, быстро провел перекличку.
У меня появилась цель: я не только должна была прикрывать Дару и выполнять за нее работу, но и найти подходящую вещь и украсть ее. Что-то маленькое и острое, чем можно было бы удалить зуб.
Мне удалось усадить Дару на скамью сортировать вещи, а самой сесть так, что, когда наступал ее черед относить ценные вещи в коробку в центре барака, и я шла тоже. Однако к концу дня я так и не нашла ничего подходящего. Три пары вставных челюстей, свадебное платье, тюбики губной помады – ничего острого и твердого.
И наконец…
В кожаном ранце под шелковую подкладку завалилась авторучка.
Пальцы до боли вцепились в находку. Держать ручку оказалось так естественно, что мое прошлое, которое я отрезала от своего теперешнего существования, мгновенно ожило. Я вспомнила, как сидела у папы в булочной на подоконнике и писала свою книгу, как жевала кончик ручки, когда слышала воображаемый диалог между Аней и Александром. История, словно кровь, перетекала из моей руки на бумагу. Иногда создавалось впечатление, что я всего лишь транслирую фильм, который уже снят, что я всего лишь проектор, а не создатель. Когда я писала, то чувствовала себя невероятно свободной, не связанной ничем. А теперь я едва помнила, что это за ощущение.
Даже не представляла, насколько за эти недели, что я здесь, соскучилась по письму! «Настоящие писатели не могут не писать, – однажды сказал мне герр Бауэр, когда мы обсуждали Гёте. – Так вы и узнаете, фрейлейн Левина, суждено ли вам стать писательницей».
Рука, сжимавшая ручку, так и чесалась. Я не знала, есть ли внутри чернила, и, чтобы это проверить, прижала перо к цифрам, выжженным на левом предплечье. Потекли чернила – прекрасная черная «клякса Роршаха»! – замазывая то, что сделали со мной.
Я спрятала ручку в карман. Я напомнила себе: это для Дары. Не для меня.
Вечером понадобилась помощь еще одной девушки, чтобы держать Дару ровно во время вечерней переклички. Когда через два часа нас отправили в барак, она едва стояла на ногах. Она долго не позволяла даже прикоснуться к щеке, когда я хотела помочь ей открыть рот, чтобы посмотреть, насколько сильно воспаление.
Ее щека была страшно горячей и, казалось, распухала у меня под рукой.
– Дара, – сказала я, – ты должна мне верить.
Она с трудом покачала головой.
– Оставь меня в покое.
– Обязательно. После того, как вырву этот дурацкий зуб.
Мои слова пробились сквозь пелену забытья, в котором она находилась.
– Черта с два вырвешь!
– Заткнись и открой рот, – пробормотала я и схватила ее за подбородок.
Дара отпрянула.
– Больно будет? – заплакала она.
Я кивнула, глядя ей прямо в глаза.
– Будет. Если бы у меня был газ, я бы сделала тебе анестезию.
Дара засмеялась. Сначала едва слышно, потом громче. Некоторые девушки на своих койках оглянулись на нас.
– Газ… – Она буквально захлебывалась смехом. – Тебе газ нужен?
Я поняла, какую глупость сказала: всего в нескольких метрах от нашего барака проводилось массовое уничтожение людей. Неожиданно для себя я тоже засмеялась. Это был ужасный, неуместный смех висельника, но мы не могли сдержаться. Мы повалились на койку, отдуваясь и хихикая, – остальные возмущенно от нас отвернулись.
Наконец мы успокоились, и наши костлявые руки переплелись, как неуклюжие лапки двух запутавшихся богомолов.
– Если не можешь обезболить, тогда отвлекай меня, – попросила Дара.
– Я могла бы спеть.
– Хочешь, чтобы разболелось еще больше? – Она с отчаянием взглянула на меня. – Расскажи мне историю.
Я кивнула. Вытащила из кармана ручку и попыталась, насколько могла, вытереть ее, что было совсем непросто, учитывая, какой грязной была моя одежда. Потом посмотрела на свою лучшую подругу, единственную подругу.
Я не могла терзать ей душу нашими детскими воспоминаниями. Не могла рассказывать байки о будущем – едва ли у нас было будущее.
Была только одна история, которую я знала наизусть. История, которую я сама много лет писала. История, которую читала Дара.
Отец заранее обсуждал со мной все детали своих похорон, – начала я, и слова медленно возрождались из глубин моей памяти. – Аня, – говорил он, – никакого виски на похоронах. Хочу самое лучшее вино из черной смородины. И запомни, никаких слез. Только танцы. А когда меня опустят в землю, хочу, чтобы трубили фанфары и выпустили белых бабочек.
Вот такой человек мой отец. Он был сельским пекарем, и каждый день помимо буханок хлеба для продажи выпекал одну-единственную булочку для меня – единственную в своем роде и невероятно вкусную: в форме короны принцессы, с корицей и великолепным шоколадом. Он уверял, что секретный ингредиент – это отцовская любовь, поэтому его булочка – самое вкусное, что мне доводилось пробовать.
Я осторожно открыла Даре рот и приставила ручку к корню зуба, где распухла десна. Подняла камень, который принесла из уборной…
Мы жили на окраине деревушки настолько маленькой, что все знали друг друга по именам. Стены нашего дома были сложены из речного камня, крыша из соломы, а жара от печи, в которой отец выпекал караваи, хватало, чтобы обогреть весь дом. Я обычно сидела за кухонным столом, чистила горох, который сама же выращивала на небольшом огороде за домом, а отец открывал заслонку каменной печи и засовывал туда пекарскую лопату, чтобы достать круглые хрустящие хлеба. Свет тлеющих красных угольков подчеркивал очертания его крепкой спины под взмокшей от пота рубашкой.
– Не хочу, чтобы меня хоронили летом, Аня, – говорил он. – Сделай так, чтобы я умер, когда похолодает и будет дуть приятный ветерок. До того как птицы улетят на юг, чтобы они могли спеть для меня.
Я делала вид, что записываю все его пожелания. И меня совершенно не смущали разговоры о смерти: для меня отец был таким сильным и крепким, что не верилось, что когда-либо придется исполнить хотя бы один из его заветов. Некоторые жители деревушки находили наши отношения с отцом странными: разве можно шутить такими вещами! Но мама моя умерла, когда я была еще крохой, и мы с папой остались одни.
Я опустила взгляд и заметила, что Дара наконец-то расслабилась, зачарованная паутиной моих слов. А еще я услышала, что в бараке повисла тишина: все женщины слушали мой рассказ.
Отец заранее оговаривал со мной все детали своих похорон, – продолжала я, занося камень точно над ручкой. – Но в итоге я опоздала.
Я резко ударила камнем по ручке – она должна была заменить долото. Дара издала нечеловеческий крик и дернулась так, как будто ее проткнули мечом. Я упала на спину, напуганная тем, что сделала, а она прижала руки ко рту и откатилась от меня.
Когда Дара подняла голову, глаза у нее были ярко-красными – кровеносные сосуды лопнули от крика. По подбородку струилась кровь, как будто она была упырем, только что убившим добычу.
– Прости, – заплакала я. – Я не хотела сделать тебе больно…
– Минка… – произнесла Дара сквозь слезы полным крови ртом. Схватила меня за руку и держала, пока я не поняла, что она пытается мне что-то отдать.
У нее на ладони лежал сломанный гнилой зуб.
На следующий день температура у Дары упала. Я опять несла из кухни завтрак – добывала для подруги дополнительную порцию, чтобы сил набиралась. Когда она улыбалась, я видела дырку, черную расщелину там, где раньше был зуб.
Вечером к нам в блок подселили новенькую. Она была из Радома, отдала своего трехлетнего ребенка пожилой матери на платформе – по совету мужчины в полосатой робе. Она плакала не переставая.
– Если бы я знала… – всхлипывала она, задыхаясь от ужасной правды. – Если бы я знала, зачем он это сказал, я бы никогда не отдала малыша!
– Тогда вы оба погибли бы, – сказала Эстер, пятидесятидвухлетняя женщина, самая старшая в нашем блоке. Она работала с нами в «Канаде» и даже наладила подпольную торговлю: продавала вещи и сигареты, которые таскала из чемоданов, за порцию еды.
Новенькая никак не могла успокоиться. Ничего необычного в этом не было, но она рыдала громче остальных. Нас всех измучила жизнь впроголодь и долгие часы работы, мы устали от этого плача. Слушать ее было даже тяжелее, чем дочь раввина из Люблина, которая всю ночь молилась вслух.
– Минка, – сказала Эстер, когда новенькая буквально провыла несколько часов, – сделай что-нибудь.
– А что я могу?
Я же не могла вернуть ребенка матери. Не могла изменить то, что уже случилось. Честно говоря, эта женщина раздражала меня – вот какой черствой я стала! В конце концов, мы все потеряли близких. Разве ее утрата страшнее наших? С чего она решила, что смеет красть у нас драгоценные часы сна?
– Если нельзя ее заткнуть, – сказала другая девушка, – может, получится заглушить ее рыдания.
Раздался гул одобрения.
– На чем ты остановилась, Минка?
Сперва я даже не поняла, о чем она говорит. Но потом догадалась, что женщины хотят послушать написанную мною историю, ту, которую я рассказывала вчера, чтобы успокоить Дару. Если она сработала как обезболивающее, то, возможно, заглушит боль утраты?
Они расселись, похожие на тростник у края пруда, – хрупкие, покачивающиеся, поддерживающие друг друга, чтобы не упасть. В темноте я видела их блестящие глаза.
– Продолжай, – велела Дара, толкнув меня локтем. – У тебя наконец появились слушатели.
И я начала рассказывать об Ане, для которой день начинался как обычно. Рассказывала, что в октябре было холоднее, чем всегда в это время; что листья срывало с веток деревьев и уносило маленькими вихрями, которые кружились в дьявольском танце у ее ног, – так Аня поняла, что случится что-то плохое. Отец научил ее этому, как и всему остальному, что она умела: как завязывать шнурки, как ориентироваться по звездам, как разглядеть чудовище, которое скрывается за маской, похожей на человеческое лицо.
Я рассказывала о горожанах, которые были уже на грани помешательства. У некоторых загрызли скот, у кого-то пропали собаки. Создавалось впечатление, что в округе поселился хищник.
Я поведала им о Дамиане, начальнике караула, который хотел жениться на Ане и готов был воспользоваться силой для достижения своих желаний. О том, как он уверял взволнованную толпу, что если не покидать пределы деревушки, то им ничего не грозит.
Я написала эту главу, как только мы переехали в гетто. Когда я еще искренне в это верила.
В бараке повисло молчание. Дочь раввина больше не молилась вслух, а новенькая затихла.
Я описала, как Дамиан забрал последний багет, который Аня должна была продать на рынке, как не давал ей денег – только в обмен на поцелуй. Как она поспешила уйти, чувствуя на затылке его пристальный взгляд.
Перед нашим домом протекал ручей, – продолжала я повествование от лица Ани, – и папа перебросил через него широкую доску, чтобы мы могли перебираться с одного берега на другой. Но сегодня, когда я дошла до ручья и наклонилась попить, а заодно смыть с губ горький вкус поцелуя Дамиана… – Я сложила руки в виде чашки. – Текла красная вода.
Я поставила корзинку и пошла вверх по течению. Мои сапоги утопали в вязкой грязи. И тут я увидела…
– Что увидела? – пробормотала Эстер.
И в эту минуту я вспомнила мамины слова о том, что следует быть доброй к людям, ставить интересы других выше собственных. Я дождалась, пока новенькая посмотрит на меня.
– Чтобы узнать, придется ждать до завтра, – ответила я.
Иногда человеку для того, чтобы прожить еще один день, нужна веская причина.
* * *
Именно Эстер посоветовала мне записать свою историю.
– Кто знает, – сказала она, – может быть, когда-нибудь ты станешь известной.
Я засмеялась.
– Скорее всего, эта история умрет со мной.
Но я понимала, о чем она просит. Чтобы повесть осталась и ее можно было прочесть еще и еще раз, даже если меня увезут. Истории всегда живут дольше своих создателей. Мы знаем о Гёте и Чарльзе Диккенсе благодаря историям, которые они решили нам поведать, хотя оба уже давным-давно мертвы.
Мне кажется, именно поэтому я и решилась записать свою историю, – после меня не останется ни одной фотографии, которую можно было бы взять на память. У меня больше не было родных, которые вспоминали бы обо мне. От меня не осталось ничего, что можно было бы вспоминать. Еще одна узница, еще один номер… Если мне суждено умереть в этой дыре и смерть станет избавлением, может быть, выживет кто-то и расскажет своим детям историю, которую одна девушка поведала в ночи. Со сказками всегда так: их выпускаешь в мир, и они продолжают жить, поражать воображение. Если историю, как содержимое ящика Пандоры, выпустить на свободу, снова в ящик ее не запрешь. Она, словно зараза, переходит от того, кто ее придумывает, к тому, кто слушает и потом передает дальше.
По иронии судьбы, воплотить эту идею в жизнь помогли фотографии. Однажды, повторяя ежевечернюю молитву, я уронила пачку снимков на пол. Я в спешке собрала их и на обороте одной фотографии прочла: «Моше, 10 месяцев».
Кто-то это написал.
Квадратик был маленьким, меньше тех, на которых я писала раньше, но это была настоящая бумага. И таких квадратиков у меня были десятки. И ручка была.
У меня появился смысл в жизни. Каждую ночь я исполняла в нашем бараке роль Шахерезады, рассказывая историю об Ане и Александре, пока мы не начинали жить и дышать в унисон с ними. А потом при свете луны я несколько часов записывала свою историю под храп и редкие всхлипы других женщин. На всякий случай я писала по-немецки. Если эти карточки обнаружат, последует – ни секунды не сомневаюсь! – суровое наказание, но, может быть, оно будет чуть менее жестоким, если солдаты смогут прочесть написанное и поймут, что это всего лишь рассказ, а не секретные записки, которые я хотела распространить между заключенными с целью поднять мятеж. Я писала по памяти, добавляла какие-то детали, кое-что редактировала по ходу – и всегда тщательно прорабатывала сцены, где описывалась еда. Я вдавалась в мельчайшие подробности, останавливаясь на мякише сдобной булочки, которую пек для Ани отец; на том, как чувствовался вкус масла на ее корочке. Я писала о жаре, который оставался на нежном нёбе, и о том, как корица прилипала к кончику языка.
Я писала, пока не закончились чернила, пока часть моей истории (насколько возможно бо́льшая) не оказалась нацарапанной мельчайшим аккуратным почерком на обороте фотографий сотни погибших людей.
– Raus!
Еще секунду назад я спала, и мне снилось, что меня привели в комнату, где стоял километровый стол, ломившийся от еды, и я была вынуждена проедать себе дорогу из одного его конца в другой, прежде чем меня отпустят…
Внезапно кто-то беспорядочно тычет в солому на койке. Я не успеваю вскочить, и удары сыплются мне на спину и ноги.
Зверюга стоит ко мне спиной и орет. Несколько солдат вбегают в барак, расталкивают стоящих на пути женщин, срывают тонкие одеяла с коек, сметают лежащую на деревянных планках солому. Они ищут запрещенные предметы.
Иногда мы знали о «шмоне» заранее. Не знаю как, но слухи доходили, поэтому у нас было время перепрятать под одежду то, что мы прятали в койке. Однако сегодня никто ни о чем не предупредил. Я вспомнила книгу, которую конфисковали несколько недель назад, ту, из-за которой избили Анат, в результате чего она умерла. На нашей койке, под соломой, в том месте, где спала я, лежала стопка фотографий с написанной на них историей.
Одну девушку вывели наружу, когда надзиратель обнаружил у нее радио. Мы слушали его по ночам: Шопена, Листа, Баха, даже балет Чайковского, партию из которого Дара танцевала на «сольном концерте» в Лодзи, – потом она плакала во сне. Иногда передавали новости, из которых я узнала, что наступление Германии идет не настолько хорошо, что немцам так и не удалось завоевать Бельгию. Узнала, что войска Соединенных Штатов после высадки этим летом во Франции продолжали наступление. Я уверяла себя: войне скоро конец – это всего лишь вопрос времени.
Если, конечно, я смогу пережить такой момент, как сейчас.
Зверюга засунула руку в солому на койке под моей и достала завернутый в газету предмет, по виду напоминающий маленький камень. Она поднесла его ко рту, лизнула.
– Кто здесь спит?
Пять девушек, которые ютились на этом крошечном пространстве, шагнули вперед, крепко держась друг за друга.
– Кто украл шоколад? – продолжала допрос Зверюга.
Девушки были совершенно сбиты с толку. Вполне вероятно, что кто-то более находчивый в последнюю минуту сунул свои тайные припасы в солому на их койке, чтобы спасти себя. Как бы там ни было, они стояли и молчали, уставившись в холодный грязный пол.
Староста блока схватила одну из девушек за волосы. Как и всем работающим в «Канаде», нам разрешили отращивать волосы. Мои были уже длиной сантиметра два. Из-за одного этого, помимо прочего, остальные завидовали нашему месту работы. Надзиратели называли нас жирными свиньями, потому что мы выглядели здоровее и крепче, чем бо́льшая часть узниц, ведь у нас была возможность собирать крошки еды, которую мы находили в чемоданах.
– Это твое? – завопила Зверюга.
Девушка покачала головой.
– Я не знаю… я не знала…
– Может быть, это освежит вашу память!
И она ударила металлическим прутом по лицам всех пятерых, ломая им зубы и носы. Девушки упали на колени.
Она пинками проложила себе дорогу между упавшими телами и принялась обыскивать нашу койку. Мое сердце колотилось, как пулемет, на лбу выступил пот. Зверюга выхватила стопку фотографий, перевязанную ниткой, которую я вытянула из своего платья.
Дара шагнула вперед.
– Это мои.
Я замерла, поняв, что она делает: платит за то, что я спасла ей жизнь. Не успела я открыть рот, как вперед вышла еще одна узница – новенькая, которая прибыла три дня назад и все не могла успокоиться из-за утраты сына и матери. Я до сих пор не знала ее имени.
– Она лжет, – заявила новенькая. – Это мое.
– Они обе обманывают.
Я посмотрела на новенькую, не понимая, что ею движет. Неужели она пытается меня спасти? Или просто хочет умереть?
– Она не работает в «Канаде», а она… – я кивнула в сторону Дары, – не знает немецкого.
Секунду назад я, неожиданно осмелев, стояла перед Зверюгой, и вот меня уже вытащили из барака. На улице лил дождь и бушевал ветер. Одна моя деревянная туфля застряла в грязи, и у меня просто не было времени выхватить ее – там она и осталась. Если у тебя нет обуви, ты не выживешь. Точка.
Посреди двора стоял офицер СС, которого я про себя называла герр Тремор, – капли дождя отскакивали от его шерстяной формы. Рука его не дрогнула, когда он поднял хлыст и опустил его на спину девушки из моего блока, у которой обнаружили радио. Она упала лицом в лужу. После каждого удара он велел ей подниматься, и каждый раз, когда она поднималась, снова наносил удар.
Я буду следующей.
Меня трясло, зубы стучали, из носа текло. Неужели он хочет убить девушку, которая украла радио?
И меня заодно.
Странно было наблюдать за тем, как кто-то умирает. Я поймала себя на том, что думаю о требованиях, которые когда-то выдвигал мой папа к своим похоронам и которые я воспринимала как нашу семейную шутку. Теперь у меня появились собственные критерии.
Если я умру, пусть это будет быстро.
Если от пули, пусть в сердце, а не в голову.
Хорошо, если не больно.
Лучше умереть от одного выстрела, чем от воспаления. Пусть уж лучше от газа. Возможно, я просто засну и больше никогда не проснусь.
Не знаю, когда я начала считать массовые уничтожения людей в лагере актом человеколюбия – наверное, и немцы так думали. Чем постепенно превращаться в труп, когда разум понемногу угасает от голода, лучше разом покончить со всем этим.
Когда мы с надзирателем приблизились, герр Тремор поднял голову, капли дождя струились по его лицу. Я заметила его стеклянные глаза. Бледные, практически серебристые, как зеркало.
– Я еще не закончил! – рявкнул он по-немецки.
– Нам подождать, лагерфюрер? – уточнила надзирательница.
– У меня нет никакого желания провести день под проливным дождем, потому что какие-то животные нарушают правила! – выкрикнул он.
Я вздернула подбородок и очень четко, по-немецки, произнесла:
– Ich ben kein Tier. («Я не животное».)
Герр Тремор, прищурившись, посмотрел на меня. Я тут же опустила взгляд.
Он поднял правую руку, ту, в которой держал хлыст, и ударил меня по щеке так, что голова дернулась из стороны в сторону.
– Da irrst du dich. («Ошибаешься».)
Я упала на колени в грязь. Хлыст рассек мне щеку под глазом. По подбородку текла смешавшаяся с дождем кровь. Я встретилась взглядом с лежащей рядом девушкой. Ее роба разорвалась, а кожа на спине напоминала распустившиеся лепестки роз.
За спиной я слышала разговор: надзиратели, которые вывели меня из барака, докладывали кому-то новому, в чем мое преступление. Потом этот новый эсэсовец навис надо мной.
– Лагерфюрер, – раздался голос, – вы, похоже, очень заняты. Если позволите, я вам помогу.
Я видела его только сзади. Руки в перчатках он держал за спиной. У него были такие начищенные сапоги, что я удивилась, как он мог идти по грязи и не запачкать их.
Поверить невозможно, какие мысли приходят в голову за минуту до смерти!
Герр Тремор пожал плечами и повернулся к лежащей рядом со мной девушке. Второй офицер пошел прочь. Меня рывком поставили на ноги и потащили через тюремный двор к административному зданию, куда вошел этот офицер. Он отдал приказ надзирателям, и меня отвели вниз, в какую-то камеру. Дверь плотно закрылась, я услышала, как запирают тяжелый замок.
Света здесь не было, пол и стены были каменными. Помещение походило на старый винный погреб, немного влажный, замшелый, отчего все казалось скользким. Я села, опираясь спиной о стену и иногда прижимаясь распухшей щекой к прохладному камню. Ненадолго задремав, я проснулась оттого, что почувствовала, как по ноге под платьем пробежала мышь. После этого я решила стоять.
Прошло несколько часов. Рана на щеке перестала кровоточить. Неужели офицер забыл обо мне или просто отложил наказание, пока дождь не закончится, чтобы герр Тремор самолично отхлестал меня? К этому моменту щека настолько воспалилась, что глаз полностью заплыл.
Я услышала звук открываемой двери и сощурилась от луча света, упавшего в эту тесную каморку.
Меня отвели в кабинет. «Гауптшарфюрер Ф. Хартманн» – гласила табличка на двери. В кабинете стоял большой деревянный письменный стол, множество шкафов-картотек и роскошное кресло – похожее на те, в которых восседают адвокаты. В этом кресле и расположился дежурный офицер «Канады».
А перед ним на зеленом сукне стола, поверх бумаг, лежали фотографии, перевернутые лицом вниз, чтобы можно было прочесть мою историю.
Я знала, на что был способен герр Тремор, каждый день видела это на перекличке. В этом смысле герр Диббук был намного страшнее, потому что я понятия не имела, чего от него ждать.
Он отвечал за все, что происходит в «Канаде», а я совершила кражу, и доказательства моего проступка сейчас лежали между нами.
– Оставьте нас! – приказал он надзирателю, который привел меня.
За спиной у офицера располагалось окно. Я видела, как дождь бьет по стеклу, и радовалась простым вещам – что сейчас нахожусь под крышей и в тепле. В комнате, где негромко играет классическая музыка. Если бы не осознание того, что меня вот-вот забьют до смерти, можно было бы считать, что впервые с тех пор, как меня привезли в лагерь, я почувствовала себя нормальным человеком.
– Значит, ты говоришь по-немецки, – на своем родном языке обратился ко мне офицер.
Я кивнула.
– Ja, Herr Hauptscharführer.
– И, как видно, еще и писать умеешь.
Я бросила взгляд на фотографии.
– В школе научилась, – ответила я.
Он протянул мне блокнот и ручку.
– Докажи. – Он начал ходить по комнате и декламировать наизусть: – Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Dass ich so traurg bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Я знала это стихотворение. Мы учили его с герром Бауэром, и когда-то на экзамене я писала под диктовку именно эти строки. За диктант я получила самую высокую отметку. Я мысленно перевела текст:
Не знаю, что стало со мною, Печалью душа смущена. Мне все не дает покою Старинная сказка одна[47].– Die Luft ist kühl und es dunkelt, – продолжал гауптшарфюрер. – Und ruhig fließt der Rhein…
Прохладен воздух. Темнеет. И Рейн уснул во мгле…– Der Gipfel des Berges funkelt, – добавила я себе под нос, – im Abendsonnenschein.
Последним лучом пламенеет Закат на прибрежной скале.Он услышал. Взял у меня блокнот, проверил правописание. Поднял голову и принялся разглядывать меня, как доселе невиданное создание.
– Ты знаешь это стихотворение.
Я кивнула.
– Генрих Гейне, «Лорелея».
– Ein unbekannter Verfasser, – поправил он. («Неизвестный автор».)
И тогда я вспомнила, что Генрих Гейне был евреем.
– Ты осознаешь, что украла вещи, принадлежащие рейху? – пробормотал он.
– Да, осознаю! – выпалила я. – Простите. Это была ошибка.
Он удивленно приподнял бровь.
– Ты называешь ошибкой преднамеренную кражу?
– Нет. Ошибкой было полагать, что эти фотографии не представляют для рейха никакой ценности.
Он открыл было рот, но промолчал. Он не мог признать, что фотографии имеют ценность, потому что это было равносильно признанию, что жизни тех, кого они убили, имели цену. С другой стороны, он не мог признать, что эти снимки – мусор, поскольку в таком случае меня не за что наказывать.
– Не в этом дело, – наконец произнес он. – Суть в том, что они тебе не принадлежат.
Эсэсовец опустился в кресло, побарабанил пальцами по столу, взял одну фотографию, перевернул тыльной стороной, где была написана история.
– Этот рассказ… Где его продолжение?
Я представила, как надзиратели обыскивают барак, пытаясь найти исписанные фотографии. А когда не найдут, то будут бить женщин, пока не получат ответ…
– Я его еще не написала, – призналась я.
Он удивился. Видимо, он решил, что я просто записывала историю, которую где-то прочла. Нельзя же предположить, будто я настолько образованна, что могу создать нечто подобное!
– Ты? Ты выдумала это чудовище… этого упыря?
– Да, – ответила я. – То есть нет. В Польше все знают легенды об упырях. Но этот является плодом моего воображения.
– Большинство девушек пишут о любви. А ты решила писать о чудовище, – задумчиво протянул он.
Мы говорили по-немецки. Вели беседу о художественном произведении. Как будто он не мог в любой момент выхватить пистолет и выстрелить мне в голову!
– Твой выбор темы напомнил мне еще об одном мифическом чудовище, – сказал он. – О донестре. Слышала о таком?
Это что – экзамен? Шутка? Какая-то разновидность наказания? Неужели моя судьба зависит оттого, что я отвечу? Я знала Wodnik – демона воды, Dziwoźona – дриаду, но это все польские легенды. А если я солгу и скажу, что слышала? Меня накажут сильнее, если скажу правду и отвечу «нет»?
– Древние греки, насколько я помню из школьного курса, – сухо продолжал гауптшарфюрер, – писали о донестре. У него была голова льва и тело человека. Он умел говорить на языках всех народов, что, как ты понимаешь, очень пригодилось.
Я опустила взгляд. Интересно, что бы он подумал, если бы узнал, что прозвище, которое я ему мысленно дала, имеет отношение к еще одному мифическому существу?
– Как и упыри, донестры безнаказанно убивали и пожирали свою жертву. Но у донестров была одна особенность. Они сохраняли голову человека, которого сожрали, сидели рядом с ней и рыдали. – Он дождался, пока я встречусь с ним взглядом. – Почему, как ты думаешь?
Я сглотнула. Никогда не слышала об этом донестре, но упыря Александра я знала лучше себя. Я создала этого героя, вдохнула в него жизнь.
– Возможно, – негромко предположила я, – у некоторых чудовищ еще осталась совесть.
Ноздри офицера затрепетали. Он встал, обошел стол, и я мгновенно сжалась, подняла руки, чтобы отвести удар.
– Ты понимаешь, – практически прошептал он мне в лицо, – за кражу я обязан тебя наказать, чтобы другим неповадно было. Прилюдно высечь, как узницу, которую ранее наказал лагерфюрер. Или убить.
Слезы брызнули у меня из глаз. Как оказалось, я не так горда и готова просить сохранить мою жалкую жизнь!
– Пожалуйста, не надо. Я сделаю все, что скажете.
Гауптшарфюрер задумался.
– Тогда расскажи мне, что было дальше, – велел он.
Сказать, что я опешила, – ничего не сказать. Гауптшарфюрер не только и пальцем меня не тронул – остаток дня я просидела у него в кабинете, печатая списки вещей, которые конфисковали в «Канаде». Эти списки, как я потом узнала, отправлялись в различные города Европы, где власть еще принадлежала немцам, вместе с самими вещами. Он сообщил мне, что это будет моя новая работа: я буду записывать под диктовку, печатать письма, отвечать на телефонные звонки (разумеется, по-немецки), принимать для него сообщения. Когда он уходил, как обычно, инспектировать бараки «Канады», то оставлял в кабинете надзирателя, который следил, чтобы я ничем подозрительным не занималась. Я печатала, и мои пальцы тряслись на клавишах. Гауптшарфюрер возвращался, молча садился за стол и начинал нажимать клавиши на счетной машинке. Ее длинный белый язычок извивался над краем стола, пока он обсчитывал кипу документов.
К вечеру у меня кружилась голова. В отличие от склада, в обед меня не кормили. Какой бы жидкой и маленькой ни была порция – все равно еда. Когда гауптшарфюрер вернулся после очередной инспекции по «Канаде» с кексом и кофе, в животе у меня заурчало так громко, что я поняла: он это услышал.
Почти сразу раздался стук в дверь, и я подскочила на стуле. Гауптшарфюрер пригласил посетителя войти. Я не сводила глаз со страницы, которую печатала, но мгновенно узнала голос начальника лагеря.
– Что за день! – воскликнул он, рывком открывая дверь. – Идем, мне нужно успокоиться в столовой, а то перекличку я не вынесу.
У меня волосы зашевелились на затылке. Он с трудом выносит перекличку?
Его взгляд остановился на мне. Я, склонив голову, прилежно печатала.
– Ну-с, а это что такое?
– Райнер, мне нужна секретарша. Я говорил тебе об этом еще месяц назад. С каждым днем количество бумаг, которые нужно разобрать, неуклонно растет.
– Я обещал тебе решить этот вопрос.
– Слишком долго решаешь. Можешь написать на меня рапорт, если хочешь. – Он пожал плечами. – Я взял дело в свои руки.
Начальник лагеря обошел вокруг стола.
– И взял на работу одну из моих работниц?
– Одну из своих работниц, – поправил гауптшарфюрер.
– Без моего разрешения.
– Ради бога, Райнер… Найдешь другую. Эта, как оказалось, свободно владеет немецким.
– Wirklich? – удивился он. («Серьезно?»)
Он обращался ко мне, но поскольку я сидела к ним спиной, то не знала, ожидает ли он ответа. Внезапно я получила чем-то по затылку, упала со стула на колени и сжалась.
– Отвечай, когда к тебе обращаются! – Надо мной с поднятой рукой стоял лагерфюрер.
Гауптшарфюрер перехватил руку, пока тот не нанес очередной удар.
– Я бы попросил, чтобы ты предоставил мне право наказывать моих работников.
Глаза лагерфюрера заблестели.
– Ты сейчас обращаешься к старшему по должности, Франц?
– Нет, – ответил гауптшарфюрер. – Я обращаюсь к брату.
Напряжение тут же спало, словно его ветром сдуло.
– Значит, надумал завести себе игрушку? – засмеялся начальник лагеря. – Ты не первый, кто на это решился, хотя мне непонятен твой выбор, когда вокруг полно готовых на все настоящих немецких красавиц.
Я робко присела на стул и провела языком по зубам, чтобы удостовериться, что ни один не выбит. Неужели этого гауптшарфюрер добивается? Неужели меня привели сюда, чтобы я стала его подстилкой?
Такого наказания я никак не ожидала.
До этого я не слышала, чтобы офицеры насиловали узниц. И не потому, что они такие джентльмены, – подобные отношения были против правил, а эти люди четко следовали правилам. К тому же мы еврейки, а потому сексуально совершенно не привлекательны. Лечь с одной из нас в постель – все равно что лечь с бревном.
– Давай обсудим это в столовой, – предложил гауптшарфюрер.
Остатки кекса лежали на столе.
Проходя мимо, герр Диббук приказал:
– Убери со стола, пока меня не будет.
Я кивнула и отвернулась. Я чувствовала, как начальник лагеря взглядом шарит по моему лицу, по костлявому телу под робой.
– Запомни, Франц, – предупредил он, – бродячие собаки кусаются.
На этот раз гауптшарфюрер не оставил надзирателя присматривать за мной, просто запер меня в кабинете. От такого доверия мне стало не по себе. Интерес, проявленный к моей истории… Известие о том, что я его новая секретарша и могу весь день сидеть в тепле сейчас, когда зима не за горами… Да, такую работу, как ни крути, тяжелой не назовешь. Почему он так добр ко мне, если собирается изнасиловать?
Эта мысль камнем ударила мне в голову.
Этому не бывать! Я перережу себе горло ножом для бумаги, но не допущу никаких отношений с эсэсовцем.
Я мысленно поблагодарила Арона, ставшего моим первым мужчиной. Этому немцу не достанется такая честь.
Я подошла к его столу. Как давно я не пробовала кекс! Иногда отец пек их из муки грубого помола и мельчайшего белого сахара. Этот был из темной муки, со смородиной.
Я прижала пальцы к вощеной бумаге, собрала все крошечки. Половину сложила в оторванный уголок бумажки и спрятала за пояс робы – поделюсь с Дарой. Потом облизала пальцы. И от вкуса едва не упала. Допила последние глотки кофе. Аккуратно опустила бумажку в корзину для мусора и насухо вытерла чашку.
И тут же запаниковала. А если это не жест доверия, а очередная проверка? А если он вернется, решит проверить мусор и заметит, что я украла его еду? Я мысленно проиграла развитие событий. Входят оба, и начальник лагеря говорит: «Я же предупреждал тебя, Франц!» А гауптшарфюрер пожмет плечами и отдаст меня брату – чтобы наконец меня настигло наказание, которого я жду с самого утра. Если кража фотографий погибших – это плохо, то кража еды, которая принадлежит немецкому офицеру, – намного хуже.
Когда гауптшарфюрер отпер дверь кабинета и вошел – один! – я так разнервничалась, что зубы стучали. Он бросил на меня сердитый взгляд.
– Замерзла? – От него пахло пивом.
В мусорную корзину он заглядывать не стал. Огляделся, присел на угол стола и взял стопку фотографий.
– Это я должен конфисковать. Ты меня понимаешь?
– Да, – прошептала я.
Я не сразу поняла, что он мне протягивает. Маленький блокнот в кожаной обложке и авторучка!
– Взамен бери это.
Я нерешительно взяла подарки. Ручка была тяжелая. Я держалась изо всех сил, чтобы не поднести блокнот к носу, не вдохнуть запах бумаги и кожи.
– Такой обмен тебя устроит? – сухо поинтересовался он.
Как будто у меня был выбор!
Готова ли я продать свое тело, чтобы получить пищу для ума? Потому что именно такой договор он предлагал – или, по крайней мере, на это намекал его брат. За эту цену я смогу писать все, что захочу. И получу работу, за которую любая готова была бы убить.
Когда я промолчала, он вздохнул и встал.
– Идем! – велел он.
Я опять задрожала, настал мой черед расплачиваться. Я скрестила руки на груди и прижала к себе блокнот, гадая, куда же он меня поведет. Наверное, туда, где живут офицеры.
Я смогу. Мысленно я улечу куда-нибудь далеко. Закрою глаза и буду думать об Ане и Александре, о мире, которым могу управлять. Так же, как моя история успокоила Дару, как она утешила остальных в бараке, я воспользуюсь ею, чтобы отключиться.
Я стиснула зубы, когда мы вышли на улицу. И хотя дождь прекратился, повсюду стояли огромные лужи. Гауптшарфюрер в тяжелых сапогах шагал прямо по ним, я пыталась не отставать. Но вместо того, чтобы повернуть в другой конец лагеря, где жили офицеры, он повел меня ко входу в барак. Женщины, которые уже вернулись с работы, ждали переклички.
Гауптшарфюрер вызвал старосту блока, которая тут же начала заискивающе улыбаться.
– Эта заключенная теперь будет работать у меня, – сообщил он. – Блокнот, который она держит, и ручка принадлежат мне. Если они пропадут, вы лично будете отвечать передо мной и начальником лагеря. Ясно?
Зверюга молча кивнула. За ее спиной повисло звенящее молчание – любопытство, которое снедало остальных, стало осязаемым. Гауптшарфюрер повернулся ко мне:
– К завтрашнему дню еще десять страниц!
И затем, вместо того чтобы увести меня к себе на квартиру и изнасиловать, он ушел.
Зверюга презрительно усмехнулась.
– Пока что он тебя защищает, но, когда устанет от того, что у тебя между ногами, найдет себе другую.
Я протиснулась мимо нее к Даре.
– Что он с тобой сделал? – спросила она, хватая меня за руку. – Я целый день места себе не находила.
Я устало присела, пытаясь переварить все, что произошло; этот странный поворот событий.
– Абсолютно ничего, – ответила я. – Никакого наказания. Меня даже повысили, потому что я знаю немецкий. Я работала у офицера, он цитировал стихи и попросил написать продолжение истории об упырях.
Дара нахмурилась:
– Что ему нужно?
– Не знаю, – призналась я, не скрывая недоумения. – Он меня и пальцем не тронул. И смотри… – Я достала крошки от кекса, которые спрятала за пояс, и протянула ей. – Он оставил это мне.
– Он отдал тебе еду? – выдохнула Дара.
– Не совсем так. Но он не доел.
Дара попробовала кекс. Прикрыла глаза… Настоящее блаженство! Но через мгновение она вперила в меня пристальный взгляд.
– Минка, черного кобеля не отмоешь добела.
На следующее утро после переклички я явилась в кабинет гауптшарфюрера. Его самого на месте не оказалось, но меня ожидал младший офицер, который и открыл мне дверь. Я вошла. Скорее всего, герр Диббук в «Канаде», инспектирует склады, где трудятся Дара и остальные узницы.
Рядом с печатной машинкой на импровизированном столе лежала кипа документов, которые должны быть напечатаны.
На спинке стула висел женский вязаный кардиган.
Так и повелось, что каждое утро я являлась в кабинет гауптшарфюрера. Он обходил бараки «Канады», меня уже ждала работа. В обед гауптшарфюрер приносил еду из главного корпуса в свой кабинет, часто это были две порции супа или лишний кусок хлеба. Он никогда не съедал всего, просто оставлял на столе и уходил, отлично зная, что я все доем.
Каждый день, пока он обедал, я читала вслух то, что написала за ночь. Потом он задавал вопросы: знала ли Аня, что Дамиан пытается подставить Александра? Мы увидим когда-нибудь, как Казимир совершает убийство?
Но больше всего вопросов он задавал об Александре.
Любовь к брату и любовь к женщине – это разные чувства? Можно ли пожертвовать одним ради другого? Чего стоило Алексу скрывать, кто он есть на самом деле, ради спасения Ани?
Даже Даре я не могла признаться в том, что с нетерпением жду следующего дня, особенно обеда. Казалось, лагерь исчезал, когда я читала гауптшарфюреру. Он слушал так внимательно, что я напрочь забывала, что за этими стенами надзиратели издеваются над заключенными, что людей душат в газовых камерах, «душевых», а потом складывают их тела, как дрова, в крематории. Когда я читала свое творение, растворялась в истории, то могла оказаться где угодно: в своей спальне в Лодзи, у двери класса герра Бауэра; могла записывать свои мысли, делиться горячим шоколадом с Дарой, свернуться клубочком на подоконнике в папиной булочной. Я не была настолько глупа, чтобы допускать, что мы с этим немцем ровня, но в такие моменты я, по крайней мере, чувствовала, что мой голос все еще что-то значит.
Однажды гауптшарфюрер, когда я ему читала, даже откинулся в кресле и положил ноги на стол. Я дочитала до самого интересного места – до того момента, когда Аня входит в сырую пещеру в поисках Александра, и обнаруживает его жестокого брата. Мой голос дрожал, когда я описывала, как она шла в темноте, а под ее ботинками хрустели тараканы и пищали крысы.
Мерцающее пламя факела озарило сырые стены пещеры…
Он нахмурился.
– Факелы не мерцают. Так можно сказать только о пламени в камине. И даже если бы и мерцали, слишком шаблонная фраза.
Я взглянула на него. Я никогда не знала, что отвечать, когда он вот так критиковал написанное мною. Следует себя защищать? Или слишком самонадеянно с моей стороны открывать рот в этом странном товариществе?
– Языки пламени в камине танцуют, как балерина, – сказал гауптшарфюрер. – Парят, как привидение. Понимаешь?
Я кивнула и сделала пометку на полях блокнота.
– Продолжай, – приказал он.
Внезапный порыв ветра – и факел, освещавший мне дорогу, потух. Я стояла, дрожа, в темноте, не видя ни зги. Услышала шорох, движение.
– Александр? – прошептала я. – Это ты?
Я подняла голову и заметила, как внимательно гауптшарфюрер вслушивается в мои слова.
В темноте раздалось негромкое рычание, скорее даже урчание. Чирканье спички. Запах серы. Вновь ожил факел. Передо мной в луже крови сидел человек с безумным взглядом и спутанными волосами. Кровь капала у него изо рта и с рук, в которых он держал кусок мяса. Я отпрянула, задыхаясь. Мы находились в пещере в скале, где, по словам Алекса, он устроил себе скромное жилище. Я пришла сюда в надежде найти Алекса после того, как он сбежал с городской площади. Но это… Это был не Алекс.
Человек – хотя как можно назвать это чудовище человеком? – шагнул ко мне. Кусок мяса, который он держал в руках, имел руку, пальцы… И эти пальцы продолжали сжимать набалдашник позолоченной трости, которую я не смогла бы забыть, даже если бы и хотела. Нашелся Барух Бейлер!
Раздался стук в дверь, в кабинет заглянул младший офицер.
– Герр гауптшарфюрер, уже два часа, – напомнил он.
Я захлопнула блокнот и начала вставлять новый лист в печатную машинку.
– Я и сам в состоянии сказать, который час! – ответил гауптшарфюрер. – Идти нужно тогда, когда я скажу, что пора идти. – Он дождался, когда закроется дверь. – Не печатай пока, продолжай! – приказал он.
Я кивнула, опять перелистала свой кожаный блокнот, откашлялась.
Я почувствовала, как перед глазами все плывет.
– Виновато не дикое животное, – выдавила я из себя. – Это ты сделал.
Каннибал улыбнулся, зубы его были в алой крови.
– Дикое животное, упырь… К чему эти тонкости?
Гауптшарфюрер засмеялся.
– Ты убил Баруха Бейлера.
– Ханжа. Ты можешь, положа руку на сердце, сказать, что не желала ему смерти?
Я вспомнила все те случаи, когда сборщик налогов приходил к нам в дом и требовал денег, которых у нас не было, принуждая отца заключать сделки, чем все больше и больше загонял его в долги. Внезапно я почувствовала, что меня вот-вот вырвет.
– Мой отец… – прошептала я. – Его ведь ты убил?
Когда упырь не ответил, я набросилась на него – ногти и злость были моим главным оружием. Я впивалась в его плоть, пиналась, била его руками. Я либо отомщу за смерть отца, либо погибну, пытаясь отомстить!
Я продолжала описывать приход Алекса, терзания Ани, когда она пыталась примириться с тем, что человек, которого она полюбила, брат зверя. И кто в таком случае он сам?
Я поведала о поспешном бегстве Ани из пещеры, о том, как Алекс бросился за ней, как она обвинила его в том, что он мог спасти ее отца, но не сделал этого.
– Твой отец не единственный, кто тебя любит, – признался Алекс. – В его смерти Казимир не виноват. – Он отвернулся, скрывая лицо. – Потому что его убил я.
Когда я закончила, последние слова повисли в кабинете, как дым от дорогой сигары – приятный и резкий. Гауптшарфюрер медленно хлопнул два раза в ладоши, потом довольно пылко зааплодировал.
– Браво! – воскликнул он. – Такого я не ожидал.
Я зарделась.
– Спасибо.
Я закрыла блокнот и села, сложив руки на коленях, в ожидании, когда он меня отпустит.
Но гауптшарфюрер наклонился ко мне.
– Расскажи о нем еще, – велел он, – об Александре.
– Но я уже прочла все, что пока написала.
– Да, но ты же знаешь больше, чем написано. Он уже родился убийцей?
– Нет, с упырями все по-другому. Человек сначала умирает насильственной смертью.
– Между тем, – заметил гауптшарфюрер, – и Александра, и Казимира постигла одна и та же несчастливая судьба. Совпадение? Просто не повезло?
Он говорил о моих героях так, как будто они существовали на самом деле. Хотя для меня они и были настоящими.
– Казимир погиб, когда пытался отомстить за убийство Александра, – ответила я. – Именно поэтому Алекс чувствует, что обязан его защитить. А поскольку Казимир более молодой упырь, он, в отличие от Александра, не умеет контролировать свой аппетит.
– Следовательно, у обоих было обычное детство. Были любящие родители, которые водили их в церковь, отмечали семейные дни рождения. Оба ходили в школу. Подрабатывали продавцами газет, рабочими, артистами. Но однажды – так уж распорядилась судьба – очнулись и почувствовали жажду крови.
– Так гласит легенда.
– Но ведь ты же, ты писатель! Можешь написать все, что угодно! – возразил он. – Возьмем Аню. В какой-то момент она готова уничтожить человека, который, как она думает, убил ее отца. Тем не менее ты рисуешь ее как героиню.
Я раньше не задумывалась над этим, но это правда. В жизни нет черного и белого. Человек, который ведет праведную жизнь, на самом деле способен совершить зло. Аня, как и чудовище, при определенных обстоятельствах также способна на убийство.
– Что-то в их воспитании, в их прошлом… Возможно, генетически было заложено что-то, что сделало их теми, кем они стали? – поинтересовался гауптшарфюрер. – Какой-то скрытый дефект? Ведь далеко не все после смерти становятся ожившими мертвецами.
– Я… я не знаю, – призналась я. – Но, думаю, именно нежелание быть упырем сделало Александра другим.
– Ты хочешь сказать, чудовищем с угрызениями совести?
Гауптшарфюрер встал и снял с крючка шинель из тяжелого сукна. На столе осталась нетронутая порция супа.
– Завтра еще десять страниц! – приказал он, вышел из кабинета и запер за собой дверь.
Я аккуратно перевязала ленточкой кожаный блокнот, положила его возле печатной машинки, подошла к письменному столу, взяла тарелку с супом…
И тут услышала, как отпирается замок. Я уронила миску, расплескав суп на деревянный пол. Гауптшарфюрер стоял в дверях, ожидая, пока я к нему повернусь.
Я задрожала – не знаю, что он сделает, когда увидит разлитый суп. Но он, казалось, ничего не заметил.
– Как ты считаешь, что почувствовал Александр, когда в первый раз испил крови своей жертвы? – спросил он. – Стыд? Отвращение?
Я покачала головой.
– Он не смог сдержаться.
– Разве от этого деяние становится менее отвратительным?
– Для жертвы? Или для упыря? – уточнила я.
Эсэсовец уставился на меня, прищурился.
– А это имеет значение?
Я промолчала. Мгновение спустя, когда в замке опять повернулся ключ, я опустилась на колени и слизала все, что смогла, с пола.
Однажды утром после бури, когда снег накрыл лагерь белым одеялом, мы с Дарой вышли из барака на работу и смешались с толпой. Все женщины были закутаны в лохмотья и дико мерзли. Дорога, по которой мы ходили каждый день, пролегала вдоль дальнего забора. Порой мы видели только что прибывшие эшелоны, иногда людей уже сортировали. Случалось, мы проходили мимо тех, кто ожидал «душа», после которого никто не выживал.
В тот день из вагонов выгружали вновь прибывших. Они, как и мы раньше, стояли на платформе, сжимая в руках вещи и выкрикивая имена родных.
И тут я увидела ее.
Она была с головы до пят укутана в белый шелк. На голове фата, которая развевалась на холодном ветру. Она постоянно оглядывалась, даже когда ее погнали в очередь на отбор.
Мы остановились. Все взгляды были прикованы к этому видению.
Невеста, которую увезли с собственной свадьбы, разлучили с женихом и отправили в Освенцим… Это было не самое ужасающее зрелище, которое нам довелось повидать.
Наоборот, оно вселяло надежду.
Выходит, что бы ни происходило здесь, скольких бы евреев ни уничтожили, за пределами этого лагеря мы еще живы: влюбляемся, женимся, просто живем, веря, что завтра наступит новый день.
Главный лагерь Освенцима представлял собой деревушку, где была бакалея, столовая, кинотеатр, театр, в котором выступали певцы и музыканты, некоторые из них были евреями. Было оборудовано помещение для фотографии с инфракрасным освещением, и футбольный стадион. Существовал спортивный клуб, за который могли играть офицеры, и в нем даже проводили матчи: например, узников, которые раньше занимались боксом, выставляли друг против друга, а офицеры делали ставки. Здесь продавалось и спиртное. Офицерам выдавали паек, но, насколько я видела, подчас они складывались продуктами, чтобы вместе напиться.
Я узнала об этом потому, что недели шли за неделями, и гауптшарфюрер время от времени посылал меня с различными поручениями. Иногда я должна была принести ему сигареты, в другой день – забрать белье. Я стала его Läuferin (посыльной), ходила с поручениями повсюду. Иногда он посылал меня в «Канаду» с записками для младших офицеров, которые следили там за порядком, когда он находился в кабинете. Настала зима, температура упала, и я, отбросив осторожность, делала все, что могла, для Дары и других девушек. Когда гауптшарфюрер отправлялся в клуб офицеров на обед или в другой конец лагеря на встречу и я знала, что он продолжительное время будет отсутствовать, то печатала записку на его бланке, в которой предписывалось заключенную А18557, Дару, привести на допрос. Мы спешили в кабинет, где она хотя бы полчасика могла погреться, прежде чем возвращаться в ледяные бараки «Канады».
Я такая – привилегированная заключенная – была не одна. Встречаясь в деревне, мы кивали друг другу. Мы балансировали на тонкой грани: окружающие нас ненавидели, потому что нам слишком легко все давалось, но ценили, потому что нам удавалось подворовывать вещи, которые облегчали жизнь других, например еду, сигареты или виски, которым можно было подкупить надзирателя. За бутылку водки, которую Дара вытащила из одного чемодана, нам удалось выменять жмых от цитрусовых и немного масла для керосинки у одной из узниц, работавшей в клубе офицеров. Мы большими пальцами сделали углубление в жмыхе, вставили фитиль, сделанный из нитки распущенного свитера, и получилось восемь свечей – мы смогли отметить Хануку. Ходили слухи, что секретарше, работавшей у какого-то офицера, удалось обменять пару очков на котенка, который непостижимым образом продолжал жить в одном с ней бараке. Нас считали неприкасаемыми, потому что наши покровители-эсэсовцы по какой-то причине посчитали нас полезными. Наверное, кого-то из-за секса. Но недели складывались в месяцы, а гауптшарфюрер и пальцем ко мне не прикоснулся – ни в злости, ни в похоти. Единственное, чего он желал, – слушать мой рассказ.
Время от времени он мимоходом рассказывал что-то о себе. Мне было очень интересно, потому что я почти забыла, что не только мы, узники, жили когда-то другой жизнью. Он хотел учиться в Гейдельберге на факультете классической литературы, мечтал стать поэтом, а если нет, то редактором литературного журнала. Когда его призвали защищать свою страну, он как раз писал диплом по «Илиаде».
Он не очень любил своего брата.
Я это поняла по их общению. Всякий раз, когда начальник лагеря заглядывал к гауптшарфюреру поболтать, я ловила себя на том, что пытаюсь вжаться в стул, сделаться меньше, исчезнуть. Чаще всего он меня не замечал. Для него я была ничтожеством. Лагерфюрер много пил, а когда напивался, выходил из себя. Я наблюдала это во время переклички. Иногда гауптшарфюреру звонили, и ему приходилось отправляться в деревню и приводить брата назад в казармы, где жили офицеры. На следующий день начальник лагеря являлся к брату в кабинет и оправдывался, что ему приходится пить, чтобы забыть то, что он видел на фронте. Наверное, на бо́льшие извинения он был просто не способен. С другой стороны, само раскаяние было ему неприятно, и он снова выходил из себя. Лагерфюрер заявлял, что он – начальник женского лагеря, и все отвечают перед ним, а порой, чтобы подчеркнуть свою значимость, сметал бумаги со стола, переворачивал вешалку или швырял счетную машинку в другой конец кабинета.
Я гадала, знают ли остальные офицеры, что эти два человека – родственники. Удивляются ли они, как удивляюсь я, что два столь непохожих человека могли появиться у одной матери?
Я о многом догадывалась. Понимала, что гауптшарфюрер видел в моей истории не просто развлечение, а аллегорию, попытку объяснить запутанные отношения между братьями, проследить связь между прошлым и настоящим, совестью и поступками. Если один брат чудовище, следует ли из этого, что и второй тоже?
Однажды гауптшарфюрер послал меня в деревню, чтобы принести из аптеки бутылочку аспирина. Валил сильный снег, сугробы были такими глубокими, что мои ноги в деревянных сабо промокли. На мне было пальто, которое мне выдали, розовая шерстяная шапочка и рукавички, которые Дара украла в «Канаде» и подарила мне на Хануку. Дорога, обычно занимавшая десять минут, оказалась в два раза длиннее из-за свирепого ветра и колючего снега.
Я забрала пакет и отправилась назад, когда неожиданно дверь столовой распахнулась. Оттуда вылетел начальник лагеря и ударил младшего офицера в лицо.
Верите или нет, но в Освенциме были строгие правила. Офицер мог избить узника, если тот на него просто косо посмотрел, но убивать без весомой причины было запрещено, потому что это означало вытащить рабочий винтик из огромной налаженной машины, какой являлся лагерь. Офицер мог обращаться с узниками как с мусором и мог оскорбить надзирателя, украинца или еврея, но проявлять неуважение к другому эсэсовцу запрещалось.
Начальник лагеря, конечно, большая шишка, но и над ним есть начальник, до которого дойдет информация о случившемся.
Я, скользя на льду, помчалась назад. Щеки и нос заледенели, пока я добежала до административного здания, где располагался кабинет гауптшарфюрера.
Его на месте не оказалось.
Я опять выбежала на улицу и направилась к баракам «Канады». Гауптшарфюрер как раз беседовал с надзирателями, указывая на неточности в их докладах.
– Прошу прощения, герр гауптшарфюрер, – пробормотала я, и мой пульс бешено забился. – Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?
– Я занят, – ответил он.
Я кивнула и отошла.
Если бы я промолчала, никто бы никогда не узнал, что я увидела.
Если бы я промолчала, на начальника лагеря наложили бы взыскание. Может быть, даже понизили в звании, перевели. Что, конечно, для всех нас было бы благом.
Только не для его брата.
Не знаю, что было более странным: то, что я снова направилась к сортировочным баракам, или осознание того, что меня заботит благополучие гауптшарфюрера.
– Простите, герр гауптшарфюрер, – пробормотала я. – Но это дело, не терпящее отлагательств.
Он отпустил надзирателей и за руку вытащил меня на улицу, под ветер со снегом.
– Не смей мешать, когда я работаю, ясно?
Я кивнула.
– Возможно, у тебя сложилось превратное представление… Только здесь приказы отдаю я, а не наоборот. Не хочу, чтобы мои подчиненные думали, что…
– Лагерфюрер… – перебила я. – Он затеял драку перед столовой.
Кровь отлила у герра Диббука от лица. Он поспешно направился к городку, а когда повернул за угол, то припустил бегом.
Мои пальцы продолжали сжимать бутылочку аспирина, спрятанную в розовых рукавицах. Я вернулась в кабинет, сняла пальто, шапку и рукавицы положила сохнуть на батарею. Потом села и стала печатать.
Я работала без обеда. И только когда начали сгущаться сумерки, вернулся гауптшарфюрер. Он стряхнул с шинели снег, повесил ее на вешалку, тяжело опустился на стул и так замер, сцепив руки.
– У тебя есть брат или сестра? – наконец спросил он.
Я посмотрела ему прямо в глаза.
– Была.
Гауптшарфюрер не отвел взгляда.
На листе бумаги написал записку, вложил ее в конверт.
– Отнести в кабинет Kommandant, – приказал он.
Я побледнела. Я никогда там раньше не была, хотя и знала, где это находится.
– Скажи, что лагерфюрер заболел и не сможет провести перекличку.
Я кивнула. Натянула еще мокрое пальто, шапку, рукавицы.
– Подожди, – окликнул меня гауптшарфюрер, когда я поворачивала ручку двери. – Я не знаю, как тебя зовут.
Я проработала у него уже три месяца.
– Минка, – пробормотала я.
– Минка.
Он уставился в бумаги, отпуская меня. Как я поняла, таким образом он сказал мне «спасибо».
Больше по имени он меня никогда не называл.
Вещи, которые разбирали в «Канаде», отправлялись в различные европейские города. К ним прилагался подробный перечень, который печатала я. Случалось, что возникали расхождения, и обычно вина ложилась на узницу, укравшую вещь, но чаще воровали сами эсэсовцы. Дара говорила, что не раз замечала, как младшие офицеры прячут что-то в карманы, когда думают, что никто не видит.
Когда перечень не совпадал с содержимым посылки, в кабинете гауптшарфюрера раздавался звонок. В его обязанности входило наказывать виновных, даже если между фактом мародерства и его обнаружением проходило несколько недель.
Однажды днем, когда гауптшарфюрер отправился за обедом в городок, раздался звонок. Как всегда четко, я произнесла:
– Herr Hauptscharführer Hartmann, guten Morgen[48].
Мужчина на другом конце провода представился герром Шмидтом.
– Мне очень жаль, но герр гауптшарфюрер отошел. Я могу что-то ему передать?
– Да, передайте ему, что груз прибыл неповрежденным. Но прежде чем попрощаться, я вынужден признать, фрейлина… Никак не могу по акценту понять, откуда вы.
Я не стала поправлять его, когда он назвал меня «фрейлина».
– Ich bin Berlinerin[49], – ответила я.
– Серьезно? Ваше произношение заставляет меня краснеть за свое, – признался герр Шмидт.
– Я жила в школе-интернате в Швейцарии, – солгала я.
– Вот как! Наверное, единственная страна в Европе, которой практически не коснулось опустошение. Vielen Dank, Fräulein. Auf Wiederhören[50].
Я положила трубку на место с таким чувством, как будто меня подвергли допросу. Когда я оглянулась, герр гауптшарфюрер был в кабинете.
– Кто звонил?
– Герр Шмидт. Подтвердил получение груза.
– Зачем ты сказала, что из Берлина?
– Его заинтересовал мой акцент.
– Он что-то заподозрил? – спросил гауптшарфюрер.
Если заподозрил, означает ли это, что моей секретарской работе пришел конец? Меня отправят назад в «Канаду»? Или хуже того: я паду жертвой очередного отбора?
– Не думаю, – ответила я с бешено колотящимся сердцем. – Он поверил, когда я сказала, что училась за границей.
Гауптшарфюрер согласно кивнул.
– Не все благосклонно отнеслись бы к твоему пребыванию здесь. – Он сел, разложил салфетку и принялся разрезать на тарелке жареного цыпленка. – Так на чем мы остановились?
Я повернулась спиной к машинке, открыла кожаный блокнот. Вчера я написала десять требуемых страниц, но впервые мне показалось, что не следует читать их вслух.
– Начинай! – поторопил меня гауптшарфюрер, взмахнув вилкой.
Я откашлялась.
Я еще никогда так не ощущала свое дыхание, свой пульс.
До этого места я смогла дочитать, пока краска не залила мне лицо и я не опустила глаза.
– В чем дело? – удивился гауптшарфюрер. – Плохо написано?
Я покачала головой.
Он протянул руку и забрал у меня блокнот.
Конечно, никакого биения сердца слышно не было. Одна пустота, осознание того, что мы никогда не будем такими, как прежде. Означало ли это, что он не чувствовал того, что чувствовала я, когда он двигался между моими…
Он внезапно запнулся и покраснел так же густо, как я.
– Лучше это прочесть про себя, – сказал гауптшарфюрер.
Он целовал меня, как будто был отравлен, а я была противоядием. Наверное, так оно и было. Он укусил меня за губу, снова пошла кровь. Когда он прильнул к ране, я выгнулась дугой в его объятиях, представляя, что он пьет из меня.
После я лежала, разметав руки у него на груди, как будто мерила пустоту внутри.
– Я готов все отдать, чтобы вернуть назад свое сердце, – сказал Александр. – Чтобы я мог подарить его тебе.
– Ты и так само совершенство.
Он зарылся лицом мне в изгиб шеи.
– Аня, я далек от совершенства, – возразил он.
В этом кроется магия мгновений перед интимной близостью: мир состоит из вздохов, кожа толще кирпича, крепче стали. Есть только ты и он, и вы так невероятно близки, что между вами ничто не может вклиниться. Ни враги, ни друзья. На этих обетованных небесах, в этом священном месте и времени я могу даже задать вопрос, ответ на который боюсь услышать.
– Каким был твой первый раз? – прошептала я.
Александр не стал делать вид, что не понял вопроса. Повернулся на бок, прижался своим телом к моему, чтобы не смотреть в глаза во время повествования.
– Казалось, что я много месяцев бродил по пустыне и умер бы, если бы не испил. Но вода жажды не утоляла. Я мог бы выпить озеро, но не напиться. Я жаждал того, запах чего, пьянящий, как коньяк, улавливал через кожу. – Он запнулся. – Я пытался бороться с жаждой. Но к тому времени я был уже так голоден, так слаб, что едва стоял на ногах. Я дополз до сарая, вновь призывая смерть… Она несла корзинку, чтобы покормить цыплят, насыпать им в курятник еду. Я увидел ее, прячась под балками. Слетел вниз, как архангел, заглушил ее крик своим капюшоном, затянул на сеновал, где до этого прятался. Она молила сохранить ей жизнь. Но моя жизнь была гораздо важнее. Я разорвал ей горло. Испил до дна, прожевал кости, отодрал плоть, пока не осталось ничего, чем можно было утолить голод. Я был отвратителен и поверить не мог, в кого я превратился. Я попытался отчиститься, но мои руки были испачканы в ее крови. Засунул палец в рот, но вырвать не смог. С другой стороны, впервые за долгое время я не чувствовал голода и наконец-то смог заснуть. На следующее утро, когда родители пришли искать свою дочь, начали звать по имени, я проснулся. Рядом со мной лежало то, что от нее осталось: ее голова с густой светлой косой. Рот мой округлился в немом крике. Эти мраморные глаза, которые смотрели сейчас на чудовище, в которое я превратился… Я сел рядом с ней и заплакал.
Гауптшарфюрер удивленно взглянул на меня.
– Донестр? – уточнил он.
Я кивнула, довольная тем, что он уловил сравнение с чудовищем, о котором сам рассказывал.
– Второй раз это была проститутка, которая остановилась в переулке подтянуть чулки. Было легче, или я сам себя в этом убедил, поскольку в противном случае мне пришлось бы признать, что все сделанное мною раньше – неправильно. Третий раз – мой первый мужчина, банкир, который запирал контору в конце дня. Однажды была девочка-подросток, которая просто оказалась не в том месте не в то время. И светский гуляка, чей плач я услышал на балконе. После этого мне стало наплевать, кем они были. Имело значение только одно: они подвернулись именно в тот момент, когда были мне нужны. – Александр прикрыл глаза. – Оказалось, чем дольше повторяешь одно и то же действие – и не важно, сколько раз отрепетированное, – тем больше оправданий ему мысленно находишь.
Я повернулась к Александру лицом.
– Откуда ты знаешь, что однажды не убьешь меня?
Он замер в нерешительности.
– Никто этого не знает.
Пока это было все. Я прекратила писать на этом месте, чтобы пару часиков поспать перед перекличкой. Гауптшарфюрер положил блокнот на разделяющий нас письменный стол. Его щеки продолжали гореть.
– Что ж… – протянул он.
Я не могла смотреть ему в глаза. Здесь меня раздевали перед чужими людьми, раздевали во дворе перед тем, как… И все-таки еще никогда я не чувствовала себя настолько обнаженной.
– Очень интересно, что все это изображено так натурально… Особый колорит истории придает разговор с Александром… И другие… деяния. – Он наклонил голову к плечу. – Удивительно думать, что жестокость – такое же интимное чувство, как и любовь.
Он очень удивил меня этими словами. Не могу сказать, что я написала это намеренно, но разве это неправда? И в тех, и в других отношениях всегда есть только два человека: тот, кто берет, и тот, кто жертвует. Я вспомнила о часах, проведенных в гимназии, когда мы анализировали наследие великого писателя: «Но что Томас Манн хотел сказать своей книгой? Возможно, ничего. Может быть, он просто захотел написать историю, которую никто не смог бы отложить в сторону».
– Я так понимаю, у тебя был кавалер…
Слова гауптшарфюрера испугали меня. Язык не поворачивался ответить, и я только отрицательно покачала головой.
– В таком случае эта глава еще более впечатляет, – сказал он. – Только есть неточности.
Мой взгляд метнулся к его лицу. Но гауптшарфюрер неожиданно встал, как обычно поступал после обеда, оставляя мне объедки, пока будет патрулировать «Канаду».
– Не… в самом описании процесса, – равнодушным голосом продолжил он, застегивая шинель. – В последней части. Когда Александр говорит, что во второй раз убивать легче. – Гауптшарфюрер отвернулся, надел фуражку. – Легче не становится.
Исчезла моя печатная машинка.
Я застыла на месте, гадая, что же сделала неправильно.
Дара предупреждала, что не стоит привыкать к такому обращению, а я в ответ лишь пожимала плечами. Другие женщины хихикали и бросали колкости по поводу странной дружбы, которая возникла у меня с гауптшарфюрером. Но я от них отмахивалась. Разве не наплевать, что думают люди, когда я знаю правду? Как ни бредово это звучит, но я убедила себя, что буду жить, пока продолжаю писать свою историю. Однако даже у Шахерезады после тысяча первой ночи истории иссякли. Но к тому моменту султан, который каждое утро откладывал ее казнь, чтобы она рассказала конец истории следующим вечером, стал мудрее и добрее, почерпнув уроки из ее повествований.
Он сделал ее своей женой.
Я хотела одного: чтобы войска союзников явились раньше, чем у меня иссякнут сюжетные ходы.
– Больше ты здесь не работаешь, – спокойно заявил гауптшарфюрер. – Немедленно отправляйся в больницу.
Я побледнела. Больница – «приемная» перед газовой камерой. Всем об этом известно, поэтому, как ни больна была узница, она не хотела попадать в больницу.
– Я здорова, – возразила я.
Он бросил на меня взгляд.
– Это не обсуждается.
Я мысленно прокрутила все сделанное вчера: заполненные формуляры, принятые сообщения. Я не понимала, где допустила ошибку. Полчаса, как обычно, мы обсуждали мою книгу. Гауптшарфюрер даже разоткровенничался по поводу своей недолгой учебы в университете и вспомнил о том, как получил награду за свое стихотворение.
– Герр гауптшарфюрер! – взмолилась я. – Прошу вас, дайте мне еще один шанс. Где бы я ни ошиблась, все можно исправить…
Он взглянул на открытую дверь и жестом велел молодому офицеру войти, чтобы вывести меня из кабинета.
Я почти не помню, как пришла в блок 30. Мой номер внесла в список узница-еврейка, сидевшая за конторкой. Меня привели в маленькую, переполненную палату. Больные лежали чуть ли не друг на друге на циновках в грязных от кровавого поноса и рвоты рубищах. У некоторых были длинные шрамы от наложенных наспех швов. По телам тех, кто был настолько слаб, что не мог пошевелиться, бегали крысы. Еще одна узница, которая, должно быть, работала здесь, принесла тюк с льняными бинтами, и вместе с медсестрой они начали менять повязки. Я пыталась привлечь ее внимание, но она избегала смотреть на меня.
Наверное, от страха, что ее, как и меня, тоже можно заменить.
У моей ближайшей соседки не было глаза.
– Так пить хочется, – снова и снова повторяла она на идише и цеплялась за мою руку.
У меня измерили и записали температуру.
– Я хочу встретиться с врачом! – воскликнула я, и мой голос перекрыл стоны остальных. – Я здорова!
Я скажу врачу, что здорова. Что могу вернуться к работе, к любой работе. Больше всего я боялась оставаться здесь, рядом с узницами, напоминавшими сломанных кукол.
Какая-то женщина рывком отодвинула костлявое тело одноглазой девушки и опустилась на циновку рядом со мной.
– Заткнись! – прошипела она. – Ты что, идиотка?
– Нет, но я должна сказать…
– Если будешь кричать, что здорова, кто-нибудь из врачей услышит.
Эта женщина явно не в себе. Разве я не этого добиваюсь?
– Им нужны здоровые узницы, – продолжала она.
Я покачала головой, совершенно сбитая с толку.
– Я оказалась здесь из-за сыпи на ноге. Врач осмотрел меня и сказал, что в остальном я здорова. – Она подняла платье, чтобы я смогла увидеть блестящие красные ожоги у нее на животе. – Смотри, он сделал это рентгеном.
Вздрогнув, я начала осознавать. Мне придется сказаться больной – по крайней мере настолько, чтобы не привлекать внимания врачей. Но не настолько больной, чтобы меня забрали надзиратели.
Казалось, невозможно балансировать по такому туго натянутому канату.
– Сегодня из Ораниенбурга приезжает какая-то шишка, – продолжала она, – ходят такие слухи… Подумай сама, стоит ли привлекать к себе внимание. Они хотят хорошо выглядеть перед начальством – если ты понимаешь, что я имею в виду.
Я понимала. Это означает, что им нужны козлы отпущения.
Интересно, до Дары дошла весточка, что меня забрали сюда? Попытается ли она подкупить кого-то с помощью сокровищ из «Канады», чтобы освободить меня? Возможно ли вообще такое?
Через какое-то время я прилегла на подстилку. У одноглазой девушки поднялась температура, от ее тела исходили волны жара.
– Пить, – продолжала шептать она.
Я свернулась калачиком, достала кожаный блокнот из-под платья и стала читать свою историю с самого начала. Я использовала ее как обезболивающее.
В палате началась суета. Вошли медсестры, принялись перекладывать больных, чтобы они не лежали вповалку. Я спрятала свой блокнот, гадая, придет ли врач.
Вместо врача вошли солдаты. Они выстроились по обе стороны от офицера с большим количеством наград, которого я никогда раньше не видела. Должно быть, очень важная шишка, судя по сопровождению и по тому, что местные офицеры едва ли сапоги ему не целовали.
Человек в белом халате – печально известный врач? – похоже, проводил своеобразную экскурсию.
– Мы продолжаем добиваться результатов в методах массовой стерилизации с помощью радиации, – перевела я его слова и вспомнила девушку, которая предупредила меня, чтобы я держала рот на замке. Ту, с ожогами на животе.
Когда сопровождающие зашли в палату, я заметила начальника лагеря, который стоял, сложив за спиной руки.
Важная шишка поднял руку и поманил его.
– Герр оберфюрер?
Тот указал на еврейку, которая носила бинты за медсестрой.
– Вот эта.
Начальник лагеря кивнул одному из надзирателей, и узницу вывели из палаты.
– Это… – нараспев протянул оберфюрер, – надлежащего уровня.
Остальные офицеры заметно расслабились.
– Надлежащего уровня не значит впечатляюще, – добавил оберфюрер.
Он вышел из палаты, все последовали за ним.
На обед я съела бульон, в котором плавала пуговица, и ни намека на мясо или овощи. Я закрыла глаза и представила, что ест гауптшарфюрер. Жареную свинину! Я это точно знала, потому что сама в начале недели приносила ему меню. Я лишь однажды ела свинину, в гостях у Шиманских.
Я гадала, живут ли Шиманские до сих пор в Лодзи. Вспоминают ли они когда-нибудь о своих приятелях-евреях, думают ли, что с ними стало?
Жареная свинина, зеленые бобы, глазированные вишни – вот что предлагало меню. Я не знала, какие на вкус глазированные ягоды, но вкус вишен на языке чувствовала. Вспомнила, как мы с Йосеком и другими мальчиками поехали на телеге за город на фабрику, где работал Дарин отец. Мы устроили пикник, разложив еду на клетчатой скатерти, и Йосек принялся подкидывать вишни и ловить их ртом. А я показала, как умею одним языком завязывать травинку в узел.
Я думала об этих играх, о жареной свинине, о пикниках, которые мы устраивали летом, о том, что домработница Дары давала нам с собой столько еды, что остатки мы скармливали уткам в пруду. Только представить: остатки еды! Я изо всех сил пыталась вспомнить вкус грецкого ореха, чтобы понять, чем он отличается от арахиса, и размышляла о том, могут ли атрофироваться вкусовые ощущения, как атрофируются конечности, если ими не двигать. Я предавалась размышлениям, поэтому не сразу услышала, что происходит у входа в палату.
Гауптшарфюрер орал на одну из медсестер:
– Ты думаешь, у меня есть время разбираться с этим? Я что, должен обращаться к начальнику лагеря по вопросу, который следует решать с нижестоящим начальством?
– Нет, герр гауптшарфюрер. Я уверена, все можно уладить…
– Хватит! – Он подошел к циновке, на которой я лежала, и грубо схватил меня за руку. – Немедленно приступай к работе, ты вовсе не больна! – заявил он и потащил меня из палаты, вниз по ступеням больницы, через двор к административному зданию.
Мне приходилось бежать, чтобы не отстать от него.
Когда я пришла, мой стул и печатная машинка были уже на месте. Гауптшарфюрер сел за свой стол. Лицо его было красным, потным, и это когда на улице ниже нуля! Мы не обсуждали случившегося до конца дня.
– Герр гауптшарфюрер, – нерешительно спросила я, – завтра утром мне сюда возвращаться?
– А ты куда-то еще собралась? – ответил он, не поднимая головы от столбика с цифрами.
Вечером Дара сообщила мне новости. Зверюгу расстреляли. Человек, которого я видела в тридцатом блоке, это оберфюрер СС, заместитель Глюка в Инспекции концентрационных лагерей. Он заглядывал с проверкой и в бараки. По словам одной из женщин из нашего блока, которая принимала участие в движении Сопротивления в лагере, этот заместитель любил дергать евреев с «тепленьких» местечек и отправлять в газовые камеры. У нас появилась новая Blockälteste, которая, пытаясь выслужиться перед Aufseherin, заставила нас стоять больше часа и избивала каждого, кто спотыкался или валился от истощения. Но только через неделю я, когда ходила по поручению гауптшарфюрера, осознала, что расстреляли не только Blockälteste. Почти все еврейки, занимавшие привилегированные должности – начиная с тех, которые, как и я, работали секретаршами, до тех, кто обслуживал офицеров в столовой, от виолончелисток, игравших в театре, до помощниц медсестер в больнице, – исчезли.
Гауптшарфюрер не наказывал меня, отправляя в больницу. Он спасал мне жизнь.
Через два дня, когда лагерь завалило толстым слоем снега, нас собрали во дворе между блоками, чтобы мы присутствовали при повешении. Несколько месяцев назад узники, которые работали в зондеркоманде (уничтожали тела тех, кто задохнулся в газовой камере), подняли мятеж. Мы не видели их, потому что они содержались отдельно от нас. Некоторым удавалось бежать, но многих ловили и расстреливали. На этот раз шума наделали много. Убили троих офицеров, причем одного живьем затолкали в печь крематория, а это означало, что заключенные погибли не напрасно.
Неделя выдалась ужасной для всех остальных, потому что эсэсовцы срывали злость на каждом узнике лагеря. Но потом страсти улеглись, мы решили, что все закончилось, – и вот нас выгнали на мороз. К виселице вели двоих.
Это были девушки, работавшие на производстве боеприпасов. Они тайком выносили понемногу пороха, прятали где-то на себе. Потом его передавали девушке на вещевом складе, а та уже отдавала порох узницам, которые поддерживали движение Сопротивления в лагере. Те и передали порох активистам зондеркоманды. Девушка, работавшая на вещевом складе, жила в моем бараке. Маленькая, как мышка, девочка, никак не похожая на мятежницу. «Потому ей и удавалось оставаться в тени», – сказала Дара. Однажды девушку утащили куда-то прямо с переклички, жестоко пытали, а потом вернули в барак. К тому времени она была совершенно раздавлена. Не могла ни говорить, ни смотреть на нас. Она сдирала кожу с пальцев и грызла до крови ногти. Каждую ночь она кричала во сне.
Сегодня ее оставили в бараке, но я слышала ее крики. Ее сестру должны были повесить вместе с еще одной девушкой.
Их вывели на эшафот в обычной рабочей одежде, но без пальто. Не опуская головы, они смотрели на нас ясным, незатуманенным взглядом. Я заметила сходство между одной из них и девушкой из нашего барака.
У виселицы стоял начальник лагеря. По его приказу девушкам связали руки за спиной. Первую поставили на стол под виселицей, на шею накинули петлю. Секунду назад она стояла, а в следующую уже дернулась вверх. За ней последовала вторая. Они извивались, как пойманные на удочку рыбки…
Весь день у меня в ушах раздавались крики младшей сестры, чья казнь была отложена. Работая в кабинете, я, конечно, слышать их не могла, но они эхом звучали в моей голове. Я вспомнила свою сестру и впервые подумала, что, возможно, Бася была права, решив избежать ужасов такого места, как это. Если знаешь, что все равно умрешь, может, лучше самой выбрать место и время, а не ждать, пока судьба ударит по тебе, как молот о наковальню? А если поступок Баси был вовсе не актом отчаяния, а последним проявлением самообладания? На прошлой неделе гауптшарфюрер решил спасти мне жизнь, но это не означает, что в следующий раз он будет так же щедр. По-настоящему рассчитывать я могу только на себя.
Я представила, что чувствовала девушка из моего блока, когда начала собирать порох для восстания. Она ничем не отличалась от Баси. Обе просто искали выход.
Я была настолько рассеяна, что гауптшарфюрер поинтересовался, не болит ли у меня голова. Голова действительно болела, но я знала, что, когда в конце рабочего дня вернусь в барак, будет еще хуже.
Оказалось, что боялась я напрасно. «Сестру» и четвертую девушку повесили на закате, перед перекличкой. Проходя мимо, я старалась не смотреть в ту сторону, но все равно слышала скрип деревянной виселицы, на которой покачивались тела – мертвые балерины, в чьих юбках пронзительно пел ветер.
Однажды ночью так похолодало, что мы проснулись, а на волосах – иней. Утром, когда раздавали паек, Blockälteste выхватила у одной женщины крошечный стаканчик кофе, выплеснула, и он на лету замерз, превратившись в огромное белое облако. Собаки, патрулирующие с немцами лагерь, скулили, поджав хвосты, и поочередно поднимали лапы, а мы стояли на перекличке, не чувствуя ни рук ни ног.
В ту неделю, когда температура упала так низко, в нашем бараке умерли двадцать две женщины. Еще четырнадцать, работая на улице, упали на землю и замерзли. Дара принесла мне из «Канады» колготы и свитер. Цены на одеяло на «черном рынке» взлетели в четыре раза.
Еще никогда я так не радовалась работе у герра Диббука, но все время помнила, что Дара рискует замерзнуть в неотапливаемых бараках «Канады». Поэтому я, как проделывала уже пару раз, когда герр гауптшарфюрер уходил обедать, напечатала на украденном бланке записку, в которой предписывалось привести заключенную А18557 к нему в кабинет. И, закутавшись в пальто, натянув шапку, рукавицы и шарф, поспешила через лагерь в «Канаду», чтобы забрать свою лучшую подругу погреться, пусть даже на пару минут.
Дара сунула мне в рукавицу припрятанный кусочек шоколада. Мы шли, прижавшись друг к другу, и молчали – разговоры отнимали слишком много сил.
Войдя в здание мы с опущенными глазами миновали охрану. Меня уже знали, и наше появление не вызвало подозрений. Подойдя к двери, я на всякий случай сначала заглянула внутрь: а вдруг гауптшарфюрер уже вернулся?
В кабинете кто-то был.
За столом гауптшарфюрера стоял сейф, где хранились деньги и драгоценности, которые находили в «Канаде», – их ежедневно отправляли из лагеря. Каждый раз, обходя «Канаду», гауптшарфюрер опустошал стоящий посреди барака ящик, куда складывали ценные вещи. Мелкие предметы, такие как банкноты, монеты, бриллианты, относили к нему в кабинет. Насколько я знала, единственным человеком, знавшим комбинацию цифр, был сам гауптшарфюрер.
Но сейчас перед открытой дверцей сейфа стоял начальник лагеря и прятал пачку денег во внутренний карман шинели.
Я видела, как расширились его глаза, когда он меня заметил.
Как будто я привидение.
Упырь.
То, что должно быть мертвым.
Видимо, он решил, что меня убили еще на прошлой неделе, когда приезжал оберфюрер из Ораниенбурга, который систематически ликвидировал всех евреев, занятых на «кабинетной» работе.
В ужасе я рванулась назад из кабинета. Нужно убираться отсюда, уводить Дару! Но даже если бы нам удалось прорваться через ограждение, скрыться не удалось бы. Я знала, что начальник лагеря вор, и, пока была жива, могла в любой момент его выдать. А значит, ему придется от меня избавиться.
– Беги! – крикнула я, когда лагерфюрер схватил меня за руку.
Дара замешкалась, и этого оказалось достаточно, чтобы эсэсовец схватил ее и втащил в кабинет.
Он закрыл за нами дверь.
– Так что ты видела? – грозно спросил он.
Я покачала головой, глядя в пол.
– Отвечай!
– Я… я ничего не видела, герр лагерфюрер.
Стоявшая рядом Дара взяла меня за руку.
Лагерфюрер заметил это. Не знаю, о чем он в тот момент подумал. Что мы что-то передаем друг другу? Что это наш тайный код и движение что-то обозначает? Или просто решил, что если он нас отпустит, то я расскажу подруге о том, что видела, и тогда его тайну будут знать уже двое?
Он выхватил пистолет из кобуры и выстрелил Даре прямо в лицо.
Она упала, продолжая сжимать мою руку. Со стены за нашими спинами дождем посыпалась штукатурка. Кровь лучшей подруги брызнула мне в лицо и на одежду. Я закричала и упала на колени, обнимая то, что осталось от Дары, и ожидая предназначенную мне пулю.
– Райнер, что здесь, ради всего святого, происходит?
Голос гауптшарфюрера доносился словно из туннеля, как будто я была обернута ватой. Я, продолжая кричать, подняла голову. Начальник лагеря схватил меня за плечо и рывком поднял на ноги.
– Я поймал этих двоих на воровстве, Франц. Хорошо, что я вовремя вошел.
Он указал на пачку денег, которую до этого прятал в карман шинели.
Гауптшарфюрер поставил на письменный стол поднос с едой и посмотрел на меня.
– Это правда?
Было понятно, что мои слова не имеют значения. Даже если гауптшарфюрер поверит мне, его брат будет неустанно следить за мной, выжидая возможности поквитаться, чтобы я не рассказала гауптшарфюреру о том, что видела.
Боже мой, Дара…
Я, рыдая, покачала головой.
– Нет, герр гауптшарфюрер.
Начальник лагеря засмеялся.
– А что ты ожидал услышать? И зачем вообще у нее спрашиваешь?
На лице гауптшарфюрера заходили желваки.
– Ты не хуже меня знаешь процедуру, – ответил он. – Узника нужно арестовать, а не расстреливать.
– И что ты сделаешь? Подашь на меня рапорт? – Когда брат промолчал, лицо начальника лагеря побагровело – таким он был, когда напивался. – Здесь я устанавливаю правила! Разве кто-то меня осудит? Эту заключенную застали за кражей имущества рейха.
Благодаря нарушению инструкции я вообще появилась в этом кабинете.
– Я остановил ее, когда она совершала преступление. Так же следует поступить с ее сообщницей, даже несмотря на то, что она твоя маленькая подстилка. – Лагерфюрер пожал плечами. – Если ты не накажешь ее сам, Франц, это сделаю я.
Чтобы показать, что он не шутит, эсэсовец взвел курок.
Я почувствовала, как между ног потекло что-то теплое и, к своему стыду, осознала, что описалась. На полу растекалась небольшая лужица.
Гауптшарфюрер шагнул ко мне.
– Я не делала того, в чем он меня обвиняет, – прошептала я.
У меня под платьем был блокнот, в котором я написала вчера ночью еще десять страниц. Александра заперли в камере. Аня рвалась в тюрьму, чтобы увидеть его перед публичной казнью.
– Пожалуйста, – взмолился Александр, – сделай кое-что для меня.
– Что угодно, – пообещала Аня.
– Убей меня! – попросил он.
Если бы этот день был обычным, гауптшарфюрер сидел бы сейчас за столом и слушал, как я читаю вслух. Но сегодня был не обычный день.
За все четыре месяца, что я работала у гауптшарфюрера, он и пальцем меня не тронул. Но сейчас тронул. Ладонью коснулся моей щеки – так нежно, что на глазах выступили слезы. Большим пальцем погладил мою кожу, как гладит любовник. Посмотрел мне в глаза…
А потом ударил так сильно, что сломал мне челюсть.
Когда я больше не могла стоять и сплевывала в рукав кровавую слюну, чтобы не задохнуться, а начальник лагеря выглядел довольным, гауптшарфюрер прекратил избиение. Он отшатнулся от меня, как будто выходя из транса, и обвел взглядом свой разгромленный кабинет.
– Убери здесь все, – приказал он.
Он оставил меня под присмотром надзирателя, которому, после того как я закончу, было приказано отвести меня в карцер. Я расставила мебель, морщась от боли, когда поворачивалась или двигалась слишком быстро, руками сгребла осыпавшуюся штукатурку. Взгляд мой постоянно притягивала лежащая на полу Дара, и всякий раз, глядя на подругу, я чувствовала, как к горлу подступает тошнота. Сняла пальто и завернула тело в него. Оно уже окоченело, руки и ноги были холодными и негнущимися. Я задрожала – от холода, от скорби, от шока? Потом заставила себя пойти в каморку дворника и взять чистящие средства, тряпки и ведро. Вымыла пол. Дважды я теряла сознание от боли, и дважды надзиратель толкал меня сапогом, приводя в чувство.
Когда в кабинете стало чисто, я взяла Дару на руки. Она была легкой, как пушинка, но и я была такой же, поэтому согнулась от тяжести. По указке надзирателя я понесла свою лучшую подругу, по-прежнему завернутую в мое пальто, из административного здания на задворки «Канады». Там лежали еще тела – тех, кто умер за ночь, тех, кто скончался на работе. Из последних сил я погрузила ее на телегу. Одно удержало меня от того, чтобы не забраться туда и не лечь рядом, – Дара не одобрила бы, что я сдалась.
Надзиратель потянул меня прочь от телеги. Я вырвалась, рискуя быть снова наказанной, сняла пальто, которым закутала тело Дары, и надела его на себя. Пальто уже не хранило ее тепло. Я потянулась к забрызганной кровью руке подруги и поцеловала ее.
До того как ее повесили, девушка, которая вернулась в наш блок после заключения, неистово шептала о Stehzelle – карцере, куда ведет крошечная дверца, как в собачью конуру. Камера была с высоким потолком и такая узкая, чтобы невозможно было присесть. Приходилось всю ночь стоять, а под ногами кишели мыши. На следующее утро узницу освобождали, и она обязана была отработать весь день. Когда меня привели в здание, куда я ни разу не входила за все время пребывания здесь, в одну из таких камер, от холода я уже не чувствовала ни рук, ни ног. Но это и к лучшему, не так сильно болела сломанная челюсть. Разговаривать я не могла – впрочем, сказать мне было нечего.
В забытьи я представляла, что здесь моя мама. Она обнимала меня, чтобы я не замерзла, и шептала мне на ухо: «Будь добра к людям, Минуся». И я поняла, что значат ее слова. Пока ты ставишь интересы другого выше собственных, у тебя есть ради кого жить. Как только жить будет не для кого, зачем вообще жить?
Я гадала, что станет со мной. Комендант, наверное, издал бы приказ, чтобы меня наказали: избили, отстегали плетью, казнили. Но начальник лагеря не станет суетиться и следовать правилам, он может собственноручно вытащить меня отсюда и пристрелить. Может сказать, что при попытке к бегству, – очередная ложь, в которую невозможно поверить, поскольку я заперта в этой камере… и все же… Кто его остановит? Кого заботит то, что он пристрелит еще одну еврейку? Возможно, только гауптшарфюрера. По крайней мере, я так думала. До сегодняшнего дня.
Я спала стоя, и мне снилась Дара. Она ворвалась в кабинет, где я работала, и велела мне немедленно убираться оттуда, но я не могла оторваться от печатной машинки. И с каждой клавишей, которую я нажимала, Даре в грудь, в голову летела очередная пуля.
Герр Диббук… Так я называла его, пока не узнала настоящего имени и звания. Тот, чьим телом помимо его желания завладел демон.
Я не знала, кто из них настоящий: эсэсовец, готовый избить подчиненного до потери сознания, или офицер, который всячески старался видеть в узнице такого же, как и он сам, человека. Он пытался донести до меня во время наших обеденных литературных диспутов, что в каждом человеке есть и добро, и зло. Что чудовище – это тот, в ком перевесило зло.
И я… я, наивная, поверила ему.
Проснулась я оттого, что кто-то схватил меня за лодыжку. Я вздрогнула, охнула, и мою ногу сжали сильнее, призывая к молчанию. Решетчатые двери с лязгом открылись, и я, согнувшись, выбралась из камеры. Снаружи стоял надзиратель, который связал мне руки за спиной. Я решила, что наступило утро – точно сказать не могла, потому что здесь не было окон, – и пришло время вести меня на работу.
Но куда? Неужели назад к гауптшарфюреру? Не знаю, смогу ли я находиться с ним под одной крышей. И не потому, что он меня избил, – в конце концов, били же меня другие офицеры, но я продолжала видеться с ними изо дня в день, такая тут была жизнь. Не жестокость гауптшарфюрера, а скорее его прежняя доброта сбивала меня с толку – ее я объяснить не могла.
Я начала молиться, чтобы меня перевели в штрафбат, к тем, кому приходилось на собачьем холоде по двенадцать часов ворочать камни. Я могла принять жестокость со стороны солдат. Но не со стороны немца, которому по глупости поверила.
В административное здание меня не повели. Как и в штрафной отряд. Меня отвели на платформу, куда как раз прибыли товарные вагоны.
В вагоны грузили заключенных. Я не понимала, зачем это, потому что знала: из лагеря дороги нет. Здесь всех высаживали, и те, кто сюда попадал, уже не возвращались.
Надзиратель привел меня на платформу и развязал руки. У него не сразу это получилось и заняло времени больше, чем требовалось. Потом он втолкнул меня в строй женщин, которых грузили в один из вагонов. Мне повезло: на мне все еще было пальто в запекшейся Дариной крови, шапка, рукавицы и шарф, а под платьем припрятан кожаный блокнот. Я схватила за руку одного из узников-мужчин, которые загоняли нас внутрь.
– Куда? – спросила я, и челюсть свело от боли.
– Гросс-Розен, – прошептал он.
Я знала, что так называется другой лагерь, видела это название в документах. Хуже, чем здесь, точно не будет.
В вагоне я встала поближе к окну: холодно, но зато свежий воздух. Потом соскользнула по стене вниз, села, чувствуя, как горят ноги от многочасового стояния, и принялась гадать, почему меня сюда отправили.
Наверное, так комендант решил наказать меня за воровство.
Или кто-то пытается спасти меня от более страшной судьбы, усадив в поезд, который увезет меня подальше от лагерфюрера.
После того, что герр Диббук со мной сделал, у меня не было причин верить в то, что он вообще обо мне думает. Или задается вопросом, пережила ли я эту ночь.
С другой стороны, воображение помогало мне выживать в аду все эти месяцы.
Спустя несколько часов после прибытия в Гросс-Розен, когда стало понятно, что здесь нет женских бараков и нас отвезут в лагерь под названием Нова-Суль, я стянула рукавицы, чтобы осторожно потрогать разбитое лицо, и что-то упало мне на колени.
Крошечный свиток, записка.
Я поняла, что надзиратель, который развязывал мне руки, не просто возился с узлами. Он сунул мне эту записку.
На клочке бумаги были водяные знаки, как на тех бумагах, которые в последние несколько месяцев я каждый день заправляла в печатную машинку.
«ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?» – прочла я.
Больше гауптшарфюрера я никогда не видела.
В Нова-Суле я трудилась на текстильной фабрике Грушвица. Сначала я должна была сучить нить – темно-красную, которая пачкала руки, – но поскольку до этого я работала в тепле и у меня был доступ к еде, то оказалась крепче многих женщин и вскоре меня отправили грузить в вагоны ящики с боеприпасами. Мы работали бок о бок с политическими заключенными, поляками и русскими, которые разгружали прибывшие железнодорожные вагоны.
Один из поляков начинал заигрывать со мной, как только я приближалась. Разговоры были запрещены, и он, когда надзиратель не видел, передавал мне записки. Он звал меня Пинки – Розочка – из-за цвета моих рукавичек. Нашептывал мне лимерики, чтобы развеселить. Некоторые женщины шутили, что у меня появился дружок, говорили, что ему, должно быть, нравятся девушки, которые строят из себя недотрогу. На самом деле я ничего не строила. Не отвечала ему из-за страха быть наказанной, а еще потому, что болела челюсть.
Я уже две недели работала на фабрике, когда однажды он подошел ко мне ближе, чем разрешалось.
– Если сможешь, беги. Этот лагерь будут эвакуировать.
Я не поняла, что это означает. Нас расстреляют? Или отвезут в другой лагерь, в лагерь смерти, как тот, из которого меня забрали? Меня отправят назад в Освенцим? К лагерфюреру?
Через три дня девятьсот женщин из лагеря собрали и в сопровождении конвоя вывели за ворота.
До рассвета мы преодолели километров двадцать. Те, кто захватил из лагеря свои скудные пожитки – одеяла, кастрюли, все, чем успел обзавестись, – начали оставлять их на обочинах. Нас гнали в Германию, так мы все решили. Впереди колонны узники толкали походную кухню, где готовили еду для эсэсовцев. Телега сзади подбирала тех, кто умер от истощения. Я предположила, что немцы заметают следы. По крайней мере, так казалось первые два дня, а потом офицеры обленились и начали стрелять в тех, кто падал. Тела так и оставались на дороге. Остальные просто обходили их, как ручей обтекает камень.
Мы шли по лесу. По полям. Через города, где люди выбегали поглазеть на нас, – у некоторых в глазах стояли слезы, другие плевались. Когда над головами пролетали самолеты союзников, немцы прятались в колонне, используя нас в качестве прикрытия. Хуже всего был голод, на втором месте – состояние моих ног. Некоторым женщинам повезло – у них были сапоги. Я же до сих пор носила деревянные сабо, которые мне выдали в Освенциме. Кожа вздулась волдырями под несколькими парами чулок. До дыр порвались на пятках по крайней мере две пары. Кожа на ногах была практически обморожена. И все равно дела у меня обстояли не так плохо, как у других девушек. У одной, которая носила одну пару тонких чулок, наступило такое сильное обморожение, что мизинец на ноге отвалился, как сосулька с крыши.
Так мы шли неделю. Я уже не уговаривала себя продержаться день – хотя бы еще час! Все эти нагрузки и отсутствие еды сделали свое дело – я чувствовала, что слабею, умираю. Раньше я не верила, что можно быть еще более голодной, чем я уже была, но я не знала, что бывают такие марш-броски. На привалах, когда немцы готовили себе еду, нам оставалось только топить снег, чтобы напиться. Мы искали в подтаявших сугробах желуди и мох, чтобы поесть. Мы все время молчали, не хватало сил разговаривать. После таких привалов по меньшей мере десяток женщин не могли встать. Тогда эсэсовский палач – украинец с широким, приплюснутым носом и торчащим кадыком – приканчивал их выстрелом в спину.
Через десять дней после начала перехода на одном из привалов офицеры развели костер и начали бросать в него картофель, подбивая нас вытаскивать клубни из огня. Нашлись девушки, которым так отчаянно хотелось есть, что они принялись выхватывать картофель из костра. Рукава их одежды загорались, и они катались по снегу, пытаясь сбить пламя, а немцы от души смеялись. Многие из тех, кому удалось-таки достать картофель, в конечном итоге умерли от ожогов. Через какое-то время картофель сгорел, потому что больше никто за ним не полез. По-моему, видеть, как на твоих глазах переводят еду, даже хуже, чем голодать.
Ночью женщина, которая получила сильные ожоги, кричала от боли. Я лежала рядом и пыталась ее успокоить, подгребая на руки свежий снег.
– Сейчас станет легче, – уговаривала я. – Ты только потерпи немного.
Но она была венгерка и не понимала меня. А я не знала, как ей помочь. Она кричала несколько часов. Подошел украинец, перешагнул через меня и застрелил бедняжку, а потом вернулся туда, где спали немцы. Я закашлялась, задыхаясь от пороховых газов, и прикрыла лицо шарфом. Остальные лежащие рядом даже не пошевелились.
Я осторожно стянула с убитой ботинки. Больше они ей не понадобятся.
Ботинки оказались мне велики, но это все же лучше, чем деревянные сабо.
На следующее утро перед отходом из лагеря мне приказали потушить костер. Забрасывая его снегом, я заметила в золе обуглившиеся кусочки картофеля и подняла один. От моего прикосновения он превратился в горку пепла, но все равно что-то питательное в нем оставалось, правда? Я поспешно принялась сгребать золу и ссыпать в карманы, а после несколько дней, шагая в колонне, засовывала пальцы в карман и доставала щепотку еды.
После двух недель я вспомнила о поляке, который подговаривал меня бежать, и теперь поняла почему. Сдаться хотелось все сильнее. И всем. Начиная от женщин, которые сбрасывали деревянные сабо из-за мозолей на ногах, потому что невозможно было идти дальше, а потом страдали от сильнейшего обморожения и умирали от гангрены, до тех, кто просто ложился и уже не вставал, зная, что через несколько минут их настигнет смерть. Казалось, мы постепенно вымираем. В конце концов никого из нас не останется.
Наверное, в этом и заключалась цель перехода.
А потом, казалось, небеса смилостивились – наступила весна. Дни становились теплее, снег таял. Я понимала, что это подарок: скоро все зацветет и начнет расти, а значит, будет еда. С другой стороны, исчезли неисчерпаемые запасы воды в виде снега и образовались болота, через которые приходилось пробираться. Мы проходили городами, где спали прямо на улицах, а эсэсовцы – в домах и церквях. Утром колонну поднимали и гнали к лесу, где сложнее было разглядеть нас с воздуха.
Как-то, когда мне приказали толкать походную кухню перед строем, я увидела кое-что на обочине.
Огрызок яблока.
Должно быть, кто-то швырнул его в грязь. Возможно, какой-нибудь фермер. Или паренек, бегущий по лесу.
Я посмотрела на эсэсовцев, шагающих рядом с кухней. Я только на секундочку отлучусь, подниму огрызок и спрячу его в карман! Они и не заметят. Я была уверена, что через шесть… пять… четыре шага будет уже поздно. По волнению, прокатившемуся по нашим измученным рядам, я поняла, что не единственная его заметила.
Я бросилась к огрызку.
Но эсэсовец оказался быстрее и отдернул меня назад. Я так и не успела схватить яблоко. Он потащил меня в конец колонны, где два немца схватили меня под руки, чтобы я не смешалась с другими узницами. Я знала, что меня ждет, потому что видела это раньше: когда объявят привал, палач отведет меня в лес и застрелит.
Ноги меня не слушались. Когда полевая кухня отъехала в сторону и остановилась, украинец схватил меня за руку и повел прочь от остальных женщин.
Сегодня я единственная приговоренная к смерти. Уже опустились сумерки, небо окрасилось багрянцем – при других обстоятельствах у меня бы дух захватило от такой красоты. Палач велел мне встать перед ним на колени. Я повиновалась, но сложила руки и принялась молить:
– Прошу вас… Если вы сохраните мне жизнь, я дам вам кое-что взамен.
Не знаю, как я решилась на такое обещание. Ничего ценного у меня не было. Все, что я взяла из лагеря, было на мне.
Потом я вспомнила о кожаном блокноте, который засунула за пояс платья.
Трудно было предположить, что этот головорез понимает толк в литературе, да и вообще умеет читать. Но я подняла руку – жест капитуляции – и полезла под пальто за блокнотом, в котором писала свою историю.
– Пожалуйста, – повторила я. – Возьмите это.
Он нахмурился, поначалу отмахнувшись от моего предложения. Но не у каждой узницы есть кожаный блокнот. Я видела, что он гадает: а вдруг там написано что-нибудь важное?
Палач наклонился ко мне. Как только он взялся за блокнот, второй рукой, которой опиралась о землю, я схватила горсть грязи и швырнула ему в глаза.
Потом со всех ног бросилась бежать в ночь, которая кровоточила между деревьями, как смертельная рана.
Мне бы не удалось бежать, если бы не несколько удачно сложившихся обстоятельств.
1. Сгущались сумерки, а это самое сложное время суток для преследователей, чтобы разглядеть меня. Деревья походили на прицелившихся солдат, а за беглянку можно было принять мигающие глаза совы; валуны напоминали вражеские танки, движение любого животного пугало – вдруг они попали в засаду.
2. У немцев не было собак – такой переход убийственен для животного! – чтобы обнаружить меня по запаху.
3. Грязь.
4. Немцы, как и я, устали за время перехода.
Я бежала, пока не свалилась наземь, но все продолжала слышать крики эсэсовцев, которые искали меня. Я споткнулась, скатилась в темную расщелину, оказалась на дне какого-то рва. Измазала лицо и тело грязью, накрылась сверху ветками. И так замерла. В какой-то момент немцы проходили так близко, что один из солдат наступил мне на ладонь, но я не издала ни звука, а он не понял, что я прячусь у него под ногами.
В конце концов они ушли. Я выждала целый день, прежде чем поверила в это, а после стала пробираться по лесу. Шла только ночью, боялась спать из-за диких животных, которых слышала при свете луны. И когда я уже потеряла всякую надежду и решила, что достанусь на съедение волкам, заметила кое-что вдали. Какую-то тень, широкую покатую крышу, стог сена…
В сарае пахло свиньями и курами. Когда я скользнула внутрь, птицы как раз усаживались на насест, болтали друг с другом, как старушки, слишком занятые своим квохтаньем, чтобы встревожиться, когда я вошла. Я на ощупь пробиралась в этой скользкой темноте и застыла, когда ударилась ногой о металлическое ведро. Но, несмотря на грохот, в расположенном неподалеку доме свет не вспыхнул, никто не пришел, и я осмотрелась.
За загородкой стояла большая деревянная бочка с зерном.
Я опустила в нее обе руки и принялась запихивать в рот зерно, которое отдавало опилками, черной патокой и овсом. Я изо всех сил старалась не есть слишком быстро, потому что знала, что меня может вырвать. Потом перелезла через низкое ограждение, обошла двух крупных свиноматок и заглянула в корыто. Картофельные очистки… Кожура от фруктов… Корки хлеба…
Настоящий пир!
После я легла между свиньями – они с двух сторон согревали меня щетинистыми спинами и закрывали своими тушами. Впервые за пять лет я заснула сытой и, даже если бы и захотела, не смогла бы впихнуть в себя ни крошки.
Мне снилось, что палач меня все-таки застрелил, потому что я точно очутилась на небесах. Или мне так казалось, пока я не проснулась и не увидела, что к горлу мне приставили вилы.
Женщина была маминой ровесницей, косы уложены вокруг головы, в углах рта морщины. Она ткнула своим орудием мне в горло. Я попятилась назад, а рядом хрюкали и визжали свиньи.
Я подняла руки, готовая сдаться.
– Bitte[51], – заплакала я, пытаясь встать. Я была настолько слаба, что пришлось ухватиться за загородку, чтобы не упасть.
Она держала вилы наизготовку, но потом медленно, невероятно медленно, опустила, закрывшись ими, как щитом, и наклонила голову, разглядывая меня.
Могу только представить, что она увидела! Скелет с измазанным грязью лицом и волосами. Полосатую лагерную робу, грязные розовые рукавички, шапку…
– Bitte, – еще раз прошептала я.
Она опустила вилы и выбежала из сарая, прикрыв за собой тяжелую дверь.
Свиньи уже жевали шнурки на моих ворованных ботинках. Куры, восседавшие на жердочке между курятником и хлевом, хлопали крыльями и кудахтали. Я подошла к двери. Женщина сбежала, испугавшись, но это не означает, что она не вернется в сопровождении мужа с дробовиком. Я поспешно наполнила карманы зерном, потому что не знала, когда еще удастся поесть. Но я не успела выскользнуть за дверь – она открылась.
На пороге стояла женщина с буханкой хлеба, кувшином молока и тарелкой с колбасой.
– Ты должна поесть.
Я замерла в нерешительности, гадая, не ловушка ли это. Но я была слишком голодна, чтобы упускать такой шанс, поэтому схватила с тарелки колбасу и сунула ее в рот. Оторвала ломоть хлеба и запихнула его за щеку – жевать было все еще больно. Потом осушила кувшин молока, чувствуя, как оно течет у меня по подбородку и шее. Сколько я уже не пила свежее молоко? Я вытерла рот рукой, устыдившись, что веду себя как животное.
– Откуда ты? – поинтересовалась женщина.
Говорила она по-немецки, а это означало, что мы пересекли границу Германии. Неужели обычные граждане понятия не имеют, что происходит в Польше? Неужели и их эсэсовцы обманывают так же, как нас? Пока я решала, что ответить, она покачала головой.
– Лучше не отвечай. Оставайся здесь. Так будет безопаснее.
У меня не было особых причин ей доверять. Большинство немцев, которых я встречала, – жестокие убийцы без всякой совести. Но ведь были среди них и герр Бауэр, и герр Фассбиндер, и гауптшарфюрер…
Поэтому я кивнула. Она махнула рукой в сторону сеновала. Наверх вела лестница, а через трещину в крыше пробивался солнечный луч. Продолжая сжимать кусок хлеба, я вскарабкалась туда. Легла на постель из сена и заснула, не дожидаясь, пока за спиной жены фермера закроется дверь сарая.
Через несколько часов меня разбудил шум шагов внизу. Я выглянула и увидела, что женщина вносит ведро с водой. На шее у нее висело белое полотенце, в свободной руке – кипа сложенной одежды. Она поманила меня.
– Спускайся.
Я сползла по лестнице и так стояла, неловко переминаясь с ноги на ногу. Женщина сбила в кучу сено, чтобы я села, и опустилась на колени у моих ног. Намочила тряпку в ведре и аккуратно вытерла мне лоб, щеки, подбородок. Тряпка стала черной от грязи и сажи, и она сполоснула ее в ведре.
Я позволила ей обмыть мне руки и ноги. Вода была теплая – настоящая роскошь. Потом она начала расстегивать на мне одежду. Я отшатнулась, но женщина обхватила меня за плечи.
– Тихо-тихо, – пробормотала она, поворачивая меня.
Я почувствовала, как грубая ткань отлепилась от моего тела и упала в лужу у ног. Ощутила влажную тряпку на каждой косточке позвоночника, на торчащих костях таза, на выпирающих ребрах.
Когда женщина развернула меня к себе лицом, в глазах ее стояли слезы. Я руками прикрыла наготу, стыдясь увидеть себя ее глазами.
После того как я переоделась в чистое – мягкая хлопчатобумажная и шерстяная одежда, как будто в облако укуталась! – она принесла еще ведро с водой, брусок мыла и вымыла мне волосы. Она пальцами отскребала грязь, а колтуны, которые не могла распутать, срезала. Потом села рядом со мной, как садилась мама, и начала расчесывать мне волосы.
Иногда, чтобы вновь почувствовать себя человеком, должен найтись кто-то, кто видит в тебе человека, – и не имеет значения, что на поверхности.
* * *
Целых пять дней жена фермера приносила мне еду: на завтрак свежие яйца, ржаные тосты и варенье из крыжовника, на обед ломтики сыра на толстых кусках хлеба, на ужин куриные ножки с овощами. Постепенно я набиралась сил. Мозоли на ногах зажили, челюсть перестала болеть. Я уже могла сдерживаться и не засовывать в рот еду, как только она ставила ее передо мной. Мы больше не говорили о том, откуда я родом, куда направляюсь. Я пыталась убедить себя, что могу оставаться здесь, в сарае, пока война не закончится.
Я опять оказалась во власти немцев, но, как у собаки, которую так часто били, что теперь она шарахается даже от ласковой руки, во мне росло убеждение, что людям можно доверять.
В ответ я пыталась выказать свою благодарность. Вычистила курятник – эта работа заняла у меня несколько часов, потому что приходилось часто садиться отдыхать. Собирала яйца и аккуратно складывала их в ведро, где они ожидали прихода жены фермера. Сняла паутину с балок, подмела в сарае – под кипами сена стал виден деревянный пол.
Однажды вечером женщина не пришла.
Я ощутила приступ голода, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я чувствовала в лагере или во время перехода. Я без столь многого могла обходиться, что отсутствие одного приема пищи прошло почти незамеченным. Может быть, она заболела или куда-то уехала. На следующее утро, когда дверь сарая распахнулась, я быстренько спустилась по лестнице, понимая, что мне не хватало ее компании больше, чем я хотела себе в том признаваться.
Жена фермера стояла напротив солнечного света, поэтому я не сразу разглядела ее красные, опухшие глаза. Не сразу заметила, что она не одна. За ее спиной, тяжело опираясь на палку, стоял мужчина в фланелевой сорочке и подтяжках. С ним был полицейский.
С моего лица сползла улыбка. Я приросла к полу сарая, так сильно ухватившись за лестницу, что дерево впилось в кожу.
– Прости, – выдохнула жена фермера, но больше ничего сказать не смогла – муж схватил ее за плечи и встряхнул.
Полицейский связал мне руки, открыл пошире дверь сарая и повел меня к грузовику, который стоял у дома.
Мама говорила, что если взглянуть на трагедию под другим углом, то увидишь ее счастливую сторону, которая вдруг блеснет, как золотая жила в горной породе. С этой точки зрения смерть моих близких была благом, потому что они не дожили до того, чтобы увидеть, во что я превратилась, во что превратился мир. Убийство венгерской женщины принесло мне пару крепких ботинок. А если бы не переход из Нова-Сули, я никогда бы не набрела на этот сарай и почти неделю трижды в день не ела бы полноценные завтраки, обеды и ужины.
И хотя фермер, узнавший, что его жена кого-то прячет, и позвонил в полицию, по крайней мере, в следующий лагерь меня отвезли в кузове грузовика, и я сберегла силы, которых не было бы, если бы это расстояние я прошла пешком. Именно поэтому, когда мы 11 марта 1945 года приехали в Флоссенбюрг – по иронии судьбы, в один день с теми, кто начинал этот переход из Нова-Сули! – больше половины женщин погибли, а я была жива.
Через неделю нас посадили в поезд и повезли в другой лагерь.
В последнюю неделю марта мы прибыли в Берген-Бельсен. В вагоны нас набили, как селедок в банки, поэтому даже малейшее шевеление означало, что или в тебя упрется чья-то нога, или раздастся чей-то недовольный окрик. К тому же все отчаянно пытались держаться подальше от переполненного ведра, которое мы использовали в качестве туалета. Когда поезд остановился, мы выбрались наружу, держась друг за друга и пошатываясь, как пьяные. Сделав всего пару шагов, я опустилась на землю.
Первым, что я почувствовала, был запах. Не смогу описать его, даже пытаться не стоит. Жженая плоть Освенцима ничто в сравнении с этой вонью болезни, мочи, дерьма и смерти. Она забиралась в ноздри, горло, заставляя дышать через рот. Повсюду были груды мертвых тел: некоторые беспорядочно валялись, другие были аккуратно сложены, как строительные блоки или колода карт. Те, у кого хватало сил передвигаться, оттягивали тела в сторону.
В этом лагере болели тифом. А как здесь можно было не заболеть, когда в барак, рассчитанный на пятьдесят человек, набивались сотни людей, когда уборной служила дыра в полу, когда не хватало еды и свежей воды для тысячи узников, которых сюда загнали?
Мы не работали. Мы гнили. Ползали, как улитки, по полу барака, потому что только так могли все разместиться. Надзиратели приходили и уносили мертвых. Иногда уносили и живых. Они ошибались не специально; мы и сами не всегда могли сказать, кто жив, а кто уже умер. Всю ночь раздавались тихие стоны, кожа блестела от горячки, узницы страдали галлюцинациями. По утрам мы тащились на улицу на перекличку, выстраивались в ряд, и нас часами считали.
Я подружилась с женщиной по имени Тауба, которая с дочерью Сурой раньше жила в Хрубешуве. У Таубы была ценная вещь, за которую она отчаянно держалась, как когда-то я – за кожаный блокнот. Это было потертое, кишащее вшами одеяло. Они с Сурой укрывались им от снега и непогоды во время перехода сюда. Они пережили ночи, когда другие умерли от холода. Теперь Тауба пыталась согреть Суру, которая заболела через несколько дней по приезде в лагерь. Она кутала дочь в одеяло, качала ее на руках, пела колыбельные. Когда наступало время переклички, мы с Таубой поддерживали Суру с двух сторон.
Однажды ночью в забытьи Сура начала молить о еде. Тауба прижала ее к себе.
– Что ты хочешь, чтобы я приготовила? – прошептала она. – Жареного цыпленка? С подливкой, морковью в карамельном соусе и картофельным пюре? – Глаза ее блестели от слез. – С маслом, огромным куском, как снежная вершина на горе. – Она еще крепче обняла Суру, голова девочки откинулась на тоненькой шейке-стебельке. – А утром, когда ты проснешься, я приготовлю свои фирменные блинчики с творогом, посыпанные сахаром, бобы с яйцами и ржаным хлебом, а еще свежую голубику. Будет столько еды, Сурель, что ты всего не осилишь!
Я знала, что женщины покрепче доходили до кухни и искали в мусорных баках еду. Их никто не наказывал: то ли надзиратели не хотели к ним приближаться, чтобы не заразиться, то ли всем уже было наплевать. И на следующее утро, убедившись, что Сура еще дышит, я решила предпринять вылазку в кухню.
– Что нам еще делать? – спросила я, нервничая оттого, что оказалась у всех на виду.
С другой стороны, мы же не прогуливали работу. В этом лагере нечего было делать, только ждать. Какая разница, сидим мы в бараке или под окном кухни?
Распахнулось окно, и дородная женщина вышвырнула кучу объедков: картофельные очистки, спитую кофейную гущу, кожуру от сосисок и апельсинов, куриные кости. Женщины, как животные, бросились на землю, загребая под себя все, что могли. Из-за секундной нерешительности я потеряла самые лакомые кусочки, но мне удалось схватить куриную дужку и горсть картофельных очистков. Я спрятала добычу в карман и поспешила назад.
Я протянула картофельные очистки Таубе, чтобы она попыталась заставить дочь пососать их. Но Сура уже соскользнула в забытье.
– Тогда ты ешь, – велела я. – Когда девочка поправится, ей понадобятся твои силы.
Тауба покачала головой.
– Хотелось бы в это верить.
Я полезла в карман за дужкой.
– Когда я была маленькой и мы с сестрой Басей чего-то очень сильно желали – например, новую коляску или поехать за город, – то заключали договор, – сказала я. – Когда мама готовила на субботний ужин курицу, нам доставалась дужка, и мы загадывали одно и то же желание. Поэтому оно не могло не сбыться. – Я протянула дужку Таубе, ухватившись пальцами за одну косточку, чтобы она могла взяться за вторую. – Готова? – спросила я.
Она выиграла. Но это уже не имело значения. Ночью, когда надзиратели пришли забирать мертвых, первой вынесли Суру.
Я слушала, как плачет Тауба, – утрата вывернула ее наизнанку. Она зарылась лицом в одеяло – единственное, что осталось от дочери. Даже приглушенные, ее рыдания превращались в пронзительный крик – я закрывала уши, но не могла от него избавиться. Крики стали кинжалами, которые висели в воздухе у моего лица. Я с изумлением наблюдала, как они пронзают мою натянувшуюся кожу, высвобождая не кровь, а огонь.
– Минка. Минка?
Перед глазами проплыло лицо Таубы, как будто я лежала на дне моря и смотрела на солнце.
– Минка, у тебя жар.
Меня била дрожь, одежда пропиталась по́том. Я понимала, чем все закончится. Через несколько дней я умру.
Но Тауба совершила удивительный поступок. Взяла одеяло и разорвала его пополам. Одну половину обернула вокруг моих плеч.
Если мне суждено умереть, хочу, чтобы это случилось так, как я задумала. В этом я похожа на сестру. Это произойдет не в вонючем бараке в окружении больных. Не хочу, чтобы за меня принимал решение надзиратель, который в полдень будет тащить мое тело на кучу.
Поэтому я, пошатываясь, выбралась на улицу. Ветер холодил кожу. Я плотнее завернулась в одеяло и опустилась на землю.
Я знала, что утром не придется выносить мое тело. Но сейчас меня бил озноб, и я смотрела в ночное небо.
В Лодзи звезды видно плохо. Слишком большой город. Но отец еще в детстве научил меня узнавать созвездия, когда мы ездили в деревню на каникулы. Нас было только четверо. Мы снимали домик у озера, ловили рыбу, читали, гуляли, играли в нарды. Мама постоянно обыгрывала нас в карты, но самую большую рыбу всегда ловил папа.
Иногда мы с папой спали на крыльце, где воздух был настолько свежим, что его можно было пить, а не просто дышать. Отец рассказывал мне о созвездии Льва, которое было прямо у нас над головой. Его назвали в честь мифического чудовища, Немейского льва – огромного свирепого зверя, чью шкуру не могли пробить ни ножи, ни мечи. Первым подвигом Геракла было задание победить льва, но он быстро понял, что стрелами чудовище не убить, поэтому заманил его в пещеру, оглушил и стреножил. Чтобы снять шкуру и принести ее в доказательство своей победы, он использовал твердый коготь самого льва.
«Видишь, Минка, – говорил отец, – все возможно. Даже самое ужасное чудовище когда-нибудь станет только воспоминанием». Он брал мою руку и водил моим пальцем в воздухе по самым ярким звездам созвездия. «Смотри, это голова, это хвост. А вот сердце».
Я умерла и увидела крылья ангела. Белые и бесплотные. Краем глаза я видела, как они взлетают вверх-вниз.
Но если я умерла, почему голова у меня тяжелая, как колокол? Почему я до сих пор чувствую эту вонь?
Я с трудом села и поняла, что на самом деле то, что показалось мне крыльями, было флагом – полоской ткани, трепещущей на ветру. Флаг был привязан к сторожевой башне, которая располагалась напротив барака, где я обитала.
Эта башня была пуста.
Как и та, что за ней.
Ни одного солдата вокруг. Ни одного немца. Точка. Лагерь походил на город-призрак.
К этому моменту и другие узники начали понимать, что же произошло.
– Вставайте! – воскликнула какая-то женщина. – Вставайте, они все ушли!
Людской волной меня смыло к забору. Они оставили нас умирать голодной смертью? Кому-нибудь из нас под силу разорвать колючую проволоку?
Вдалеке показались грузовики с красными крестами на бортах. В эту секунду я поняла, что не важно, хватит ли у нас сил. Теперь есть другие, у которых для нас сил хватит.
Осталась даже фотография, сделанная в тот день. Я однажды видела ее по телевизору в документальном фильме о 15 апреля 1945 года, когда к Берген-Бельсену подъехали первые британские танки. Я изумилась, когда увидела свое лицо на теле скелета. Я даже купила копию фильма, чтобы перемотать и остановить в нужном месте. Убедиться. Да, это я. В розовой шапке и рукавицах, а на плечах Сурино одеяло.
Я никому до этого дня не говорила, что попала в чей-то кинорепортаж.
В день, когда нас освободили английские войска, я весила тридцать килограммов. Ко мне подошел мужчина в форме, и я упала ему на руки, больше не могла стоять. Он подхватил меня и понес в палатку, которая служила лазаретом.
«Вы свободны, – вещали из громкоговорителя по-английски, по-немецки, на идиш, по-польски. – Вы свободны, успокойтесь. Везут еду. Помощь на подходе».
Вы спросите, почему я не рассказывала этого раньше.
Потому что я знаю, какой силой может обладать рассказ. Он может изменить ход истории. Спасти жизнь. Но он также может стать всепоглощающей воронкой, зыбучими песками, в которых застрянешь, не в силах писать свободно.
Вам может показаться, что человек меняется, когда становится свидетелем чего-то подобного, однако это не так. В газетах я прочла, что история повторяется в Камбодже. В Руанде. В Судане.
Правда страшнее вымысла. Некоторые выжившие хотят говорить только о том, что произошло. Они ходят в школы и музеи, храмы, проводят беседы. Они видят в этом смысл. Я слышала, как они говорят, что чувствуют ответственность, возможно, это даже смысл их жизни.
Мой муж – твой дедушка – говорил: «Минка, ты писательница. Представь, какую бы книгу ты написала!»
Но именно потому, что я писательница, я не могу этого сделать.
Оружие, которым владеет автор, – несовершенно. Есть слова, которые кажутся бесформенными и затасканными. Например, любовь. Я могу написать тысячу раз «любовь», и для разных читателей оно будет иметь тысячи значений.
Зачем пытаться перенести на бумагу слишком сложные, слишком всеобъемлющие, слишком подавляющие эмоции, ограниченные набором букв?
«Любовь» не единственное, что невозможно выразить словами.
«Ненависть» тоже.
«Война».
И «надежда». Да, надежда.
Понимаешь теперь, почему я не рассказывала свою историю?
Если пережил подобное, то знаешь, что нет слов, которыми можно хотя бы близко описать пережитое.
Если нет, то никогда не поймешь.
Часть III
Как чудесно, что никому ни секунды не нужно ждать, чтобы начать делать мир лучше.
Из дневника Анны ФранкОн оказался быстрее меня и сильнее. Когда в конце концов он поймал меня, то зажал рукой рот, чтобы я не могла кричать, и потащил в заброшенный сарай, где швырнул меня на пыльную постель из соломы. Я подняла на него взгляд, гадая, кто же он такой, почему я сразу этого не разглядела.
– Ты и меня убьешь? – с вызовом спросила я.
– Нет, – негромко ответил Алекс. – Я делаю все возможное, чтобы спасти тебя.
Он просунул руку через выбитое окно сарая, взял горсть снега и вымыл им руки, потом вытерся насухо клочком рубашки.
На его плечах, груди, спине нетрудно было разглядеть свежие раны. Но был еще десяток других – узких порезов на внутреннем предплечье, на запястьях, на ладонях.
– После того как он напал на тебя, я стал это делать, – сказал Алекс. – Когда пек хлеб.
– Не понимаю…
В лунном свете шрамы на его руках казались серебристой лесенкой.
– Я не выбирал, кем стать, – сдержанно ответил он. – Я пытаюсь держать Казимира взаперти. Кормлю его сырым мясом, но он всегда голоден. Я делаю все, что могу, чтобы не допустить победы его естества. Я пытаюсь и свое держать в узде. И чаще всего мне это удается. Но однажды он сбежал, пока я пытался найти ему еду. Я выследил его в лесу. Он охотился за твоим отцом, который рубил дрова для печи. Но у того было преимущество – топор. Когда я подбежал и попытался оттащить Казимира, у твоего отца появился шанс нанести ответный удар. Он попал Казимиру по ноге, и тогда я вырвал у него топор. Не знаю, то ли из-за запаха крови, то ли адреналин в моих венах… – Алекс отвернулся. – Не знаю, почему это произошло, почему я не смог сдержаться. Он все-таки мой брат. Это мое единственное оправдание. – Алекс взъерошил волосы, и они стали напоминать петушиный гребень. – Я знал, если такое случится снова, хотя бы один раз – это переполнит чашу. Мне следовало найти способ защитить остальных, на всякий случай. Потому я и попросился к тебе на службу.
Я посмотрела на его шрамы, вспомнила о булочках, которые он каждый день пек для меня и просил съедать до крошки. Подумала о багетах, которые продала на этой неделе, о покупателях, которые говорили, что вкус хлеба – нечто божественное. Вспомнила старика Сэма, который рассказывал: единственный способ защититься от упыря – глотнуть его крови. Вспомнила о розоватом оттенке теста и поняла, о чем говорит Алекс.
Он в буквальном смысле отдавал свою кровь, чтобы спасти нас от себя самого.
Сейдж
Моя бабушка два раза победила смерть. Задолго до того, как я узнала, что она имеет какое-то отношение к холокосту, она победила рак.
Я была еще крошкой, года три-четыре. Мои сестры днем ходили в школу, и мама каждый день водила меня к бабуле, когда дедушка уходил на работу, чтобы не оставлять ее одну во время реабилитации после болезни. Бабушке удалили грудь. Восстанавливаясь после операции, она лежала на диване, я смотрела «Улицу Сезам» или рисовала за кофейным столиком прямо перед ней, а мама убирала, мыла посуду и готовила еду. Каждый час бабушка выполняла упражнение, которое заключалось в том, что она медленно передвигала пальцы вверх по стене, тянулась как можно выше – чтобы восстановить поврежденные после операции мышцы.
Каждое утро, когда мы приходили, мама помогала бабушке принять душ. Она закрывала дверь, расстегивала «молнию» на бабушкином халате, а потом оставляла бабушку ополаскиваться под горячей струей душа. Через пятнадцать минут она негромко стучала и заходила в душ, потом они выходили: от бабули пахло тальком, одета она была в свежий халат, волосы на затылке мокрые, но все тело почему-то оставалось сухим.
Однажды мама, отведя бабулю в душ, отправилась со стопкой сложенного белья наверх.
– Сейдж, – сказала она мне, – сиди здесь, пока я не вернусь.
Я даже не оторвала глаз от экрана: там появился Оскар Ворчун, а я боялась Оскара. Если я отвернусь, он может воспользоваться этим и незаметно выскользнуть из своего мусорного бака.
Но как только мама скрылась с глаз и Оскар перестал мелькать на экране, я побрела к ванной. Дверь не закрывалась на задвижку, чтобы мама могла в любой момент войти. Я сделала щелочку и тут же почувствовала, как от окружившего меня пара начали виться волосы.
Сперва я ничего не увидела – казалось, я вошла в облако. Но потом, присмотревшись, по ту сторону прозрачной душевой перегородки я увидела сидящую на пластиковом табурете бабушку. Воду она выключила, но на голове у нее оставалась шапочка для душа, в которой она напоминала гриб из мультфильма – красный в белых пятнышках. У нее на коленях лежало полотенце. Здоровой рукой она посыпала тело тальком.
Я никогда не видела бабушку голой. Кстати, маму я тоже голой не видела. Поэтому вытаращила глаза – слишком отличались наши тела.
Во-первых, кожа на коленях, локтях, животе бабушки была морщинистой и как будто лишней. И снежно-белые ноги, словно она никогда не ходила по улице в шортах. Наверное, так оно и было.
Номер на ее предплечье был похож на штрих-код, который сканирует кассир в бакалее, когда мы покупаем продукты.
И конечно, шрам на месте левой груди, красный и воспаленный – словно сморщенная плоть покрывала голую стену.
Тут бабушка заметила меня. Правой рукой она открыла дверь, и я едва не задохнулась от запаха талька.
– Сейджель, подойди ближе, – велела она. – От тебя я не хочу ничего скрывать.
Я сделала шаг вперед, но остановилась, потому что шрамы у бабушки на теле были даже страшнее, чем Оскар.
– Ты заметила, что мы с тобой чем-то отличаемся, – сказала бабушка.
Я кивнула. В том возрасте я не нашла слов, чтобы объяснить, чего не увидела, но я понимала – что-то не так. Ткнула в шрам.
– Нет сиси, – заявила я.
Бабушка улыбнулась, и я тут же перестала замечать шрам, а узнала свою бабулю.
– Нет, – подтвердила она. – Но посмотри, сколько меня еще осталось.
Я жду в бабушкиной спальне, пока Дейзи стелет ей постель. Сиделка легко взбивает подушки, так, как любит бабушка, подтыкает одеяло, прежде чем уйти на ночь. Я присаживаюсь на край кровати, беру бабушку за руку. Рука прохладная и сухая. Не знаю, что сказать. Не знаю, что еще тут можно добавить.
Кожу у меня на лице покалывает, как будто наши шрамы могут узнать друг друга, даже несмотря на то, что шрамы, которые бабушка сегодня обнажила, глазу не заметны. Я хочу поблагодарить ее за рассказ. За то, что она выжила, потому что без нее и меня бы не было, некому было бы слушать. Но, как она заметила, словами некоторые чувства не описать, как ни старайся.
Свободной рукой бабушка хватается за край простыни и подтягивает ее к подбородку.
– Когда война закончилась, – говорит она, – приходилось к этому привыкать. К комфорту. Я слишком долго не могла спать на матрасе. Брала одеяло и спала на полу. – Она смотрит на меня, и на секунду я вижу перед собой девочку, которой она когда-то была. – Мне помог очнуться твой дедушка. «Минка, – сказал он, – я тебя люблю, но на земле спать не буду».
Я помнила, что дедушка говорил негромко и любил книги. На его пальцах всегда были пятна от чернил, которыми он в своем антикварном книжном магазине выписывал квитанции.
– Вы познакомились в Швеции, – говорю я. Именно так нам всем рассказывали.
Она кивает.
– Выздоровев после тифа, я уехала в Швецию. Бывшие узники могли свободно и бесплатно передвигаться по Европе. Я с другими женщинами отправилась в меблированные комнаты в Стокгольме и каждый день завтракала в ресторане просто потому, что могла себе это позволить. А он был в увольнительной. Сказал, что никогда в жизни не видел, чтобы девушка ела столько блинов. – На ее лице появились лучики улыбки. – Он каждый день приходил в этот ресторан и садился рядом, пока я не согласилась вместе поужинать.
– Ты сразила его наповал.
Бабушка смеется.
– Вряд ли. Я была кожа да кости. Ни груди, ни округлостей – ничего. Ежик волос длиной в три сантиметра – после того, как вывели вшей, о лучшей прическе я и не мечтала, – признается она. – На первом свидании я спросила, что он во мне разглядел. И он ответил: «Свое будущее».
Неожиданно я вспоминаю, как гуляла по городу с сестрой и бабушкой. Я как раз читала книгу и не желала бесцельно слоняться по улицам, но мама настояла, чтобы мы пошли втроем, вот мы и тащились черепашьим шагом рядом с бабушкой. «Зачем ходить по грязи, – сказала она тогда, – если можно прогуляться по такому прекрасному тротуару?» Я решила, что она слишком осторожна и боится машин, хотя по этой улице они никогда не ездили. Сейчас я осознаю: она не понимала, почему мы не ходим по тротуарам просто потому, что можем по ним ходить.
Когда у тебя забирают свободу, ты постигаешь, что это привилегия, а не право.
– Когда мы только приехали в Америку, твой дедушка предложил, чтобы я присоединилась к группе таких, как я, – тех, кто был в концлагере. Я потащила его с собой. Мы посетили три встречи. Все говорили о том, что с ними произошло, и о том, как они ненавидят немцев. Я не хотела этого. Я находилась в прекрасной новой стране. Мне хотелось говорить о кино, о своем красавце муже, о новых друзьях. Поэтому я ушла и продолжила жить дальше.
– После того, что немцы сделали с тобой, как ты могла их простить?
Произнеся эти слова, я подумала о Джозефе.
– А кто сказал, что я простила? – удивилась бабушка. – Я никогда не смогу простить начальника лагеря за то, что он убил мою лучшую подругу.
– Я тебя не виню.
– Нет, Сейдж. Я имею в виду «не смогу» – в буквальном смысле, потому что не мне его прощать. Такое могла сделать только Дара, а из-за него это стало невозможным. Следуя этой логике, я могла бы простить гауптшарфюрера. Он сломал мне челюсть, но спас жизнь. – Она качает головой. – Но не могу.
Бабуля так долго молчит, что мне кажется: она заснула.
– Когда я сидела в карцере, – тихо произносит бабушка, – я его ненавидела. Не за то, что он одурачил меня и заставил поверить себе. И даже не за то, что избил. А за то, что вынудил меня утратить жалость, которую я испытывала к врагам. Я больше не вспоминала герра Бауэра и герра Фассбиндера. Я поверила, что все немцы одинаковы, и возненавидела их. – Она смотрит на меня. – А это означало, что я в тот момент была ничем не лучше их самих.
Лео следит, как я закрываю дверь спальни, когда бабушка засыпает.
– С вами все в порядке?
Я замечаю, что он убрал в кухне, сполоснул стаканы, из которых мы пили чай, смел со стола крошки и вытер его.
– Она спит, – отвечаю я совсем не на его вопрос.
Разве может быть все в порядке? Разве кто-нибудь может быть в порядке после того, что сегодня услышал?
– И Дейзи здесь, если бабушке что-нибудь понадобится.
– Послушайте, я знаю, как, должно быть, тяжело такое слушать…
– Нет, не знаете, – перебиваю я. – Это ваша работа, Лео, но лично вас это не касается.
– Откровенно говоря, касается, – признается он, и мне тут же становится стыдно.
Он посвятил жизнь тому, чтобы искать тех, кто совершил эти преступления. А я, когда подросла, не слишком старалась разговорить бабушку, даже узнав, что она пережила войну.
– Это Райнер Хартманн, верно? – спрашиваю я.
Лео выключает в кухне свет.
– Посмотрим, – отвечает он.
– Вы чего-то недоговариваете?
Он едва заметно улыбается.
– Я федеральный агент. Если я вам скажу, придется вас убить.
– Серьезно?
– Нет. – Он придерживает для меня дверь и убеждается, что за нами ее заперли. – Все, что нам на данный момент известно, – это то, что ваша бабушка была в Освенциме. Там служили сотни эсэсовцев. Мы до сих пор не опознали среди них вашего Джозефа.
– Он не мой Джозеф, – возражаю я.
Лео открывает дверцу арендованного автомобиля со стороны пассажира, чтобы я села, потом обходит машину и садится за руль.
– Знаю, вы кровно в этом заинтересованы. Понимаю, что вы хотели бы, чтобы все закончилось еще вчера. Но есть определенные правила, которым в моем отделе необходимо следовать, расставить все точки над «і». Пока вы были с бабушкой, я позвонил одному из своих историков в Вашингтон. Женевра подбирает фотографии и вышлет их экспресс-почтой мне в гостиницу. Завтра, если ваша бабушка будет в состоянии, мы добудем улики, чтобы запустить этот процесс.
Он отъезжает от дома.
– Но Джозеф мне признался! – настаиваю я.
– Вот именно. Он не хочет, чтобы его экстрадировали или отдали под суд, – в противном случае он бы признался мне. Мы не знаем, какие у него планы: то ли он пытается спрятаться за обманом, то ли у него странное предсмертное желание – существуют десятки причин, по которым он хочет, чтобы вы приняли участие в этом запланированном самоубийстве. А может, он полагает, что должен представить себя достойным осуждения, прежде чем вы примете решение. Не знаю.
– Но все эти подробности…
– Ему девяносто лет. Может быть, он последние пятьдесят лет смотрел только канал «История». Второй мировой войной занимаются многие специалисты. Подробности – это хорошо, но только если их можно привязать к определенному человеку. Именно поэтому, если нам удастся подкрепить его историю свидетельскими показаниями очевидца, который на самом деле встречал его в Освенциме, мы тут же заведем дело.
Я скрещиваю руки на груди.
– В «Законе и порядке» дела идут гораздо быстрее.
– Потому что вот-вот возобновят контракт с актрисой Маришкой Харгитей, – отвечает Лео. – Знаете, когда я впервые услышал показания узника концлагеря, то чувствовал то же, что и вы, – и свою историю рассказывала не моя бабушка. Мне хотелось убивать нацистов. Даже тех, кто и так уже был мертв.
Я вытираю глаза. Мне стыдно, что я расплакалась перед ним.
– Я даже представить не могу того, о чем она рассказывала.
– Я слышал такие истории пару сотен раз, – негромко говорит Лео. – Легче не становится.
– Значит, мы просто возвращаемся домой?
Лео кивает.
– Хорошо выспимся, подождем, пока я получу почту, и тогда еще раз навестим вашу бабушку. Надеюсь, она сможет его опознать.
А если опознает, кому мы поможем? Уж точно не моей бабушке! Она много лет делала все, чтобы избавиться от клейма узницы, но разве мы не навесим его снова, если попросим ее провести опознание? Я думаю о Джозефе, о Райнере – как бы там его ни звали… У каждого своя история, каждый скрывает свое прошлое в целях самосохранения. Некоторым удается сделать это более тщательно, чем остальным.
Но разве можно жить в мире, где все не те, кем кажутся?
Молчание повисло между нами, заполняя собой салон арендованной машины. Я вздрагиваю, когда навигатор велит нам поворачивать направо, на шоссе. Лео крутит радио.
– Может быть, музыку послушаем?
Он морщится, когда машину заполняют звуки рока.
– Плохо, что нет проигрывателя с компакт-диском, – говорю я.
– Я все равно не умею с ним обращаться. У меня в машине такого нет.
– Нет проигрывателя? Вы шутите? А на чем вы ездите? На «Жестянке Лизи»?[52]
– У меня «субару». И кассетный магнитофон.
– Они до сих пор существуют?
– Не судите строго. Я старомодный парень.
– Значит, вам нравятся старинные вещи. – Я заинтригована. – Звезды пятидесятых-шестидесятых, «Ширеллз», «Троггс», дуэт «Ян и Дин»…
– Полегче! – восклицает Лео. – Это не старина. Кэб Кэллоуэй, Билли Холидей, Пегги Ли… Вуди Герман…
– Сейчас у вас крышу снесет, – говорю я, настраивая радио.
Льется голос Розмари Клуни[53], у Лео округляются глаза.
– Невероятно! – восклицает он. – Это бостонская станция?
– Это «Сириус ХМ», спутниковое радио. Новейшие технологии. Относительно новые. А еще сейчас снимают кино со звуком.
Лео ухмыляется.
– Я знаю, что такое спутниковое радио. Просто никогда…
– Не думали, что его стоит послушать? Не опасно жить только прошлым?
– Не опаснее, чем жить настоящим и понимать, что ничего не изменилось, – отвечает Лео.
Я вспоминаю бабушку.
– Она сказала, что поэтому и не хотела рассказывать о том, что c ней произошло. Не видела смысла.
– Я не во всем ей верю, – признается Лео. – Ничего не рассказывать потому, что история повторяется, – это своеобразная самозащита, но обычно находятся и другие причины, заставляющие узников концлагерей хранить молчание.
– Например?
– Чтобы защитить свои семьи. На самом деле это посттравматический синдром. Человек, который пережил подобную травму, не может одни эмоции отключить, а другие – нет. Выжившие на войне выглядят здоровыми, но внутри у них эмоциональная пустота. Поэтому у таких людей не всегда получается наладить связь с детьми и своими супругами – или они сознательно не хотят ее налаживать. Они боятся, что кошмары оживут, что они слишком сильно к кому-нибудь привяжутся, а потом его потеряют. В результате их дети вырастают и ведут себя в своих семьях точно так же.
Я пытаюсь, но не могу припомнить, чтобы папа меня сторонился. Однако он не расспрашивал бабушку о прошлом. Может, бабушка щадила его, храня молчание, а он все равно страдал? Неужели эмоциональная холодность передается через поколение? Я прятала свое лицо от людей; нашла работу, которая позволяет мне трудиться по ночам, одной; позволила себе влюбиться в мужчину, который, точно знаю, никогда не станет моим, потому что никогда не верила, что мне повезет и я встречу человека, который будет всегда любить меня. Я прячусь потому, что урод, или я урод потому, что прячусь? Неужели мой шрам – только часть эмоциональной пустоты, спусковой крючок травмы, которая передается по нашему роду?
Я даже не осознаю, что плачу, пока машина неожиданно не сворачивает через три полосы и Лео не останавливается.
– Простите, – извиняется он, припарковавшись у тротуара. В прямоугольнике зеркала я вижу его глаза. – Глупость сказал. Кстати, не обязательно так происходит. Посмотрите на себя, вы родились совершенно нормальной.
– Вы меня совсем не знаете.
– Но хотел бы узнать.
Кажется, такой ответ смущает Лео не меньше, чем меня.
– Держу пари, вы говорите это всем девушкам-истеричкам.
– Ох, вы вычислили мой метод работы!
Он протягивает мне носовой платок. Кто сейчас носит носовые платки? Наверное, те, у кого в машине кассетный магнитофон. Я вытираю глаза, сморкаюсь и прячу этот маленький квадратик себе в карман.
– Мне двадцать пять лет, – говорю я. – Меня уволили с работы. Мой единственный друг – бывший нацист. Моя мама умерла три года назад, а кажется, будто вчера. У меня с сестрами нет ничего общего. У меня был роман с женатым мужчиной. Я отшельница. Пусть лучше мне удалят корень зуба, чем сфотографируют, – выпалила я, так сильно заливаясь слезами, что началась икота. – У меня даже домашнего животного нет.
Лео склоняет голову к плечу.
– Даже золотой рыбки?
Я качаю головой.
– Что ж, многие теряют работу, – отвечает Лео. – Ваша дружба с нацистом может привести к тому, что его депортируют или экстрадируют как военного преступника. Мне кажется, у вас есть о чем поговорить с сестрами. А еще я готов биться о заклад, что мама гордится вами, где бы она сейчас ни была. Фотографии в наши дни так ретушируют, что нельзя верить собственным глазам. А по поводу того, что вы отшельница… – добавляет он, – по-моему, вы легко поддерживаете разговор.
Я минуту размышляю над его словами.
– Знаете, что вам необходимо?
– Проверить реальное положение вещей?
Лео заводит машину.
– Перспектива! – отвечает он. – Черт с ней, с этой гостиницей. У меня есть мысль получше.
* * *
Когда не понимаешь язык, на котором говорят окружающие, есть два выхода. Можно бороться с уединением или сдаться. Я позволила молитвам окутывать меня, как пар. Я наблюдала за собравшимися, когда настал их черед читать молитвы, – они, словно актеры, помнили свои роли наизусть. Вот кантор сделал шаг вперед и запел, в мелодии звучали скорбь и сожаление. Внезапно я осознала: с этими же словами росла моя бабушка. Слушала эти же самые мелодии. И все эти люди – пожилые пары и семьи с маленькими детьми; дети постарше, ожидающие свои бар-мицву и бат-мицву, их родители, которые так гордились своими детьми, что беспрестанно поправляли их волосы, трогали за плечи, – их не было бы здесь, если бы все пошло так, как планировали Райнер Хартманн и остальные нацисты.
История не в датах, местах событий и войнах. История – это люди, которые наполняют пространство между ними.
Сперва молятся за больных и выздоравливающих, потом раввин читает проповедь. Еще молятся над халой и вином.
Потом наступает время кадиша – заупокойной молитвы. Молитвы за родных, которые умерли. Я почувствовала, как поднялся сидящий рядом со мной Лео.
– Yisgadal v’yiskadash sh’mayh rabo[54].
Лео поднимает и меня с места. Я тут же впадаю в панику, уверенная, что все только на меня и глазеют – на девушку, которая не знает ни строчки из своей роли.
– Просто повторяйте за мной, – шепчет Лео, и я повторяю незнакомые слоги, как камешки, которые можно спрятать за щеку.
– Аминь, – наконец произносит Лео.
Я не верю в Бога. Но сидя здесь, в помещении, наполненном людьми, которые думают по-другому, я понимаю, что верю в людей. В их силу помогать друг другу. И процветать, несмотря ни на что. Я верю, что чудо побеждает обыденность. Я верю, что, если у человека есть надежда – даже всего лишь на то, что завтра день будет лучше, чем сегодня, – это самое мощное лекарство на планете.
Раввин произносит заключительную молитву, и, когда поднимает глаза на паству, взгляд у него чистый и светлый, как поверхность озера на рассвете. Если говорить откровенно, я чувствую что-то похожее. Как будто перевернула страницу и начала новую жизнь.
– Shabbat shalom[55], – произносит раввин.
Сидящая рядом женщина возраста моей мамы, с копной волос цвета спелой вишни, которые вьются, отрицая все законы гравитации, улыбается так широко, что видны пломбы в зубах.
– Shabbat shalom, – говорит она и крепко хлопает меня по руке в знак приветствия, как будто мы знакомы целую вечность.
Стоящий перед нами маленький мальчик, который бо́льшую часть времени ерзал на месте, шлепается на колени, растопырив пухлые пальчики: «дай пять»! Его отец смеется.
– Что нужно говорить? Шаббат… – подсказывает он. Мальчик, неожиданно смутившись, утыкается лицом в отцовский рукав. – В следующий раз, – улыбается отец.
Вокруг нас раздаются одни и те же слова, словно лента, которой прошита толпа, шнурок, который всех стягивает. Когда люди начинают выходить, направляясь в вестибюль, где их уже ждет Oneg Shabbat – «радость субботы» – неспешная беседа за чаем с печеньем, я встаю. Однако Лео продолжает сидеть.
Он обводит взглядом зал, и я не могу понять, что написано у него на лице. Может быть, задумчивость. Гордость. Потом он смотрит на меня.
– Вот ради этого, – признается он, – я и занимаюсь тем, чем занимаюсь.
* * *
Во время Oneg Shabbat Лео приносит мне чай со льдом в пластиковом стаканчике и рогалик, от которого я вежливо отказываюсь, потому что он явно покупной, а я знаю, что могла бы испечь вкуснее. Он обзывает меня гурманом, и мы смеемся. К нам подходит пожилая пара, и я начинаю отворачиваться, по привычке пытаясь спрятать изуродованную половину лица, когда неожиданно в памяти вспыхивают воспоминания о бабушке, которая много лет назад рассказывала мне о послеоперационных шрамах, и о ней сегодняшней, вспоминающей о холокосте. «Но посмотри, сколько меня еще осталось».
Я вскидываю подбородок и открыто смотрю на пару – пусть говорят о моей морщинистой коже.
Но комментариев не следует. Они интересуются, как давно мы в городе.
– Проездом, – отвечает Лео.
– Здесь так приятно, – говорит женщина. – Так много молодых семей.
Они явно приняли нас за пару.
– Ой, нет! Мы не… Я хочу сказать, он не…
– Она пытается сказать, что мы не женаты, – заканчивает за меня Лео.
– Это ненадолго, – отвечает мужчина. – Когда заканчиваешь за другого предложение – это первый шаг.
Еще дважды к нам подходили и интересовались, как давно мы сюда переехали. Первый раз Лео отвечает, что мы собирались в кино, но не нашли интересного фильма, потому пошли в синагогу. Второй раз Лео ответил, что он – агент ФБР, а я помогаю ему расследовать одно дело. Задавший вопрос мужчина засмеялся.
– Отличная шутка, – похвалил он.
– Вы удивитесь, как трудно заставить людей поверить в правду, – признается Лео, когда мы идем по стоянке к машине.
Но я ничуть не удивлена. Посмотрите, как я старалась не верить Джозефу, когда он пытался рассказать, кем был!
– Наверное, потому, что чаще всего мы не хотим признаваться в этом даже самим себе.
– Верно, – задумчиво протягивает Лео. – Удивительно, во что способен поверить человек, если купится на ложь.
Например, человек может поверить, что бесперспективная работа – это карьера. Можно винить свое уродство в том, что окружающие сторонятся тебя, когда в действительности ты страшишься даже мысли о том, чтобы подпустить кого-нибудь ближе, чтобы шрам не стал еще глубже. Убеждаешь себя, что безопаснее любить человека, который никогда не ответит тебе взаимностью, потому что невозможно потерять того, кто никогда твоим не был.
Возможно, причина в том, что Лео умеет профессионально хранить тайны; возможно, в том, что сегодня я получила глубокую эмоциональную травму; а может, просто потому, что никто никогда так внимательно меня не слушал, – какова бы ни была истинная причина, я ловлю себя на том, что признаюсь в вещах, которые никогда не проговаривала вслух. Когда мы едем назад на север, я рассказываю Лео, что всегда была изгоем, даже в собственной семье. Рассказываю, как боялась, что родители умрут, так и не узнав, что я могу себя обеспечить. Признаюсь, что, когда приходят сестры, я все разговоры свожу к марке бальзама для волос и вопросу о том, кто и когда берет машину. Рассказываю, как однажды за неделю не произнесла ни слова только для того, чтобы посмотреть, способна ли я на это, узнаю ли я собственный голос, когда наконец заговорю. Рассказываю, что в тот момент, когда достаю хлеб из печи, когда слышу, как каждая буханка поет и хрустит, когда ее обдувает прохладный воздух, – я начинаю верить в Бога.
В Уэстербрук мы приезжаем часов в одиннадцать, но я совсем не устала.
– Кофе? – предлагаю я. – В городке есть отличное местечко, которое работает до полуночи.
– Если сейчас выпью кофе, до рассвета буду носиться по потолку, – отвечает Лео.
Я опускаю глаза на сложенные на коленях руки, чувствуя себя наивной девочкой. Кто-то другой на моем месте уловил бы намек, понял, что возникшая между нами близость вызвана делом, которое расследует Лео, а не настоящей дружбой.
– Но, может быть, – добавляет он, – у них есть травяной чай?
Уэстербрук – сонный городишко, поэтому в кафе, несмотря на то что сегодня пятница, посетителей немного. Девушка с фиолетовыми волосами, которая увлеченно читает Пруста, недовольно смотрит на нас, когда мы прерываем ее занятие, чтобы сделать заказ.
– Я бы отпустил ехидное замечание по поводу современной американской молодежи, если бы она читала не Пруста, а эротический роман «Пятьдесят оттенков серого».
– Может быть, это поколение спасет мир, – говорю я.
– Разве не каждое поколение в это верит?
Верило ли мое? Или мы настолько зациклены на себе, что не думали о том, чтобы искать ответы в жизненном опыте других? Конечно, я понимала, что такое холокост, но, даже узнав, что моя бабушка – бывшая узница концлагеря, старательно избегала задавать вопросы. То ли была слишком равнодушна, то ли боялась думать, что такая древняя история может иметь отношение к моему настоящему, моему будущему.
А Джозеф? По его словам, в юности он искренне верил, что мир без евреев станет лучше. Думает ли он, что его вера потерпела крах? Или все же считает ее шансом избежать опасности?
– Я постоянно гадаю, какой из Джозефов настоящий? – бормочу я. – Человек, который написал сотни рекомендаций для детей, поступающих в колледж, подбадривал баскетбольную команду на решающих встречах и делился булочкой со своей собакой, – или тот, которого описала бабушка.
– Возможно, здесь нет «или – или», – говорит Лео. – Он мог быть и тем и другим.
– В таком случае, где была его совесть, когда он совершал в лагере все эти зверства? Или у него ее никогда не было?
– А какое это имеет значение, Сейдж? Для него точно не существует понятий добра и зла. В противном случае он бы отказался выполнять приказ убивать людей. А если совершил убийство, совести уже не найдешь, потому что сомнительно, что она появится, – это как обрести Бога перед смертью на больничной койке. И что с того, что последние семьдесят лет он был святошей? Жизни тех, кого он убил, уже не вернешь. Он это прекрасно понимает, иначе не стал бы молить вас о прощении. Он чувствует, что на нем до сих пор несмываемое пятно. – Лео подается вперед. – Знаете, в иудаизме не прощаются две вещи. Первая – убийство, потому что нужно обратиться к пострадавшей стороне и молить о прощении, а это, как видим, невозможно сделать потому, что пострадавший уже лежит на глубине двух метров под землей. А второй непростительный грех – опорочить человека. Как умерший не может простить своего убийцу, так и доброе имя нельзя восстановить. Во время холокоста не только убивали евреев, но и порочили их. Поэтому Джозеф, сколько бы он ни раскаивался в содеянном, на самом деле потерпел неудачу дважды.
– Тогда зачем пытаться? – удивляюсь я. – Почему он семьдесят лет совершал добрые дела, стараясь расплатиться с обществом?
– Все очень просто, – отвечает Лео. – Чувство вины.
– Но если чувствуешь вину, это означает, что у тебя есть совесть, – возражаю я. – А вы сказали, что в случае с Джозефом это невозможно.
От нашей словесной перепалки глаза Лео зажглись.
– Вы слишком умны для меня. Похоже, мне давно уже пора спать.
Он продолжает говорить, но я уже не слышу его. Я не слышу ничего, потому что неожиданно распахивается дверь кафе и входит Адам под руку с женой.
Шэннон склонила голову к мужу и смеется над тем, что он только что сказал.
Однажды утром, запутавшись в простынях в моей постели, мы с Адамом соревновались, рассказывая друг другу самые глупые шутки.
«Зеленое и с колесами? Трава – о колесах я придумала».
«Красное и пахнет, как синяя краска? Красная краска».
«Утка заходит в бар, и бармен спрашивает: «Что будете заказывать?» Утка не отвечает, потому что она утка».
«Ты видел новый дом Стиви Уандера? Да, красивый».
«Значит… в клуб заходит тюлень».
«Как заставить клоуна плакать? Убить его семью».
«Как назвать оказавшегося у тебя на крыльце мужчину, у которого нет ни рук, ни ног? Все равно, как его зовут».
Мы смеялись так заливисто, что я начала плакать и не могла остановиться, и дело было не в шутках.
Может, сейчас он рассказал Шэннон одну из таких шуток? Может быть, ту, что рассказывала я?
До этого я видела Шэннон только дважды, но впервые так близко, и нас не разделяет окно. Она из тех женщин, которым не составляет труда быть красавицами. Такие женщины могут носить рубашку навыпуск и выглядеть стильными, а не неряшливыми.
Не думая о том, что делаю, я придвигаю свой стул ближе к Лео.
– Сейдж! – восклицает Адам.
Не знаю, как ему удалось произнести мое имя и не покраснеть. Интересно, а его сердце колотится так же сильно, как мое? Заметила ли что-нибудь его жена?
– Ой! – пытаюсь я разыграть изумление. – Привет!
– Шэннон, это Сейдж Зингер. Ее близкие – в числе наших клиентов. Сейдж, это моя жена.
Меня замутило оттого, как он меня представил. С другой стороны, чего мне было ожидать?
Адам бросает взгляд на Лео, ожидая, когда его представят. Я беру Лео под руку. Следует сказать, он не смотрит на меня как на сумасшедшую.
– Знакомьтесь, Лео Штейн.
Лео протягивает руку Адаму, потом его жене.
– Очень приятно.
– Только что ходили на фильм с Томом Крузом. Вы смотрели? – заводит светскую беседу Адам.
– Пока нет, – отвечает Лео.
Я едва сдерживаю улыбку, Лео, наверное, думает, что «новый» фильм с Томом Крузом – это комедия 1983 года «Опасный бизнес».
– Мы достигли компромисса, – вступает Шэннон, – пистолеты и враги – для мужа, а Том Круз – для меня. Хотя я согласилась бы смотреть, как сохнет краска, – лишь бы вырваться из дома, оставив детей на няню.
Она улыбается, ни на секунду не отводя взгляда от моего лица, словно пытается доказать нам обеим, что мой шрам нисколько ее не смущает.
– А у меня нет детей, – отвечаю я.
«Да и мужа никогда не было».
Лео обнимает меня за плечи.
– Пока нет.
Когда я с приоткрытым от удивления ртом поворачиваюсь к нему, на его губах играет улыбка.
– Я прослушал, где вы познакомились с Сейдж? – спрашивает он у Адама.
– На работе, – хором отвечаем мы.
– Не хотите к нам присоединиться? – предлагает Лео.
– Нет! – поспешно отвечаю я. – Я имею в виду, мы уже уходим.
Поняв намек, Лео улыбается и встает.
– Вы же знаете Сейдж, она не любит, когда ее заставляют ждать. Если вы понимаете, о чем я.
Он прощается, обнимает меня за талию и уводит из кафе.
Как только мы заворачиваем за угол, я набрасываюсь на него:
– Что, черт побери, это было?
– По твоей реакции я понимаю, что это был парень, которого у тебя, по твоим же словам, нет. С женой.
Лео решает отбросить официоз и переходит на «ты».
– Ты говорил так, как будто я твоя подружка… как будто мы… ты и я…
– Спим вместе? Разве ты не хотела заставить его так думать?
Я закрываю лицо руками.
– Я не знаю, что хотела, чтобы он думал.
– Он полицейский? Меня терзают смутные сомнения…
– Он владелец похоронного бюро, – отвечаю я. – Мы познакомились, когда умерла моя мама.
Брови Лео ползут на лоб.
– Ничего себе! Такого я не ожидал.
Я наблюдаю на его лице обычную смену эмоций, когда он складывает два и два: этот человек касается трупов; этот человек касался меня.
– Это его работа, – возражаю я. – Ты же не разыгрываешь в спальне сцены парада победы союзников.
– Откуда ты знаешь? Я чем-то похож на Эйзенхауэра. – Лео останавливается. – Как бы там ни было, мне жаль. Наверное, огромное потрясение – узнать, что парень, в которого ты влюблена, женат.
– Я это знала, – признаюсь я.
Лео качает головой, как будто не может выразить свои чувства словами. Я вижу, что он смущен.
– Это меня не касается, – наконец произносит он и торопится к машине.
Он прав. Его это совершенно не касается. Он не знает, что значит любовь для такой, как я. У меня есть три пути: 1) страдать в одиночестве; 2) быть женщиной, которой изменяют; 3) быть той, с которой изменяют.
– Эй, – кричу я, догоняя Лео, – у тебя нет права меня судить! Ты ничего обо мне не знаешь.
– Если честно, я знаю о тебе многое, – возражает Лео. – Я знаю, что ты смелая. Настолько смелая, что позвонила мне в контору и открыла шкатулку с кошмарами, которая могла бы всю твою жизнь оставаться закрытой. Знаю, что ты любишь бабушку. Знаю, что сердце у тебя такое большое, что ты мучаешься, размышляя, сможешь или нет простить человека, совершившего смертный грех. Сейдж, ты выдающаяся во многих смыслах, поэтому должна меня извинить, если я несколько разочаровался, когда узнал, что ты не такая белая и пушистая, как я думал.
– А ты? Разве ты не совершал ошибок? – ввязываюсь я в бессмысленный спор.
– Совершал. И немало. Но я не возвращался и не наступал на одни и те же грабли.
Не знаю почему, но разочарование Лео ранит меня больнее, чем неожиданная встреча с Адамом и Шэннон.
– Мы расстались, – объясняю я. – Все слишком запутано.
– Ты все еще его любишь? – спрашивает Лео.
Я открываю рот, но не издаю ни звука.
Мне нравится чувствовать себя любимой.
Мне не нравится знать, что я всегда буду на втором месте.
Мне нравится, что иногда, когда я грущу, я не одна.
Мне не нравится, что такое происходит нечасто.
Мне нравится, что я не должна перед ним отчитываться.
Мне не нравится, что он не отчитывается передо мной.
Мне нравится быть рядом с ним.
Мне не нравится, когда его нет рядом.
Я молчу, и Лео отворачивается.
– В таком случае все предельно ясно, – говорит он.
Ночью я сплю так, как не спала уже много месяцев. Не слышу, как звонит будильник, и просыпаюсь только от телефонного звонка. Я сажусь и хватаю мобильный, ожидая услышать голос Лео. После вчерашней ссоры он был со мной предельно вежлив, но установившиеся приятельские отношения исчезли. Когда он вез меня домой, то говорил исключительно о деле, о том, что будет, когда он получит посылку с фотографиями.
Наверное, оно и к лучшему – относиться к нему как к коллеге, а не как к другу. Я только не могу понять, как могла потерять то, чего вообще не имела.
По-моему, мне приснилось, что я перед ним извиняюсь. Хотя не уверена, что понимаю, за что именно.
– Я хотела поговорить с тобой о вчерашнем, – выпаливаю я в трубку.
– Я тоже, – на другом конце провода отвечает Адам.
– Ой, это ты!
– Не слышу радости в голосе. Я все утро с ума сходил и еле выкроил пять минут, чтобы тебе позвонить. Кто этот парень?
– Ты шутишь, да? Ты не можешь обижаться, что я пошла поужинать с кем-то другим…
– Послушай, я знаю, ты злишься. И помню, что ты настаивала, чтобы какое-то время мы были врозь. Но мне не хватает тебя, Сейдж. Я хочу быть только с тобой! – уверяет Адам. – Все не так просто, как ты думаешь.
Я мгновенно вспоминаю разговор с Лео.
– Откровенно говоря, все предельно просто, – возражаю я.
– Если ты пошла с Лу…
– С Лео.
– Не важно… чтобы привлечь мое внимание, твоя хитрость сработала. Когда мы снова увидимся?
– Как я могла пытаться привлечь внимание, если даже не знала, что у вас с женой свидание?
Поверить не могу, что у Адама такое самомнение! С другой стороны, он всегда думал только о себе.
В телефоне раздается писк – вторая линия. Я узнаю номер мобильного Лео.
– Мне пора, – говорю я Адаму.
– Но…
Я отключаюсь и понимаю, что всегда первая звонила Адаму. Неужели я стала привлекательной, потому что перестала быть доступной?
А если так, стоит ли говорить о моем к нему отношении?!
– Доброе утро!
У Лео хрипловатый голос, как будто ему нужно выпить чашечку кофе, взбодриться.
– Как спалось? – интересуюсь я.
– Как может спаться в гостинице, заселенной одиннадцатилетними девочками, которые приехали на чемпионат по футболу? У меня под глазами впечатляющие темные круги. Но есть и позитивный момент – теперь я знаю все слова новой песни Джастина Бибера.
– Могу представить, как это пригодится тебе в работе.
– Если, когда я запою этот сингл, бывшие военные преступники не сознаются, даже не знаю, какие еще пытки к ним применять.
Он говорит так… как говорил до того момента, когда мы вчера случайно наткнулись на Адама. Этому я почему-то невероятно обрадовалась – хотя не хочу задумываться почему.
– По словам портье этой роскошной гостиницы «Мариотт», который, по-моему, нарушает закон о детском труде, почту привозят в начале двенадцатого, – сообщает Лео.
– А мне пока чем заняться?
– Не знаю, – отвечает Лео. – Прими душ, накрась ногти, почитай журнал «Пипл», посмотри романтическую комедию… Я именно этим и собираюсь заняться.
– И на это уходят деньги налогоплательщиков, мои десять долларов…
– Ладно-ладно, почитаю тогда «Ю-Эс Уикли».
Я смеюсь.
– Я серьезно.
– Позвони бабушке, спроси, готова ли она к нашему визиту. А потом, если действительно хочешь сделать что-нибудь полезное, навести Джозефа Вебера.
Я чувствую, как сжимается горло.
– Одна?
– А разве раньше ты навещала его в компании?
– Нет, но…
– Сейдж, чтобы выстроить дело, понадобится время. А значит, Джозеф должен верить, что ты продолжаешь размышлять над его просьбой. Если бы я не приехал, ты бы пошла к нему?
– Возможно, – признаюсь я. – Но это было до того… – Голос мой обрывается.
– До того, как ты узнала, что он нацист? Или до того, как поняла, что на самом деле это означает? – Сейчас он говорит серьезно, без всяких шуток. – Именно поэтому ты должна продолжать притворяться. Потому что знаешь, что на кону.
– А что мне ему говорить? – спрашиваю я.
– Ничего, – советует Лео. – Пусть говорит Джозеф Вебер. Посмотрим, не упомянет ли он какую-нибудь деталь, которая совпадает с рассказом твоей бабушки. Или о которой мы могли бы у нее спросить.
И лишь повесив трубку, уже стоя под струями горячей воды в душе, я понимаю, что у меня нет машины. Она до сих пор в ремонте – ждет, пока ее починят после аварии, – а до дома Джозефа пешком далековато. Я вытерлась полотенцем, высушила волосы, надела шорты и футболку, хотя готова побиться о заклад, что Лео опять будет в костюме, когда появится у меня на пороге. Но если, по его собственным словам, внешний вид – это часть игры, я должна надеть то, что обычно надеваю, когда иду к Джозефу.
В гараже я нахожу велосипед, на который в последний раз садилась, когда училась в колледже. Шины спущены, но я «откапываю» ручной насос, чтобы немного их подкачать. Потом быстро взбиваю тесто и пеку кексы, посыпанные крошкой из песочного теста. Еще горячими заворачиваю их в фольгу, аккуратно укладываю в рюкзак, сажусь на велосипед и еду к дому Джозефа.
Когда я взбираюсь на холмы Новой Англии, сердце бешено колотится, а я размышляю над тем, что рассказала вчера бабушка. Вспоминаю историю детства Джозефа. Эти истории – два скорых поезда, мчащихся навстречу друг другу. Столкновение неизбежно. Я не в силах их остановить, да и помешать этому не могу.
К дому Джозефа я подъезжаю вся в поту и тяжело дыша. Он видит меня и обеспокоенно хмурится.
– С вами все в порядке?
Провокационный вопрос.
– Я приехала на велосипеде. Машина в ремонте.
– Что ж, – говорит он, – я рад вас видеть.
Надо было остаться дома!
Но я гляжу на морщины Джозефа, и они разглаживаются прямо на глазах – и вот передо мной решительный подбородок начальника лагеря, который воровал, лгал, убивал. Я понимаю, что, по иронии судьбы, он получил то, на что надеялся: я верю в его историю. Верю настолько, что не могу стоять – меня вот-вот стошнит.
Ева выскакивает из дома и танцует у моих ног.
– Я кое-что вам принесла, – говорю я.
Лезу в рюкзак и достаю пакет со свежеиспеченными кексами.
– Мне кажется, наша дружба плохо отражается на моей талии, – говорит Джозеф.
Он приглашает меня в дом. Я занимаю свое обычное место за шахматной доской. Джозеф возвращается с кофе для нас двоих.
– Положа руку на сердце, не думал, что вы вернетесь, – говорит он. – То, что я рассказал вам в прошлый раз… слишком сложно понять.
«Даже представить себе не можете насколько!» – думаю я.
– Многие слышат слово «Освенцим» и тут же думают, что ты чудовище.
При этих словах я вспоминаю бабушкиного упыря.
– Я решила, что именно этого вы от меня и добиваетесь.
Джозеф морщится.
– Я хотел, чтобы вы ненавидели меня настолько, что готовы были бы убить. Но я не предполагал, чего это будет мне стоить.
– Вы называли лагерь «Всемирная задница»…
Джозеф прерывисто вздыхает.
– Мой ход, да?
Он подается вперед и забирает мою пешку конем. Он двигается осторожно, медленно. Древний старик. Безобидный. Я вспоминаю, как бабушка рассказывала, что у него дрожала рука, и смотрю, как он убирает мою пешку с деревянной шахматной доски, но все движения настолько прерывистые, что сложно сказать, есть ли у него хроническая травма.
Джозеф ждет, пока я вновь сосредоточусь на доске, и продолжает:
– Несмотря на сегодняшнюю репутацию Освенцима, я считал, что мне со службой повезло. Мне не грозила смерть от русской пули. В лагере был небольшой городок, куда мы ходили обедать, даже посещали концерты. Когда мы так отдыхали, можно было подумать, что никакой войны нет.
– Мы?
– С моим братом, который работал в Четвертой группе – администрации. Он был бухгалтером, я занимал более высокую должность. – Джозеф смел крошки с салфетки на тарелку. – Он подчинялся мне.
Я коснулась слона-дракона, Джозеф издал низкий горловой звук.
– Нет? – спросила я.
Он покачал головой. Тогда я положила руку на широкую спину кентавра – единственный ход, который у меня оставался.
– Значит, вы возглавляли администрацию?
– Нет. Я служил в Третьей группе. Был лагерфюрером СС.
– Вы были главным начальником фабрики смерти, – прямо заявляю я.
– Не главным, – поправил Джозеф. – Но среди высшего командования. Кроме того, я понятия не имел, что происходит в лагерях, пока не попал туда в сорок третьем году.
– И вы думаете, я в это поверю?
– Я рассказываю только то, что знаю. Моя работа не была связана с газовыми камерами. Я надзирал за живыми узницами.
– Вам приходилось их отбирать?
– Нет. Я присутствовал при прибытии составов, но отбирать – это была обязанность врачей. Я в основном прогуливался неподалеку. Наблюдал со стороны. Просто присутствовал.
– Надзиратель… – произношу я, и от этого слова во рту становится горько. – Смотритель за непокорными.
– Вот именно!
– Я думала, вас ранило на фронте.
– Меня ранило, но не так сильно, чтобы я не мог справляться со своими обязанностями.
– Значит, вы занимались узницами?
– Этим занимались мои подчиненные, SS-Aufseherin. Дважды в день они присутствовали на перекличке.
Вместо того чтобы передвинуть ладью, я тянусь за белой королевой – изысканно вырезанной русалкой. Я достаточно хорошо разбиралась в шахматах, чтобы понимать: я бросаю вызов судьбе, в последнюю очередь стоит жертвовать столь ценной фигурой.
Я ставлю русалку на пустую клетку, прекрасно понимая, что она стоит на пути у коня Джозефа.
Он поднимает голову.
– Вы же этого не хотите.
Я встречаюсь с ним взглядом.
– Буду учиться на собственных ошибках.
Джозеф, как и ожидалось, берет мою королеву.
– Что вы делали, – спрашиваю я, – в Освенциме?
– Я уже вам рассказал.
– Нет, – отвечаю я, – вы рассказали, чего не делали.
Ева устраивается у ног хозяина.
– Вам не обязательно это слушать.
Я не свожу с него взгляда.
– Наказывал тех, кто не мог выполнять свою работу.
– Потому что умирал от голода.
– Не я создал систему, – отвечает Джозеф.
– Но и не сделали ничего, чтобы ее остановить, – возражаю я.
– Что вы хотите от меня услышать? Что я сожалею?
– А как я могу вас простить, если вы не раскаиваетесь? – Я ловлю себя на том, что кричу. – Я не могу этого сделать, Джозеф. Найдите кого-то другого.
Джозеф бьет кулаком по столу, шахматы подпрыгивают вверх.
– Я убивал их. Да. Вы это хотели услышать? Вот этими руками убивал! Довольны? Это вам нужно было знать? Я убийца и за это должен умереть.
Я глубоко вздыхаю. Лео будет злиться, но кто, как не он, поймет, что я чувствовала, слушая, что офицеры ходили в бары и на концерты, когда моя бабушка лизала пол, на который пролился суп.
– Вы не заслуживаете смерти, – сквозь зубы говорю я. – Только не тогда, когда вы этого хотите, поскольку сами такой роскоши другим людям не дарили. Надеюсь, вы будете умирать медленно и мучительно. Нет, на самом деле я надеюсь, что вы будете жить вечно, чтобы ваши поступки съедали вас изнутри еще очень, очень долго.
Я ставлю своего слона на клетку, которую больше не защищает конь Джозефа.
– Шах и мат.
Встаю и ухожу.
На улице я сажусь на велосипед, оборачиваюсь и вижу его в дверях.
– Сейдж, пожалуйста, не надо…
– Сколько раз вы слышали такие мольбы, Джозеф? – спрашиваю я. – И сколько раз к ним прислушались?
Только увидев Рокко за кофемашиной, я понимаю, как сильно соскучилась по работе в «Хлебе нашем насущном».
– Смею ли верить глазам? Кошка вернулась домой. Станет ли булочки печь?
Он выходит из-за стойки, обнимает меня и, не спрашивая, начинает готовить соевый латте с корицей.
Я еще не видела, чтобы в булочной было так многолюдно. С другой стороны, в это время дня я обычно отправлялась домой, чтобы лечь спать. Тут сидят мамочки в спортивных костюмах, молодые люди, что-то яростно печатающие на ноутбуках, группка дам в красных шляпках, которые делят один шоколадный круассан. Я заглядываю за стойку, в корзины, наполненные искусно испеченными багетами, маслянистыми бриошами, хлебом на манке. Неужели такую популярность булочной принес пекарь, занявший мое место?
Рокко, прочитав мои мысли, кивает на пластмассовую табличку «Дом хлеба с Иисусом».
– Толпы стремятся сюда. Лик место святое влечет. Или возможность пожрать, – произносит он. – Богу мольбу возношу. Если вернешься сюда, Мэри охватит экстаз.
Я смеюсь.
– Я тоже по тебе соскучилась, Рокко. И где же эта благословенная женщина?
– В храм возвратилась в слезах. Да, удобренья «Миракл» вряд ли упали с небес.
Я наливаю себе латте в пластиковый стаканчик и через кухню иду в храм. В кухне идеальная чистота. Контейнеры начищены, ферменты аккуратно выстроены в бутылочках по датам, бочонки с зерном и мукой подписаны и расставлены по алфавиту. Деревянная поверхность, на которой я формую тесто, вымыта. В углу, напоминающий спящего дракона, отдыхает миксер. Чем бы Кларк здесь ни занимался, управляется он хорошо.
Я еще острее чувствую себя неудачницей.
Какой наивной я была, когда думала, что «Хлеб наш насущный» не сможет существовать без меня и моих рецептов! Теперь я вижу, как ошибалась. Возможно, что-то и стало другим, но в общем и целом я оказалась вполне заменимой. Возможно, все получилось так, как мечталось Мэри, а я навсегда останусь на обочине.
Я поднимаюсь по ступеням для покаянных молитв и вижу, что она стоит на коленях в зарослях аконита и, натянув резиновые перчатки до локтей, вырывает сорняки.
– Я рада, что ты заглянула. Как раз думала о тебе. Как твоя голова? – Она смотрит на оставшиеся после аварии синяки, которые я прикрыла волосами.
– В порядке, – отвечаю я. – Рокко говорит, что хлеб с Иисусом продолжает привлекать посетителей.
– Наверняка пятистопным ямбом…
– Такое впечатление, что у Кларка работа спорится.
– Так и есть, – прямо отвечает Мэри. – Но, как я уже говорила, он – это не ты. – Она встает и крепко меня обнимает. – Ты уверена, что с тобой все в порядке?
– Физически – да. А в душе? Не знаю, – признаюсь я. – Оказалось, что с бабушкой случилась беда.
– Ох, Сейдж, мне очень жаль… Я могу чем-то помочь?
И хотя представить, что бывшая монахиня окажется замешанной в дело об узнице концлагеря, пережившей холокост, и бывшем нацисте, – скверная шутка, именно для этого я и пришла в булочную.
– Честно говоря, поэтому я здесь.
– Чем могу, помогу, – обещает Мэри. – Сегодня же начну молиться за твою бабушку.
– Все в порядке – я к тому, что, если хочешь, можешь молиться, – но я надеялась на часок занять кухню.
Мэри кладет руки мне на плечи.
– Сейдж, – говорит она. – Это твоя кухня.
Через десять минут духовка уже разогревалась, на талии у меня был завязан фартук, а руки – по локти в муке. Я могла бы печь и дома, но необходимые мне ингредиенты находились здесь – чтобы приготовить закваску, понадобилось бы несколько дней.
Было необычно работать с таким крошечным количеством теста. Еще удивительнее слышать – прямо за стеной – какофонию во время обеденного наплыва посетителей. Я двигалась по кухне, порхая от буфета к полкам, потом к кладовой. Крошила и смешивала горький шоколад и корицу, добавляла капельку ванили. Большим пальцем проделала в тесте углубление, края завернула наподобие витиеватой короны. Оставила подходить, а сама, вместо того чтобы прятаться в задней комнате, вышла в зал поболтать с Рокко. Встала за кассу. Поговорила с покупателями о погоде и бейсболе, о том, как красиво в Уэстербруке летом, ни разу не попыталась завесить лицо волосами. И дивилась, как все эти люди могут продолжать жить своей жизнью, как будто не сидят на пороховой бочке; как будто понятия не имеют, что за завесой обыденной жизни скрывается нечто ужасное.
– Второй раз, – рассказывал мне Алекс, когда я лежала рядом с ним после занятий любовью, – это была проститутка, которая остановилась в переулке подтянуть чулки. Было легче, или так я себя убедил, поскольку в противном случае пришлось бы признать, что все, сделанное мною раньше, – неправильно. Третий раз – мой первый мужчина, банкир, который запирал контору в конце дня. Однажды была девочка-подросток, которая просто оказалась не в том месте не в то время. И светский гуляка, чей плач я услышал на балконе. После этого мне стало наплевать, кем они были. Имело значение только одно: они подвернулись именно в тот момент, когда были мне нужны. – Александр прикрыл глаза. – Как оказалось, чем дольше повторяешь одно и то же действие, не важно, сколько раз отрепетированное, тем больше оправданий ему мысленно находишь.
Я повернулась к нему лицом.
– Откуда ты знаешь, что однажды не убьешь меня?
Он замер в нерешительности.
– Никто не знает.
Больше мы не разговаривали. Мы не знали, что кто-то на улице слушает каждое наше слово, симфонию наших тел. Поэтому, пока Дамиан выбирался из своего укрытия, где подслушивал, и спешил в пещеру арестовать обезумевшего, испуганного Казимира, я поднялась над Алексом, как феникс. Чувствовала, как он двигается внутри меня, и думала не о смерти, а о воскрешении.
Лео
Телефон звонит в тот момент, когда я раскладываю подборку присланных Женеврой фотографий на просторной гостиничной кровати.
– Лео, – говорит моя мама, – ты мне вчера приснился.
– Серьезно? – отвечаю я, искоса глядя на Райнера Хартманна.
Женевра прислала снимок из архивов СС – личное дело эсэсовца сейчас лежит на подушке, спать на которой оказалось не слишком удобно, и в результате у меня затекла шея. Я смотрю на первую страницу дела, где указаны личные данные и расположен моментальный снимок офицера в форме, пытаюсь сравнить эту фотографию с той, что я собираюсь предъявить Минке.
ХАРТМАНН РАЙНЕР
Вестфаленштрассе 1818
33142 Бюрен-Вевельсбург
Дата рождения: 18/04/20
Группа крови: IV
На фотографии плохо видны его глаза, на зернистом снимке какая-то тень. Но дело не в том, что копия плохого качества, как я вначале подумал, просто оригинал сохранился не в лучшем виде.
– Мне снился твой сын, мы играли на пляже. Он постоянно повторял: «Бабуля, нужно, чтобы ты закопала ножки, или ничего не вырастет». Поэтому я решила: хочет он поиграть – отлично. И разрешила ему зарывать мои ноги в песок до самых икр и поливать их водичкой из ведерка. И догадайся, что потом!
– Что?
– Когда я стряхнула песок, из моих ступней росли крошечные корешки.
Интересно, Минка сможет провести опознание по фотографии такого низкого качества?
– Потрясающе, – рассеянно говорю я.
– Лео, ты меня не слушаешь.
– Слушаю. Тебе приснился я, но меня в твоем сне не было.
– Там был твой сын.
– У меня нет детей…
– Думаешь, я забыла? – вздыхает мама. – Как полагаешь, что это означает?
– Что я не женат?
– Нет, мой сон. Корни, растущие из ступней.
– Не знаю, мама. Что ты из породы лиственных деревьев?
– Для тебя все шуточки! – обижается мама.
Чувствую, если не уделю ей пару минут, сестра будет бесконечно звонить и рассказывать, как мама обиделась. Я откладываю фотографию в сторону.
– Может, все дело в том, что немногие понимают то, чем я занимаюсь. В конце дня мне нужен отдых, – отвечаю я и понимаю, что говорю правду.
– Лео, ты же знаешь, как я тобой горжусь! Тем, что ты делаешь.
– Спасибо.
– Но ты знаешь, я волнуюсь за тебя.
– Я в этом не сомневаюсь.
– Именно поэтому я считаю, что тебе необходимо хотя бы немного времени уделять себе.
Мне не нравится ход нашего разговора.
– Я на работе.
– Ты в Нью-Хэмпшире.
Я бросаю сердитый взгляд на телефон.
– Богом клянусь, я возьму тебя в штат! По-моему, ты заткнешь за пояс любого дознавателя из моего отдела…
– Ты звонил сестре и просил порекомендовать гостиницу, а она сообщила мне, что ты отправился в командировку.
– Нет ничего святого.
– Может быть, ты захочешь, чтобы тебе сделали массаж, когда ты в конце дня вернешься в номер…
– Кто она? – устало интересуюсь я.
– Рэчел Цвейг. Дочь Лили Цвейг. Она вот-вот получит диплом мануального терапевта в Нашуа…
– Знаешь, здесь очень плохая связь, – говорю я, отводя телефон от уха на расстояние вытянутой руки. – Я тебя не слышу.
– Я не только всюду могу тебя найти, Лео, но еще и знаю, когда ты пытаешься меня надуть.
– Я люблю тебя, мама, – смеюсь я.
– Я тоже тебя люблю, – отвечает она.
Я собираю разложенные фотографии в папку, гадая, что мама сказала бы о Сейдж Зингер. Ей бы понравилось, что с Сейдж я всегда буду накормлен, потому что мама считает, что я слишком худой. Она бы посмотрела на ее шрам и решила, что девушке многое довелось пережить. Ей бы импонировало то, что Сейдж до сих пор скорбит о матери, и ее трогательная привязанность к бабушке тоже вызвала бы симпатию, поскольку для моей мамы семья – это основа всех основ. С другой стороны, мама всегда хотела, чтобы я женился на правоверной иудейке, а Сейдж, убежденная атеистка, явно не подходит под эту категорию. Но ее бабушка пережила холокост, что добавило бы в глазах моей мамы дополнительные очки…
Я пытаюсь отделаться от этих мыслей, не понимая, почему думаю о женитьбе на женщине, с которой только вчера познакомился; на женщине, которая для меня всего лишь ниточка, ведущая к свидетелю; на женщине, которая явно (как недвусмысленно показал вчерашний вечер) любит другого мужчину.
Адама.
Высоченного красавца под метр девяносто, у которого такие широченные плечи. «Не еврей», – сказала бы моя мама. У которого песочного цвета волосы и трогательная улыбка. Когда мы встретили его вчера и я увидел, как отреагировала Сейдж – как будто ее током шибануло! – во мне мгновенно ожили страхи прыщавого подростка, которого бросали все девушки: от красавицы из группы поддержки наших спортсменов, сказавшей, что я не ее типаж, после того как я опубликовал в школьном литературном журнале посвященный ей сонет, до той, с кем я отправился на школьный бал. Моя спутница, услав меня за стаканчиком пунша, тут же начала отплясывать с крепышом футболистом. С ним и домой ушла.
Я против Адама ничего не имею. Если Сейдж хочет попусту растрачивать свою жизнь – ее личное дело. Еще я понимаю, что в подобной ошибке виноваты двое. Но… у Адама есть жена. Выражение лица Сейдж, когда она увидела эту женщину, заставило меня обнять ее и сказать, что она достойна большего, чем этот парень.
Например, меня.
Хорошо, ладно, она мне приглянулась. Или, может быть, понравилась ее выпечка. Или ее хриплый голос – она даже не подозревает, насколько он сексуален.
Это чувство застало меня врасплох. Я всю жизнь разыскиваю людей, которые желают оставаться ненайденными, но мне повезло значительно меньше, когда я встретил человека, с которым хотел бы какое-то время не расставаться.
Я кладу дело в портфель и пытаюсь выбросить эти мысли из головы. Может быть, мама права и мне действительно необходим массаж или любая друга форма релаксации, чтобы я смог разделять работу и личную жизнь?
Однако всем моим лучшим побуждениям не суждено сбыться, когда я приезжаю к Сейдж и вижу, что она меня ждет. На ней обрезанные короткие джинсовые шорты, как у красотки Дэйзи Мей. Я не могу отвести взгляд от ее длинных, загорелых, мускулистых ног.
– Что? – спрашивает она, опуская глаза на свои икры. – Я порезалась, когда брила ноги?
– Нет. Ты само совершенство. Я хочу сказать, выглядишь великолепно. То есть… – Я качаю головой. – Ты сегодня утром разговаривала с бабушкой?
– Да. – Сейдж заводит меня в дом. – Она немного боится, но ждет нас.
Вчера вечером перед нашим отъездом Минка согласилась посмотреть фотографии.
– Я постараюсь, чтобы все прошло максимально безболезненно, – обещаю я.
Дом Сейдж – визуальное воплощение любимого свитера, который ты постоянно ищешь в ящике, потому что он необычайно удобен. Диван мягкий, свет приглушенный. И всегда что-то печется.
В таком месте присядешь на минутку, а очнешься – прошло уже несколько лет, и ты так никуда и не уходил.
Ее жилище совершенно не похоже на мою квартиру в Вашингтоне, где много черной кожи, хрома, прямых углов.
– Мне нравится твой дом, – признаюсь я.
Она удивленно смотрит на меня.
– Ты же заходил вчера.
– Знаю. Здесь просто… очень уютно.
Сейдж оглядывается.
– Моя мама была мастерицей притягивать в дом людей. – Она явно собирается продолжить, но неожиданно замолкает.
– Хочешь сказать, что ты другая, – догадываюсь я.
Она пожимает плечами.
– Я мастерица людей отталкивать.
– Не всех, – возражаю я, и мы оба понимаем, что я намекаю на вчерашний вечер.
Сейдж колеблется, как будто не решается что-то сказать, потом разворачивается и уходит в кухню.
– На каком цвете ты остановился?
– Цвете?
– Каким будешь ногти красить.
Она протягивает мне чашку чая. Я делаю глоток и понимаю, что она добавила молока, но не положила сахара – именно такой чай я заказывал вчера в кафе. Из-за этого – она запомнила такую мелочь! – мне захотелось сбежать.
– Собирался пойти с вишневым, но это так по-фэбээровски, – отвечаю я. – Слишком вульгарно для нас, чиновников Министерства юстиции.
– Мудрое решение.
– А ты? – интересуюсь я. – Почерпнула что-нибудь умное из журнала «Пипл»?
– Я поступила так, как ты мне велел, – отвечает она, и внезапно ее настроение портится. – Поехала к Джозефу.
– И?
– Я не могу… Не могу с ним разговаривать и делать вид, что не знаю того, что знаю сейчас. – Сейдж качает головой. – Наверное, он на меня обиделся.
И тут звонит мой мобильный. Высвечивается номер начальства.
– Я должен ответить, – извиняюсь я и выхожу в гостиную.
Начальник спрашивает о материально-технической стороне докладной записки, которую я подготовил по другому делу. Я ввожу его в курс внесенных изменений, объясняю, почему они были сделаны, заканчиваю разговор и возвращаюсь в кухню. Сейдж уже пьет кофе и внимательно читает первую страницу дела Райнера Хартманна.
– Что ты делаешь? – восклицаю я. – Это секретная информация!
Она поднимает голову – олененок, попавший в свет автомобильных фар.
– Хотела посмотреть, смогу ли я его узнать.
Я хватаю папку. Я не имею права показывать ей дело Райнера, она гражданское лицо, но все же открываю первую страницу, где указаны имя, адрес, дата рождения, группа крови и есть фотография.
– Смотри, – предлагаю я взглянуть на снимок: волосы на пробор, блеклые глаза, которые и разглядеть нельзя.
– Он совершенно не похож на нынешнего Джозефа, – бормочет Сейдж. – Не знаю, смогла бы я узнать его во время опознания.
– Что ж, – отвечаю я, – будем надеяться, что твоя бабушка другого мнения.
Однажды мой историк, Шимран, принес снимок Анжелины Джоли. Фото было сделано айфоном на одной из вечеринок. Повсюду висели воздушные шарики, на столе именинный пирог, а на переднем плане надувала губы Анжелина.
– Ничего себе! – присвистнул я. – Где ты это снял?
– Она моя двоюродная сестра.
– Анжелина Джоли твоя сестра? – удивился я.
– Нет, – ответил Шимран. – Но моя сестра похожа на нее как две капли воды, разве не так?
Опознание часто с треском проваливается, это самое слабое звено в доказательной базе обвинения. Именно поэтому анализ ДНК постоянно отменяет обвинительные приговоры насильникам, которых опознали жертвы. Варианты черт лица весьма ограничены, а человек склонен допускать ошибки в своих оценках. Для тех, кто работает на Министерство юстиции, это большая проблема, особенно когда пытаешься провести опознание непосредственным свидетелем преступления.
Трость Минки висит на краю стола, где стоят стеклянная чашка с чаем и пустая тарелка. Я сижу рядом. Дейзи, сиделка, стоит, скрестив руки на груди, в дверях кухни.
– Вуаля! – восклицает Сейдж и кладет на блюдо идеально выпеченную булочку.
Сверху на ней узелок. Поверхность украшают кристаллики сахара. Я должен подождать, пока Минка ее разломит, чтобы узнать, что внутри корица и шоколад, – именно такую булочку когда-то пек для нее отец.
– Я подумала, что ты скучаешь по булочкам, – говорит Сейдж.
Минка охает. Вертит крошечную булочку в руках.
– Ты испекла? Но как…
– Догадалась, – признается Сейдж.
Когда она успела ее испечь? Наверное, утром, после встречи с Джозефом. Я не свожу глаз с лица Сейдж, когда ее бабушка разламывает булочку и кусает.
– Точно, как пек папа, – вздыхает Минка. – Как я их запомнила…
– На вашу память я и рассчитываю. – Я чувствую, что настал подходящий момент. – Знаю, вам нелегко, я очень ценю ваше согласие. Вы готовы?
Я жду, когда Минка посмотрит мне в глаза. Она кивает.
Я раскладываю перед ней фотографии восьми нацистов – военных преступников. Женевра превзошла себя и в скорости, и в щепетильности. Фотография Райнера Хартманна – та, на которую чуть раньше смотрела в досье Сейдж, – лежит слева в нижнем ряду. Еще четыре фотографии в верхнем ряду и три рядом. На всех снимках мужчины приблизительно одинаковой внешности, в одинаковых нацистских формах. Таким образом я прошу Минку сравнивать яблоки с яблоками. Если бы фото Райнера было единственным снимком человека в форме, опознание можно было бы считать предвзятым.
Сидящая рядом с бабушкой Сейдж тоже смотрит на разложенные снимки. У всех немцев одинаково зачесанные на пробор гладкие светлые волосы, как у Райнера Хартманна. Все смотрят в одну точку. Они похожи на молодых актеров фильмов сороковых годов – гладко выбритые, с решительными подбородками, просто красавчики. Вот только фильмы ужасов были документальными.
– Необязательно среди них есть снимок человека, которого вы встречали в лагере, Минка, но мне хотелось бы, чтобы вы внимательно взглянули на лица. Возможно, какое-то покажется вам знакомым…
– Мы не знали их по именам.
– Это не важно.
Она проводит пальцем над всеми восемью снимками, как будто нацеливает в лоб каждого пистолет. Это игра моего воображения или она задерживается над портретом Райнера Хартманна?
– Слишком тяжело, – признается Минка, качая головой. Отодвигает разложенные снимки. – Больше ничего не хочу вспоминать.
– Понимаю, но…
– Вы не понимаете! – перебивает она. – Вы не просто просите меня указать на снимок. Вы просите проделать дыру в плотине, потому что вам хочется пить, даже если в процессе этого я сама утону.
– Пожалуйста, – молю я, но Минка закрывает лицо руками.
Му́ка на лице Сейдж еще сильнее, чем у Минки. Это и есть любовь, верно? Когда тебе больнее видеть страдания другого, чем страдать самому.
– Мы закончили! – заявляет Сейдж. – Прости, Лео, но я не могу подвергать бабушку этому испытанию.
– Пусть она сама примет решение, – предлагаю я.
Минка уже отвернулась, погрузившись в воспоминания. Дейзи, которая, словно ангел мщения, мечет в меня громы и молнии, подбегает и обнимает свою хрупкую подопечную.
– Хотите отдохнуть, миссис Минка? Похоже, вам необходимо прилечь.
Она помогает бабушке Сейдж встать, протягивает ей трость, ведет по коридору.
Сейдж, которая глядит им вслед, кажется, будто ее рвут на части.
– Я не должна была тебя сюда приводить, – шепчет она.
– Сейдж, я видел подобное и раньше. Увидеть своего обидчика – это шок. У других узников была такая же реакция, но они смогли собраться и провести законное опознание. Знаю, она более полувека прятала в себе эти чувства. Я понимаю. Вижу, что больно отдирать пластырь от раны.
– Это не пластырь, – возражает Сейдж. – Ты режешь по живому без анестезии. Мне, если честно, плевать, через что прошли остальные узники концлагерей. Меня волнует только бабушка.
Она вскакивает и бежит по коридору, я остаюсь один с подборкой фотографий.
Я смотрю на снимки, на лицо Райнера Хартманна. Ничто не указывает на то, что внутри скрывается чудовище.
Недоеденная булочка лежит на тарелке, разломленная пополам, как разбитое сердце. Я вздыхаю и лезу в портфель, собираясь спрятать фотографии. Но в последнее мгновение передумываю. Беру тарелку с недоеденной булочкой и отправляюсь в спальню Минки. Делаю глубокий вдох, стучу. Минка сидит в мягком кресле, ноги уложены на оттоманку.
– Сейдж, перестань суетиться, – сердито говорит она, когда Дейзи открывает мне дверь. – Со мной все в порядке!
Мне она нравится – есть еще порох в пороховницах! Мне нравится, что в какой-то момент она твердая, как кремень, а в другой – мягкая, как замша. Именно это и помогло ей пережить самую страшную эру в истории. Уверен, именно поэтому она и живет.
И это передалось ее внучке, даже если сама Сейдж об этом не подозревает.
Обе вскидывают головы, когда я вхожу с булочкой и фотографиями.
– Ты, наверное, шутишь… – бормочет Сейдж.
– Минка, – говорю я, протягивая тарелку. – Я решил, что вы захотите ее съесть. Сейдж не поленилась и испекла ее, потому что верила: она вас немного успокоит. Именно этого я сегодня и добиваюсь. Нечестно требовать от вас воскрешать пережитое. Но и нечестно по отношению к вам продолжать жить в стране, где вам приходится ходить по одной земле, дышать одним воздухом с бывшими мучителями. Помогите мне, Минка, пожалуйста.
Сейдж встает.
– Лео, – сухо говорит она, – выйди отсюда немедленно!
– Подожди, подожди.
Минка делает знак, чтобы я подошел, и протягивает руку к фотографиям.
Тарелка с булочкой стоит у нее на коленях. В руках она держит подборку снимков. Проводит по каждому пальцами, как будто имена мужчин написаны шрифтом Брайля. Медленно подносит палец к фотографии Райнера Хартманна. Дважды стучит по его лицу.
– Это он.
– Кто?
Она поднимает голову.
– Я же вам говорила. Мы не знали эсэсовцев по именам.
– Но лицо вы узнали?
– Я бы узнала его где угодно, – отвечает Минка. – Я бы никогда не забыла человека, который убил мою лучшую подругу.
Мы обедаем у Минки сэндвичами с тунцом. Я рассказываю, как дед учил меня играть в бридж и как плохо у меня получалось.
– Мы проиграли вчистую, – говорю я. – Поэтому, когда мы ушли, я спросил у дедушки, как должен был сдавать ему карты. Он ответил: «Так, как будто это делает кто-то другой».
Минка смеется.
– Однажды вы приедете, Лео, и мы сыграем в бридж. Я научу вас всем тонкостям игры.
– Договорились, – обещаю я. Вытираю рот салфеткой. – И спасибо за… за все. Но нам с Сейдж, по всей видимости, уже пора.
Она обнимает бабушку на прощание. Минка чуть крепче, чем обычно, прижимает внучку к себе – так, я видел, поступают все, пережившие ужасы войны. Как будто они боятся потерять то хорошее, что есть в их жизни.
Я пожимаю ее прохладные и хрупкие, как опавшие листья, руки.
– То, что вы сделали сегодня… Я даже не могу выразить вам свою признательность. Но…
– Но это еще не конец, – договаривает за меня Минка. – Вы хотите, чтобы я явилась в суд и снова прошла эту процедуру.
– Если вы готовы, то да, – признаюсь я. – В прошлом свидетельские показания выживших узников были невероятно важны. А ваши показания – это не просто опознание. Вы собственными глазами видели, как он совершил убийство.
– Мне придется с ним встречаться?
Я замолкаю в нерешительности.
– Если не хотите, мы можем записать ваши показания на видео.
Минка смотрит на меня.
– Кто будет присутствовать?
– Я. Историк из моего отдела. Оператор. Адвокат со стороны защиты. И, если пожелаете, Сейдж.
Она кивает.
– Это я смогу сделать. Но если мне придется с ним встречаться… не думаю… – Ее голос обрывается.
Я киваю, уважая ее решение. Поддавшись порыву, на прощание целую Минку в щеку.
– Вы настоящее чудо!
В машине Сейдж набрасывается на меня.
– Ну? Что дальше? Ты получил то, что хотел, так ведь?
– Даже больше, чем необходимо. Твоя бабушка – золотая жила. Одно дело – опознать преступника и указать на лагерфюрера. Она сделала больше: рассказала нам подробности из досье этого эсэсовца, о которых никто, за исключением моего отдела, не знал.
Сейдж качает головой.
– Не понимаю.
– Это может показаться нелепым, но в концлагерях запрещалось убивать заключенных, не совершивших ничего недозволенного. На немцев, нарушавших правила, накладывались письменные административные взыскания. Одно дело – застрелить узника, у которого не было сил подняться, но убить узника без всякой на то причины означало убить рабочего, а нацистам нужны были рабочие руки. Само собой разумеется, начальству было совершенно плевать на узников, оно только шлепало провинившегося офицера по рукам, но время от времени в личных делах эсэсовцев встречаются упоминания об этой дисциплинарной процедуре. – Я смотрю на Сейдж. – В деле Райнера Хартманна целый абзац посвящен тому, что он предстал перед комиссией за несанкционированное убийство заключенной.
– Дары? – спросила Сейдж.
Я киваю.
– Вкупе с показаниями твоей бабушки это неопровержимая улика, что человек, которого она опознала, и человек, который утверждает, что он Райнер Хартманн, – одно и то же лицо.
– Почему ты не рассказал мне о том, что это было в личном деле?
– Потому что у тебя нет специального допуска, – отвечаю я. – И потому, что не хотел рисковать, не хотел, чтобы ты каким-то образом повлияла на показания бабушки.
Сейдж откидывается на спинку сиденья.
– Значит, он говорил правду. Джозеф… Райнер… Как его ни называй.
– Похоже на то.
Я вижу, как на лице у Сейдж отражается буря эмоций, когда она пытается примерить образ Джозефа Вебера на Райнера Хартманна. Почему-то, когда получаешь подтверждение своим догадкам, все воспринимается иначе. И Сейдж тоже борется, не хочет предавать человека, которого считала своим другом.
– Ты правильно поступила, – уверяю я, – что обратилась ко мне. То, чего он у тебя просит, – не справедливость. Справедливость – вот она где!
Она даже не смотрит на меня.
– Ты его сразу арестуешь?
– Нет. Я еду домой.
Сейдж тут же вскидывает голову.
– Прямо сейчас?
Я киваю.
– Нужно еще многое сделать, прежде чем двигаться дальше.
Я не хочу уезжать. Если честно, я бы хотел пригласить Сейдж на ужин. Хотел бы посмотреть, как она печет что-то на скорую руку. Я просто хочу смотреть на нее. Точка.
– Значит, ты едешь в аэропорт? – уточняет Сейдж.
Неужели она расстроилась, когда услышала о моем отъезде?
Что-то я не врубаюсь в ситуацию… У нее есть парень. Так уж получилось, что он женат, но главное, что Сейдж сейчас не ищет новых отношений.
– Да, – отвечаю я. – Сейчас позвоню секретарше. Вероятно, есть какой-нибудь рейс в округ Колумбия в районе обеда.
«Попроси меня остаться», – мысленно умоляю я.
Мы встречаемся взглядами.
– Раз тебе пора, наверное, нужно завести машину.
Я вспыхиваю от смущения. Затянувшаяся пауза возникла не из-за невысказанных слов, просто двигатель не завели.
Неожиданно у Сейдж звонит телефон. Она хмурится, ерзает на сиденье, чтобы достать трубку из кармана шорт.
– Да, это Сейдж Зингер. – Ее глаза округляются. – Как он? Что случилось? Я… Да, поняла. Спасибо. – Она заканчивает разговор и смотрит на телефон в руке, как на гранату. – Звонили из больницы. К ним привезли Джозефа.
Мы прятались под навесом сарая, где у Баруха Бейлера хранились дрова, и оттуда нам было все прекрасно видно: закованного в цепи Казимира на сбитом на скорую руку эшафоте и дикую ярость в глазах Дамиана, когда он кричал на юношу, да так, что брызгал слюной ему в лицо. Опьяненный властью, Дамиан обращался к жителям деревушки, собравшимся под ярко-голубым небом. Их капитан караула обнаружил не одного, а двух преступников. Значит, теперь они в безопасности? Могут продолжать жить своей обыденной жизнью?
Неужели только я одна понимала, что это невозможно?
Нет. Алекс это тоже понимал. Именно поэтому он попытался искупить грехи брата.
– Друзья мои! – произнес Дамиан, простирая руки. – Мы сломили чудовище! – Гул толпы поглотил его слова. – Мы сейчас похороним упыря так, как его надлежало предать земле в первый раз: лицом вниз на перекрестке дорог, с дубовым колом в сердце.
Находившийся рядом со мной Алекс занервничал. Я успокоила его мягким прикосновением к руке.
– Успокойся, – прошептала я. – Неужели ты не видишь, что тебя заманивают в западню?
– Мой брат сам не справится. Это не оправдывает того, что он сделал, но я не могу не попытаться…
Дамиан поманил стоявшего за спиной солдата.
– Сперва мы убедимся, что он навсегда останется мертвым. И есть единственный способ это сделать.
Солдат со страшной изогнутой косой шагнул вперед. Лезвие блестело, как драгоценный камень. Он занес косу над головой, и Казимир прищурился от яркого света, пытаясь разглядеть, что же над ним происходит.
– Три, – начал обратный отсчет Дамиан, – два. – Он повернулся, посмотрел прямо на кусты, в которых мы прятались, и я поняла, что он знает о нашем присутствии. – Один.
Лезвие просвистело по воздуху – крик железа! – и голова Казимира одним ударом была отсечена от тела.
Эшафот затопило кровью. Она хлынула через деревянный край и ручейками потекла на землю, под ноги собравшимся.
– Не-е-ет! – закричал Алекс.
Рванулся от меня, побежал к возвышению, и солдаты тут же набросились на него. Он больше не был человеком. Он кусался, рвал когтями, с невиданной силой отшвырнул от себя семерых. Толпа бросилась врассыпную. Когда Дамиан остался один, без своего «почетного» эскорта, Алекс шагнул вперед и зарычал.
Дамиан поднял меч. А потом отбросил его и побежал.
Алекс догнал Дамиана на полдороги к деревенской площади. Он схватил капитана и перевернул на спину, чтобы последним, что тот увидит, было чистое синее небо. И одним движением вырвал у него сердце.
Сейдж
В больницах пахнет смертью. Слишком чисто, слишком прохладно. Как только я вхожу – трех лет как не бывало, и я опять вижу, как у меня на глазах умирает мама.
Мы с Лео стоим в коридоре у больничной палаты. Врачи сообщили нам, что Джозефа привезли, промыли желудок. По всей видимости, какие-то лекарства оказали на его организм побочное действие, и курьер социальной службы, занимающийся доставкой горячих обедов инвалидам и престарелым на дом, обнаружил его на полу без сознания. Я тут же думаю: «А где сейчас Ева? Кто о ней позаботится?»
Лео в палату не пустили, но для меня сделали исключение. Джозеф указал, что я его ближайшая родственница, – довольно необычно родство с человеком, которого ты просишь тебя убить.
– Не люблю больницы, – говорю я.
– А кто их любит?
– Я не знаю, что делать, – шепчу я.
– Ты должна его разговорить, – отвечает Лео.
– Я должна убедить его выздоравливать, чтобы вы смогли выслать его из страны? Чтобы он умер в тюремной камере?
Лео задумывается над моими словами.
– Да, после того, как суд вынесет приговор.
Его прямота в очередной раз обескураживает меня. Я киваю, собираюсь с духом и вхожу в палату Джозефа.
Несмотря на то, что говорила бабушка, несмотря на фотографии, которые предъявлял Лео, Джозеф всего лишь старик, только оболочка того изверга, каким он когда-то был. Глядя на тощие руки и ноги, торчащие из-под бледно-голубого больничного халата, на взъерошенные седые волосы, трудно представить, что этот человек когда-то держал в страхе других.
Джозеф спит, закинув левую руку за голову. Отчетливо виден шрам, который он показывал мне раньше, на внутренней стороне предплечья: блестящее темное пятно размером с монету с неровными краями. Я оглядываюсь через плечо на стоящего в коридоре Лео. Он поднимает руку, давая мне знать, что все видит.
Мобильным телефоном я фотографирую шрам Джозефа, чтобы позже показать Лео.
В палату входит медсестра, и я поспешно прячу телефон в карман шортов.
– Вы та девушка, о которой он говорил? – спрашивает она. – Корица, верно?
– Сейдж, – весело поправляю я, гадая, видела ли она, как я фотографировала. – Тоже пряность, но из другой банки.
Медсестра подозрительно смотрит на меня.
– Знаете, вашему другу, мистеру Веберу, очень повезло, что его так быстро обнаружили.
«Это я должна была его найти!»
Эта мысль пронзает меня, словно удар кинжалом. Как верный друг я должна была быть рядом, когда была ему нужна. Но вместо этого я затеяла с ним ссору и поспешно выбежала из дома.
Проблема в том, что Джозеф Вебер – мой друг. А Райнер Хартманн – враг. И что мне прикажете делать теперь, если это оказался один и тот же человек?
– Что с ним произошло? – спрашиваю я.
– Съел заменитель соли, когда принимал альдактон – слабительное мягкого действия. От этого уровень калия в организме скакнул до заоблачных высот. А могло закончиться сердечным приступом.
Я сажусь на край кровати, беру Джозефа за руку. Вокруг запястья у него больничный браслет: «Джозеф Вебер, дата рождения: 20 апреля 1918 г. Группа крови: III (+)».
Если бы они только знали, что он не тот, за кого себя выдает.
Пальцы Джозефа слегка подергиваются, и я роняю его руку, словно обжегшись.
– Ты пришла, – хрипит он.
– Конечно, пришла.
– А Ева?
– Я заберу ее к себе. С ней все будет в порядке.
– Мистер Вебер, – вмешивается сестра, – как себя чувствуете? Болит где-нибудь?
Он качает головой.
– Не могли бы вы оставить нас на минутку? – прошу я.
Медсестра кивает.
– Через пять минут приду, померяю температуру и давление, – говорит она.
Мы оба ждем ее ухода.
– Вы нарочно это сделали, да? – шепчу я.
– Я не дурак. Провизор предупредил меня о побочных эффектах. Я решил сделать вид, что забыл об этом.
– Почему?
– Если вы не поможете мне умереть, я должен сделать это сам. Но я так и знал – все бесполезно! – Он жестом указывает на больничную палату. – Я же рассказывал вам раньше… Это мое наказание. Что бы я ни делал, всегда выживаю.
– Я никогда не говорила, что не стану вам помогать, – отвечаю я.
– Вы злитесь на меня за то, что я сказал правду.
– Да, – признаюсь я. – Злюсь. Все это тяжело было услышать.
– Вы выбежали из моего дома…
– Джозеф, вы жили с этим семьдесят лет. Вы должны дать мне больше, чем пять минут, чтобы переварить полученную информацию. – Я понижаю голос. – То, что вы делали… то, что, по вашим словам, вы совершили… вызывает у меня тошноту. Но если я сейчас… ну, вы понимаете… сделаю то, о чем вы просите… я совершу это в запале злости, ослепленная ненавистью. И ничем не буду отличаться от вас.
– Знал, что вы обидитесь, – признался Джозеф, – но я к вам не первой обратился.
Меня удивляет это признание. Значит, в нашем городе есть еще человек, который знает, что совершил Джозеф… И этот человек не выдал его полиции?
– К вашей маме, – продолжает Джозеф. – Ее я первую попросил.
У меня перехватывает дыхание.
– Вы знали мою маму?
– Познакомился несколько лет назад, когда преподавал в старших классах. Учитель религиоведения пригласил ее рассказать об иудаизме. На перемене я встретил ее в учительской. Мельком. Она сказала, что ее трудно назвать настоящей иудейкой. Но лучше такая, чем никакой.
Очень похоже на мою маму. Я даже припоминаю, как она собиралась выступать в школе у сестры. Держу пари, мои сестры сейчас многое бы отдали, чтобы почувствовать подобную близость с мамой. От таких мыслей в горле пересохло.
– Мы разговорились. Она, разумеется, обратила внимание на мой акцент, сказала, что ее свекровь была узницей концлагеря в Польше.
Я отмечаю, что он употребляет прошедшее время, когда говорит о бабушке. Я не поправляю. Не хочу, чтобы он вообще о ней что-нибудь знал.
– И что вы ей сказали?
– Что меня на время войны отослали учиться за границу. Я чувствовал, что наша встреча – не случайность. Она не только была еврейкой, но и, пусть через мужа, оказалась связанной с узниками лагерей. Еще никогда я так близко не подбирался к прощению.
Я представляю, какой будет реакция Лео: «Один еврей не может заменить другого…»
– Вы хотели попросить, чтобы она вас убила?
– Помогла мне умереть, – поправляет Джозеф. – Но потом я узнал, что она умерла. А после встретил вас. Сначала я не знал, что вы ее дочь, но, когда это обнаружилось, сразу догадался: мы встретились неспроста! Я понимал, что должен попросить вас сделать то, о чем так и не успел попросить вашу мать. – В его голубых глазах стоят слезы. – Я не могу умереть. Никогда не умру. Наверно, моя уверенность смешна. Но это правда.
Я ловлю себя на том, что думаю о бабушкиной истории, об упыре, который молил о том, чтобы его пощадили и освободили, и тогда ему не придется скитаться вечно.
– Вы совсем не похожи на вампира, Джозеф….
– Это не значит, что меня не проклинали. Посмотрите на меня. Я уже давно должен был умереть. Несколько раз. Я был заперт почти семьдесят лет, и все эти семьдесят лет искал ключи. Может быть, у вас они есть.
Лео сказал бы, что Джозеф преследует меня и мою семью.
Лео сказал бы, что даже сейчас Джозеф рассматривает евреев как единственный способ уйти из жизни. Не как живых людей, а как пешки.
Но если ты ищешь прощения, разве это автоматически не означает, что ты не можешь быть чудовищем?
Интересно, что мама думала о Джозефе Вебере?
Я тянусь к его руке. К руке, которая держала пистолет, которым он убил лучшую подругу бабушки и одному Богу известно, скольких еще.
– Я сделаю это, – обещаю я, хотя не уверена, лгу ли ради Лео или говорю чистую правду от себя.
Мы с Лео едем к Джозефу домой, но входить внутрь он отказывается.
– Без ордера на арест? Ни за что на свете!
По-моему, он преувеличивает. Я приехала всего лишь забрать собаку, а не искать порочащие документы. Запасные ключи Джозеф хранит под фигуркой каменной лягушки, которая украшает его порог. Когда я открываю дверь, Ева с неистовым лаем мчится мне навстречу.
– Все хорошо, – уверяю я маленькую таксу. – С ним все будет в порядке.
По крайней мере, сегодня.
Кто заберет собаку, если его выдадут Германии?
В кухне полный беспорядок. Тарелка перевернута и разбита, еды нет (похоже, полакомилась Ева); стул перевернут. На столе заменитель соли, который, должно быть, и ел Джозеф.
Я ставлю на место стул, убираю осколки тарелки, подметаю пол. Потом выбрасываю заменитель соли в мусор, мою стоящую в раковине посуду, вытираю стол. Роюсь в кладовке Джозефа в поисках еды для Евы. Там хранятся овсянка быстрого приготовления, «Райс-а-Рони» – смесь быстрого приготовления из вермишели, риса и приправ, горчица, макароны-спиральки. По меньшей мере три упаковки чипсов. Все кажется таким… обычным, хотя откуда мне знать, чем питается бывший нацист.
В поисках переноски или подстилки для собаки я оказываюсь на пороге спальни Джозефа. Постель аккуратно застелена белым одеялом, простыня в крошечных фиалках. В комнате два комода, на одном из них шкатулка с драгоценностями и женская щетка для волос. На одной прикроватной тумбочке будильник, телефон и игрушка для собаки. На другой – роман Элисы Хоффман[56], между страниц лежит закладка. Рядом с книгой баночка крема для рук с запахом розы.
Есть в этом что-то душераздирающее – неспособность Джозефа избавиться от вещей, которые напоминают ему о жене. Но этот человек, который любил свою жену, любит свою собаку, питается полуфабрикатами, не моргнув глазом, убивал других людей.
Я беру собачью игрушку – при этом Ева крутится у меня под ногами – и направляюсь к машине, где меня ждет Лео. Мы едем ко мне домой. Собаку я держу на коленях – она спокойно грызет обтрепанные штанины моих шорт.
– Он сказал, что был знаком с мамой, – говорю я Лео.
Лео бросает на меня взгляд.
– И что?
Я делюсь тем, что мне рассказал Джозеф.
– Как бы он поступил, если бы знал, что бабушка до сих пор жива?
Лео отвечает не сразу.
– А почему ты думаешь, что он этого не знает?
– На что ты намекаешь?
– Возможно, он играет с тобой. Он обманывал тебя раньше. Черт побери, он всему миру врал больше полувека! Может быть, он узнал, кто такая Минка, и прощупывает тебя, чтобы выяснить, помнит ли она о его прегрешениях. Возможно, после стольких лет он желает заставить молчать всех, кто может опознать в нем нациста.
– Не слишком правдоподобно, как думаешь?
– Как и план окончательного решения еврейского вопроса. Но смотри, куда он завел, – возражает Лео.
– Возможно, я бы тебе поверила, если бы Джозеф не просил меня его убить.
– Потому что он знает: ты на это не способна. Поэтому и водит тебя за нос, – продолжает Лео. – Тебе он может запудрить мозги, а твоей бабушке – нет. Она была там. Она никогда не встречала этого нового, исправившегося Джозефа Вебера. Она знает животное, чудовище. И если бы ему удалось через тебя добраться до нее, он мог бы ее убить. Или мог бы заставить тебя убедить бабушку, что он изменился, стал другим человеком, который заслуживает прощения. Как ни крути, а он в выигрыше.
Я пристально смотрю на Лео, его мнение обо мне больно ранит.
– Ты действительно веришь, что я могла бы так поступить?
Он сворачивает к моему дому, но там уже стоит машина. Из нее выбирается Адам с букетом лилий в руке.
– Людям нужно прощение по разным причинам, – прямо говорит Лео. – Мне кажется, ты, как никто, должна это понимать. И, по-моему, Джозеф Вебер тебя раскусил.
Он кладет обе руки на руль и смотрит прямо перед собой. Ева начинает лаять на незнакомца на улице, который неловко поднял руку и машет мне.
– Я позвоню, – обещает Лео.
Впервые за два дня он не смотрит мне в глаза.
– Будь осторожна, – добавляет он.
Своеобразное «прощай», которое, я точно знаю, не имеет к Джозефу никакого отношения.
Лилии были бы приятным подарком, если бы я не знала, что у Адама огромная скидка у местного цветочника, – он сам рассказал об этом, когда мы обсуждали детали маминых похорон. Сейчас я готова поклясться, что этот букет остался после утренней церемонии.
– Я не настроена на задушевные беседы, – говорю я, проходя мимо него, но он хватает меня за руку, притягивает к себе и целует.
Интересно, как далеко отъехал Лео? Видит ли он нас сейчас?
И какая мне разница?
– Вот она, – шепчет Адам мне в губы. – Я знал, что девушка, которая сводит меня с ума, где-то здесь.
– Если честно, она на другом конце города жарит курицу к ужину. Понимаю, трудно не сбиться с пути.
– Я это заслужил, – говорит Адам, идя за мной в дом. – Но именно поэтому я и приехал, Сейдж. Ты должна меня выслушать.
Он ведет меня в гостиную. И я понимаю, что там мы проводили очень мало времени. Когда он приходит, мы чаще всего сразу удаляемся в спальню.
Он садится на диван и берет меня за руку.
– Я люблю тебя, Сейдж Зингер. Люблю, как ты спишь, высунув ногу из-под одеяла, люблю, как глотаешь, не жуя, попкорн, когда мы смотрим кино. Люблю твою улыбку и мысик волос на лбу. Избитые фразы, понимаю, но когда я увидел тебя вчера с тем парнем, то понял, как много могу потерять. Не хочу, чтобы кто-то другой увел тебя, пока я буду метаться и принимать решение. Все предельно просто – я люблю тебя. И хочу всегда быть рядом с тобой.
Адам опускается на одно колено, продолжая держать меня за руку.
– Сейдж, ты выйдешь за меня?
Я ошеломленно смотрю на Адама. А потом заливаюсь смехом. Уверена, не такой реакции он ожидал.
– Ты ничего не забыл?
– Я знаю, кольцо, но…
– Нет, не кольцо. Не забыл, что у тебя уже есть жена?
– Нет, конечно, не забыл, – отвечает Адам, вновь опускаясь на диван. – Поэтому я и приехал. Я подаю на развод.
Ошарашенная, я откидываюсь на диванные подушки.
Существует множество способов разбить семью. Достаточно крошечной вспышки эгоизма, жадности, невезения. Тем не менее крепко сплоченная семья может стать самой твердой опорой.
Я потеряла отца и мать, оттолкнула от себя сестер. У бабушки тоже отняли родителей. Мы десятилетиями зализываем раны. И тут является Адам… и беспечно бросает своих родных, чтобы начать жизнь с чистого листа. Мне стыдно за себя, за то, что я подтолкнула его к такому решению. Надеюсь, ему еще не поздно понять то, что я сама только начинаю осознавать: пока у тебя есть семья, ты не одинок.
– Адам, – мягко говорю я. – Иди домой.
На этот раз все по-настоящему.
Я уже говорила Адаму, что все кончено, но теперь я настроена решительно. И он это понимает, потому что я не могу дышать, не могу сдержать рыданий. Как будто я горюю о своем любимом – наверное, так оно и есть.
Адам не хотел уходить.
– Ты же не серьезно! – не сдавался он. – Ты не знаешь, что говоришь.
Но впервые за три года я знала, что говорю. Я смотрела на себя со стороны, смотрела глазами Мэри, Лео – и мне было стыдно.
– Я так сильно люблю тебя, что готов жениться, – повторял он. – Чего же ты еще хочешь?
На этот вопрос существует столько ответов!
Мне хотелось идти по улице с красавцем мужчиной под руку, и чтобы другие женщины не гадали, что же он забыл рядом с такой, как я.
Хотелось быть счастливой, но не за счет несчастья других.
Хотелось чувствовать себя не просто везучей, но и счастливой.
Адам ушел только тогда, когда я со слезами на глазах заявила, что от его присутствия мне только тяжелее. Если он по-настоящему меня любит, пусть уходит.
– Ты же этого не хочешь, – настаивал он.
Это же сказал Джозеф, когда мы играли в шахматы. Но иногда, чтобы выиграть, нужно чем-то пожертвовать.
Когда веки мои так отекли, что все стало расплываться перед глазами, а нос распух от слез, я сворачиваюсь калачиком на диване и прижимаю Еву к груди. В кармане жужжит мобильный, на экране высвечивается номер Адама, но я сбрасываю звонок. Начинает звонить домашний, потом на автоответчике я слышу голос Адама и выдергиваю телефон из розетки. Сейчас мне нужно побыть одной.
Я глотаю половинку снотворного, которое осталось после маминых похорон, и забываюсь беспокойным сном на диване. Мне снится, что я в концлагере, на мне полосатое бабушкино платье, ко мне в офицерском мундире подходит Джозеф. Хотя он старик, хватка у него как тиски. Он не улыбается, говорит исключительно по-немецки, и я не понимаю, о чем он меня спрашивает. Он вытаскивает меня во двор, я спотыкаюсь, падаю, набиваю синяки на коленях. Рядом с гробом стоит Адам. Он укладывает меня в гроб. «Пора», – говорит он. Когда он собирается закрыть крышку, я понимаю, что он задумал, и начинаю сопротивляться. Мне удается оцарапать Адама до крови, но он сильнее меня. Он захлопывает крышку – мне не хватает воздуха. «Пожалуйста, – кричу я и барабаню по атласной обивке. – Вы слышите меня?» Но никто не отвечает. Я продолжаю биться, стучать. «Ты там? – слышу я и думаю, что это, наверное, Лео, но боюсь кричать, потому что кислорода осталось слишком мало. Я едва дышу, легкие наполняются запахом бабушкиного талька…
Я просыпаюсь, в окна струится солнечный свет. Меня трясет Адам. Я спала несколько часов.
– Сейдж, как ты себя чувствуешь?
Я все еще сонная, во рту пересохло.
– Адам, – невнятно бормочу я. – Я же просила тебя уйти.
– Я волновался за тебя, потому что ты не брала телефон.
Я лезу в подушки, нахожу свой смартфон, включаю его. Десятки сообщений. Одно от Лео, три от бабушки. Куча от Адама. И что самое удивительное – штук по шесть от каждой из сестер.
– Мне позвонила Пеппер, – говорит он. – Боже, Сейдж, я же знаю, как вы были близки… Я хочу, чтобы ты помнила: я здесь ради тебя.
Я начинаю качать головой, потому что, какой бы смазанной ни была картинка, все начинает становиться на свои места. Я делаю глубокий вдох, но чувствую только запах талька.
Дейзи и сестры рассказывают мне, что бабуля устала и легла отдохнуть часа в два. Когда она не встала к ужину, Дейзи встревожилась, что бабушка ночью не заснет, поэтому пошла в спальню и включила свет. Попыталась разбудить бабушку, но не смогла.
– Это случилось во сне, – со слезами на глазах рассказывает Дейзи. – Я знаю, что она не мучилась.
Я же не могу говорить так уверенно.
А если из-за нас с Лео она испытала стресс, который не смогла пережить? Если нахлынувшие воспоминания уничтожили ее?
А если за секунду до смерти она думала о нем?
Я не могу избавиться от чувства вины. И из-за этого сама не своя.
Но я не могу довериться Пеппер и Саффрон, потому что чувствую, что они винят меня в смерти мамы, хотя и уверяют, что я ни при чем. Не хочу, чтобы меня винили и в бабушкиной смерти. Поэтому я большей частью держусь в стороне, скорблю в одиночестве, а они меня не трогают. Наверное, им кажется, что после бабулиной смерти я веду себя как зомби. Я не возражаю, когда они приходят ко мне и переставляют мебель, чтобы провести шиву – первую неделю глубокого траура. Я не против, что они роются в моем холодильнике, выбрасывают просроченные йогурты и ворчат из-за того, что у меня нет кофе без кофеина. Я не могу есть, даже когда Мэри приходит выразить соболезнование и приносит корзину свежеиспеченной сдобы. Говорит, что, узнав о кончине бабушки, перед каждой службой ставит в храме за нее свечу. Я ничего не рассказываю сестрам о Лео, о Райнере Хартманне. Не пытаюсь дозвониться до Джозефа в больницу. Просто говорю, что в последнее время мы с бабулей много времени проводили вместе, поэтому я хочу попрощаться с ней наедине, до того как начнут церемонию похорон.
Бабушка прожила выдающуюся жизнь. Она стала свидетелем распада нации, но, даже очутившись в зоне поражения, верила в силу человеческого духа. Она отдавала, когда не имела ничего; боролась, когда с трудом могла стоять; цеплялась за завтрашний день, когда не могла найти на скале след вчерашнего дня. Она, как хамелеон, меняла окраску: от девочки из обеспеченной семьи – до испуганного подростка, мечтательной писательницы, гордой узницы, жены военнослужащего, наседки с цыплятами. Она превращалась в кого угодно, чтобы выжить, но никогда не позволяла себе до конца открыться.
Как ни крути, ее жизнь была наполненной, яркой, важной – даже несмотря на то, что она решила не говорить о своем прошлом, сохранить его в тайне. Это было ее личное дело; таким оно и оставалось.
Я об этом позабочусь. После всего, что я сделала: привлекла Лео, позволила допросить ее – это меньшее, чем я могу искупить свою вину.
Я на негнущихся ногах иду от арендованной машины Пеппер в фойе похоронного бюро – в голове пусто от голода, жары и печали. Нас уже ждет Адам. На нем черный костюм. Первой он приветствует Пеппер.
– Соболезную вашей утрате, – ровно произносит он.
Неужели эти слова еще что-то значат для него? Если повторять одно и то же снова и снова, разве слова не становятся бледными, не теряют цвет?
– Спасибо, – отвечает Пеппер, пожимая протянутую руку.
Потом он поворачивается ко мне.
– Я так понимаю, вы хотите побыть с усопшей наедине?
«Адам, это же я!» – думаю я, но потом вспоминаю, что сама же его оттолкнула.
Он ведет меня вглубь похоронного бюро, а Пеппер садится и набирает сообщение – наверное, продавцу цветов или поставщику провизии, либо мужу и детям, которые с минуты на минуту должны приземлиться в аэропорту. Как только дверь в комнату закрывается за нами, Адам заключает меня в объятия. Сперва я замираю, а потом просто сдаюсь. Легче сдаться, чем бороться.
– Ты ужасно выглядишь, – выдыхает он мне в волосы. – Ты вообще за эти два дня спала?
– Поверить не могу, что она умерла, – признаюсь я со слезами. – Теперь я совсем одна.
– Я мог бы быть рядом…
«Серьезно? Прямо сейчас?» Я закусываю губу и отступаю от него на шаг.
– Я думаю, ты этого хочешь.
Я киваю.
Адам ведет меня в переднюю, где ждет бабушкин гроб, – его уже можно переносить в зал для проведения церемонии. В маленькой комнатке пахнет, как в холодильнике: холодом и слегка антисептиком. У меня кружится голова. Приходится схватиться за стену, чтобы не упасть.
– Можно я минутку побуду с ней наедине?
Адам кивает и осторожно открывает крышку гроба, чтобы я могла взглянуть на бабушку. Потом выходит и закрывает за собой дверь.
На бабушке красная шерстяная юбка с черным кантом, блуза с бантом, который смотрится у нее на шее, как распустившийся цветок. Ресницы отбрасывают тень на розоватые щеки. Седые волосы причесаны и тщательно уложены – сколько я себя помню, она дважды в неделю ходила в парикмахерскую. Адам и его сотрудники превзошли самое себя. Глядя на нее, я ловлю себя на мысли о Спящей красавице, о Белоснежке, о женщинах, которые очнулись от кошмаров и начали жить заново.
Если подобное случится с бабушкой, то уже не в первый раз.
Когда умерла мама, я не хотела к ней прикасаться. Я знала, что сестры наклонятся, поцелуют ее в щеку, обнимут в последний раз. Но меня физический контакт с мертвым телом приводил в ужас. Это совершенно не походило на то, что было раньше, когда я искала у нее утешения. Потому что она не могла обнять меня в ответ. А если она не могла обнять меня, незачем было притворяться, что это возможно.
Однако сейчас у меня нет выбора.
Я поднимаю бабушкину левую руку. Она холодная и удивительно твердая, как у кукол, которыми я играла в детстве. Реклама уверяла, что они на ощупь как живые, но живыми они никогда не казались. Я расстегнула рукав, обнажила предплечье.
На похоронах гроб будет закрыт. Никто не увидит татуировку, сделанную в Освенциме. А даже если кто и заглянет, как я, например, шелковая блузка скроет все следы. Но бабушка так старалась, чтобы ее не считали бывшей узницей концлагеря, что я чувствую: мой долг обеспечить, чтобы так оно и осталось, – и будь что будет.
Из сумочки я достаю маленький тюбик тонального крема и аккуратно наношу его на кожу. Жду, пока подсохнет, и проверяю, чтобы не было видно цифр. Затем снова застегиваю рукав, кладу свои руки ей на руки и целую ладонь, чтобы она унесла с собой мой поцелуй, как мраморный шарик.
– Бабуля, – говорю я, – когда я вырасту, буду такой же смелой, как ты.
Я закрываю гроб, вытираю глаза, пытаясь не размазать тушь, делаю пару глубоких вдохов и нетвердой походкой выхожу в коридор, который ведет в фойе похоронного бюро.
Адам не ждет меня у дверей. Но это не важно, я знаю дорогу. Ноги подкашиваются – я не привыкла носить высокие каблуки, а сейчас вышагиваю по коридору в черных лодочках.
В фойе я вижу Адама и Пеппер, которые негромко с кем-то разговаривают, – третьего собеседника не видно из-за их спин. Наверное, с Саффрон, которая приехала раньше остальных. Заслышав мои шаги, Адам оборачивается, и я вижу, что шептались они отнюдь не с Саффрон.
Комната вертится, как карусель.
– Лео! – шепчу я, уверенная, что он мне привиделся.
Лео успевает подхватить меня до того, как я падаю на пол.
Очень долго я просто плакала.
Каждый день в полдень Алекса приводили на городскую площадь и наказывали за то, что совершил его брат. Обычный человек уже давно бы умер. А для Алекса это был новый круг ада.
Я перестала печь хлеб. Без хлеба в деревушке стало горько. Нечего было класть на стол за семейным обедом, нечего переваривать за разговорами. Не было булочек, которые можно передать любимой. Сколько бы люди ни съели, они чувствовали внутри пустоту.
Однажды я вышла из дома и отправилась пешком в ближайший большой город. Отсюда пришли Алекс с братом, здесь дома были такими высокими, что крыш не разглядишь. Имелось тут специальное здание, полное книг; их было столько, сколько зерен в мешке. Я сказала сидящей за письменным столом женщине, что мне нужно, и она повела меня вниз по крутым железным ступеням, туда, где на стенах нашли приют книги в кожаных обложках.
Из них я узнала, что убить упыря можно разными способами.
Можно закопать глубоко в землю его тело, набитое черноземом.
Можно вбить в голову гвоздь.
Можно измельчить околоплодную оболочку, похожую на ту, в которой был рожден Казимир, и скормить ее упырю.
Или можно вскрыть его сердце, и тогда кровь жертв хлынет наружу.
Кое-что из написанного было бабушкиными сказками, но последнее – правдой: потому что, если у Алекса вырвут сердце, уверена, я истеку кровью.
Лео
Она похожа на енота.
На измученного, неподвижного, прекрасного енота.
Под глазами черные круги – от недосыпания и размазанной туши, наверное, – а щеки горят. Директор похоронного бюро – который случайно оказался тем самым женатым парнем, которого я встретил пару дней назад, как будто в этом городке нет других похоронных бюро, – протягивает мне компресс, чтобы я положил его ей на лоб. От компресса становятся мокрыми волосы и ворот ее черного платья.
– Привет, – говорю я, когда Сейдж открывает глаза. – Похоже, ты привыкла пугать людей.
Скажу одно: я изо всех сил стараюсь, чтобы меня не вырвало прямо здесь, посреди кабинета директора. От одного этого места у меня мороз по коже, что удивительно для человека, который изо дня в день просматривает фотографии узников концлагерей.
– Ты в порядке? – спрашивает Сейдж.
– Это я должен задать тебе этот вопрос.
Она садится.
– Адам где?
Ну вот, пожалуйста! Между нами тут же возникает невидимая стена. Я разворачиваюсь, чтобы увеличить расстояние между мной и диваном, на котором она лежит.
– Сейчас я его позову, – официальным тоном произношу я.
– Я не говорила, что хочу, чтобы ты его позвал. – Голос у Сейдж тоненький, как веточка. – Откуда ты узнал…
Она не договорила, но и так понятно.
– Я позвонил тебе, когда вернулся в Вашингтон. Но ты не подошла. Я заволновался. Знаю, ты считаешь, что девяностопятилетний старик не представляет собой угрозы, но я видел таких, которые стреляли в агентов ФБР. В конце концов трубку сняли. Твоя сестра. Она рассказала мне о Минке. – Я смотрю на Сейдж. – Мне очень жаль. Твоя бабушка была необыкновенной женщиной.
– Что ты здесь делаешь, Лео?
– По-моему, все очевидно…
– Я понимаю, что ты приехал на похороны, – перебивает она. – Но зачем?
В моей голове проносятся различные причины: потому что быть здесь – это правильно, ведь в нашей конторе всегда посещают похороны узников, которые выступали свидетелями; потому что Минка была частью этого расследования. Но на самом деле истинная причина в том, Сейдж, что я просто хотел быть здесь.
– Конечно, я не так хорошо, как ты, знал твою бабушку. Но могу сказать по тому, как она на тебя смотрела, когда ты этого не видела, что для нее семья всегда была на первом месте. Для многих евреев семья – самое главное. Как будто коллективное бессознательное, потому что один раз ее, семью, уже отобрали. – Я смотрю на Сейдж. – Я подумал, что сегодня мог бы быть твоей семьей.
Сперва Сейдж не шевелится. Потом я вижу, как по ее щекам струятся слезы, и тянусь через эту невидимую стену, пока не дотрагиваюсь до ее руки.
– Ничего страшного! Это слезы радости, потому что на благодарственный молебен собралась вся семья, или слезы разочарования, оттого что стало ясно: твой давно потерянный родственник – дятел?
С ее губ срывается смех.
– Не знаю, как ты это делаешь…
– Что?
– Делаешь так, что я опять могу дышать, – признается Сейдж. – Спасибо тебе.
Стена между нами, которую я придумал, тут же исчезает. Я сажусь на диван, Сейдж кладет голову мне на плечо – так просто, как будто всю жизнь это делала.
– А если мы во всем виноваты?
– Ты имеешь в виду, что довели ее разговорами о прошлом?
Она кивает.
– Не могу отделаться от ощущения, что если бы я не затеяла все это, ты бы никогда не показал ей эти фотографии…
– Ты не знаешь наверняка. Прекрати самобичевание.
– Испытываешь такое разочарование… – тихо говорит она. – Пережить холокост и умереть во сне. В чем смысл?
Я на мгновение задумываюсь.
– Смысл в том, что она умерла во сне. После того, как пообедала со своей внучкой и чрезвычайно элегантным и милым мужчиной. – Я продолжаю держать Сейдж Зингер за руку. Ее пальцы переплетаются с моими. – Скорее всего, она умерла счастливой. Может быть, она ушла, Сейдж, потому что наконец почувствовала, что все будет хорошо.
С какой стороны ни посмотри, церемония прошла отлично. Но я слишком занят тем, что оглядываюсь вокруг: не появился ли Райнер Хартманн, потому что в глубине души продолжаю верить в такую возможность. Когда я понимаю, что он, скорее всего, не придет, то сосредоточиваю все внимание на Адаме, который назойливо маячит в глубине зала, как и положено директору похоронного бюро, изо всех сил пытаясь не таращиться на меня каждый раз, когда Сейдж хватает меня за руку или утыкается лицом в рукав моего пиджака.
Не буду обманывать: это чертовски приятно!
Когда в старших классах меня бросила девушка, которой хотелось в пятницу пойти на свидание с более популярным и крепко сложенным парнем, мама сказала: «Лео, не волнуйся. Миром будут править чудаки – компьютерные гении». Я начинаю верить, что она, возможно, говорила правду.
Еще мама сказала бы, что влюбиться в женщину, которая скорбит на похоронах своей бабушки, – все равно, что купить билет в один конец.
Я не знаю никого из присутствующих, за исключением Дейзи, которая тихо плачет в льняной носовой платочек. В конце церемонии Адам сообщает, где и когда будет проходить шива. Еще он по просьбе Пеппер сообщает названия двух благотворительных организаций, куда можно отправлять пожертвования в память Минки.
На кладбище я стою за спиной у Сейдж. Сама она сидит между двумя сестрами. Они похожи, но чуть более зрелые – распустившиеся стрелиции по бокам первоцвета. Когда подходит черед Сейдж бросать горсть земли в могилу, руки ее дрожат. Она бросает три горсти. Остальные собравшиеся – пожилые люди и друзья родителей Сейдж, насколько я понимаю, – тоже бросают по горсти земли. Бросаю и я, потом догоняю Сейдж. Не говоря ни слова, она берет меня под руку.
Дом Сейдж, где сестры решили устроить шиву для друзей и родных, совершенно не похож на тот, в котором я был несколько дней назад. Мебель передвинули, чтобы могло вместиться побольше людей. Зеркала завешаны. На всех горизонтальных поверхностях стоит еда. Сейдж смотрит на входящих людей и, вздрагивая, вздыхает.
– Все захотят со мной поговорить. Я этого не вынесу.
– Вынесешь. Я буду рядом, – обещаю я.
Ее тут же окружают люди, чтобы выразить свои соболезнования.
– Мы с твоей бабушкой играли в бридж, – говорит нервная, похожая на птичку женщина.
Какая-то туша, а не человек, с золотыми карманными часами и усами подковкой, напоминающий мне рисунок на картах в игре «Монополия», крепко обнимает Сейдж, покачивая ее хрупкую фигурку взад-вперед.
– Бедняжка, – говорит он.
Мое внимание привлекает лысеющий мужчина со спящим ребенком на руках.
– Не знал, что Сейдж с кем-то встречается. – Он неловко протягивает руку под пухлым коленом сына. – Добро пожаловать в цирк. Я Энди. Супруг Пеппер.
– Лео, – пожимаю протянутую руку. – Но мы с Сейдж…
Я понятия не имею, что она сказала родным. Она сама должна решить, будет рассказывать о Джозефе Вебере или нет. Я не собираюсь, если Сейдж промолчала, ничего никому сообщать.
– Мы просто вместе работаем, – заканчиваю я.
Он с сомнением смотрит на мой костюм.
– Вы не похожи на пекаря.
– Я не пекарь. Мы познакомились… через Минку.
– Минка – это что-то! – говорит Энди. – В прошлом году на Хануку мы с Пеппер устроили ей поход в салон красоты на маникюр. Ей так там понравилось, что на день рождения она попросила отвести ее на педофил.
Он смеется.
Но Сейдж услышала.
– Тебе кажется смешным, что английский был для нее неродным, Энди? А сколько ты знаешь польских, немецких или еврейских слов?
Он выглядит испуганным.
– Я не думаю, что это смешно. Мне это кажется трогательным.
Я обнимаю Сейдж за плечи.
– Идем посмотрим, не нужна ли твоим сестрам помощь.
Когда мы отходим от мужа Пеппер, Сейдж хмурится.
– Такой урод!
– Возможно, – отвечаю я, – но разве плохо, что он хочет вспоминать твою бабушку с улыбкой?
В кухне Пеппер накладывает кубики сахара в стеклянную сахарницу.
– Я могу понять, когда не покупают сливки из-за жирности, но неужели у тебя нет ни капли молока, Сейдж? – спрашивает она. – Боже мой, у всех есть молоко!
– Я не переношу лактозу, – бормочет Сейдж.
Я замечаю, что когда она разговаривает с сестрами, то опускает плечи, становится своей уменьшенной, более бледной копией. Как будто еще сильнее старается казаться незаметной.
– Выноси! – велит Саффрон. – Кофе уже остыл.
– Здравствуйте, – вклиниваюсь я. – Меня зовут Лео. Я могу вам чем-то помочь?
Саффрон смотрит на меня, потом на Сейдж.
– Кто это?
– Лео, – повторяю я. – Коллега.
– Вы печете хлеб? – с сомнением спрашивает она.
Я поворачиваюсь к Пеппер.
– А что вас так удивляет? Пекари обычно носят клоунские костюмы? Или я одеваюсь как бухгалтер?
– Вы одеты как адвокат, – отвечает она. – Кто бы мог подумать!
– Отлично, – произносит Саффрон, проплывая мимо нас с блюдом, – потому что это просто преступление, что во всем штате нет ни одного пристойного гастрономического магазина. Как мне накормить шестьдесят человек копченой грудинкой из супермаркета?
– Ты забыла, что раньше тоже жила здесь? – кричит ей вслед Сейдж.
Когда ее сестры поспешно выходят из кухни, мы остаемся одни, и я слышу плач. Но плачет не Сейдж. Она тоже его слышит. Она идет на звук, открывает дверь в кладовую и обнаруживает там запертую Еву.
– Для тебя это настоящий кошмар, – бормочет она, когда берет собачку на руки, но смотрит на людей, собравшихся помянуть бабушку. Людей, которые хотят сделать ее центром внимания, когда будут делиться своими воспоминаниями.
Она держит таксу на руках, а я вывожу ее через черный ход в кухне, вниз по лестнице, через заднюю лужайку туда, где оставил арендованную машину.
– Лео! – восклицает она. – Что ты делаешь?
– Когда ты последний раз ела? – спрашиваю я, будто не слыша ее вопроса.
Это всего лишь ресторан гостиницы «Мариотт», но я заказываю бутылку дешевого красного вина и бутылку еще более ужасного белого, французский луковый суп и салат «Цезарь» с курицей; куриные крылышки, сырные палочки, пиццу с сыром, пасту феттучини с сыром и маслом, три шарика шоколадного мороженого и огромный кусок лимонного торта безе. Еды достаточно для меня, Сейдж, Евы и всех соседей на четвертом этаже, если бы я захотел их пригласить.
Любые сомнения по поводу того, что я увез скорбящую девушку из дома прямо с бабушкиных поминок, незаконно пронес собаку в гостиницу, где жить с собаками запрещено, рассеиваются, когда на щеки Сейдж возвращается румянец и она разбирается со всем стоящим перед ней изобилием.
Номер рассчитан на командированного, с небольшой гостиной с диваном и телевизором. Мы включили канал «Киноклассика», приглушили звук. На экране спорят Джимми Стюарт и Кэтрин Хепберн.
– Почему в старых фильмах люди разговаривают так, как будто у них челюсти свело? – спрашивает Сейдж.
Я смеюсь.
– Мало кто знает, что Кэри Грант страдал от патологии височно-нижнечелюстного сустава.
– Ни один актер из фильмов сороковых годов не говорит так, как простые необразованные американцы, – задумчиво произносит Сейдж.
Когда Джимми Стюарт наклоняется к Кэтрин Хепбёрн, Сейдж озвучивает его реплику:
– «Пообещай, что отправишься со мной, Мейбел. Я знаю, ты не моего круга… но я всегда могу начать заниматься боулингом по вторникам».
Я улыбаюсь, читая титры за Кэтрин Хепбёрн:
– «Прости, Ральф. Я никогда бы не смогла полюбить мужчину, который думает, что «напоить жену» означает загрузить посудомоечную машину».
– «Но, милая, – продолжает Сейдж, – как же мне поступить с этими билетами на чемпионат по автогонкам?»
Кэтрин Хепбёрн встряхивает волосами.
– «А мне, черт побери, какая разница!» – восклицаю я.
Сейдж улыбается.
– Голливуд многое потерял.
Она выключила телефон, потому что сестры станут названивать, как только обнаружат ее отсутствие. На краю дивана посапывает собака. На экране неожиданно вспыхивают яркие цвета рекламы. После черно-белого фильма буйство красок ошеломляет.
– Похоже, конец, – говорит Сейдж.
Я смотрю на часы.
– Фильм будет идти еще полчаса.
– Я говорю о Райнере Хартманне.
Я тянусь за пультом, полностью выключаю звук.
– У нас больше нет возможности получить у вашей бабушки письменные показания, не говоря уже о видеоопознании.
– Я могу рассказать суду все, что она говорила…
– Это показания с чужих слов, – объясняю я.
– Это нечестно! – Сейдж поджимает под себя ноги. На ней все еще черное платье, в котором она была на похоронах, но туфли она сняла. – Бабушка умерла, а он до сих пор живет. Такая досада! Как будто она продолжала жить для того, чтобы рассказать свою историю, понимаешь?
– Так и есть, – подтверждаю я. – Она рассказала ее тебе, чтобы сберечь. И ушла. Наверное, настал твой черед.
Сразу понятно, что с такой точки зрения Сейдж бабушкину смерть не рассматривала. Она хмурится, потом встает с дивана. Ее сумка, насколько я вижу, – огромная черная дыра; могу себе представить, что там внутри. Но она роется в ней и достает кожаный блокнот. Он похож на блокноты, которые мог носить в своей сумке поэт Джон Китс, если бы была такая мода.
– История, которая, по ее словам, спасла ей жизнь… После войны она ее переписала. На прошлой неделе она впервые мне ее показала. – Сейдж опять опускается на диван. – Мне кажется, она бы хотела, чтобы ты ее послушал, – говорит она. – Я бы этого очень хотела.
Когда вам последний раз читали вслух? Если вспомнить, наверное, еще в детстве – тут же приходят воспоминания, как было надежно и спокойно лежать под одеялом или на чьих-то руках, а вокруг, словно паутина, распутывалась история.
Сейдж начала историю о пекаре и его дочери; об опьяненном властью солдате, который был в нее влюблен; о череде убийств, которые прокатились по деревушке.
Я смотрю, как она читает. Ее голос меняется в зависимости от того, за какой персонаж она говорит. Рассказ Минки напоминает мне сказки братьев Гримм, Исаака Динесена, Ганса Христиана Андерсена. Напоминает о тех временах, когда в сказках еще не жили диснеевские принцессы и танцующие животные, а сами сказки были мрачными, опасными и кровавыми. В те далекие времена любовь приносила страдания, а счастливый конец давался дорогой ценой.
Эта поучительная сказка увлекает меня, но я отвлекаюсь, зачарованный пульсом, который бьется у Сейдж на шее чуть быстрее, когда впервые встречаются Аня и Алекс – такие разные люди.
Никто, – читает Сейдж, – глядя на кусочек гальки у подножия скалы и щепку у обочины дороги, не найдет в них ничего необычного. Но если соединить их при определенных обстоятельствах, можно разжечь костер, который поглотит мир.
Мы сами становимся нечистью, которая не спит по ночам. Уже брезжит рассвет, когда Сейдж дочитывает до того места, где Алекс попадает в расставленную солдатами ловушку. Его бросают в тюрьму, чтобы замучить до смерти. Если только он не убедит Аню убить его. Из сострадания.
Неожиданно Сейдж закрывает блокнот.
– Нельзя останавливаться, не дочитав, – возражаю я.
– Приходится. Больше бабушка не написала ни слова.
Ее волосы спутались, круги под глазами стали такими темными, что похожи на синяки.
– Минка знала, что было дальше, – задумчиво произношу я. – Даже если она решила никому из нас этого не рассказывать.
– Я собиралась спросить, почему она так и не дописала ее… но тогда не спросила. А теперь уже не спрошу. – Сейдж смотрит на меня, все ее чувства – во взгляде. – Как ты думаешь, чем закончится?
Я убираю прядь волос ей за ухо.
– Вот этим, – отвечаю я и целую неровный шрам.
Она сидит, затаив дыхание, но не отстраняется. Я целую ее в уголок глаза, где кожа натянута вниз из-за пересадки. Целую ее гладкие бледные веснушки, похожие на упавшие звезды.
А потом целую ее в губы.
Сперва я держу ее в объятиях, как хрустальную вазу. Мне приходится контролировать каждую клеточку своего тела, чтобы не сжать ее слишком крепко. Я еще никогда ни с одной женщиной такого не чувствовал: мне хотелось ее проглотить. «Думай о бейсболе», – говорю я себе. Но я не разбираюсь в бейсболе, поэтому начинаю мысленно перечислять судей Верховного Суда – только чтобы не отпугнуть ее слишком рьяным наскоком.
Но Сейдж, слава Богу, обвивает руками мою шею и крепко прижимается ко мне. Ерошит мои волосы, ее дыхание сливается с моим… Ее губы вкуса лимона и корицы, от нее пахнет кокосовым лосьоном и ленивыми закатами. Она живой оголенный провод, где бы она меня ни коснулась – обжигает.
Когда она трется своими бедрами о мои, я сдаюсь. Она обхватывает меня ногами за талию, платье задралось… Я несу ее в спальню и укладываю на крахмальные простыни. Она тянет меня на себя – словно затмение на солнце! – и в голове мелькает последняя мысль: «Лучшего финала этой истории и придумать нельзя».
* * *
Серые тени окутывают номер в своеобразный кокон, мы оказываемся во временной петле. Иногда я просыпаюсь, обнимая Сейдж, иногда просыпается она, прижимаясь ко мне. Временами я слышу только биение ее сердца; а бывает, что ее голос окутывает меня, как запутавшиеся простыни.
– Это я виновата, – говорит она в какой-то момент. – После окончания университета мы с мамой собрались домой. Машина была забита доверху, в зеркало заднего вида не было видно ничего, поэтому я сказала, что сама сяду за руль. День стоял чудесный. Отчего становится еще хуже. Ни дождя, ни снега – не спишешь все на погоду… Мы ехали по автомагистрали. Я пыталась обогнать грузовик, но не заметила машины на другой полосе… Поэтому свернула в сторону. И все. – По ее телу пробегает дрожь. – Она не умерла. Не сразу. Ей сделали операцию, занесли инфекцию, и организм начал потихоньку отказывать. Пеппер с Саффрон говорят, что это был несчастный случай. Но я знаю, в глубине души они винят во всем меня. Как и мама.
Я прижимаю ее крепче.
– Уверен, ты ошибаешься.
– Когда она лежала в больнице, – продолжает Сейдж, – когда умирала, сказала мне: «Я прощаю тебя». Зачем прощать человека, если знаешь, что он ничего плохого не совершил?
– Иногда происходят ужасные вещи, – говорю я. Провожу большим пальцем по ее щеке, исследуя топографию шрамов.
Она ловит мою руку, подносит к губам и целует.
– Как и хорошие.
Я придумываю тысячу причин.
Всему виной красное вино.
И белое.
Накопившийся за эти дни стресс.
Стресс на работе.
Ее черное платье, облегавшее фигурку.
То, что мы были: 1) одиноки; 2) сексуально озабочены; 3) пытались заглушить скорбь.
Фрейд многое мог бы сказать о моих опрометчивых шагах. Как и мое начальство. То, что я сделал – воспользовался слабостью женщины, которая явилась инструментом для открытия очередного дела, которая всего несколько часов назад была на похоронах, – вопиющая низость.
И хуже всего, что сделал это не один раз.
Такса Ева недобро смотрит на меня. Еще бы ей смотреть приветливо! Она стала свидетелем этой постыдной, страстной, удивительной связи.
Сейдж все еще спит в спальне. Поскольку больше я себе не доверяю, то сижу на диване в трусах и футболке, дотошно изучаю дело Райнера Хартманна, каждой клеточкой чувствуя вину перед евреями. Я не в силах исправить то, что случилось вчера ночью, но я, черт побери, могу найти способ, чтобы не провалить дело.
– Привет.
Когда я оборачиваюсь, она стоит в моей белой рубашке. Она ей почти до колен. Почти.
Я встаю. Меня разрывают противоречивые чувства: схватить ее и унести назад в кровать или поступить правильно.
– Прости, – выпаливаю я, – это была ошибка.
У нее округляются глаза.
– Мне так не показалось.
– Ты вряд ли в состоянии правильно оценить ситуацию. Мне следовало быть осмотрительнее, ты не виновата.
– Мардж говорит, что для человека естественно испытывать жажду жизни, когда он на волосок от смерти. Было очень мило.
– Мардж?
– Она ведет занятия по групповой терапии.
– А-а, – вздыхаю я. – Чудесно.
– Послушай. Я хочу, чтобы ты знал: несмотря на то что увидел за несколько дней нашего знакомства, я обычно… не такая. Я не… ну, ты понимаешь меня.
– Понимаю. Потому что ты любишь женатого владельца похоронного бюро, – говорю я и взъерошиваю рукой волосы. – Вчера вечером я совсем о нем забыл.
– Все кончено, – отвечает она. – Навсегда.
Я вскидываю голову.
– Уверена?
– На все сто процентов, как говорят. – Она делает шаг ко мне. – От этого признания ошибка меньше не стала?
– Нет, – отвечаю я и начинаю расхаживать по номеру. – Потому что ты все равно фигурируешь в одном моем деле.
– Я думала, все кончено, некому опознавать Райнера Хартманна в Джозефе Вебере.
«Неправда!»
Это предупреждение красным сигналом проносится по полю моего мысленного сражения.
Без показаний Минки убийство Дары невозможно связать с Райнером Хартманном. Но узница концлагеря – не единственный свидетель этого правонарушения.
Там был и сам Райнер.
Если заставить его признаться в инциденте, который отражен в эсэсовских документах, – успех гарантирован.
– Есть еще один способ, – говорю я. – Но без тебя, Сейдж, не справиться.
Она садится на диван, рассеянно гладит собаку.
– Ты на что намекаешь?
– Мы могли бы надеть на тебя микрофон и записать ваш разговор. Заставь его признаться, что на него наложили взыскание за несанкционированное убийство заключенной еврейки.
Она опускает глаза.
– Почему ты раньше не попросил? Тогда не пришлось бы привлекать бабушку.
Я не стану объяснять ей, что это последняя попытка, за неимением лучшего. Я бы никогда не предложил ее в первую очередь. И не только потому, что свидетельские показания выжившего узника гораздо весомее, но и потому, что мы не привлекаем гражданское население в качестве временных агентов.
Особенно тех, к кому испытываем определенные чувства.
– Я сделаю все, что от меня требуется, Лео, – обещает Сейдж. Встает и начинает расстегивать рубашку. Мою рубашку.
– Что ты делаешь?
– Честно ответить? У тебя диплом Гарварда, и ты не понимаешь?
– Нет. – Я отступаю назад. – Абсолютно не понимаю. Ты – важный свидетель.
Она обвивает руками мою шею.
– Я покажу тебе свои источники, если ты покажешь мне свои.
Эта девушка сведет меня в могилу! Со сверхчеловеческим усилием я отталкиваю ее.
– Сейдж, я не могу.
Она, побежденная, отступает.
– Вчера ночью, пусть и ненадолго, я была счастлива. По-настоящему счастлива. Уже и не вспомню, когда испытывала подобное.
– Прости меня. Я люблю тебя, но здесь кроется огромный конфликт интересов.
Она вскидывает голову.
– Любишь меня?
– Что? – Мои щеки тут же начинают гореть. – Ничего подобного я не говорил.
– Нет, сказал. Я слышала.
– Я сказал: «любил бы».
– Нет, – отвечает Сейдж, и ее губы расплываются в улыбке. – Ты сказал по-другому.
Неужели? Я так устал, что не знаю, какие глупости слетают у меня с языка. Наверное, потому и не могу скрывать своих истинных чувств к Сейдж Зингер. И эти чувства меня пугают.
Она кладет руки мне на грудь.
– А если я скажу, что надену микрофон, только если ты вернешься со мной в постель?
– Это шантаж.
Сейдж сияет. Пожимает плечами.
Легко сказать, что будешь поступать только правильно и никогда не совершишь ошибки, но если оказываешься в подобных ситуациях, то понимаешь, что не существует черного и белого. Есть только оттенки серого.
Я замираю в нерешительности. Но всего на секунду. Потом обхватываю Сейдж за талию и беру на руки.
– Чего не сделаешь ради отчизны, – говорю я.
В тюрьму пробраться было непросто.
Сначала я испекла круассаны: горьковатый вкус миндаля замаскировал вкус крысиной отравы, которую я туда подмешала. Я оставила угощение у двери, где стоял стражник, – охранял Алекса до завтрашнего утра.
Когда новый капитан караула, помощник Дамиана, будет истязать его до смерти.
Я взвизгнула, как попавшее в капкан животное, и заставила стражника открыть дверь, чтобы посмотреть, что за шум. Ничего не увидев, страж пожал плечами и взял корзинку со сдобой. Через полчаса он валялся на земле, дергаясь в предсмертных судорогах, с пеной у рта.
Никто, глядя на кусочек гальки у подножия скалы и щепку у обочины дороги, не найдет в них ничего необычного. Но если соединить их при определенных обстоятельствах, можно разжечь костер, который поглотит мир.
Да, я убила человека. А это означает, что мы стоили друг друга. Я бы с радостью гнила рядом с Алексом в камере, если бы могла оставаться рядом с ним.
Через окошко темницы я видела Алекса. Он сидел с закрытыми глазами, опираясь спиной о стену. От него только кожа да кости остались, после месяца ежедневных пыток он совсем истощал. Казалось, его мучители играют в своеобразную игру: когда же организм Алекса откажет? Но игры окончились, он должен был умереть.
Когда он услышал мои шаги, то встал. Я видела, каких усилий ему это стоило.
– Ты пришла, – выдохнул он, сплетая свои пальцы с моими через решетку.
– Получила твое послание.
– Я отправил его две недели назад. А до этого еще две недели приманивал птицу к подоконнику.
– Прости, – извинилась я.
Поломанные, покрытые шрамами руки Алекса крепко обняли меня.
– Пожалуйста, – шепнул он. – Выполни одну мою просьбу.
– Проси, что хочешь, – пообещала я.
– Убей меня.
Я глубоко вздохнула.
– Алекс, – сказала я…
Сейдж
Если бы мне еще месяц назад кто-то сказал, что я буду выполнять роль тайного агента ФБР, я бы рассмеялась ему в лицо.
С другой стороны, если бы мне сказали, что я влюблюсь в другого мужчину – не в Адама – я бы ответила, что собеседник сошел с ума. Лео без напоминания каждый раз просит соевое молоко, когда мы заказываем кофе. Открывает в душе воду, перед тем как выйти из ванной, чтобы вода была теплой, когда туда войду я. Он придерживает для меня дверь и не трогается с места, пока не удостоверится, что я пристегнута ремнем безопасности. Иногда у него бывает такое выражение лица, будто он все не может поверить, как ему повезло. Не знаю, кого он видит, когда смотрит на меня, но я хочу быть этой девушкой.
А мои шрамы? Я до сих пор вижу их, когда смотрюсь в зеркало. Но первое, что бросается в глаза, – это улыбка.
Я нервничаю перед записью разговора с Джозефом. Наконец после трех дней ожидания это должно случиться. Во-первых, мои сестры должны были закончить шиву. Во-вторых, Лео должен был получить разрешение на использование электронных средств прослушивания для проведения уголовной полицией Министерства юстиции спецоперации. В-третьих, Джозефа должны были выписать из больницы.
Именно я должна привезти его домой. А потом, надеюсь, я смогу заставить его признаться в убийстве Дары.
Лео руководил операцией из моего дома. После первой ночи, проведенной в гостинице, мы решили, что он из «Марриотт» переедет ко мне. Хотя я и готова была отразить нападки сестер, но мне даже не пришлось этого делать. Уже через десять минут Лео очаровал Пеппер и Саффрон рассказом о том, как одному известному автору триллеров удалось тайно добыть несколько страниц секретных материалов, а потом полностью отойти от реальности, чтобы создать бестселлер, который, хотя и изобилует неточностями, взлетел в верхние строки рейтинга «Нью-Йорк таймс».
– Я так и знала! – воскликнула Саффрон. – Мы читали его в нашем читательском клубе. Я как чувствовала, что быть не может, чтобы русский шпион с фальшивыми верительными грамотами просочился в Министерство юстиции!
– Откровенно говоря, это не самый большой ляп. А главный герой, тот, у которого целый шкаф костюмов «Армани»… Не может такого быть. Никогда! Только не на зарплату госслужащего, – сказал Лео.
Конечно, я не могла бы объяснить присутствие Лео – и присутствие Евы, если уж быть точной, – не рассказав сестрам о Джозефе. Удивительно, но ставки мои резко повышаются.
– Поверить не могу, что ты охотишься за нацистами, – сказала вчера Саффрон за нашим последним совместным ужином: завтра утром мои сестры уезжают в аэропорт и возвращаются к своим семьям. – Моя младшая сестра…
– Я, если честно, не охочусь за ними, – поправляю я. – Просто один свалился мне прямо на голову.
По совету Лео я дважды звонила Джозефу и, объясняя свое отсутствие, сказала правду: скоропостижно умерла близкая родственница, нужно было уладить семейные дела. Сообщила, что Ева по нему скучает; спросила, что говорят врачи о состоянии его здоровья, и пообещала уладить вопросы с выпиской.
– И тем не менее, – стоит на своем Пеппер, – мама с папой были бы счастливы. Особенно если вспомнить скандал, который ты закатила по поводу обряда бат-мицва.
– Тут дело не в религии, – попыталась я объяснить. – Дело в справедливости.
– Одно не исключает другого, – любезно добавляет Лео. И сразу же переводит разговор с обсуждения моей персоны на результаты последних выборов.
Необычная роскошь – знать, что кто-то готов тебя поддержать. В отличие от Адама, которого я перед всеми защищала, Лео без всяких усилий защищает меня. Он знает, что может меня расстроить, еще до того, как это происходит, и, словно супергерой, отводит мчащийся навстречу поезд, пока не произошла катастрофа.
Сегодня утром, когда Пеппер и Саффрон уезжали, я приготовила им в дорогу коробку шоколадных круассанов. Сестры целуют Лео на прощание, и я провожаю их до взятой напрокат машины. Пеппер крепко меня обнимает.
– Сейдж, не упусти этого нациста. Хочу узнать, чем все закончится. Ты мне позвонишь?
Насколько я помню, сестра впервые просит меня позвонить, а не высказывает критические замечания.
– Обязательно, – обещаю я.
Когда я возвращаюсь, Лео как раз закончил говорить по телефону.
– Мы можем взять машину по дороге в больницу. Потом, пока ты будешь забирать Джозефа… Сейдж, что с тобой?
– Начнем с того, что я не привыкла ладить с сестрами.
– Ты делаешь из них Сциллу и Харибду, – смеется Лео. – Они просто обыкновенные мамочки.
– Тебе легко говорить. Ты их очаровал.
– Я слышал, что умею очаровывать женщин семьи Зингер.
– Прекрасно, – отвечаю я. – В таком случае воспользуйся своей магией и загипнотизируй меня, чтобы я не провалила дело.
Он обходит стол, разминает мне плечи.
– Ты ничего не провалишь. Хочешь, еще раз все повторим?
Я киваю.
Мы раз пять репетировали эту беседу, несколько раз с использованием записывающей аппаратуры, чтобы удостовериться, что все работает. Лео играет роль Джозефа. Иногда он закрывается и молчит. Я говорю, что начинаю бояться, что если скрепя сердце соглашусь его убить, то мне нужно думать о каком-то конкретном совершенном им преступлении, а не о геноциде вообще. Что мне необходимо видеть лицо и слышать имя одной из его жертв. Пока в каждом сценарии я заставляю его признаться.
С другой стороны, Лео не Джозеф.
Я глубоко вздыхаю.
– Спрашиваю, как он себя чувствует…
– Хорошо. Или любой другой вопрос, который прозвучит естественно. Не нужно, чтобы он видел, что ты нервничаешь.
– Отлично.
Лео опускается рядом со мной на стул.
– Я хочу, чтобы он раскрылся без давления извне.
– Что мне говорить о бабушке?
Он колеблется.
– Я бы посоветовал тебе вообще не упоминать имени Минки. Но ты уже сказала, что в семье у тебя кто-то умер. Поэтому импровизируй. Даже если упомянешь ее имя, не говори, что она выжившая узница концлагеря. Не знаю, как он к этому отнесется.
Я закрываю лицо руками.
– А ты не можешь его просто допросить?
– Конечно, могу, – говорит Лео. – Но он сразу что-то заподозрит, если вместо тебя в больнице появлюсь я.
По плану Лео должен спрятаться в припаркованном напротив дома Джозефа автомобиле, контролируя процесс, пока я буду внутри. Таким образом приемник – ящик размером с портфель – будет находиться в зоне действия передатчика.
Есть у нас и условная фраза.
– А если я скажу: «Сегодня я должна встретиться с Мэри»…
– Я вбегаю, выхватываю пистолет, но понимаю, что мне не удастся произвести выстрел, не задев тебя. Поэтому я начинаю размахивать руками и ногами – вспоминаю приемы джиу-джитсу. В седьмом классе я даже получил синий пояс. Я сбрасываю с тебя Джозефа, как дешевое пальто, хватаю его за шею и прижимаю к стене. И говорю: «Не заставляйте меня делать то, о чем мы оба потом пожалеем!» Похоже на цитату из фильма, скорее, так оно и есть, но я не раз использовал ее во время спецопераций, и она срабатывала. Я отпускаю Джозефа, который падает к моим ногам и признается не только во всех военных преступлениях в Освенциме, но и берет на себя вину за все непоправимые ошибки с «Нью-колой» и второй частью фильма «Секс и город». Он расписывается под показаниями, а мы с тобой вызываем местный наряд полиции и уносимся в закат.
Я улыбаюсь и качаю головой. Лео на самом деле носит пистолет, но он заверил меня, что со времен детского лагеря в Ватаканите в пятом классе носит любое оружие только затем, чтобы порисоваться, – он бы и в мишень размером с Австралию не попал. Сразу и не разберешь, но я думаю, что он обманывает. Не представляю, чтобы фэбээровцу разрешили носить оружие, но при этом не научили им пользоваться.
Лео смотрит на часы.
– Нам пора. Готова принарядиться?
Трудно носить провода, когда на улице лето. Моя обычная одежда – футболка и джинсовые шорты – слишком узкая, чтобы спрятать там микрофон, поэтому вместо них я выбрала свободный сарафан.
Лео протягивает мне передатчик, размером с мини-плеер, с маленьким крючком, которым он крепится к поясу или ремню. Ни того ни другого у меня нет.
– И куда это цеплять?
Лео аккуратно засовывает передатчик мне сбоку в бюстгальтер.
– А так?
– Удобно, ничего не скажешь! – восклицаю я.
– Ты говоришь так, как будто тебе тринадцать лет. – Он продевает провод с крошечным микрофоном у меня под рукой, обводит вокруг талии. Я оттягиваю верх сарафана, чтобы ему было удобнее. – Что ты делаешь? – отшатывается Лео.
– Помогаю тебе.
Он сглатывает.
– Может быть, сама справишься?
– Чего ты вдруг оробел? Назвался груздем, полезай в кузов.
– Я не оробел, – скрипит зубами Лео. – Я изо всех сил пытаюсь сделать все вовремя, а ты мне мешаешь. Ты можешь просто записать беседу? И поправь свой чертов сарафан!
Когда микрофон с передатчиком наконец оказались на своих местах, мы убедились, что каналы синхронизированы с приемником, который будет у Лео в машине. Я отправляюсь на арендованной машине; Лео сидит на пассажирском сиденье с приемником на коленях. Сначала мы едем к Джозефу домой, отвозим Еву и проверяем передатчик на расстоянии.
– Работает, – заявляет Лео, когда я, налив Еве в миску воды, разбросав по гостиной игрушки и пообещав, что Джозеф скоро приедет, возвращаюсь назад в машину.
Следуя указаниям навигатора, я направляюсь на стоянку, где Лео встречается с кем-то из Министерства юстиции. Он сидит молча, мысленно пробегая по списку. На стоянке всего одна машина – фургон. И я гадаю, как же сидящий там офицер доберется домой. Фургон голубого цвета, на боку надпись «Ковры Дона». Со стороны водителя выбирается мужчина, показывает свой жетон.
– Лео Штейн?
– Да, – через открытое окно отвечает Лео. – Секунду.
Он нажимает кнопку, окно опять поднимается, чтобы мы могли поговорить без свидетелей.
– Не забудь удостовериться, что нет посторонних шумов, – говорит Лео.
– Знаю.
– Поэтому, даже если ему захочется послушать «Си-эн-эн» и «Эн-пи-ар», сделай так, чтобы радио было выключено. Отключи мобильный. Не грызи кофейные зерна. Не делай ничего, что могло бы повлиять на качество передачи.
Я киваю.
– Помни, «почему» – не самый главный вопрос.
– Лео, я всего не запомню. Я же не профессионал…
Он секунду обдумывает мои слова.
– Тебе необходима лишь капелька вдохновения. Знаешь, как поступил бы Джон Эдгар Гувер?[57]
Я качаю головой.
– Кричал бы и царапал крышку своего гроба.
Ответ настолько неожиданный и такой грубый, что у меня вырывается смех.
– Поверить не могу, что ты шутишь, когда я схожу с ума от страха.
– Разве сейчас хорошая шутка помешает? – спрашивает Лео. Он наклоняется и запечатлевает на моих губах поцелуй. – Интуиция подсказала тебе смеяться. Слушайся своего сердца, Сейдж.
Когда врач дает нам рекомендации, что делать после выписки, я гадаю, думает ли Джозеф о том же, что и я: что мертвому, которым он надеется оказаться, не нужно беспокоиться о потреблении соли и обо всем остальном, что напечатано на листке. Девушка-волонтер, которая вывозит Джозефа на коляске в фойе, чтобы я могла подогнать машину, узнает его.
– Герр Вебер, верно? – спрашивает она. – Вы преподавали у моего старшего брата немецкий.
– Wie heißt er?[58]
Она робко улыбается.
– Я французский учила.
– Я спросил, как его зовут.
– Джексон, – отвечает девушка. – Джексон Орурк.
– Да, – восклицает Джозеф. – Отличный ученик!
Когда мы оказываемся в вестибюле, я забираю Джозефа и везу его в тень.
– Вы на самом деле вспомнили ее брата?
– Нет, – отвечает Джозеф. – Но ей об этом знать ни к чему.
Я продолжаю думать об этом разговоре, когда дохожу до машины Лео, стоящей на парковке, и подъезжаю под портик, чтобы Джозефу не пришлось слишком далеко идти. Умение Джозефа налаживать связи с каждым отдельным человеком сделало его выдающимся учителем, самоотверженным гражданином. Способным прятаться на виду у всех.
Оглядываясь назад, нельзя не признать, что это был великолепный план. Когда ты смотришь в глаза, жмешь руку, называешь свое имя, у человека нет оснований думать, что ты говоришь неправду.
– Новая машина? – говорит Джозеф, когда я помогаю ему сесть на пассажирское сиденье.
– Взяла напрокат. Моя в ремонте. Я разбила ее.
– Авария? Ты в порядке? – спрашивает он.
– Я в порядке. Сбила оленя.
– Сначала машина, и родственница скончалась… За минувшую неделю произошло столько неизвестного мне. – Он складывает руки на коленях. – Я соболезную вашей утрате.
– Спасибо, – напряженно отвечаю я.
Мне хочется сказать: «Умерла моя бабушка. Вы знали ее. Наверное, вы ее даже не помните. Сукин сын!»
Но я, крепко обхватив руль, не свожу взгляда с дороги.
– По-моему, нам нужно поговорить, – начинает Джозеф.
Я искоса смотрю на него.
– Давайте поговорим.
– О том, как и когда вы это сделаете.
По моей спине бежит пот, хотя кондиционер в машине включен на полную мощность. Не могу пока с ним об этом говорить. Лео с приемником недостаточно близко, чтобы записать разговор.
Поэтому я поступаю так, как он мне делать не велел.
Я поворачиваюсь к Джозефу.
– Вы сказали, что знали мою маму.
– Да, не стоило делать из этого тайну.
– Я бы сказала, что эта маленькая невинная ложь – самая меньшая из ваших проблем, Джозеф. – Я притормаживаю на желтый свет. – Вы же знали, что моя бабушка была узницей концлагеря.
– Да, – отвечает он.
– Вы ее искали?
Он смотрит в окно.
– Я никого из них не знал по имени.
Я еще долго стою на светофоре, даже когда включается зеленый, пока мне не начинают сигналить машины, и думаю о том, что на мой вопрос он так и не ответил.
Когда мы подъезжаем к дому Джозефа, фургон с коврами стоит в условленном месте, на противоположной стороне улицы. Лео я не вижу, он где-то в кузове, сидит с приемником и ждет.
Я помогаю Джозефу подняться на ступени крыльца – он опирается на мою руку, когда не может взобраться самостоятельно. Я уверена, что Лео наблюдает за мной. Несмотря на утреннюю историю о супергерое, я знаю, что он готов в случае необходимости прийти мне на помощь – он не заблуждается насчет того, что от божьего одуванчика, который едва в состоянии передвигаться, может исходить угроза. Лео рассказывал мне, что однажды восьмидесятипятилетний старик вышел из дома и начал стрелять – повезло, что у него была катаракта и он стрелял не целясь. «У нас на работе есть поговорка, – добавил Лео. – Если ты убил шесть миллионов, плюс-минус один не имеет значения».
Как только в замке поворачивается ключ, Ева бросается навстречу хозяину. Я поднимаю крошечную собачку и сажаю Джозефу на руки, чтобы она облизала ему лицо. Он широко улыбается.
– О, mein Schatz, как я по тебе скучал!
Глядя на их воссоединение, я понимаю, что для него это идеальные отношения. Чтобы его любили без всяких условий. Чтобы это существо понятия не имело о том, каким он раньше был чудовищем. Чтобы кто-то мог слушать его слезливые признания и не предать его доверия.
– Проходите, – приглашает Джозеф. – Я сделаю нам чай.
Я следую за ним в кухню. Он видит на столе свежие фрукты, открывает холодильник, находит там молоко, сок, яйца и хлеб.
– Вы не должны были этого делать, – говорит Джозеф.
– Знаю. Но мне хотелось.
– Нет, я имел в виду: не стоило утруждаться.
Как будто убивать его мне хочется!
«Была не была!» – думаю я.
– Джозеф! – Я выдвигаю стул, жестом приглашаю его присесть. – Нам нужно поговорить.
– Надеюсь, вы хорошо подумали?
Я сажусь напротив него.
– Разве я могла не думать?
Слышу, как на улице стрекочет газонокосилка. Окна в кухне открыты.
Черт!
Я преувеличенно громко чихаю. Встаю, обхожу стол, начинаю закрывать окна.
– Надеюсь, вы не против? Пыльца меня убивает.
Джозеф хмурится, но он слишком воспитан, чтобы жаловаться.
– Я боюсь того, что будет потом, – признаюсь я.
– Никто не увидит ничего подозрительного в смерти девяностопятилетнего старика, – смеется Джозеф. – А из родных у меня никого не осталось, вопросы задавать некому.
– Я сейчас не о юридических аспектах, а о моральных. – Я ловлю себя на том, что начинаю волноваться, и приказываю себе прекратить, думая о том, что Лео сейчас слышит, как шуршит мое платье. – Я чувствую себя дурочкой, задавая подобные вопросы, но вы единственный, кто может меня понять, ведь вы были там. – Я поднимаю голову. – Когда убиваешь человека… как потом с этим живешь?
– Я сам просил помочь мне умереть. А это разные вещи.
– Разве?
Он тяжело вздыхает.
– Может, и нет, – признает он. – Вы будете думать об этом каждый день. И надеюсь, будете считать это актом сострадания.
– Вы так к этому относились? – спрашиваю я – самое обычное течение разговора! – и замираю в ожидании ответа.
– Иногда, – говорит Джозеф, – они были такими слабыми. Многие из них. Они хотели освободиться, как я сейчас.
– Наверное, вы именно это внушали себе перед сном. – Я подаюсь вперед и ставлю локти на кухонный стол. – Если хотите, чтобы я вас простила, вы обязаны рассказать мне обо всем, что делали с ними.
Он качает головой, на глаза у него наворачиваются слезы.
– Я уже все рассказал. Вы знаете, кто я и чем занимался.
– Джозеф, какое самое ужасное преступление вы совершили?
Я задаю вопрос, и меня тут же осеняет – мы играем с огнем. То, что убийство Дары было зафиксировано в документах, вовсе не означает, что оно стало самым отвратительным преступлением, совершенным Райнером Хартманном против узниц. Это означает только одно – на этом преступлении он попался.
– В лагере были две девушки, – начинает он. – Одна из них работала у… моего брата, в его кабинете. Там стоял сейф с деньгами, которые находили в вещах заключенных. – Он потирает виски. – Понимаете, все так делали. Отбирали вещи. Драгоценности и деньги, даже партии бриллиантов. Некоторые офицеры, работавшие в концлагерях, стали очень богатыми. Я слушал новости и понимал, что жить рейху осталось недолго – пока американцы не ввяжутся в войну. Поэтому я все рассчитал заранее. Хотел взять как можно больше денег и обратить их в золото, пока они не превратились в бесполезные бумажки. – Джозеф пожимает плечами, смотрит на меня. – Узнать код сейфа оказалось парой пустяков, я же был лагерфюрером. Я подчинялся только коменданту, и когда от меня чего-то требовали, то не стоял вопрос, смогу ли я, а только насколько быстро смогу. Поэтому однажды я, узнав, что брата в кабинете не будет, открыл сейф, чтобы забрать все, что смогу вынести. Меня увидела девушка, секретарша брата. Она привела с собой подругу, которая работала на улице… Привела ее в кабинет, пока брата не было. Наверное, чтобы погреться, – продолжает он. – Я не мог допустить, чтобы девчонка рассказала брату то, что видела, поэтому застрелил ее.
Я понимаю, что сижу затаив дыхание.
– Вы убили секретаршу?
– Хотел убить. Но меня ранило на фронте в правую руку, и я уже не так виртуозно обращался с пистолетом, как раньше. Девушки испугались, хотели бежать, бросились друг к другу… Поэтому пуля попала в ее подругу.
– Вы убили ее?
– Да, – кивает он. – Я бы и вторую застрелил, но тут пришел мой брат. Когда он увидел меня в своем кабинете с пистолетом в одной руке и деньгами в другой, что мне оставалось делать? Я сказал, что застал этих девушек за кражей денег из его сейфа. За кражей у рейха.
Джозеф прикрывает глаза рукой. Сглатывает, как будто слова перекрывают, сжимают его горло.
– Мне не поверил собственный брат. Родной брат выдал меня.
– Выдал вас?
– Дисциплинарной комиссии лагеря. Не за кражу, а за то, что я превысил свои полномочия и застрелил заключенную, – говорит он. – Ничем серьезным это все не закончилось. Со мной встретились и напомнили мои обязанности. Но вы же понимаете, верно? Из-за этого проступка меня предал собственный брат!
Не знаю, что в этой истории в извращенном сознании Джозефа самое ужасное – то, что он убил Дару, или то, что разрушил отношения с братом. Спросить я боюсь. И еще больше боюсь услышать ответ.
– А что стало с вашим братом?
– После этого мы с ним больше не разговаривали. Я слышал, что он давным-давно умер. – Джозеф плачет, его лежащие на столе руки дрожат. – Пожалуйста! – молит он. – Вы простите меня?
– Разве это что-то изменит? Убитую вами девушку не вернешь. И отношения с братом уже не склеишь.
– Не склеишь. Но это означает, что по крайней мере один человек знает: я сожалею о том, что произошло.
– Я подумаю, – отвечаю я.
* * *
Я сажусь во взятую напрокат машину, включаю кондиционер. В конце квартала, в котором живет Джозеф, сворачиваю направо в тупик и паркуюсь у тротуара. В фургоне подъезжает Лео. Он поворачивает так резко, что машину заносит на тротуар. Лео выскакивает, вытаскивает меня и начинает кружить.
– Получилось! – ликует он, подкрепляя каждый слог поцелуем. – Сейдж, черт возьми! Я не смог бы провести операцию более филигранно!
– Зовешь меня на работу? – интересуюсь я, впервые за два часа расслабившись.
– Все зависит от того, на какую должность ты претендуешь, – хмурится Лео. – Ох, сболтнул лишнее… Слушай.
Он открывает заднюю дверцу фургона, перематывает запись, чтобы я услышала свой собственный голос и голос Джозефа: «Вы убили ее?» – «Да. Я бы и вторую застрелил».
– Значит, получилось. – Мой голос звучит глухо, ни одной радостной нотки, как в голосе Лео. – Его депортируют?
– Это всего лишь еще один шаг. Я уже позвонил Женевре, моему историку, она сегодня прилетит сюда. Теперь, когда у нас есть запись признания, посмотрим, захочет ли он с нами добровольно разговаривать и сотрудничать. Мы обычно приходим без предупреждения – чтобы увидеть, если ли у подозреваемого алиби, но здесь другой случай. Так мы сможем получить дополнительную информацию, если это возможно, обеспечить доказательную базу. Потом мы с Женеврой улетим назад в Вашингтон…
– Назад? – эхом повторяю я.
– Мне необходимо написать служебную записку, чтобы помощник генерального прокурора удовлетворил ходатайство и началась официальная процедура, выпустили пресс-релиз. А потом, обещаю тебе, Джозеф Вебер умрет, – говорит он. – Сгниет в тюрьме.
Женевра, историк, прилетает в Бостон, а не в Манчестер, потому что ближайший рейс оказался до Бостона. Это означает, что Лео понадобится пять часов, чтобы съездить туда и обратно и привезти свою помощницу. Он уверяет, что его это нисколько не смущает. По пути он посвятит ее во все подробности дела.
Я стою у Лео за спиной, смотрю, как он завязывает галстук перед зеркалом в ванной комнате.
– Потом, – продолжает объяснять Лео, – я отвезу ее в «Мариотт». Насколько я помню, там довольно удобные кровати.
– Ты намерен и сам там остаться?
Он замолкает.
– А тебе этого хотелось бы?
В зеркале мы похожи на современных американских готов.
– Я подумала, что ты, возможно, не захочешь, чтобы она знала обо мне.
Он заключает меня в объятия.
– Я хочу, чтобы она знала о тебе все-все. Начиная с того, какой из тебя получился шикарный двойной агент, и заканчивая тем, как ты в душе отрываешься под Джона Мелленкампа и перевираешь слова песен.
– Я не перевираю…
– Там нет слов: «…выбрось все эти книги о Барби». Можешь поверить мне на слово. Кроме того, Женевре все равно придется с тобой познакомиться, когда мы в Вашингтоне будем ходить после работы ужинать…
Я не сразу понимаю, о чем он говорит.
– Я не живу в Вашингтоне.
– Это формальности, – смущенно говорит Лео. – В округе Колумбия тоже есть булочные.
– Это просто… неправильно, Лео.
– Ты передумала? – Он замирает. – Я твердо решил. На сто сорок процентов. Я точно знаю. Я только-только нашел тебя, Сейдж. И не хочу потерять. Всегда неплохо знать, чего ты хочешь, и стремиться к этому. Однажды через много лет мы будем читать пресс-релиз о Райнере Хартманне и рассказывать нашим детям, что мама с папой влюбились друг в друга благодаря военному преступнику. – Он смотрит мне в глаза. – Никак не можешь сделать решительный шаг?
– Я не говорила о переезде. Хотя вопрос все еще открыт…
– Знаешь, скажу так: если здесь найдется работа в Министерстве юстиции, перееду я…
– Я говорю о Джозефе, – перебиваю я. – Все это как-то… неправильно.
Лео берет меня за руку, выводит из ванной и усаживает на край кровати.
– Тебе тяжелее, чем мне, потому что ты знала его другим человеком – до того, как выяснила, что это Райнер Хартманн. Но разве ты не этого хотела, нет?
Я закрываю глаза.
– Уже не помню.
– Тогда позволь мне напомнить. Если Райнера Хартманна депортируют или даже экстрадируют, об этом расскажут в новостях. Громко. Все об этом узнают – и не только в этой стране, но и далеко за ее пределами. Мне хочется думать, что, может быть, в следующий раз, когда кто-то соберется совершить что-то ужасное – например, солдат, которому будет отдан приказ совершить преступление против человечества, – вспомнит эту статью в газете о нацисте, которого арестовали, хотя он девяностопятилетний старик. Возможно, в ту секунду он поймет: если выполнить приказ, правительство Соединенных Штатов или любой другой страны будет преследовать его до конца жизни, куда бы он ни убежал, как бы хорошо ни спрятался. И, может, он задумается: «Мне придется всю жизнь оглядываться, как этому Райнеру Хартманну». Поэтому вместо того, чтобы выполнять приказ, он решительно ответит: «Нет!»
– Разве не имеет значения то, что Джозеф жалеет, что не остановился?
Лео смотрит на меня.
– Важно только то, что он совершил, – отвечает он.
Когда я приезжаю, то застаю Мэри в гроте. Я вся липкая от пота: воздух настолько влажный, что, кажется, конденсируется на коже. Такое впечатление, что вместо гемоглобина в крови у меня кофеин, – такая я нервная.
Мне нужно многое успеть до приезда Лео.
– Слава Богу, ты здесь! – восклицаю я, взобравшись наверх.
– Из уст атеистки эти слова дорогого стоят, – отвечает Мэри. Увидев ее при таком освещении, любой художник сошел бы с ума: пальцы в перчатках пурпурного, розового и цвета электрик – как шалфей, который она вырывает. – Я пыталась до тебя дозвониться, узнать, как себя чувствуешь и вообще, но ты не отвечаешь на сообщения.
– Знаю, я все получила. Просто была очень занята…
– С тем парнем?
– Откуда ты знаешь? – удивляюсь я.
– Милая, любой, кто присутствовал на похоронах, а потом на поминках, и у кого есть хотя бы две извилины, заметил бы это. У меня только один вопрос. – Она поднимает голову. – Он женат?
– Нет.
– Тогда он мне уже нравится! – Она снимает садовые перчатки и вешает их на край ведра, в которое собирает сорняки. – И что это за срочность?
– Мне нужно задать вопрос священнику, – объясняю я, – а ты к ним ближе всех.
– Не знаю, то ли это должно мне льстить, то ли стоит поискать себе нового парикмахера.
– Речь идет об исповеди…
– Это таинство, – отвечает Мэри. – Даже если бы я и могла накладывать епитимью, ты все равно не католичка. Нельзя исповедаться и смыть с себя все грехи.
– Речь не обо мне. Меня попросили о прощении. Но грех очень, очень большой.
– Смертный грех?
Я киваю.
– Не спрашиваю о самом таинстве, как оно происходит для человека, который исповедуется. Я хочу знать, как поступает священник: выслушивает ужасы, от которых его воротит, а потом просто прощает?
Мэри садится рядом со мной на деревянную скамью. Солнце уже опустилось так низко, что все на вершине холма окрасилось багрянцем и золотом. Я гляжу на эту красоту, и холод в животе чуть отступает. Конечно, в мире существует зло, но его уравновешивают вот такие мгновения.
– Знаешь, Сейдж, Иисус не учил нас всех прощать. Он говорил: подставь левую щеку, если ударили по правой, но только если ударили тебя одного. Даже в молитве ко Всевышнему четко сказано: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». Нашим, а не чужим. Иисус учит прощать то зло, которое совершили по отношению лично к тебе, а не то, которое совершено по отношению к другим. Но большинство христиан неверно толкуют эти слова: считают, что быть настоящими христианами – значит прощать все грехи и всех грешников.
– А если зло, совершенное по отношению к другому, косвенно затронуло и тебя? Или близкого тебе человека?
Мэри складывает руки на груди.
– Я рассказывала тебе, что ушла из монастыря, но никогда не говорила, почему туда пришла, – говорит она. – Моя мама сама воспитывала троих детей, отец нас бросил. Я была самая старшая, тринадцати лет. Я так сильно негодовала, что иногда просыпалась среди ночи с металлическим привкусом злобы во рту. Мы не могли позволить себе покупать бакалею. Телефона у нас не было, и света тоже не было. Мебель за проценты по кредиту забрал банк, а братья мои носили штаны, из которых давно выросли, потому что мы не могли купить новую школьную форму. А мой отец отдыхал с новой подружкой во Франции. Поэтому однажды я пошла к своему священнику и спросила, что мне сделать, чтобы унять злость. Я ожидала, что он ответит: «Найди работу. Выплесни свои чувства на бумагу». Но вместо этого он велел мне простить отца. Я уставилась на него, как на безумца. «Я не могу, – призналась я. – От моего прощения его предательство станет не таким ужасным».
Я не свожу взгляда с лица Мэри, пока она говорит.
– Священник ответил: «Он поступил неправильно. Он не заслуживает твоей любви. Но заслуживает твоего прощения, потому что иначе злоба будет расти у тебя в сердце, как сорняк, пока не задушит. Единственный человек, который страдает, пока копишь всю эту ненависть, – ты сама». Мне было всего тринадцать, я еще мало что смыслила в жизни, но поняла одно: если в религии столько мудрости, я хочу стать ее частью. – Мэри поворачивается ко мне лицом. – Не знаю, что тебе сделал тот человек, и не уверена, что хочу это знать. Но ты прощаешь не ради другого, ты делаешь это ради себя. Есть хорошая поговорка: «Ты не такая важная птица, чтобы постоянно думать о тебе». А еще говорят: «Не стоит жить прошлым. Я достойна жить будущим».
Я думаю о бабушке, чье молчание достигло именно этой цели.
Хорошо это или плохо, но Джозеф Вебер – часть моей жизни, истории моей семьи. Неужели единственный способ вычеркнуть его – сделать то, о чем он просит; казнить его за то, что он сделал?
– Мои советы помогли? – спрашивает Мэри.
– На удивление, да.
Она хлопает меня по плечу.
– Идем со мной, я знаю местечко, где можно выпить чашечку вкусного кофе.
– Я, наверное, задержусь тут ненадолго, полюбуюсь закатом.
Она смотрит на небо.
– Не вижу препятствий.
Я смотрю Мэри вслед, когда она спускается по ступеням, пока ее силуэт не исчезает из виду. Уже стемнело, очертания рук кажутся смазанными, как будто мир приоткрывает мне тайну.
Я снимаю с краю ведра похожие на увядшие лилии перчатки Мэри. Свешиваюсь через ограждение сада Моне и срезаю несколько стеблей аконита. На фоне бледных перчаток Мэри сине-черные лепестки напоминают стигматы – еще одни рубцы, появление которых невозможно объяснить, как ни старайся.
Предать человека можно множеством способов.
Можно шептаться у него за спиной.
Можно намеренно обманывать.
Можно отдать его врагам, когда он доверяет тебе.
Можно не выполнить обещание.
Вопрос в одном: когда совершаешь такие поступки, не предаешь ли ты самого себя?
Джозеф открывает дверь и тут же понимает, зачем я пришла.
– Сейчас? – спрашивает он.
Я киваю. Он мгновение стоит, вытянув руки вдоль тела, не зная, что делать.
– В гостиной, – предлагаю я.
Мы садимся друг напротив друга, между нами шахматная доска с аккуратно расставленными для новой партии фигурками. Ева с пончиком ложится у его ног.
– Собаку заберете? – спрашивает он.
– Да.
Он кивает, складывает руки на коленях.
– Вы знаете… как?
Я киваю и лезу в рюкзак, который везла на спине, пока ехала сюда в темноте на велосипеде.
– Я должен кое в чем признаться, – говорит Джозеф. – Я обманул вас.
Мои руки замирают на «молнии».
– То, что я рассказал сегодня утром… не самое страшное мое преступление, – произносит он.
Я жду продолжения.
– После случившегося я разговаривал с братом. После расследования мы с ним не общались, но однажды утром он пришел ко мне и сказал, что пора бежать. Я решил, что он знает что-то, чего не знаю я, поэтому послушался. Наступали союзники. Они освобождали узников лагерей. Повезло тем, кому удалось бежать, а не быть застреленным войсками союзников или растерзанным оставшимися заключенными. – Джозеф опускает глаза. – Мы шли несколько дней, пересекли границу Германии. В городах прятались в коллекторах, в деревнях – в сараях со скотом. Ели отбросы, лишь бы остаться в живых. Некоторые все еще нам сочувствовали, и как-то нам удалось достать фальшивые документы. Я сказал, что нужно уезжать из страны как можно скорее, но брат хотел вернуться домой, посмотреть, что там. – Нижняя губа его начинает дрожать. – Мы набрали кислых вишен – украли у одного крестьянина, который даже не заметит пропажи горстки урожая. Этим и поужинали. Пока ели – спорили о том, что делать дальше. И мой брат… Он начал задыхаться. Упал на землю, схватился за горло, посинел… Я, не отрываясь, смотрел на него. Но ничего не сделал. – Он проводит рукой по глазам, вытирая слезы. – Я понимал, что одному легче путешествовать. Понимал, что для меня он скорее балласт, чем помощник. Наверное, я знал об этом всю жизнь, – признается Джозеф. – Я совершил много поступков, которыми невозможно гордиться, но все во время войны. Тогда правила были другими. Я мог бы их оправдать, по крайней мере, найти им рациональное объяснение… Но этот поступок – совсем другое дело. Самое страшное преступление, которое я совершил, Сейдж, – я убил своего брата.
– Вы его не убивали, – поправляю я. – Просто решили не спасать.
– А разве это не одно и то же?
Как я могу уверить его в обратном, если сама в это не верю?
– Я давно говорил вам, что заслуживаю смерти. Теперь вы понимаете. Я – чудовище, животное. Я убил родного брата, свою плоть и кровь. И даже не это самое страшное. – Джозеф встречается со мной взглядом. – Самое страшное, – холодно добавляет он, – я жалею, что не сделал этого раньше.
Слушая его, я понимаю: что бы ни говорила Мэри, в чем бы ни уверял меня Лео, чего бы ни хотел Джозеф – в конечном итоге не я должна отпускать грехи. Я вспоминаю лежащую на больничной койке маму, которая прощает меня. Вспоминаю ту секунду, когда машина потеряла управление, когда я поняла, что авария неизбежна, но была не в силах ничего сделать.
И не важно, кто прощает тебя, если ты сам не можешь забыть.
По словам Лео, которые он произнес на прощание, именно я стану тем человеком, который всю жизнь будет оглядываться через плечо. С другой стороны, вот этого человека – который помогал убивать миллионы, который убил лучшую подругу моей бабушки, который держал в страхе многих, который видел, как у него на глазах задыхается собственный брат, – совесть не мучает.
По иронии судьбы я, которая всю жизнь активно отрицала любую религию, обратилась к библейскому правосудию: око за око, смерть за смерть. Я расстегиваю рюкзак и достаю одну идеальную булочку. У нее сверху такая же замысловатая корона, она так же присыпана сахаром, как и булочка, которую я испекла для бабушки. Но в этой не шоколад с корицей.
Джозеф берет ее у меня из рук.
– Спасибо, – благодарит он, и на глаза у него наворачиваются слезы.
Он с надеждой ждет.
– Ешьте, – велю я.
Он разламывает булочку, и я вижу крапинки аконита, который мелко порубила и смешала с тестом.
Джозеф отламывает четверть булочки, кладет ее в рот. Пережевывает и глотает, пережевывает и глотает. Пока от булочки не остается ни крошки.
Я обращаю внимание на его дыхание: оно становится тяжелым и затрудненным. Он начинает задыхаться. Пытается встать, сбивает с шахматной доски несколько фигурок, делает пару шагов… Я подхватываю его, устраиваю на полу. Ева начинает лаять, тянуть его за брюки. Отгоняю ее прочь. Руки его вытягиваются, он корчится передо мной.
Если я проявила сострадание, то в глазах окружающих буду не таким чудовищем, как он. Если отомстила – я ничуть не лучше его самого. Надеюсь, что проявление обоих чувств компенсирует друг друга.
– Джозеф, – говорю я громко, наклоняясь над ним, чтобы убедиться, что он меня слышит. – Я никогда в жизни вас не прощу.
Из последних сил Джозефу удается ухватиться за мою рубашку. Он комкает ткань в кулаке, тянет меня вниз, чтобы я почувствовала смерть в его дыхании.
– Чем… все… заканчивается? – выдыхает он.
Мгновение спустя он уже не шевелится. Глаза у него закатываются. Я переступаю через тело, забираю рюкзак.
– Вот этим.
Я приезжаю домой, принимаю снотворное и к тому времени, как Лео залазит ко мне под одеяло, уже давным-давно сплю. На следующее утро, если говорить откровенно, я все еще сонная – наверное, оно и к лучшему.
Женевра, историк, совсем не такая, как я себе представляла. Она молоденькая, только после университета, на одной руке у нее татуировка – полный текст вступления к Конституции.
– Давно пора, – говорит она, когда нас официально представляют друг другу. – Достало уже играть роль Купидона!
Мы едем к Джозефу домой, Женевра устроилась на заднем сиденье. Наверное, я больше похожа на зомби, потому что Лео тянется к моей руке и сжимает ее.
– Тебе не обязательно заходить.
Я отвечаю, что, по моему мнению, Джозеф скорее согласится сотрудничать, если увидит меня.
– Может, и необязательно, но мне необходимо там быть.
Если я и волновалась, что Лео сочтет мое поведение странным, то напрасно. Он настолько возбужден, что, похоже, не слышит моего ответа. Мы останавливаемся у дома Джозефа. Лео поворачивается к Женевре.
– Начали! – командует он.
Как он объяснил, смысл ее пребывания здесь в том, что если Джозеф запаникует, начнет путаться в деталях, чтобы «обелить» себя, то историк сможет указать на такие несовпадения следователю. Который, в свою очередь, поймает Джозефа на лжи.
Мы выходим из машины, идем к входной двери. Лео стучит.
«Он откроет дверь, и я спрошу, не он ли господин Вебер, – делился своими планами Лео, когда мы утром одевались. – И когда он кивнет утвердительно, я уточню: “Это не настоящее ваше имя, не так ли?”»
Однако дверь никто не открывает.
Женевра и Лео переглядываются. Потом Лео поворачивается ко мне.
– Он еще водит машину?
– Нет, – отвечаю я. – Больше не водит.
– И где, по-твоему, он сейчас может быть?
– Мне он ничего такого не говорил, – отвечаю я правду.
– Думаешь, подался в бега? – спрашивает Женевра. – Уже не впервые…
Лео качает головой.
– Мне кажется, он понятия не имел, что на ней микрофон.
– В лягушке лежит ключ, – вмешиваюсь я. – Вон там.
Я на негнущихся ногах иду в уголок крыльца, где на горшке с цветком сидит лягушка. И тут же вспоминаю об аконите. Ключ холодит ладонь. Я отпираю дверь.
Первым входит Лео.
– Господин Вебер? – окликает он, пересекая прихожую и направляясь в гостиную.
Я закрываю глаза.
– Госп… Черт! Женевра, звони девять-один-один! – Он роняет портфель.
Джозеф лежит именно так, как я его оставила: перед кофейным столиком, вокруг разбросаны шахматы. Его кожа приобрела голубоватый оттенок, глаза открыты. Я опускаюсь на колени, хватаю его за руку.
– Джозеф! – кричу я, как будто он может меня услышать. – Джозеф, вставайте!
Лео щупает пульс на шее – пульса нет. Он смотрит на меня поверх тела Джозефа.
– Мне очень жаль, Сейдж…
– Опять все накрылось медным тазом, босс? – спрашивает Женевра, пытаясь заглянуть ему через плечо.
– Бывает. Это гонка на время.
Я осознаю, что продолжаю держать Джозефа за руку. На запястье у него больничный браслет, который он так и не снял.
Джозеф Вебер, дата рождения: 20 апреля 1918 г. Группа крови: III (+).
Неожиданно мне не хватает кислорода. Я отпускаю руку Джозефа и бросаюсь в прихожую, где Лео уронил свой портфель, когда увидел тело на полу гостиной. Хватаю его, бегу подальше от входной двери – как раз подъезжают местная полиция и «скорая помощь». Они начинают расспрашивать Женевру и Лео, я скрываюсь в спальне Джозефа.
Сажусь на кровать, открываю портфель, достаю личное дело, которое еще несколько дней назад Лео не разрешал мне брать в руки.
На первой странице фотография Райнера Хартманна.
Адрес в Вевельсбурге.
Дата рождения – такая же, как у Гитлера, однажды Джозеф сам признался.
И другая группа крови!
У Райнера Хартманна была четвертая. Уж это эсэсовцы определить могли. Группа крови не только была внесена в личное дело, но и сделана татуировка, которую, по словам Джозефа, он вырезал армейским ножом. Однако на прошлой неделе, когда Джозефа без сознания привезли в больницу, у него взяли кровь на анализ и написали: ІІІ (+).
А это означает, что Джозеф Вебер – не Райнер Хартманн.
Я вспоминаю бабушку, которая рассказывала о лагерфюрере, о том, как у него в правой руке дрожал пистолет. Потом представляю Джозефа, который сидит напротив меня в «Хлебе нашем насущном» и держит вилку в левой руке. Почему я была такой глупой и не заметила несоответствий? Или просто не хотела их замечать?
Я все еще слышу голоса в коридоре. Осторожно открываю прикроватную тумбочку со стороны Джозефа. Внутри пачка салфеток, флакон аспирина, карандаш и блокнот, который он всегда носил с собой в «Хлеб наш насущный», – тот, что он забыл в первый вечер.
Я уже знаю, что увижу там, даже не открывая.
Маленькие карточки с зазубренными краями, аккуратно приклеенные к страничкам по углам, оборотом вверх. Каждый квадратик испещрен крошечными, аккуратно написанными буквами – я сразу же узнаю этот почерк со всеми его стремительными линиями и впадинами. Я не умею читать по-немецки, но, чтобы узнать написанное, мне не нужно знать язык.
Я осторожно отклеиваю карточку от пожелтевшей страницы, переворачиваю. Это фотография ребенка. Шариковой ручкой внизу подписано «Аня».
Каждая фотография подписана. Герда, Гершель. Хаим…
История заканчивается раньше, чем в той версии, которую дала мне бабушка. Которую она написала, уже живя здесь и думая, что находится в безопасности.
Джозеф никогда не был Райнером Хартманном, он был Францем. Именно поэтому он не мог рассказать мне, в чем заключались каждодневные обязанности лагерфюрера: потому что он никогда им не был! Все, что он рассказывал мне, – это жизнь его брата. За исключением одной истории, которую он поведал вчера: когда смотрел, как Райнер умирал у него на глазах.
Комната поплыла передо мной. Я подалась вперед и уткнулась лбом в колени. Я убила невинного человека!
Невинного? Франц Хартманн был офицером СС. Наверное, он тоже убивал узников Освенцима, а если сам и не убивал, то был винтиком в машине массового уничтожения, и любой международный военный трибунал признал бы его виновным. Я знала, что он бил бабушку и жестоко избивал других. Он сам признался, что сознательно позволил брату умереть. Но разве это оправдывает то, что сделала я? Или я – как и он! – пытаюсь оправдать несправедливость?
Почему Франц хотел очернить себя, представить более жестоким братом? Потому ли, что винил себя, равно как и своего брата, в том, что произошло с Германией? Потому ли, что чувствовал себя в ответе за его смерть? Неужели он думал, что я не помогу ему умереть, если узнаю, кто он на самом деле?
А я помогла бы?
– Прости, – шепчу я.
Возможно, именно этого прощения искал Франц. А может, прощение нужно мне самой за то, что я убила не того человека.
Блокнот падает на пол, раскрывается. Когда я поднимаю его, то вижу, что, хотя главы, написанные бабушкой, резко обрываются, в блокноте еще много исписанных листов. Через три пустые страницы исписанные листы начинаются вновь, уже на английском, с более четкой, единообразной каллиграфией.
В первом варианте придуманной Францем концовки Аня помогает Алексу умереть. Во втором он продолжает жить и до скончания века вынужден терпеть пытки. Еще в одном Алекс едва не погиб от потери крови, но испил Аниной и опять стал хорошим. В очередном, несмотря на то что Ане удалось его излечить, Алекс не смог избавиться от порочной страсти – и он убивает Аню. Таких концовок с десяток, и все разные, как будто Франц так и не смог решить, какая лучше.
«Чем все заканчивается?» – спросил Джозеф. Теперь я понимаю, что вчера он солгал мне дважды: он прекрасно знал, кто моя бабушка. Возможно, надеялся, что я приведу его к ней. Не для того, чтобы убить, как подозревал Лео, а чтобы узнать, чем все закончилось. Чудовище и девушка, которая могла его спасти… Он явно читал в бабушкином романе историю своей жизни. Именно поэтому и спас ее много лет назад. Именно поэтому ему необходимо было знать, искупил ли он свою вину или был проклят.
Однако судьба сыграла с ним шутку, потому что бабушка так и не дописала свою историю. Не потому, что не знала окончания; и не потому, что знала, как уверял Лео, но не смогла написать. Она намеренно оставила историю без концовки, словно постмодернист картину. Если история дописана, это статичное произведение искусства, замкнутый круг. Если нет – концовка зависит от воображения читателя. И вечно остается живой.
Я беру блокнот и прячу в сумку рядом с восстановленной версией.
В коридоре слышатся шаги, неожиданно на пороге возникает Лео.
– Вот ты где! – восклицает он. – Ты в порядке?
Я пытаюсь кивнуть, но не очень получается.
– С тобой хочет поговорить полиция.
Во рту пересыхает.
– Я сказал им, что ты его ближайшая родственница, – продолжает Лео, оглядываясь. – А что ты вообще здесь делаешь?
Что я должна ответить человеку, который является лучшим, что со мной произошло, и который живет в узких границах «хорошо – плохо», «истина – ложь»?
– Я… я заглядывала к нему в тумбочку, – бормочу я. – Думала, найду записную книжку… Телефоны и адреса тех, кому необходимо сообщить.
– Нашла что-нибудь? – интересуется Лео.
Вымысел принимает разные формы и размеры. Тайны, ложь, истории… Мы все фантазируем. Иногда ради развлечения. Иногда – чтобы отвлечься.
А временами просто потому, что вынуждены.
Я смотрю Лео в глаза и качаю головой.
От автора
Читателей, которые хотят больше узнать о холокосте, заинтересуют следующие источники. К ним я обращалась при написании этого романа:
The Chronicle of the Јо́dź Ghetto, 1941–1944. Edited by Lucjan Dobroszycki. New Haven: Yale University Press, 1984.
Gilbert, Martin. The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1986.
Graebe, Hermann. «Evidence Testimony at Nuremberg War Crimes Trial». November 10 and 13, 1945. Nuremberg Document PS-2992. сaustresearchproject.org/einsatz/graebetest.html.
Klein, Gerda Weissmann. All but My Life, expanded ed. 1957. New York: Hill & Wang, 1995.
Michel, Ernest W. Promises Kept. Fort Lee, NJ: Barricade Books, 2008.
Michel, Ernest W. Promises to Keep. New York: Barricade Books, 1993.
Salinger, Mania. Looking Back. Northville, MI: Nelson Pub. and Marketing, 2006.
Trunk, Isaiah. Јуdџ Ghetto: A History. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Wiesenthal, Simon. The Sunflower: On the Possibilities and Limits of Forgiveness, rev. and expanded ed. 1976. New York: Schocken Books, 1998.
Примечания
1
Букв.: «мудрая» (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Четырнадцать изображений Крестного пути Христа, располагаются около церкви или по дороге к ней.
(обратно)3
Бат-мицва – иудейский обряд, связанный с совершеннолетием девочек, после которого они считаются правомочными блюсти все заповеди, исполнение которых предписано женщине еврейской религиозной традицией. Отмечается по достижении 12 лет.
(обратно)4
Нееврейку.
(обратно)5
Хокку в переводе Ю. Поляковой.
(обратно)6
Предводитель «Армии сопротивления Господа», стремящийся создать в Уганде теократическое государство, основанное на Библии и десяти заповедях.
(обратно)7
«Румпельштильцхен» – сказка братьев Гримм о дочери мельника и злом карлике, способном прясть золотые нити из соломы.
(обратно)8
Джуди Гарленд (1922–1969) – американская актриса и певица. В 1999 г. включена Американским институтом киноискусства в список величайших американских кинозвезд.
(обратно)9
Кванзаа (также Кваанза, Кванза) – один из афроамериканских фестивалей, представляющий собой неделю предновогодних торжеств. Главная цель праздника – поддержка, развитие и сохранение африканских традиций.
(обратно)10
Кашрут (в иудаизме) – дозволенность или пригодность пищи к употреблению с точки зрения еврейских обычаев.
(обратно)11
Седер – ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах, во время которой читается пасхальная молитва.
(обратно)12
Линия роста волос на лбу в форме треугольника вершиной вниз.
(обратно)13
Подразделение СС, отвечавшее за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха.
(обратно)14
Джон Диллинджер (1902–1934) – известный преступник, совершил серию убийств и ограблений банков.
(обратно)15
Один из внутренних лагерей Освенцима.
(обратно)16
Международный портал в Интернете, где можно купить почти все – как новые, так и подержанные товары.
(обратно)17
Залив Свиней (бухта Кочи́нос) – место знаменитой высадки кубинских эмигрантов в апреле 1961 г., организованной ЦРУ с целью свержения правительства Фиделя Кастро.
(обратно)18
Американский политик и публицист, в 1969–2000 гг. – идеолог крайне правой фракции Республиканской партии.
(обратно)19
Американский актер, сатирик, режиссер и писатель.
(обратно)20
Немецкая овчарка, известная своими ролями в фильмах «Зов Севера», «Рин-Тин-Тин спасает своего хозяина», «Геройский поступок Рин-Тин-Тина».
(обратно)21
Спасибо (нем.).
(обратно)22
Этнических немцев (нем.).
(обратно)23
Слабак! (нем.)
(обратно)24
Американский маньяк-убийца, лидер коммуны «Семья», члены которой в 1969 г. совершили ряд жестоких убийств.
(обратно)25
Германн (Арминий, лат. Arminius, 16 г. до н. э. – ок. 21 г.) – вождь германского племени херусков, нанесший римлянам в 9 г. одно из наиболее серьезных поражений в Тевтобургском лесу.
(обратно)26
СС (нем. SS, сокр. от нем. Schutzstaffel – «охранные отряды») – военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
(обратно)27
Звание соответствовало званию ефрейтора в вермахте.
(обратно)28
Тали́т или тáлес – в иудаизме молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.
(обратно)29
Креационизм – теологическая и мировоззренческая концепция, согласно которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом.
(обратно)30
Гауптшарфюрер (нем. Hauptscharführer) – звание в СС, которое существовало с 1934 по 1945 гг. Соответствовало званию оберфельдфебеля в вермахте и было самым высоким унтер-офицерским званием в организации СС.
(обратно)31
Музыкальный фильм, снятый в 1965 г.; удостоен пяти премий Американской академии киноискусств.
(обратно)32
Обозначение четвертой группы крови.
(обратно)33
Джордж Кастер (1839–1876) – американский кавалерийский офицер, прославившийся безрассудной храбростью, необдуманностью действий и безразличием к потерям.
(обратно)34
Пер. на русский Ю. Поляковой.
(обратно)35
Счастливой Хануки! (идиш)
(обратно)36
Шейне пуним – красивое лицо (идиш).
(обратно)37
Тфилин – элемент молитвенного облачения иудея: две маленькие коробочки (батим, букв. «домики») из выкрашенной черной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки (паршиот) из Торы.
(обратно)38
«Еврейский совет» – в годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления.
(обратно)39
Балетные па.
(обратно)40
Не тратьте свое золото! (нем.)
(обратно)41
Что случилось? (нем.)
(обратно)42
Налево (нем.).
(обратно)43
Направо (нем.).
(обратно)44
Наружу (нем).
(обратно)45
Мария Домбровская (1889–1965) – польская писательница, автор романов и новелл, драматург, литературный критик, публицист и переводчик.
(обратно)46
Злой дух (иврит).
(обратно)47
Пер. В. Левика.
(обратно)48
Кабинет герра гауптшарфюрера Хартманна, доброе утро (нем.).
(обратно)49
Я из Берлина (нем.).
(обратно)50
Большое спасибо, фрейлин. До свидания (нем.).
(обратно)51
Пожалуйста (нем.).
(обратно)52
Модель «форда», выпускавшаяся в 1908–1927 гг.
(обратно)53
Американская эстрадная певица и актриса сороковых-пятидесятых годов прошлого столетия.
(обратно)54
Да святится великое имя Его! (идиш)
(обратно)55
«Здравствуй, суббота!» – так каждый еврей приветствует наступление субботы.
(обратно)56
Американская писательница, ставшая известной благодаря роману «Практическая магия» (1996). Многие ее произведения написаны в жанре магического реализма.
(обратно)57
Джон Эдгар Гувер (1895–1972) – американский государственный деятель, занимавший пост директора Федерального бюро расследований на протяжении тридцати лет.
(обратно)58
Как его зовут? (нем.)
(обратно)




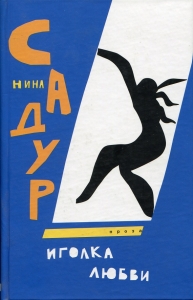
![Великое [не]русское путешествие](https://www.4italka.su/images/articles/633416/primary-medium.jpg)
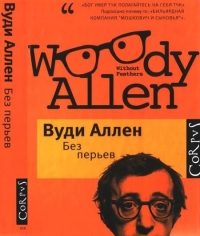

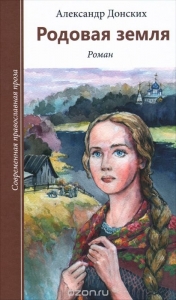


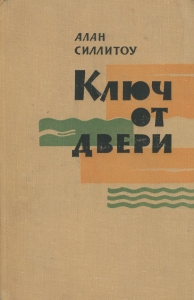
Комментарии к книге «Уроки милосердия», Джоди Линн Пиколт
Всего 0 комментариев