Петер Штамм Ночь светла
Во сне рукой коснешься ты меня — И ночь светла, и ночь яснее дня. Уильям ШекспирPeter Stamm
NACHT IST DER TAG
Copyright © 2013 by Peter Stamm
Translated from the German language: NACHT IST DER TAG
First published by: S. Fischer Verlag
© Жданова М. В., перевод, 2015
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
* * *
«Шаг за шагом, в череде простых эпизодов Петер Штамм пишет полотно романа, обнажая перед нами своих персонажей. “Ночь светла” ¾это книга о масках, которые мы носим, и о том, что в конечном счете может значить для нас потеря лица. Перед нами мастерски написанный роман, где незначительный эпизод словно превращается в воздушный шар. Герои начинают раздувать его, чтобы сделать ситуацию полностью прозрачной. Не понимая, что шар может лопнуть гораздо раньше».
“Rolling Stone”«В обыденном и удивительно точном языке Штамма есть нечто завораживающее. История главных героев кажется до боли знакомой и легко проникает в наше сознание, ну а автор наблюдает развитие событий извне, незаметно переживая внутренние драмы героев вместе с ними».
“Die Zeit”* * *
Снова и снова – или явь, или сон, то пробуждение ото сна, то погружение в невесомость. Джиллиан лежит в воде, и вода светится синим светом. А собственное ее тело отливает желтизной, но стоит всплыть на поверхность, как опять растворишься во тьме. Свечение исходит от воды, теплая вода заливает ее живот, ее грудь. Маслянистая вода, она застывает и каплями стекает с кожи. Джиллиан кажется, что она в замкнутом пространстве, где не слышно ни звука, но все-таки она не одна. Она любима, и ее тоже переполняет любовь.
Время движется скачками. Заслышав шум, Джиллиан открывает глаза. Вот теперь она действительно одна. На стене ряды светящихся точек, а ведь раньше их не было. Джиллиан закрывает глаза, и шум удаляется, стихает.
А вот подле нее возникает белая фигура и, успокаивая, простирает руки, но вот она вновь исчезает. Джиллиан ощущает легкий приступ дурноты, едва ли не живительный, эта чудесная слабость снова загоняет ее назад, вглубь, в сон. Как вдруг – светает. Все тонет в ослепительной белизне. На тумбочке поднос с завтраком. Пахнет кофе, пахнут цветы. Медленно пробуждается тело, вот ноги, вот рука откидывает одеяло, вот холодок прошелся по оголившейся коже. Болей почти нет, зато есть такое чувство, словно ты собираешься и распускаешься, как будто медленно пульсируя. О, вот чья-то рука лежит рядом, но только нажмешь на кнопку, как она становится твоей собственной рукой. И вот уже что-то заставляет тебя подняться всем телом, и слышится легкий гул. Дышать почему-то очень легко, будто воздух беспрепятственно заполняет легкие и тотчас улетучивается. Палец жмет на зеленую кнопку с нарисованным колокольчиком. Время течет.
Белая женщина входит в палату, идет к кровати и, не спрашивая, подставляет ночной горшок. И снова такое чувство, будто ты растворяешься в тепле, исходящем из твоей плоти.
– Сделали?
Джиллиан выдавливает из себя нечто вроде короткого стона. И мнится ей, будто сама она занимает лишь малую часть собственного тела, а тело кажется таким огромным – пустая оболочка, наполненная странными звуками, непроизвольными движениями. Так входишь в комнату, которая только что опустела. Но издалека доносятся обрывки разговоров, смех. Джиллиан спешит вниз по лестнице, и опять она опоздала! На столе только грязная посуда, пустые тарелки. И смятые салфетки на белой скатерти, усеянной винными пятнами и крошками.
* * *
Идет дождь. Джиллиан задается вопросом, как давно она тут лежит, но не надеется получить ответ. Сил едва хватило и на сам вопрос. Она сидит в кровати, наклонившись вперед, и не помнит, как приняла это положение. Вдруг она чувствует какой-то холод, сначала точечку, но точечка увеличивается до массивных размеров, штрих за штрихом вырисовывается этот массив в пустоте, и вот уже она чувствует его целиком. Пахнет спиртом. Включено радио, Джиллиан слышит сигнал точного времени и голос, как же быстро звучит эта речь, она различает лишь отдельные слова, не составляющие общего смысла. Уполномоченный ООН, марсоход «Бигль-2», победа в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, циклон с центром над Бискайским заливом. Местами кратковременные дожди. Мысленно она повторяет: уполномоченный ООН, марсоход, циклон… и пытается найти взаимосвязь. Ощущение холода проходит, массив исчезает из ее сознания, ночная рубашка опускается, подобно занавесу. Затаив дыхание, Джиллиан ждет, когда же занавес поднимется снова. Легонько кто-то ее подталкивает, и она, выбегая на сцену, быстро осматривается, как будто споткнулась. Обращается к публике и, глядя на рампу, делает низкий поклон. Три, четыре занавеса, и аплодисменты стихают, минуло ее быстротечное счастье. Джиллиан знает, что была нехороша, и режиссер ей скажет об этом в который уж раз. «Ты просто играешь, – скажет он. – А ролью надо жить».
– Наверное, вам лучше прилечь. Выключить радио или так оставить?
Джиллиан пытается сосредоточиться. Все зависит от ее ответа. Она хочет проснуться и встать, но не получается. Ноги не двигаются, даже не шевелятся, будто нет у нее ног. Радио замолкло, медсестра подошла к окну и задернула шторы. Джиллиан вспомнила про дождь. Циклон. Наверное, вот тут и есть взаимосвязь.
– Отдохните немного.
Отдохнуть? От чего отдохнуть? Что-то случилось. Смутные воспоминания как будто обволакивают Джиллиан, то нахлынут, то отступят. Стоит только протянуть руку, картинки исчезают и вновь поднимается голубая вода, опять эта голубая вода и пустой дом, первая ее сцена. Но и другое не уходит, другое по-прежнему здесь, другое только и ждет. Она знает: выход есть, и она этот выход найдет. Но позже.
* * *
Врач придвинул стул поближе к кровати, откинулся на спинку. В руках у него зеркальце в розовой пластмассовой рамке, маленькое, словно игрушечное. Спросил, как ее самочувствие.
– Лучше, – ответила Джиллиан. – Прихожу в себя.
Впервые ей удалось что-то вспомнить.
– Два дня, – ответил он на ее вопрос о том, давно ли она здесь находится. Хоть бы и месяц, хоть бы и год – она бы не удивилась. – Нам пришлось дать вам сильное обезболивающее.
– Здорово мы покатались. – Джиллиан попробовала пошутить и рассмеяться.
Она подняла было руку, однако врач перехватил ее быстрым, но мягким движением:
– Нет, вам нельзя прикасаться к этому месту.
И принялся описывать ее лицо, будто это посторонний предмет. Дал очень толковую и подробную его характеристику, но только Джиллиан не совсем поняла, к чему весь этот рассказ. А врач уже перешел к описанию методик и операций, которые необходимо в данном случае провести.
– Через полгода почти ничего не будет видно.
– Ничего – это в каком смысле?
– Ухо нам легко удастся реплантировать, а вот нос весь состоит из мелких сосудов. Нос придется изготовить для вас заново. Пока смотрится не очень-то красиво, – продолжил врач, – но все же, мне кажется, будет лучше, если вы на себя взглянете.
Джиллиан быстро закрыла и тут же вновь открыла глаза, протянула руку. Врач дал ей зеркальце. Она покрутила зеркальце в руках, как оружие, с которым не умеет обращаться. Обвела взглядом окно, множество цветочных букетов в комнате, дверь и лицо врача. Тот улыбнулся и задал какой-то вопрос, но она не вслушивалась, все вертела зеркальце в руках, будто пытаясь найти на его поверхности безопасный уголок, и, наконец, отложила:
– Скажите, это полный ужас?
Врач кивнул и еще раз напомнил про полгода.
– Кто вас не знает, тот почти ничего не заметит.
– А тот, кто знает?
– Мы сделаем все возможное, чтобы добиться сходства, ведь уж чего-чего, а фотографий ваших хватает. Вы будете удивлены, – заверил он. – Пластическая хирургия продвинулась далеко вперед.
– Как же я чувствую запах кофе, если у меня нет носа?
– Обонятельные клетки сохранились, – пояснил врач, указав на собственную переносицу, и встал. – Оставить вам зеркало?
Сначала она отказалась, потом согласилась.
Только врач вышел, как Джиллиан быстрым движением подняла зеркало и поднесла близко к лицу, словно хотела за ним спрятаться.
* * *
Никак не могла вспомнить, когда же ей сообщили. Может, и не сообщали вовсе, может, она просто сама знала. Или только догадывалась, что Маттиас мертв. Тишина, только слышно, как ветер шумит в деревьях, да капли воды, да прерывистое похрустывание, словно понемногу распрямляется погнутый металл. Свет включался и выключался, оранжевый свет. Джиллиан не чувствовала боли, заметила только, что лицо у нее мокрое. И во рту металлический привкус крови. Голову повернуть никак не удавалось, но краем глаза она увидела Маттиаса, тот склонился на руль, будто заснул от усталости. Он не шевелился, он появлялся, исчезал, снова появлялся, снова исчезал. Лицо его казалось темным даже на свету… и багровым, как у алкоголика. Вот бы выключить ей эту мигалку, вот бы хорошо стало, а она смогла бы наконец поспать. Но пока даже пошевелиться не удавалось. А потом медленно подступила боль – грудь, ноги, лицо. Казалось, прежде она своего лица никогда не чувствовала, а теперь его свело болью, как рука сжимается в кулак. Маттиас мертв. Куда же ей девать все его вещи? Как встретиться с его семьей, с друзьями? Вспомнила продукты в холодильнике, как они там потихоньку портятся, и цветы в горшках, как они засыхают. И вдруг твердо поверила, что Маттиас не умер. Подумала, что такого быть не может, и эта мысль принесла облегчение, она едва не рассмеялась. Такого попросту не может быть.
* * *
Джиллиан проснулась, у кровати стоит отец, рядом с ним врач. Тихонько переговариваются. Джиллиан не стала вслушиваться. Закрыла глаза, снова увидела свое лицо и провал в самой его середине, и сквозь этот провал она глядит внутрь себя. Попыталась поднять руки, чтобы спрятаться, защититься. Одеяло давило на грудь, она едва могла пошевелить пальцем. Вдруг стало тяжело дышать. Открыла глаза. Двое мужчин так и стоят рядом. Теперь они молча смотрят на нее, смотрят вниз, смотрят внутрь. Джиллиан не удалось отвести этот их взгляд, остановить, предотвратить. Она закрыла глаза и помчалась прочь, скрылась от этого взгляда в укромном уголке. Пустая игра, вечная карусель, нескончаемые куплеты детской песенки. И тут она услышала свое имя – врач его произнес. Посмотрела вверх и встретилась глазами с отцом. Отец отвернулся.
– Как вы себя чувствуете?
Она не ответила. Нельзя себя выдавать. Раз уж спряталась, так не шевелись, и тогда им тебя не найти. Часами она могла выжидать в своем убежище – в платяном шкафу или за диваном, а то и на чердаке, – пока вдруг не поймет, что никто ее не искал. Тогда она прокрадывалась назад, показывалась почти в открытую, но получалось так, что она из-за долгих пряток будто становилась невидимкой. Родители смотрели сквозь нее. Какое облегчение, когда простоишь добрую четверть часа в кухонном дверном проеме, а мать наконец велит накрывать на стол, словно ничего не произошло. Джиллиан услышала, как дверь открылась, и увидела, как отец вышел из палаты. А врач следом за ним.
Сломалась, сломалась! Джиллиан помнила то отчаяние, с каким она прижимала одну часть лица к другой, словно они возьмут да и срастутся. И не могла вспомнить, как она вообще оказалась в этой искореженной машине. Помнила только невесомость. Как вдруг осознала, что время движется в одном направлении и его нельзя повернуть вспять. Первое ее воспоминание – вот это чувство: невозможно пошевелиться – и сила, и тяжесть ее оставили. Казалось, сознание уже покинуло тело, и тело, воспарив ввысь, со страшной скоростью носится в пространстве, ударяется и отскакивает, и опять мчится в нелепых своих метаниях.
Джиллиан всегда знала, что она в опасности, что однажды придется ей заплатить за все. Вот теперь и заплатила. Врач спросил, помнит ли она хоть что-то, но она лишь тихо покачала головой. Не в знак отрицания, нет, она просто попыталась отыскать свои воспоминания на белых стенах. Однако увиденные картины ничего общего с нею самой не имели. Работа, родители, Маттиас – все это из другой жизни.
– Все это есть, только меня нет, – вымолвила она.
* * *
Выверенные движения медсестры, ее напряженная улыбка.
– Скажите, если будет больно.
Боль состояла из коротких вспышек в непосредственной близости от ее лица, фейерверк уколов, которые Джиллиан к себе никак не относила. Тело на них реагировало, вздрагивало или рефлекторно пыталось не поддаваться. Сестра извинилась, в голосе ее слышалось нетерпение. Джиллиан не собиралась извиняться за свое тело, оно всего лишь досталось ей по наследству. Она здесь третья сторона, она только что здесь поселилась. Придет кто – откроет дверь и впустит. И наблюдает за посетителем, пытается прочесть в его взгляде, каким он находит этот дом. Радовалась, если он выражает восхищение. Да, здесь хорошо, не правда ли? Но и сделать предстоит еще немало. И смеется. Сестра объясняла ей свои действия, но Джиллиан не слушала. Она пыталась соотнести боль со своим лицом, создать единую картину, но ей не удавалось. Картина неполная, пропорции смещены.
– Сейчас заканчиваем, – сообщила медсестра. – Вот так, все хорошо получилось.
И вышла из палаты. Зеркало лежит на тумбочке. Джиллиан думала о зеркале, не о своем лице. Зеркало – вот лицо, которое она может держать перед собой. Нерешительно протянула руку, чуть помедлила, но все-таки его взяла. Повертела, покрутила, поднесла к глазам обратной стороной и разглядывала блестящую поверхность, слабое отражение своего лица, неповрежденный его отблеск. Если бы кто-то глядел на нее сейчас, то лицо его, отразившись в зеркале, стало бы ее лицом.
И все-таки она перевернула зеркало, долго и пристально на себя смотрела. Раньше она, вставая порой перед зеркалом, заглядывала себе глубоко в глаза. Но глаза были как стекляшки, а зрачки – как провалы, за которыми скрывалась непроницаемая тьма ее тела.
Изо всех сил она старалась узнать себя в этой плоти. Узнавала глаза, брови, губы, но они не составляли целого. Когда врач или кто-то из сестер входил в палату, она быстро откладывала зеркало на тумбочку, воображая, что облик ее там и остается, что она может скрыть его от посторонних взглядов. Пыталась прочитать в глазах сестер отвращение или ужас. Но видела лишь равнодушную любезность.
Она разглядывала лица сестер, мысленно пытаясь в них перебраться. Подражала их мимике, вытягивала верхнюю губу, закрывая нижнюю, прищуривалась, морщила лоб. Заводила то с одной, то с другой сестрой долгий разговор, чтобы понаблюдать за ее лицом и отдохнуть.
* * *
Отец поставил стул к кровати. Повернешь голову, и видно, как он сидит, уставившись на стену, а там плакат с какой-то выставки – на зеленом поле три красные точки по диагонали. – Нравится тебе картинка?
Три точки. Она подняла голову с подушки. Отец быстро взглянул на нее и тут же отвернулся.
– Джон Армледер, – произнесла она и в самом имени художника вдруг почуяла опасность.
С нее сдерут кожу – ну, она не совсем поняла, но врач вроде бы собирается отделить кожу ото лба, не нарушая кровоснабжения, спустить пониже и использовать для нового носа.
– Маттиас погиб, – сказал отец.
– Да, – ответила она, – конечно.
Она знала, она ведь его видела. Слезы уже текли по вискам, а она и не заметила, что плачет. Отец достал из пачки на тумбочке бумажный платочек и промокнул ей глаза – непривычно нежное движение.
– Мне очень жаль.
«Я могла погибнуть!» – эти слова Джиллиан повторяла про себя снова и снова, но какой в них смысл? Поток слез прекратился так же неожиданно, как вначале хлынул. Отец выбросил платочек в мусорное ведро у двери и, вернувшись к кровати, снова уселся на стул. Выждав минутку, он сказал, что надо бы прояснить несколько организационных вопросов.
– Мама заходила к вам домой, сделала все, что нужно.
С тех пор как Джиллиан попала в больницу, она часто вспоминала детство и то время, когда уже покинула родительский дом: театральное училище и годы, проведенные в маленьких провинциальных театрах. Смутно вспоминалось ей и продолжение истории – брак с Маттиасом, работа на телевидении. Она и финал домыслила: сцена в саду, солнечный летний день, она стала старше, но как женщина все еще привлекательна, и мужчина там есть, пьют белое вино и беседуют о былых временах.
– Маттиас погиб, – произнесла Джиллиан.
– Одна и четыре десятых промилле алкоголя в крови, – ответил отец. Просто констатировал факт, будто сообщил размер одежды или вес Маттиаса.
– Я устала…
– Но главное, что ты осталась жива.
– Так только говорится. А я не знаю…
Отец, коротко взглянув на нее, тут же отвел глаза:
– Твоя подруга рассказывает, что вы с Маттиасом поссорились.
– Очень может быть, – согласилась Джиллиан. – Наверное, мы поссорились.
* * *
Маттиас обнаружил пленку и отнес проявлять в фотомастерскую. Они уже собирались выехать к Дагмар справлять Новый год, как вдруг он раскинул перед нею эти снимки:
– Кто фотографировал?
Джиллиан собрала фотографии, даже не рассмотрев, и сунула обратно в конверт:
– Тебя не касается!
Маттиас язвительно расхохотался:
– Да уж, обычное дело – фотографироваться в таком виде.
– Не волнуйся, для публики эти снимки не предназначены, – заверила она.
– Значит, ты этим занималась для удовольствия?
– А если я подарок тебе готовила?
Маттиас замолчал на минутку. Потом все-таки продолжил:
– Что, если тот тип в мастерской сделал отпечатки и для себя? Но тебе, похоже, все равно, кто на тебя смотрит в таком виде!
– Ты сам понес проявлять пленку, я тебя об этом не просила.
Маттиас вышел из комнаты. Час спустя он, одетый в темный костюм, появился в дверях с вопросом, готова ли она ехать. В этот миг Джиллиан потеряла к нему всякое уважение.
– Ладно, – сказала она, – поехали. Сейчас только переоденусь.
Пошла в спальню и нарядилась в самое короткое свое платье, в черные чулки сеткой, в туфли на высоченном каблуке. Губы накрасила ярко-красным, на шею за ушами нанесла чуточку духов – роскошный аромат, подарок Маттиаса, она этими духами почти не пользовалась. Маттиас нетерпеливо топтался в прихожей.
А когда она прошла мимо него к входной двери, тихо спросил:
– Ты на панель собралась или на новогоднюю вечеринку?
В машине они не обменялись ни единым словом, а в гостях он изо всех сил старался к ней не приближаться. Джиллиан издалека наблюдала, как он там стоит – причесочка аккуратная, костюм поблескивает.
К двум часам ночи только самые стойкие все еще сидели за большим столом, уставленным грязными тарелками и пустыми бокалами. Маттиас, единственный мужчина в компании, держался в сторонке, с бокалом в руке он через дверь террасы вглядывался в темный сад. Дагмар недавно рассталась со своим другом, и тут вдруг она сболтнула, что ей стоит все более значительных усилий воспринимать мужчину как эротический объект. Вопреки договоренности, что домой машину поведет Джиллиан, она выпила лишку. Потому и согласилась с Дагмар, еще и добавив, что женское тело вообще красивее мужского. Дагмар встала и направилась в туалет. Но по дороге приостановилась позади Джиллиан, положила руки ей на плечи и поцеловала в щечку. Маттиас распахнул дверь террасы и шагнул в сад.
Маттиас был редактором по культуре в иллюстрированном журнале, где про культуру почти ничего не писали. Когда они познакомились, Джиллиан еще работала на местном телеканале. Маттиас произвел на нее впечатление, поскольку в культурных кругах знал всех и вся. Их пути часто пересекались, Маттиас знакомил ее со всякими людьми и каждый раз уговаривал остаться на празднование премьеры. Однажды морозным зимним днем они встретились на премьерном показе в маленьком театре, расположенном высоко над городом. После спектакля сидели вместе, за одним столом с артистами. Правда, Джиллиан почти весь вечер говорила только с композитором. Тот заинтересовался ее необычным именем, она объяснила: мать у нее – англичанка. Джиллиан казалось, будто композитор знает о ней такое, что ей и самой неведомо. Далеко за полночь все вместе вышли из театра, а улица завалена снегом, и ветер ледяной. Маттиасу непременно хотелось показать ей что-то такое особенное. И когда остальные потопали к станции канатной дороги, он перевел ее через улицу к маленькой площадке, откуда открывался изумительный вид. Огни города сверкали в холодном воздухе, и казалось, даже до звезд рукой подать. Маттиас показал ей на памятник под большой липой: там похоронен Бюхнер. Обнял ее за плечи и рассказал сказку про бедного мальчика из «Войцека». Джиллиан ее помнила еще со школьных лет… И луна – гнилушка, и звезды – маленькие жучки золотые, и земля – горшок перевернутый… Тут они поцеловались.
Тем вечером ничего более не произошло. На трамвайной остановке они разошлись и поехали в разных направлениях. Лишь весной они впервые провели вместе ночь. Джиллиан, к тому времени пережив два-три бурных романа, радовалась, что с Маттиасом все так просто и он, кажется, по-настоящему ее полюбил. Но… ласковый-то он ласковый, а чем дальше, тем реже спали они друг с другом. И дел у обоих всегда по горло, так что Джиллиан раз за разом откладывала разговор на эту тему.
Когда он, упав на колени, попросил ее руки, она только рассмеялась и взъерошила ему волосы. Дело было в дорогом ресторане, где все ее знали, обращались к ней по имени. Сначала ситуация показалась ей неловкой, а потом даже понравилась. В последующие годы у них бывали и тщательно инсценированные романтические ужины, и завтраки с шампанским, и вечеринка сюрпризов с гостями в масках, когда ей исполнилось тридцать пять, и выходные дни в спа-отелях, и ночи в номерах для влюбленных.
Вскоре Джиллиан взяли ведущей на телевидение, и она вдруг стала зарабатывать столько же, сколько Маттиас. Но страдал он скорее от того, что в событиях, которые освещали они оба, Джиллиан всегда играла более значительную роль. Лишь тогда она заметила, что знает-то он действительно всех, но всерьез его не воспринимает никто. И вот, например, она берет у кого-то интервью, а сама краем глаза видит, как Маттиас толчется где-нибудь поблизости. Только выключат камеру, как он подойдет и встрянет в разговор. Да еще демонстративно обнимет ее или поцелует.
– Он в самом деле обиделся? – поинтересовалась Дагмар, когда вернулась.
– Просто мы поссорились сегодня вечером, – ответила Джиллиан.
Она поднялась и пошла в сад. Маттиас стоял на террасе, курил.
– Что случилось? – Ее голос прозвучал куда более резко, чем ей хотелось бы. – Давай-ка иди внутрь, холод-то какой.
Но ему померещилось, будто она как-то особенно смотрела на Дагмар. Вот он и спросил:
– Дагмар сделала эти фотографии?
– Знаешь что? С меня хватит! – возмутилась Джиллиан.
– Мы уходим, – сказал Маттиас, будто не слыша ее.
– Мне нельзя за руль, – сообщила она, нарисовав указательным пальцем нечто вроде спирали вокруг головы. – Можем остаться у Дагмар.
– А тебе только того и надо.
Бросив его на террасе, она вернулась в дом. Кто-то ей что-то говорил, она не отвечала, налила себе в стакан граппы, выпила и тут же снова налила.
– Останетесь ночевать? – спросила Дагмар.
– Теперь уж придется! – рассмеялась она в ответ.
* * *
– Да, мы поссорились, – подтвердила Джиллиан. – Но теперь это не важно.
Отец поднялся.
– Возьми с собой хоть парочку букетов, – попросила она. – Понятия не имею, кто их все прислал.
– Зачитать тебе карточки?
Она только головой покачала:
– Так и кажется, что меня тут выставили в гробу для прощания.
После обеда позвонила мать, поблагодарила за цветы. Спросила, когда можно навестить Джиллиан.
– Лучше не надо совсем.
Ведь любое обычное, нормальное лицо напоминало ей о собственном, погубленном. И было у нее такое чувство, будто она должна принять на себя весь тот ужас, что испытывают при виде ее другие, должна утешать их своим мужественным поведением. Выносить ей удавалось лишь присутствие врачей и сестер.
Мать не стала настаивать. Сообщила, что приглядывает за квартирой, холодильник освободила, грязное белье постирала.
– Спасибо, – сказала Джиллиан, – не стоило беспокоиться. Завтра у меня операция, а потом разберемся.
И добавила, что она очень устала.
– Ну, всего тебе хорошего.
– И тебе тоже.
Попыталась заснуть, чтобы только не думать об аварии, об операции, о Маттиасе.
Ближе к вечеру отец заглянул к ней снова. Очень деловитый.
– После первой операции ты в принципе можешь отправиться домой, – объявил он. – Но целесообразнее было бы остаться в больнице до тех пор, пока ты все-таки…
– Пока я не стану похожей на человека? – перебила Джиллиан.
– Пока ты не станешь нормально ходить. Когда тебе разрешат подниматься на ноги?
– Мне вставили пластину, значит, через неделю я, по идее, уже должна пойти, – пояснила она.
– Да и вообще здесь хорошо, – продолжил отец, – почти как в отеле. Дома мы не сумеем обеспечить тебе такой уход, как здесь.
– Не надо мне никакого ухода, – сказала Джиллиан.
– Если что нужно – звони. – Отец поднялся, протянул ей руку.
– У меня есть все, что нужно. Маме привет передавай.
– Ты ее тоже пойми, – сказал отец, уже стоя в дверях.
* * *
Предоперационная полным-полна людей, облаченных в зеленое. Чтобы лучше их разглядеть, Джиллиан попыталась привстать, но не сумела. Снизу видела лица, повязки и глаза-щелочки, над ними брови, в этом ракурсе всегда очень внушительные, и забавные марлевые шапочки. Какое-то лицо склоняется к ней, глаза дружелюбные, вокруг морщинки, и звучит голос: «Как вы себя чувствуете?» Вечно один и тот же вопрос: как она себя чувствует. Она-то задает себе другие вопросы. Что от меня осталось? То, что осталось, не рана? Как же она срастется? Кто это будет – я или все-таки не я?
Не успела она дать ответ про самочувствие, как лицо уплыло вверх и сплющилось, взгляд обратился в другую сторону. Но шевелилась повязка, и Джиллиан слышала слова, стараясь их не понимать, слышала спокойно и уверенно отданные указания. И сама ощутила сосредоточенность, какое-то радостное ожидание. Почему-то ей вспомнились школьные поездки. Всем классом собирались на вокзале, один за другим присоединялись к группе. Коротко приветствовали друг друга, вообще много не болтали. Хирург что-то сказал, совсем тихо. Кто-то захихикал, но подавил смешок. Движения их пока еще казались случайными, каждый занимался чем-то своим, стараясь не попадаться другому на пути. Анестезиолог подробно объяснял Джиллиан, как намеревается действовать. Она не знала, чего ожидают от нее самой. Зеленые существа исчезали одно за другим, и на миг Джиллиан показалось, что про нее тут вообще забыли. Но одновременно ей показалось, что ее поднимают за ноги, заталкивают в черную трубу и отпускают. Она помчалась вниз, сквозь тьму, все быстрее и быстрее, мимо проносились огни, шумы вдруг зазвучали где-то рядом, звонкий удар колокола, звук голоса, протяжный до неразборчивости и отдающийся эхом. И вдруг – совсем светло. Она почувствовала, как чья-то рука мягко тронула ее плечо. И снова появилось это дружелюбное лицо. Внутри у нее все сжалось. Почувствовала, как чьи-то руки поднимают ее, и вот настоящая качка, и вот металлический стук. Над нею проносятся лампы. Дышать тяжело. Нос заложен! Значит, у нее опять есть нос.
* * *
Ночью после операции Джиллиан снились кошмары. Наутро она не вспомнила своих снов, но сохранила тревожное ощущение от каких-то ночных просторов, по которым движутся невидимые люди, друг к другу они не обращаются, но таинственным образом между собой связаны. Откроешь дверь – а за нею возникает новое пространство, отвернешься – пространство исчезнет.
Зеркала не было на том месте, где она его оставила. Врач, вошедший в палату, держал это зеркало в руке. Он еще раз подробно объяснил ей, как он действовал: извлек хрящ из реберной части и восстановил нос, взял кожный лоскут со лба и покрыл им новый нос.
– Пока что красоты никакой, – сказал он. – Вам пока трудно будет представить, как оно заживет, но, уверяю вас…
Она сказала, что хуже прежнего все равно быть не может.
– Я вами очень доволен, – заключил он.
– Почему? Я ведь ничего не делала.
– Вы вели себя мужественно.
Джиллиан казалось, что он пытается выиграть время. Она протянула руку. Врач, кивнув, положил зеркало на одеяло перед ней:
– Через три недели кожа прирастет настолько, что мы сумеем окончательно отделить ее ото лба. А через три месяца вернетесь к нам. Пока вам надо на некоторое время остаться тут. Но после второй операции вы в принципе сможете работать. Есть кому о вас позаботиться?
– Нет, – сказала Джиллиан, и тут же, повинуясь неожиданному импульсу: – То есть да, это не проблема.
Врач недоуменно пожал плечами:
– Главное – ни о чем не волнуйтесь. Все будет хорошо.
Дышать ей становилось труднее. Дотрагиваясь кончиком языка до верхней губы, она нащупывала пересохший бинт и ощущала вкус крови. Врач ушел. Она с опаской взяла в руки зеркало, лежавшее на одеяле.
* * *
После обеда позвонила отцу на работу. Наверное, рядом с ним кто-то находился – может, из мастерской, может, заказчик. Отец приглушал голос и, как она заметила, старался поскорее закончить разговор.
– Я хотел навестить тебя сегодня, – проговорил он. – Загляну ненадолго после работы.
– Лучше не надо, – сказала она в ответ.
– В самом деле? – рассеянно переспросил отец. – У тебя есть все, что нужно?
– Мне ничего не нужно, кроме покоя, – заявила Джиллиан. – Не надо меня навещать.
– Знаешь, дел по горло, – пожаловался он. – Перед отпуском все от меня чего-то хотят.
– Теперь это выглядит еще страшнее! – крикнула в трубку Джиллиан и неожиданно расплакалась.
Отец, вроде бы того и не заметив, сказал только, что такова часть лечения, ведь врач сам ему показывал снимки разных этапов курса.
– Послушай, это совсем не то, что у тебя в мастерской! Автомобиль всегда можно хоть как-то залатать.
– Много ты понимаешь, – улыбнулся отец. – У тебя все хорошо?
Она невольно рассмеялась:
– Да, у меня все хорошо.
– Заскочу к тебе на минутку сегодня вечером, – повторил он и повесил трубку.
Перспектива его прихода вгоняла Джиллиан в беспокойство. Да, можно представить, что однажды появится на свет человек с другим лицом, и этот человек – она сама. Но между нею и этой новой персоной связи так же мало, как между нею и той, кем она была до аварии. В театральном училище они то и дело примеряли на себя разные выражения лица и пробовали разные жесты, таким способом изображая и испытывая необходимые переживания. Опустишь уголки губ – и чувствуешь легкую, необъяснимую грусть; поднимешь уголки губ – и настроение тут же улучшается. Теперь, без лица, такое ей не удается. Любые чувства, будь то гнев, скорбь, успокоение – что угодно, испытать не удается. Даже чужие лица – медицинских сестер, например, или те, что в газетах, – теперь вдруг стали казаться ей искаженными или невыразительными.
* * *
Вечером отец, повесив пальто у двери, замешкался. Постоял, постоял, только потом подошел. Поглядел на нее, не произнося ни слова и крепко ухватившись за спинку кровати, затем нерешительно присел на стул рядом. Пока разговаривали, на нее не смотрел, только держал за руку. Говорил тише и неувереннее, чем во время последних своих визитов, и задержался не более чем на четверть часа.
После его ухода Джиллиан позвонила свекрови. К телефону долго никто не подходил. Наконец в трубке раздался запыхавшийся голос Маргрит. Услышав, кто на связи, она замолчала.
– Мне очень жаль… – сказала Джиллиан.
– Что ж теперь поделаешь, – ответила Маргрит.
И рассказала, как хоронили Маттиаса, как было красиво, и еще попросила Джиллиан подтвердить, что та не возражала бы против выбора музыки и ресторана, куда направились после похорон, и текста объявления о смерти, которое тут же и зачитала. И взялась перечислять всех, кто явился на похороны.
– Ладно, ладно, – перебила Джиллиан. – И так ясно, что ты все сделала правильно.
– Жаль, ты не могла там быть, – посетовала Маргрит.
– Да уж, – согласилась Джиллиан. – Как выйду из больницы, схожу на могилу.
Отношения с Маргрит были у нее куда лучше, чем с собственной матерью. Они еще немного поговорили, но вскоре Джиллиан призналась, что уже устала.
– Звони в любое время, – попрощалась Маргрит.
* * *
Джиллиан задавалась вопросом, что сказала бы Маргрит, что сказали бы родители, если б увидели фотографии. На миг испугалась, что мать могла найти снимки, когда заходила в квартиру, но тут же сообразила, что сунула конверт в свой письменный стол. Не глядя. Они – документальное свидетельство того вечера, о котором ей хотелось забыть. Но помнились и стыд, испытанный ею тогда, и собственное бегство. Одевалась, будто в трансе. Хуберт стоял у распахнутой двери. Впервые за весь вечер он по-настоящему ее рассматривал. Джиллиан схватила пленку, лежавшую на столе, и тут же ушла, причем никто из них не произнес ни слова. Побежала к станции. На платформе один-единственный мужчина. И смотрит на нее так, словно она все еще раздета, и вот тут она вдруг осознала, что попросту не вынесет поездки на электричке или на трамвае. Пошла по улице в сторону центра, сначала через какой-то промышленный район, потом через кварталы, где никогда еще не бывала. То и дело попадались ей группы костюмированных детишек, переходивших от одного дома к другому. Вели они себя поразительно смирно. Некоторые передвигались в сопровождении взрослых, но те держались в сторонке, когда дети звонили в двери и выпрашивали сладости. Джиллиан понадобился целый час, чтобы добраться наконец до дому и захлопнуть за собою дверь. Хорошо, что Маттиаса еще нет. Она могла бы засветить и уничтожить пленку, но поддалась абсурдному ощущению, что именно таким способом выпустит свои изображения на волю. Потому и спрятала пленку внутри письменного стола. Набрала горячую ванну, несколько раз с головой окунулась в воду.
Маттиас вернулся домой, когда она еще лежала в ванне. Слышно было, как захлопнулась входная дверь, и вскоре он вошел в ванную комнату, сел на краешек ванны. Позабавлялся с последними клочьями пены, плавающими на поверхности воды. Джиллиан очень хотелось остаться в одиночестве, но он стал рассказывать ей про заседание в редакции журнала. Она не слушала. Сидя в ванне, качнулась в сторону, потянулась за купальным халатом. Маттиас сам взял халат и, распахнув, держал для нее наготове. Она встала, повернувшись при этом к нему спиной. А когда вылезла из ванны, он обнял ее и поцеловал. Она же, выскользнув из объятий, схватила полотенце, чтобы вытереть волосы.
Со временем Джиллиан и вовсе забыла про эту пленку, а вспоминала только тогда, когда вдруг зачем-нибудь открывала ящик. Так ведь и не спросила Маттиаса, что ему понадобилось у нее в письменном столе. Может, шпионил за ней, может, искал какую-нибудь скрепку или почтовую марку. Знать бы, действительно ли тот лаборант, который проявлял пленку, сделал копии и для себя. Впрочем, какое ей дело. Той женщины, что на фотографиях, больше нет.
* * *
На следующее утро, вскоре после завтрака, в больницу явилась сотрудница полиции. Красивая, невысокого роста. Пожала Джиллиан руку и представилась:
– Мануэла Бауэр, кантональная полиция.
Вытащила ноутбук и маленький принтер. Джиллиан попыталась было сказать, что все равно ничего не помнит, но сотрудница возилась со своей техникой и не обратила внимания на протесты. Наконец, подготовившись, она уселась на стул возле кровати и застучала по клавиатуре. Перечислила Джиллиан ее права, специально отметив, что та не обязана давать показания против своего супруга и против самой себя.
– Это был несчастный случай, – сказала Джиллиан.
Но сотрудница полиции возразила: речь, мол, идет о нанесении тяжких телесных повреждений.
– Вы собираетесь его посадить, что ли? – не удержалась Джиллиан.
Сотрудница полиции пояснила, что покойному, разумеется, невозможно предъявить обвинение в совершенном преступлении, однако дело должно быть расследовано со всей тщательностью. Она подробно расспрашивала Джиллиан о вечере накануне аварии, выясняла, к кому они ездили в гости и кто еще там находился. Джиллиан задавалась вопросом, привлекут ли ее к ответственности, если она во всем признается. Она – тот единственный человек, кто знает всю правду, однако давать показания она ведь не обязана.
И тем не менее она рассказала все, что помнила.
– Из-за чего же произошла ссора? – спросила женщина-полицейский.
– К делу это не относится, – ответила Джиллиан. – Так, пустяки. Но сразу после этого я выпила лишнего.
– Вы попросили мужа сесть за руль?
– Да и так было ясно, что я не в состоянии вести машину.
– Но вы могли вызвать такси.
– Могли, – подтвердила Джиллиан. – И остаться там ночевать тоже могли. Но мы этого не сделали.
Ей казалось, она действительно все позабыла, однако теперь, пока рассказывала, вспомнила очень многое. Как она, садясь в машину, старалась все-таки держаться на ногах, как Дагмар уговаривала их остаться. Маттиас успокаивал, он ведь поедет по второстепенным дорогам, там уж точно никакого контроля нет. Ее мутило, она покрутила рукоятку, стекло опустилось, и холодный ночной ветер резко ударил ей в лицо. Маттиас вел машину молча. В эту минуту она даже и представить не могла, что они когда-нибудь помирятся. Угнетала только мысль о том, каков будет разрыв.
Потом она, видимо, задремала. Когда пробудилась, ехали по узкой дороге через лес. Дорожное полотно блестело от влаги, между деревьями стелился туман. Другие машины им ни разу не повстречались. Из радиоприемника, включенного на полную громкость, несся агрессивный рок. Джиллиан нашла другую станцию, где передавали джаз, и закрыла глаза. Маттиас, не произнеся ни слова, опять переключил радио на рок. Не в это ли мгновение он потерял контроль над автомобилем? Следующее ее воспоминание – невесомость. А потом – зловещая тишина.
– Он сбил на дороге косулю, – сообщила Мануэла Бауэр.
– Это не его вина! – сказала Джиллиан и невольно залилась слезами.
– Он не должен был садиться руль, – отрезала сотрудница полиции. – Независимо от того, что вы говорили и что вы делали.
– Это моя вина… – все еще всхлипывала Джиллиан.
– К сожалению, ничем не могу вам помочь, – в голосе женщины-полицейского слышалось нетерпение, – с уголовно-правовой точки зрения вины на вас нет.
Уходя, она вручила Джиллиан памятный листок организации, оказывающей помощь жертвам преступлений, и поинтересовалась, не нуждается ли она в поддержке какого-либо рода или в услугах психолога.
Джиллиан отрицательно покачала головой:
– Об этом позаботятся мои родители. Мне вот нос нужен, это да.
И попробовала было засмеяться, но даже сама напугалась раздавшихся при этом отрывистых звуков.
* * *
Шофер такси помог Джиллиан пересесть в кресло-коляску и завез ее в подъезд, потом вернулся к машине за сумкой. Поставил ее рядом с коляской и замешкался.
– Идите, идите, – сказала ему Джиллиан. – Сейчас ко мне спустятся.
Сумку ей пришлось положить на колени, потому что одной рукой управлять коляской не получалось. На лифте она поднялась на верхний этаж. К счастью, во всем доме нет ни одного порожка. Настоящий шок – тишина в квартире.
– Ау! – закричала Джиллиан, хотя и знала, что откликнуться некому. – Ау!
Квартиру они купили три года назад. Просторные комнаты, светлый паркет и окна до самого пола. В гостиной вся стена стеклянная, и дверь ведет на балкон. Оттуда вид на весь город и на озеро. Если встать напротив дома, с улицы просматривается чуть ли не вся гостиная, но Джиллиан это нисколько не смущало, даже наоборот. Ей нравилась эта прозрачность, а когда друзья говорили, что она, дескать, поселилась в витрине или в аквариуме, Джиллиан только смеялась в ответ.
По соседству проживали в основном пожилые люди, большие окна они завешивали шторами, а по вечерам еще и опускали жалюзи.
Джиллиан почти никого из соседей не знала. Здоровались только, встречаясь в подземном гараже или на лестнице.
Гостиная оказалась прибрана, а на столе – букет увядших роз. Джиллиан купила их две недели назад, чтобы подарить Дагмар, но в конце концов забыла взять с собой. Вероятно, мать оставила их тут из чувства такта. Вода в вазе мутная и дурно пахнет, некоторые лепестки уже осыпались. Джиллиан сгребла лепестки рукой, а они на ощупь мягкие, как бархат. Подержала минутку в сжатом кулаке, потом выпустила.
Вкатилась в кухню, чистую до зеркального блеска. Типичный для ее матери способ выказать любовь и заботу. Иногда, наблюдая, как мать занимается домашними делами, Джиллиан невольно вспоминала, что та когда-то работала стюардессой. Все движения выверенные, и даже улыбка дежурная. С некоторых пор утратив к матери всякое доверие, Джиллиан относилась к ней с тем же дружелюбным безразличием, что и отец.
Холодильник почти пустой, если не считать баночек с горчицей, вялеными томатами в оливковом масле, маринованными огурцами, да нескольких банок пива и бутылки просекко, всегда стоявшей наготове для нежданных гостей.
Джиллиан попыталась перебраться с коляски на унитаз. Но вместо того, чтобы взять в гостиной костыли, она оперлась о раковину. Однако ноги подкосились, и она рухнула на пол, ударившись о подставку для ног коляски, причем та пришла в движение и с грохотом врезалась в стену. Вот так, в сидячем положении, Джиллиан подтащила себя к унитазу и в него уперлась. Послушай она врача, так вообще осталась бы без коляски, но все-таки ей удалось выпросить у него эту коляску на первые дни. Сидя на полу, она все же сумела приспустить брюки. Холодный кафель подстегивал желание, она попыталась подняться. Увы, поздно, уже чувствовалось растекающееся большой лужей тепло. Кое-как Джиллиан спустила брюки ниже, но ткань промокла и потемнела. Ее затошнило. Стянув наконец с себя брюки и трусики, она вытерла ими пол. Всхлипнула раз-другой, но эти сухие звуки никак не напоминали плач.
Жизнь до автокатастрофы показалась ей пустой инсценировкой. Работа, телестудия, красивая одежда, поездки по всяким городам, дорогие рестораны, визиты к ее родителям и к матери Маттиаса. Не жизнь это, а ложь, если так легко она разбилась – всего лишь неосторожность, одно неверное движение. Рано или поздно – неожиданным ли событием, постепенным ли разрушением, – но катастрофа должна была случиться.
Джиллиан знала, что на ноги ей вставать разрешается, врач это даже поощрял. Однако взгромоздилась на коляску и покатилась в гостиную. На диване валялась книжка, начатый ею две недели назад шведский детектив. Она нашла то место, до какого тогда дочитала, но не сумела сосредоточиться и вскоре отложила книгу в сторону. Полистала модный журнал. В доме напротив отворилось окно, соседка вытряхивала одеяло. Джиллиан с нею почти не знакома. В испуге она откатилась назад, ведь так и оставалась по пояс голой, но соседка вроде бы ее не заметила, а просто постояла еще немного у окна, выглядывая на улицу. Видно, ждала почтальона или детишек, что вот-вот придут домой из школы.
Джиллиан покатилась в прихожую за сумкой. Вернувшись в гостиную, она заблокировала колеса у коляски и сползла на пол. Улеглась на толстый шерстяной ковер. Так ее не увидишь снаружи. Джиллиан знобило, хотя в квартире было тепло. Порылась в сумке, чтобы достать чистое белье и брюки, но все вещи оказались нестиранными. Стащила плед с дивана, укуталась. Очень захотелось обратно в больницу, где от нее требовалось лишь одно: переносить боль. Да и от той избавляли лекарства. Сначала Джиллиан послушно принимала болеутоляющие, потом все чаще стала от них отказываться. Ей казалось, что боль – составная часть лечения, боль следует перетерпеть, тогда и выздоровеешь.
* * *
Поднявшись на локтях, Джиллиан осмотрелась. Вокруг ничего не изменилось, но комната стала чужой. И кто только купил эти книги, развесил эти картины? Репродукция Энди Уорхола – Мерилин, одно и то же лицо в десяти расцветках, безжизненное, как рекламный плакат. Минималистская мебель, бездушные аксессуары, тщательно подобранные в дорогих салонах, сувениры, не вызывающие никаких воспоминаний. Перевернувшись на спину, она увидела итальянскую дизайнерскую люстру. Воздела руки к люстре, казалось, парившей прямо над нею, затем опустила руки и врезала раз-другой кулаком по замершей каталке.
Подползла к телевизору, огромному, с плоским экраном, включила и принялась листать каналы. Остановилась на передаче про животных. Сумерки, по широкой полосе пляжа тысячами ползают какие-то доисторические существа, на вид состоящие только из круглого панциря и длинного не то жала, не то хвоста. Или вдруг какое-нибудь из этих существ, оказавшись в волне прибоя, барахтается ножками кверху, пытается вернуться на брюшко резкими толчками хвоста. «Лишь несколько дней в году удается наблюдать это увлекательное зрелище… – Голос за кадром звучал торжественно. – Более пятисот миллионов лет обитают мечехвосты в мелких прибрежных водах на всей планете. Они превосходно приспособились к окружающей среде и за весь этот срок почти не претерпели генетических изменений. Именно потому мечехвостов часто называют живыми ископаемыми. В начале лета они собираются на побережьях родных морей и откладывают яйца».
Джиллиан просмотрела стопку дисков, лежавших возле маленькой телевизионной тумбы, но ни один из фильмов ее не заинтересовал. Наконец, поставила диск со своей передачей, которую просила записать, но так и не посмотрела. Смотреть на себя по телевизору она никогда не любила, записи передач изучала только по необходимости, в случае каких-либо накладок.
Включила быструю перемотку. Вот появились заставка передачи, краткий перечень сюжетов, искаженные лица людей, молча разинутые рты, улыбки, картины, балетные танцовщицы. Вот, наконец, студия – белое пространство или скорее белая плоскость, на заднем плане Джиллиан, будто бы парящая в этой белизне. Стремительный наезд камеры. Включила нормальную скорость и, когда камера остановилась совсем близко, нажала на паузу. Ее прежнее лицо, рот открыт – она приветствует зрителей, глаза широко распахнуты. Джиллиан жала на кнопку, последовательно просматривая картинку за картинкой. Рот открывался и закрывался, но выражение глаз не менялось.
Перед эфиром она никогда не волновалась, потому так удивил ее теперь испуганный взгляд на экране. В этом лице, оказывается, читалось предвестие катастрофы. Внезапный шум, блик, неожиданное воспоминание изменили выражение глаз, и на долю секунды камера запечатлела человека, которого никогда раньше не было и которого никогда уже не будет. Двадцать пять кадров в секунду, двадцать пять человек, не имеющих между собой ничего общего, кроме анкетных данных, цвета волос и цвета глаз, роста и веса. Лишь последовательный показ кадров создает размытость, необходимую для восприятия одного человека.
Нажав на кнопку «плей», Джиллиан снова улеглась на спину. Слушала собственный голос: многообещающий молодой художник, первая персональная выставка, возврат к образности. Повернулась к экрану, увидела, как она объявляет телерепортаж. В этом ракурсе, под углом в девяносто градусов, лицо ее выглядело более тонким, молодым. И совершенно чужим, как ей показалось, а потому она отчетливо разглядела отдельные его черты, губы, ямочку на подбородке, нос, глаза и веки. Вспомнилось ей, как Таня, гримерша, никогда не упускала случая сделать замечание по поводу ее внешности: то брови широки, то губы тонки, то цвет лица не очень. «Ваши проблемные зоны». Так она говорила.
Женщина в телевизоре замолчала, и на миг, показавшийся Джиллиан бесконечно долгим, ее лицо приняло напряженное выражение. Тут наконец начался телерепортаж. Камера кружила по залу, выхватывая портреты обнаженных женщин в полный рост, они мылись, раздевались и одевались, хлопотали по хозяйству. Будничные их позы представлялись едва ли не классическими. Потом крупным планом лицо Хуберта, титр с именем – «Хуберт Амрейн» и, в скобках, его возраст. Тридцать девять, ее ровесник. Рассказывал, как работает, как находит моделей прямо на улице, ведь профессионалок он не признает. «Совершенно обычные женщины, – говорил он. – Они раздеваются, я фотографирую. Повинуясь порыву, на одном дыхании, и чтобы никаких договоренностей, никаких вторых попыток. Поиски модели – существенная часть творческого процесса». Из десятка сфотографированных женщин он пишет двух-трех, порой и через несколько месяцев, когда давно уже позабыл их имена. Он говорил, а на телеэкране то и дело возникали его картины. Вопросы журналиста вырезали, звучал только голос Хуберта, и каждый раз он как будто начинал рассказывать все сызнова. Мол, ему трудно объяснить, по каким критериям он выбирает модель, ему даже кажется, что модели сами его выбирают. И не красота в первую очередь его привлекает, нет, он ищет напор, силу и страсть, а также растерянность, страх и агрессию. Так бывает, мол, когда влюбляешься в женщину – тоже ведь не объяснишь почему. Улыбка его казалась робкой, но в то же время и высокомерной. Возможно, говорит, этим и определяется качество его картин: желанием и невозможностью его осуществить. «Самодовольный болтун!» – подумала Джиллиан.
За этим последовала уличная съемка: прохожие в пешеходной зоне, заснятой с некоторой высоты. Камера, выхватив из толпы одну женщину, двигалась за нею. Молодая сотрудница фирмы, привлекательная деловая женщина в унылом костюме. Джиллиан пыталась представить ее голой, но никак не получалось. А Хуберт тем временем рассказывал, что он порой воображает, как его модель вдруг встречается со своим портретом. Гуляет по городу, останавливается у галереи и в витрине видит себя нагишом в собственной квартире за мытьем посуды или с пылесосом. «Думаю, она сначала узнает квартиру, а потом уж себя, – заключил Хуберт. – Фотография рождается за считаные доли секунды. В ней запечатлена тайная жизнь, которую ведет наше тело, когда мы занимаемся своими делами».
Репортаж завершала одна из картин Хуберта, изображавшая дородную женщину лет сорока, которая моет ноги в раковине под краном. На одной ноге стоит, другую задрала вверх. Одной рукой поддерживает ногу, другой моет ступню. Пальцы рук и пальцы ног причудливо переплетаются. Поза весьма напряженная, но женщина, кажется, ушла в себя и глубоко задумалась.
Далее снова показали студию. Джиллиан и Хуберт стоят друг против друга. Ей следует задать несколько вопросов, подготовленных редактором и записанных на маленьких карточках. Спросила, как он работает с моделями, дает ли им указания. «Движения должны быть подлинные, их собственные, – ответил Хуберт. – Попробуй-ка этого добиться. Говорил той женщине, что ей надо будет мыться, а она взяла да и сунула ногу в раковину. Сам бы я до такого никогда не додумался. Настоящий подарок!» Джиллиан увидела свою улыбку и услышала свой вопрос: «Не слишком ли сложно работать с теми, кто не имеет опыта натурщицы?» Она злилась, что произнесла слово «натурщица» вместо слова «модель». Остановила запись. Увидела, как ее лицо приняло брезгливое выражение. Перемотала до очередного появления Хуберта на экране. Трудно понять, что выражало в тот миг его лицо, вроде бы иронию с примесью грусти, а может, просто снисходительность. Опять включила нормальную скорость, и Хуберт, словно очнувшись после долгих размышлений, произнес: «Нет, наоборот. Профессиональная модель обучена владеть собственным телом и носить наготу как платье. Поразительно, как изменяют некоторых женщин их нагота и мой взгляд со стороны. Как их внутренний мир раскрывается вовне. Это – очень личное». Джиллиан показалось, что с этими словами он обращался к ней, а не к телезрителям.
«Но бывает, вообще ничего не происходит, – продолжал Хуберт. – Пригодятся ли фотографии, как правило, я знаю еще до того, как проявлю пленку». Тут Джиллиан выступила с вопросом: «Но кто же тогда подлинный художник: вы или модель?» И получила такой ответ: «Дело не в художнике, а в произведении искусства. Но таковое ни к художнику, ни к модели отношения не имеет».
Джиллиан отмотала запись к началу интервью и снова внимательно просмотрела, кадр за кадром. Хотела выяснить, что же между ними происходило. Девяносто секунд, больше двух тысяч кадров. «Тайная жизнь наших тел», – подумалось ей. Хуберт – пустомеля, и тем более досадно, что он высказал ее собственные мысли, что она могла позаимствовать свои мысли у него. Джиллиан часто ловила себя на том, что схватывает чужую мысль, а после приписывает ее себе.
Диалог их лиц разительно отличался от только что прозвучавшего диалога. Кажется, с самого начала между ними возникло какое-то настороженное доверие, по лицу то у одного, то у другого не раз проскальзывала неприметная улыбка, и по меньшей мере однажды Джиллиан прочла в своих глазах восхищение, девичий восторг. Скучающее выражение лица Хуберта постепенно сменилось нежным, и Джиллиан это озадачило. Монтажная перебивка, и она на долю секунды появляется с опущенными долу глазами, как будто смущена его взглядом. Потом, правда, поворачивается к другой камере, и вот уже ее лицо светится глуповатой радостью и удивлением: следующий сюжет! Джиллиан нажала на «стоп» и достала диск из проигрывателя. На экране вновь показались мечехвосты, теперь они двигались в обратную сторону, к воде. «Каждый год мечехвосты таким образом откладывают яйца. – В закадровом голосе чувствовалось тепло. – И будут откладывать еще долго-долго… Даже тогда, когда человек давно уже исчезнет с лица земли».
* * *
Джиллиан почти целый день пролежала в гостиной. Постепенно она успокоилась. Почувствовала себя окрепшей, правда, стоило ей только приподняться, как голова закружилась. Посидела, подождала, пока пройдет головокружение. Затем взяла костыли, которые валялись рядом с нею на полу, и встала. Дело пошло лучше, чем она ожидала. Доковыляла до кухни, съела целую банку консервированного тунца и несколько рисовых вафель, которые купила несколько месяцев назад и которые ей тогда не понравились. Запила еду бокалом просекко, хотя врач запретил ей алкоголь на то время, пока она принимает лекарства.
Дошла до ванной комнаты и открыла свою створку шкафчика, до отказа набитого лекарствами, отпускаемыми без рецепта, а также косметическими и гигиеническими средствами. Женщина, которая здесь жила, опасалась, видимо, дурного запаха изо рта, глотала витамины – наверное, из-за неполноценного питания, – периодически страдала от головных болей и повышенной кислотности желудка. Боялась старения кожи и ломкости ногтей. Занятая на работе женщина, у которой денег больше, чем времени, которая часто бывала в разъездах, покупала в маленьких лавочках мыло ручной работы с оливковым маслом и никогда им не пользовалась, заводила новые зубные щетки, не успев выбросить старые. Джиллиан невольно пришло на ум, что теперь-то для ее вещей хватит места, а вот горевать по Маттиасу у нее не получается. То вдруг она расплачется и не может остановиться. То вообще забывает, что Маттиаса больше нет. Они ведь часто расставались на день-другой, на несколько дней, потому и одиночество для нее не труд. Джиллиан и на похоронах-то его не была, откуда же ей знать, что он мертв?
Сняла блузку, сняла бюстгальтер. Осматривая себя сверху донизу, смогла даже вообразить, будто ничего не произошло. Несколько синяков на теле да шов после операции на ноге, а больше ничего не заметно. Но вот, подняв глаза, она стала вглядываться в свое лицо. Находясь в больнице, она, кроме ран, ничего не видела. А то, что теперь увидела там, выше, над своим почти невредимым телом, мигом лишило ее сил. Живот свело, она тихо опустилась на пол. На четвереньках доползла до спальни и легла в кровать. Проверила на ощупь свое обнаженное тело – грудь, талию, бедра.
* * *
Пробудившись среди ночи, Джиллиан не смогла заснуть снова. Она встала, доковыляла до кабинета. Включила компьютер и зашла в свой почтовый ящик. Входящие – триста с лишним писем! Бегло проглядела темы. Скорейшего выздоровления. Всего наилучшего. Примите соболезнования. Вызовы на совещания, а через несколько дней – протоколы этих совещаний. Она стерла все мейлы до единого. Ящик другого аккаунта, с которого она вела переписку с Хубертом, был пуст. Набрала в поисковике свое имя и фамилию. Кроме ряда кратких сообщений о произошедшей аварии, нашла еще ссылки на свою передачу, нашла свою биографию, две-три посвященные ей статьи, в том числе даже статью в Википедии, составленную каким-то поклонником и, как ни странно, достоверную. Вот интересно, как долго человек может прожить в Интернете после своей смерти? В каком-то блоге подробно обсуждалась ее деятельность телеведущей. Блогер, похоже, испытывал к ней глубокое отвращение. Поначалу она решила, что текст написан мужчиной, но стала читать дальше и догадалась: нет, явно женщина. Чувствовалось, что авторша с нею когда-то встречалась, может, она художница или организатор выставки, а Джиллиан брала у нее интервью. Когда Джиллиан ругали в прессе, она хотя бы знала, с кем имеет дело. А тут она как будто подслушивала у двери в комнату, где о ней говорят. «Ты же не можешь нравиться всем», – заметил как-то Маттиас, когда ее однажды раскритиковали, но ведь не в том дело. Она так и не научилась отделять себя от своей работы, и кто наводил критику на работу, тот ставил под сомнение и ее персону. В конце страницы предлагалось оставить комментарий к тексту. Там она обнаружила несколько записей, в основном признававших правоту блогерши, и ряд коротких высказываний, изобиловавших опечатками и непристойными словами. Джиллиан, прикинув, стоит ли отвечать, решила не ввязываться. Выключила компьютер и открыла верхний ящик письменного стола. Конверт с фотографиями лежал на том самом месте, где она его оставила.
Джиллиан встретилась с Хубертом прямо перед записью в студии. Пока готовились, он только и поносил телевидение, якобы губительное для его картин, а сам при этом бесстыдно ее разглядывал. Уже стоя в свете прожекторов, спросил, не хочет ли она после записи выпить с ним бокал вина, но она отказалась.
«Не пугайтесь, – иронически усмехнулся он. – Я не собираюсь писать ваш портрет». Почему-то эти слова прозвучали обидно.
Когда кончили записывать всю передачу, оказалось, что Хуберт уже ушел, и Джиллиан испытала некоторое разочарование, хотя на него и злилась. Смывая грим, Таня показала набросок к ее портрету, мимоходом сделанный Хубертом. Ничего особенного, но Джиллиан разозлилась еще больше.
Маттиаса дома не было, она на скорую руку сделала себе бутерброд и засела в кабинете. Нашла персональный сайт Хуберта Амрейна, открыла. В разделе News одна-единственная новость о групповой выставке двухгодичной давности. В разделе Who I am под фотографией Хуберта размером с почтовую марку его краткая биография. Получив профессию шрифтовика, параллельно с работой учился в Высшей художественной школе. Далее – список незначительных грантов, которые он получал, и групповых выставок, в которых он участвовал. Джиллиан кликнула раздел Gallery. Пять картин, на всех изображены пустые, без людей, помещения: кабинет, гостиная, спальня, кухня, ванная комната. На картинах ночь, пространство лишь кое-где освещается. Почти ничего не разглядеть, однако складывалось впечатление, будто кто-то есть в этих комнатах, кто-то прячется в потайном уголке или за спиной у наблюдателя. Ниже сообщалось, что картины выполнены цветными карандашами на бумаге, размер – 15×21 см. В разделе Contact me она обнаружила адрес электронной почты.
Что бы такое спросить у Хуберта? Почему он не хочет написать ее портрет? Она долго вглядывалась в пустой компьютерный экран, потом все-таки выбрала отправителя: Фрекен Жюли. Адрес, который она завела для того, чтобы анонимно посылать мейлы. Всякий раз при использовании этого адреса ей казалось, будто она и в самом деле другой человек, будто она снова играет роль безрассудной, но решительной героини Стриндберга. Вспомнила завершающий показ в театральном училище и даже кое-что из текста: «И если уж я буду танцевать, так только с тем, кто в танце поведет!» Аплодисменты долго не смолкали. После ей казалось, что она с кем угодно может помериться силами и любая роль ей по плечу. Теперь на фотографиях она видела только тощую девчонку с дурацким выражением лица и вытаращенными глазами.
Недолго думая она написала Хуберту, как восхищается его работами и как ей жаль, что у него на персональном сайте нет новых картин. И, чуть помедлив, добавила: «К тому же я имела случай убедиться, что внешне вы очень привлекательны». Подписалась именем Жюли и нажала «отправить».
Она уже ложилась спать, а Маттиас все еще не вернулся. В пять утра проснулась, Маттиас лежит рядом. Тут же вспомнила Хуберта и представила себе, как они бы встретились у него в мастерской. Она постучала бы в дверь, он бы открыл, впустил ее. Вот она, не снимая плаща, идет по залу, осматривается. Мастерская выглядит точно, как в старом голливудском фильме: высокие окна, печка-буржуйка, большой мольберт. Хуберт разглядывает ее с тем же дерзким любопытством, что она подметила перед интервью, и показывает на старый кожаный диван. Прикинувшись, будто не заметила этого жеста, Джиллиан подходит к большому окну, откуда открывается вид на городские крыши и Эйфелеву башню вдали. Небо скрыто темными дождевыми облаками, но на горизонте облачный покров разорвался и выглянуло солнце, и вот уже серый металл городских крыш сверкает в его лучах. Джиллиан слышит, что Хуберт тихонько подошел к ней сзади. Наконец она обернулась, скинула плащ, а под ним маленькое черное платьице. Хуберт улыбнулся, принял плащ и бросил на кресло. Взял с низенького столика блокнот, угольный карандаш и стал ее рисовать. Джиллиан закрыла глаза. Слышала только, как уголь шуршит по бумаге.
Маттиас перевернулся на бок. Джиллиан тихонько встала, вышла на балкон. Несмотря на прохладу, она не зябла. Светало, птичий галдеж звучал громко, как будто в закрытом пространстве. Издалека тоже доносились шумы – редкого в этот час движения на автостраде, да еще поездов, которые сортируют на железной дороге.
* * *
Спустя немного времени Хуберт и Джиллиан стали переписываться каждый день. Маттиас не уставал интересоваться, отчего она по десять раз на дню заходит в почту. Она только плечами пожимала. Джиллиан – под псевдонимом – отважилась спросить Хуберта, зачем его моделям обнажаться догола, если, как он утверждает, тело само по себе его не интересует. Он ответил почти теми же словами, что в интервью, оттого она ему не поверила. Написал про встречу как часть процесса, про единственно верную минуту – разве такое запланируешь? Настойчиво просил ее прислать фотографию, но она ответила, что фотографий у нее нет.
«Мы встречались когда-нибудь?»
Джиллиан прочитала этот мейл лишь на следующее утро. Она улетала на несколько дней в Гамбург снимать репортаж о старике-писателе, выпустившем нечто вроде автобиографии. Рейс только в полдень, так что она еще лежала в постели, когда Маттиас собрался на работу. Поцеловал ее на прощание.
Ночью она плохо спала, с утра настроение было какое-то подавленное, хотя и без всяких причин. Даже не глотнув утреннего кофе, Джиллиан села за компьютер. Написала Хуберту, что у нее нет никакого желания поработать для него моделью. Только представит себе, как он заявится с фотоаппаратом к ней в квартиру, и уже противно. Не из-за собственной наготы, а из-за вторжения в ее дом, да как он будет тут все оглядывать, да какое впечатление составит о ее жизни. Не в обиду ему будь сказано.
Выпила кофе, выкурила сигарету. Стоя под душем, воображала, как Хуберт станет писать ее портрет. Она осматривается в мастерской. Он указывает на старый кожаный диван. Не скинув плаща, она садится. Он берет стул, усаживается напротив и принимается за работу. Через некоторое время он, отложив блокнот, явно хочет сказать ей что-то важное, но колеблется. Наконец, понизив голос так, что она едва разбирает слова, предлагает ей пойти за ширму и раздеться. Когда Джиллиан нагишом выходит из-за ширмы, Хуберт как раз вставляет пленку в большой фотоаппарат. Не поднимая глаз, он просит ее прилечь с книгой на диван. Смотрит в видоискатель, так что глаз его опять не видно, но все равно она ощущает его беззастенчивый и холодный взгляд.
Джиллиан складывала дорожную сумку. Времени еще хоть отбавляй, можно проверить почту. От Хуберта уже пришел ответ. Дескать, если ей неприятно фотографироваться в собственной квартире, то можно встретиться в его мастерской. «Ты себя выдал, – подумала она, – ты меняешь правила посреди игры».
Мейлы летели в ту и другую сторону с минутным интервалом.
«Вы одна?»
«Вам бы только того и хотелось».
«Значит, одна».
«Все-таки вы стараетесь меня использовать!»
«Почему же?»
«Стараетесь меня себе представить, вообразить».
«Вы не показываетесь, вот я и вынужден стараться».
«Почему вы пишете только женщин? Почему только обнаженных?»
На сей раз ответ заставил себя ждать. И разочаровал Джиллиан. Поразмыслив, она отстучала другой вопрос, но тут же его стерла. И снова написала.
«Вы спите со своими моделями?»
Только успела отправить, как от Хуберта пришел еще один мейл. Мол, благодаря наготе между художником и моделью возникает эротическое напряжение, тяга друг к другу. Искусство состоит в том, чтобы использовать эту энергию для создания картины.
Тут уж Джиллиан пожалела, что задала тот вопрос. Ответ, снова заставивший себя ждать, звучал так:
«Предлагаю встретиться».
«Это непрофессионально».
«Предлагаю встретиться».
«Вы повторяетесь!»
«Все в жизни повторяется».
«Нет».
«Тогда чего же вы добиваетесь?»
Джиллиан призадумалась. Написала ответ, перечитала, улыбнулась и кликнула «отправить». Ответа дожидаться не стала, выключила компьютер. Когда шум вентилятора окончательно смолк, ей показалось, что в квартире как-то очень уж тихо.
В Гамбурге шел дождь. В аэропорту Джиллиан взяла такси и поехала домой к писателю. Съемочная группа уже находилась там, и писатель страшно волновался, потому что оператор хотел переставить мебель в гостиной. Еще писатель отказывался гримироваться, хотя ведь ясно, что на протяжении жизни его уже сто раз гримировали. Джиллиан вмешалась с объяснениями: все ради того, чтобы он выглядел совершенно естественно. Во всяком случае, она ему вроде бы понравилась, постепенно он чуточку расслабился и даже неуверенно пытался с нею пофлиртовать. Засняли его за письменным столом и на фоне книжных стеллажей, на прогулке по району портовых складов, в шикарном кафе, куда, по его словам, он добровольно ни за что бы не пошел. Джиллиан попросила его попутно что-нибудь записывать, делать заметки, но он не прихватил из дому ни листка бумаги. Пришлось ей одолжить писателю черный блокнотик-молескин, и какую-то запись он сделал. Потом вернулись в его дом, чтобы записать интервью. Джиллиан разместилась поближе к камере. Открыв блокнотик со списком вопросов, она углядела следующие строчки: «Именно таким читатели представляют себе писателя. Телевидение полностью оправдало мои ожидания». Не моргнув глазом она задала первый вопрос.
Писателя, видимо, задевало, что автобиография привлекла больше внимания и имела больший успех, нежели его амбициозные эксперименты в прозе.
– Между тем и эта книга – вымысел! – заявил он.
– Но где же тогда реальность? – удивилась Джиллиан.
– Тому, кто жаждет познать реальность, достаточно просто выглянуть в окно.
– Зачем же вы пишете свои книги?
Писатель поглядел на нее с сочувственной улыбкой:
– Из профессиональных соображений – так ответил на данный вопрос один мой коллега. А другой сказал: из жадности, похоти и тщеславия. Вероятно, в моем случае…
Тут беседу прервал звукооператор, он поймал посторонние шумы и поэтому попросил их повторить последние фразы. Но писатель не соглашался:
– Вот оно, бремя реальности! Ее нельзя ни повторить, ни исправить. Возможно, мы именно поэтому читаем книги.
– Что изменили бы вы в своей жизни, если бы могли прожить ее снова? – выступила с вопросом Джиллиан.
Писатель как будто рассердился, вдруг заявил, что очень устал, и с большой неохотой отвечал на все последующие вопросы. Спустя четыре часа Джиллиан наконец с ним распрощалась. Уж как-нибудь она сумеет слепить из всего этого материала сюжет на четыре минуты, но с реальностью он будет связан еще меньше, чем триста пятьдесят страниц упомянутой биографии.
* * *
Находясь в Гамбурге, она не проверяла почту на аккаунте Фрекен Жюли. Собственная роль в этой электронной переписке ей разонравилась.
Однако, вернувшись через четыре дня домой, она все-таки заглянула в ящик. Хуберт послал два мейла, один сразу после того, как она выключила компьютер, другой – на следующий день. В первом он подробно описывал, как будет ее целовать. Составил для себя довольно точный ее портрет, упоминал короткую стрижку и тонкую талию. Во втором мейле он принес извинения за первый. Он, дескать, увлекся и теперь сожалеет об этом. Джиллиан так и не сумела разобраться, которое из посланий больше ее разозлило. И она решила встретиться с Хубертом. Написала, что не намерена ни позировать ему, ни целоваться, зато согласна с ним просто немножко выпить. Для встречи предложила одно кафе в стороне от центра, где как-то раз бывала. Взглянула на часы.
Написала: «Буду там в семь вечера. Вы легко меня узнаете. Жюли».
Хуберт быстро прислал любезный, но сдержанный ответ.
Обычно Маттиас приходил домой поздно. Она оставила ему записку на крошечном листочке: надо, мол, заехать на работу, когда вернусь, тогда и вернусь. Долго размышляла, как ей одеться, и выбрала наконец самые неприметные вещи, какие нашла в своем гардеробе. Вельветовые брюки цвета беж, белая маечка с кружевной вставкой на груди. Набросила на плечи серый свитерок. Краситься не стала, хотя вообще-то и носа не казала на улицу без пудры, без туши для ресниц.
В кафе Джиллиан заявилась слишком рано. Помимо нее, там находились лишь две женщины, да еще юная парочка. Эти были заняты друг другом, зато женщины с любопытством ее разглядывали – может быть, узнали. Она села за столик в самой глубине зала и заказала мятный чай.
Хуберт пришел в начале седьмого. Увидев Джиллиан, он испытал явное облегчение. Подошел к ее столику, широко улыбаясь:
– Ах, так это вы! Как же я не догадался.
Джиллиан не привстала, Хуберт протянул ей руку. Выглядел он совсем не таким самоуверенным, как в студии, и оттого сразу показался Джиллиан намного симпатичнее. Он молчал, она тоже не знала, что сказать. Наконец он поинтересовался, отчего она назвала себя фрекен Жюли.
– Пьеса Стриндберга, – объяснила Джиллиан. – Я однажды играла эту роль. Выпускной спектакль в театральном училище.
Подошла официантка, Хуберт ей заулыбался и заказал пиво. Официантка вернулась очень скоро, Хуберт взял кружку прямо у нее из рук с какой-то забавной присказкой, тут же отпил глоток. По походке официантки, когда она удалялась от их столика, было заметно, что она чувствует его взгляд.
– Она вам понравилась?
Хуберт извинился:
– В любом лице я вижу потенциал для картины.
– А у меня сложилось впечатление, что вы смотрели не на ее лицо, а на ее попку, – съязвила Джиллиан. – Но что же вы видите в моем лице?
Хуберт внимательно взглянул на нее:
– Не знаю. Но вашу передачу я включаю всегда.
– В самом деле?
– Ваше лицо мне слишком хорошо знакомо.
– И все-таки приглядитесь повнимательней!
Ей понравилось, как он всматривался в ее лицо – испытующе, деловито.
– Цвет лица у вас далеко не такой ровный, как в студии, – наконец заговорил он, – тут дело в гриме. И нос чуточку блестит. А брови необычно широки для женщины.
Джиллиан вымученно улыбнулась:
– Ну, такие подробности мне знать не обязательно…
– Мне нравится легкий пушок у вас на шее, – продолжал Хуберт. – Нравится подвижность ваших черт… И как вы иногда широко раскрываете глаза. Вы близоруки?
– Чуть-чуть.
Потом он спросил, почему она решила с ним увидеться. Джиллиан только плечами пожала. Оба замолчали, но совсем не так тягостно, как молчат люди, которым нечего сказать друг другу. Вдруг зазвонил ее мобильник, она взглянула на дисплей и сбросила звонок.
– Покажете мне свои картины?
– Да, – ответил Хуберт, встал и пошел к стойке, чтобы расплатиться.
Всего-то сентябрь на исходе, а осень уже заявила о себе. Смеркалось, на улице похолодало.
– Моя машина на стоянке, – сказала Джиллиан.
Хуберт сел рядом с нею впереди и показывал дорогу. Пока ехали, расспрашивал, чем она занимается в свободное время.
– Немножко спортом. Плавание, джоггинг, – отвечала Джиллиан. – Читаю много. А вы? – Давно она не вела подобных разговоров. Невольно улыбнулась: – Вы еще спросите, какую музыку я слушаю.
Поездка длилась менее четверти часа. Мастерская Хуберта размещалась в бывшем цехе прядильной фабрики на окраине города. Вдали, на юге, темнела гряда поросших лесом высоких холмов, на севере холмы были пониже. Долина, застроенная уродливыми промышленными зданиями, здесь сужалась. Основной корпус прядильни стоял чуть ли не в руинах, крыша провалилась, окна забиты досками. Стены подпирали леса из прочных стальных перекладин, чтобы здание не рухнуло окончательно.
Хуберт и Джиллиан пересекли автостоянку и направились к соседнему строению. На небе, все еще светлом, уже показался тонкий серп месяца. Когда они приблизились ко входу, снаружи сама собой зажглась лампочка. Хуберт отворил металлическую дверь, перепачканную граффити, включил свет и повел Джиллиан по узкому коридору мимо каких-то дверей. Его мастерская находилась в самом конце – просторное, почти пустое помещение, где пол покрывал усеянный пятнами линолеум. Стены тоже изобиловали пятнами непонятного желтоватого цвета, а в некоторых местах прочитывались контуры некогда прилегавших к стенам стеллажей. Люминесцентные лампы на потолке заливали весь зал резким холодным светом. Одна сторона зала состояла сплошь из высоких окон, жалюзи были опущены. У стены – нагромождение металлических полок, забитых бутылочками, тюбиками, кисточками, стопками книг и блокнотов. Еще диван, два-три старых стула, а в углу, прямо на полу, матрац. На маленьком холодильнике электроплитка с единственной конфоркой, на ней помятая алюминиевая кастрюлька. К другой стене прислонены три картины явно из новых, похожие на те, выставочные, одна не завершена. Рядом с полдюжины свернутых холстов, прикрытых полиэтиленовой пленкой. В самом центре мастерской пустовал большой мольберт. Хуберт, взяв с полки несколько папок, разложил их на некоем подобии стола – конструкции из деревянных козел и толстенной плиты ДСП. Он принялся открывать папки одну за другой, проглядывать эскизы, начатые и готовые рисунки наскоро. Интерьеры, люди, части тела – не раз он крутил в руках листок, разглядывая так, словно видит его впервые. Произнес лишь несколько слов, вроде бы обращаясь к самому себе. Последнюю папку отложил в сторону, не раскрывая. Джиллиан только углядела написанное сверху имя: Астрид. Затем Хуберт подошел к холстам у стены, сбросил пленку и стал разворачивать один за другим. Джиллиан стояла рядом.
– Картины сейчас в основном на выставке, – сказал он. – А здесь лишь часть моих старых работ.
На всех была изображена одна и та же женщина в разных позах.
– Кто это? – полюбопытствовала Джиллиан.
Он не ответил. Теперь оба молчали, но, когда он слишком быстро сворачивал холсты, Джиллиан, крепко сжимая, задерживала его руку. Как будто заглядывала через слуховое окошко в чужой дом.
– Прекрасно, – только и сказала она, когда Хуберт вновь разместил холсты у стены.
Опять зазвонил ее мобильник, но она его выключила, даже не взглянув на дисплей. Хуберт, нервно кашлянув, отошел на шаг в сторону:
– Хотите посмотреть фотографии?
Она кивнула.
– Угостить мне вас особенно нечем. Пиво, бокал красного вина, вода из-под крана.
– О’кей, пиво, – сказала Джиллиан, усевшись в старое мягкое кресло и немедленно в нем утонув.
Хуберт достал из холодильника две банки чешского пива и аккуратно разлил его в два высоких стакана с золотой каймой. С таким сосредоточенным видом, будто он выполнял труднейшую работу. Поднес ей один из стаканов, а сам взял стул и установил метрах в четырех от Джиллиан. Глотнул пива и поставил свой стакан на пол рядом.
Она повторила, что картины ей понравились, но ему, похоже, не хотелось говорить на эту тему. На расспросы он отвечал односложно, то и дело прихлебывая пиво мелкими глотками. Наконец он поднялся, разыскал где-то в углу старенький диапроектор и установил его на шаткой табуретке. Выключив верхний свет, он подтащил свой стул к креслу, где сидела Джиллиан, и вставил в проектор первый магазин.
Не произнося ни слова, он листал слайды, сменяя магазин за магазином. Сотни ню, обнаженные женщины, которые гладят белье, вытирают пыль, читают, варят кофе. Каждая женщина на десятках разных снимков. Поначалу почти все выглядят веселыми, потом становятся все серьезнее, под конец вовсе не смотрят в камеру.
Джиллиан встала, подошла к окну и села на подоконник. Хуберт этого даже не заметил. Со стороны она видела его силуэт и голых женщин на стене. Пыталась представить себе его лицо в отсветах диапроекции, его холодный, оценивающий взгляд. В памяти вдруг возникла однажды виденная ею фотография: публика в кинотеатре, освещенные лишь частично лица, широко распахнутые глаза и приоткрытые рты, готовые растянуться в улыбке. Именно так она всегда представляла себе своих зрителей.
Очередной диамагазин содержал снимки женщины невысокого роста, с широким тазом и обвисшей большой грудью. С короткими светлыми волосами и густо заросшими подмышками. Она развешивала белье на низкой сушилке в тесной ванной – детскую одежку и мужские носки. Она доставала книгу с полки, садилась на корточки, подметала веником пол, наверное собирая остатки печенья, которое грыз ее ребенок. Квартира, забитая каким-то барахлом, казалась попросту неубранной. На последних снимках женщина вот-вот собиралась удариться в слезы.
– Вид у нее ужасно одинокий. Вы отдаете себе отчет в том, что вытворяете со всеми этими женщинами? – высказалась Джиллиан.
– Наше сотрудничество – дело добровольное, – ответил Хуберт, сменяя магазин. – Даже в своей наготе они принимают все меры, чтобы только не обнажить свою суть. Выставляют себя напоказ, но прикрываются движениями, улыбкой.
Джиллиан удивлялась, что так и не привыкла к наготе, как это бывает в сауне или в душевой фитнес-клуба. Чем дольше она просматривает картинки, тем более чуждыми становятся для нее эти голые тела. Крупная родинка, кожная складка, выбритые до узенькой полоски волосы на лобке – все это вдруг приобретает непомерное значение. Тело распадается, кажется непропорциональным, бесформенным, безобразным.
– С вами тоже так бывает? – спросила она.
– О, вы уже начинаете их видеть, – ответил Хуберт. – А я именно так их пишу, деталь за деталью, черточка за черточкой. Даже когда фотографирую, стараюсь стать незаметным. Именно поэтому у меня камера с большим видоискателем. Модели, глядя в камеру, видят только свое отражение в линзе объектива.
Он быстро прокрутил слайды с изображением какой-то долговязой девушки, остановился на том, где она рассматривает себя в зеркале. Руки висят, живот выдается вперед. Взгляд придирчивый, она будто недовольна тем, что увидела.
– Вот с этим можно поработать, – заметил Хуберт. – Хотя зеркало – дополнительная трудность.
– А зачем все это самой женщине, если она никогда не увидит картину?
– Женщине это незачем, но она ведь просто модель. Я не пишу портретов в обычном смысле слова.
– Но почему же они на такое соглашаются?
– Понятия не имею. Возможно, думают, что их наконец-то оценили. – Он выключил проектор. – Вы устали?
Джиллиан кивнула.
– Я останусь здесь еще ненадолго, проводить вас до машины? – предложил Хуберт.
– Да, пожалуйста, – ответила она.
Дорогу домой нашла не сразу. Уже десять часов, не думала она, что так поздно, но движение все еще плотное. Она испытывала разочарование и одновременно злилась на себя за то, что испытывает разочарование. Мог хотя бы предложить ей выступить в качестве модели. Была в этой идее своеобразная привлекательность.
Стоя на светофоре, она включила наконец мобильник. Тут же, один за другим, пропиликали три сигнала СМС-сообщений. На следующем светофоре прочитала их по очереди. Два от Маттиаса, третье прислал Хуберт. Она, не отвечая, стерла все три.
* * *
Джиллиан проснулась рано утром. Боли возобновились, но она решила больше не принимать таблеток. В халате вышла на балкон, хотела выкурить сигарету. Шел дождь, дул сильный и холодный ветер. Птички подавали голоса, но не гомонили, как обычно. Мысль о птичках, которые спасаются от дождя, укрываются где-то в кустах, нахохлившись и пряча голову под крыло, растрогала ее, но не смешно ли впадать в патетику? Потихоньку светало, однако небо не прояснялось, дождь не пере ставал.
Страх охватил ее внезапно, будто подступил извне, но не гибель Маттиаса тому виной и не катастрофа, а дождь, серое небо и пустота, расплывчатость занимающегося дня. «Страх – это возможность свободы…» Давным-давно где-то вычитав эту фразу, Джиллиан не поняла ее до конца, но навсегда запомнила. Не понимала и сейчас, но ей казалось, что точнее нельзя выразить ее нынешнее состояние. Перед домом находилась песочница – жалкая пародия детской площадки, над нею серый навес. Дробный перестук дождевых капель по пластмассе слышался совсем близко и громко, как и разрозненные крики птиц на фоне городского шума. Странно, что в дождь Джиллиан всегда вспоминалось детство, как будто тогда с неба только и лило. Ей лет десять – двенадцать, раннее утро, она идет в школу. Слышит, как дождь стучит по ее капюшону, и капли брызжут ей в лицо.
– Джиллиан! – во весь голос выкрикнула она свое имя.
И вспомнилась ей та девушка, что только-только окончила театральное училище и получила первый ангажемент в безвестном провинциальном театре. Играла гнома в рождественской сказке, служанку в комедии, Ребекку Гиббс в «Нашем городке». Рассказывала Джорджу про письмо, которое Джейн Кроуфт получила от священника, когда заболела. На конверте значилось: «Джейн Кроуфт, ферма Кроуфт, Гроверс-Корнерс, округ Саттон, Нью-Хемпшир, Соединенные Штаты Америки, материк Северная Америка. Западное полушарие. Земля. Солнечная система. Вселенная. Мир Господень». «Ну и что тут такого?» – спрашивал Джордж, он всегда плохо соображал. «А то, что почтальон все равно его принес».
Каждый раз, произнося эти слова, она была близка к слезам.
В те времена ей казалось, что нет на свете ничего невозможного, но свобода вселяла неуверенность и страшила ее. Она мучилась не от волнения перед выходом на сцену – это чувство, как ни странно, было ей вовсе не знакомо, а от страха – тот охватывал ее после, а не до спектакля. Ее друга пригласили в другой театр, но они даже не взяли на себя труд по-настоящему расстаться. Просто стали перезваниваться все реже, а потом и вовсе прекратили. Джиллиан оказалась предоставлена самой себе, жила в тесной квартирке прямо над пиццерией, там всегда застаивалась жара. Вне театра друзей у нее не было, а вообще-то и в самом театре тоже. Прошло довольно много времени, пока до нее дошло, что актриса она вовсе не такая уж хорошая и хорошей никогда ей не стать. Она играла женщин, способных на беззаветную любовь, самоотверженность, жертвенность, но свои роли никогда не воспринимала всерьез. Она, или же часть ее, всегда будто наблюдала со стороны за собственной игрой. «Я не могу ни раскаиваться, ни бежать, ни оставаться, ни жить, ни умереть!» Фрекен Жюли твердым шагом выходила за дверь, но публика, должно быть, чувствовала, что идет она не в амбар сводить счеты с жизнью, а в костюмерную смывать грим.
Только занявшись журналистикой, она обрела уверенность в себе. Нашла работу на телевидении и с тех пор для зрителей, для массмедиа, для Маттиаса и для себя самой играла роль красивой и успешной ведущей культурной программы. Грубых промахов не допускала, Маттиас ей подыгрывал, по сути, он как актер выступал даже лучше, чем она. Вечно они должны были появляться на каких-то мероприятиях, давать разъяснения, показывать себя. На людях они говорили громче, двигались иначе. Придут, бывало, домой усталые и навеселе, встанут рядом к раковине чистить зубы, и два лица в зеркале вызывают у Джиллиан приступ смеха. Но и сам этот смех был частью игры.
От курения Джиллиан замутило. Она погасила сигарету и ушла с балкона. Задержалась на миг возле кофе-машины, но все-таки направилась в спальню и снова улеглась в постель. Отсюда шум дождя казался ровным: окно было лишь чуточку приоткрыто. Весь день она пролежала в постели, оттягивая любой поход – хоть в кухню, хоть в туалет – настолько, что уже едва могла дотерпеть. Боль утихла, но легче от этого не стало. Боль загоняла ее внутрь собственного тела, четко определяя его границы. Вместе с болью исчезли и точки отсчета, так что Джиллиан с трудом удавалось внутренне собраться. Тогда она принялась листать старые фотоальбомы. Были у нее семейные альбомы с детскими фотографиями: отдых на каникулах, дни рождения, семейные портреты, и с годами почти ничего тут не менялось. В тех же альбомах первые снимки спектаклей школьного театра: Джиллиан – Мать Мария, Белоснежка, одна из кошек в мюзикле. Впоследствии ее собственная жизнь и история семьи разошлись. Документальным свидетельствам ее профессиональной биографии был посвящен отдельный альбом, Джиллиан давно начала его вести. Театральные программки, интервью, фотографии с вечеринок и банкетов, отзывы прессы, тщательно вырезанные и приклеенные. Первая страница, на которой в других альбомах писали название или год, здесь была пуста.
Джиллиан прочитала свое интервью, которое записали вскоре после того, как стала ведущей на передаче. Каждую неделю одни и те же вопросы задавали разным людям. Журналистка оказалась очень милая, встретились они в кафе. Если Джиллиан мешкала с ответом, они придумывали его вместе. «Когда вы впервые занимались любовью?» – «После обеда». – «Что вам хотелось бы обязательно узнать?» – «То, что мои подружки думают обо мне на самом деле». – «Какое событие вашей жизни вы считаете самым грустным?» Тут уж растерялись они обе. Наконец журналистка предложила: «Мою смерть». На том и остановились.
Течение жизни, запечатленное в этих глянцевых картинках, непостижимым образом представлялось более индивидуальным и конкретным, чем на взаимозаменяемых семейных фото из прочих альбомов. В интервью Джиллиан отвечала на такие вопросы, какие никогда не обсуждала со своими родителями. По сравнению с этими содержательными, выверенными беседами те разговоры, что велись у нее дома, казались нестерпимо банальными. Не раз мать пыталась перепроверить ее ответы журналистам. «Ты что, действительно не веришь в Бога?» Джиллиан твердо не знала, так ли это. «Ну, это всего лишь интервью, – объяснила она матери. – Надо ведь что-нибудь сказать».
На пришедшую к ней известность Джиллиан порой сетовала, но в конечном счете радовалась, когда ее узнавали незнакомые люди.
В самом конце альбома лежали вырезки, которые она не стала вклеивать. Репортаж об их с Маттиасом свадьбе, целый разворот с фотографиями из церкви и последующего торжества. Джиллиан тогда удивилась, что Маттиас не стал возражать. Журналистка и фотограф не привлекали к себе внимания, вписавшись в общество приглашенных даже лучше, чем некоторые друзья Маттиаса и некоторые родственники Джиллиан. Держались скромно, лишь иногда спрашивая разрешения сделать фотографию или записать несколько фраз. Неделю спустя Джиллиан увидела репортаж в иллюстрированном журнале, и собственная свадьба предстала перед ней как инсценированная постановка. С тех пор она стала осторожнее, исчезла на некоторое время со страниц журналов, но вскоре поняла, что ей недостает внимания. Потому и согласилась, когда попросили, на репортаж из дома. Они с Маттиасом в прибранной своей квартирке – читают, готовят, обедают, влюбленной парочкой сидят на балконе. «Нас сюда просто запустили, – думалось ей тогда, – это не наша квартира, это не я, это не Маттиас». Но, приглядевшись к выражению лица своего мужа, она вдруг подумала, что он тоже участник заговора и давно обо всем знал.
* * *
На следующий день выглянуло солнце. На улице холодно, зато в квартире даже слишком тепло. Врач запретил Джиллиан бывать на солнце, но она и без того появляться на людях не собиралась. На обед сварила себе пустые макароны. После еды заказала продукты в интернет-магазине, накидала в корзину все то, чего раньше и в рот не брала: замороженные готовые блюда, колбасы, чипсы, сладости, тостовый хлеб, кетчуп и майонез. Столько всего накупила, что хватит на целых три недели, и оплатила кредитной карточкой. Потом начала разбирать одежду, обувь Маттиаса. Складывала в большие мешки для мусора. На костылях не очень-то быстро удавалось затащить мешки в гостевую комнату. Бумаги из письменного стола она укладывала в коробку. Маргрит разрешила ей поступить с вещами Маттиаса так, как она считает нужным. То и дело она присаживалась, по несколько минут разглядывала какую-нибудь вещицу или одежку.
Посыльный из интернет-магазина приехал ближе к вечеру. Позвонил в домофон, Джиллиан открыла. Но когда он позвонил второй раз, в квартиру, она через закрытую дверь крикнула ему, чтобы он просто оставил продукты на площадке. Посыльный потоптался, потоптался, потом все-таки ушел. Только услышав снизу, как завелся мотор автофургона, она осторожно выглянула из квартиры.
В течение последующих недель она много ела. Смотрела телевизор, лазала по Интернету, подолгу спала. Родители позвонили ей на домашний, но она не взяла трубку, и тут же раздался звонок мобильного телефона. Сообщила им, что чувствует себя хорошо и нуждается только в покое, обещала скоро к ним приехать – на следующей неделе, ну, или чуть-чуть позже.
– Скажешь, если что-то будет нужно? – спросила мать.
– Мне нужно только время, – ответила Джиллиан. – С вами это никак не связано.
С той минуты к телефону она больше не подходила, даже не смотрела, кто звонит. Мейлы тоже стирала, не вчитываясь. Ждала, что объявится Хуберт, но он не объявлялся. Вероятно, он вовсе и не знает, что случилось.
По ночам Джиллиан снились мужчины: они нападали на нее, насиловали, уродовали. Тело ее разрывалось, куски мяса летали по квартире, стены заливала кровь. Среди ночи она просыпалась. В полной темноте прислушивалась. Тихо в квартире, но она умела слышать пустоту. Вспоминала, как заканчивалась съемка передачи, техник по звукозаписи объявлял: «Атмосфера!», и все замирали, чтобы он мог записать еще и минуту тишины.
* * *
Течение дней обнаруживало ту же неустойчивость, что и погода. То холодно, то в одну ночь теплеет. Как-то за несколько часов навалило снега невпроворот, но через день-другой он весь растаял. Джиллиан отныне не скучала. По утрам порой даже газету не доставала из ящика. Часто вспоминала Маттиаса и их прежнюю жизнь, но смерть его так и не сумела осознать. Скорбь накатывала стремительно и внезапно, как резкий приступ боли, способный довести до головокружения.
Сколько уж дней Джиллиан не снимала пижаму, не ходила в душ, не умывалась и поедала исключительно джанк-фуд. Наблюдала, как меняется ее тело: она поправилась, на спине и подбородке высыпали прыщи. Впервые за долгие годы она чувствовала запах собственного тела.
Однажды, солнечным днем, она решила куда-нибудь прокатиться. В тот предвечерний час солнечные блики отливали золотом, будто на дворе осень. Джиллиан на лифте спустилась в подвал, оттуда пошла по коридору в подземный гараж. То и дело останавливалась, прислушивалась, но никого не услышала. Темно-зеленый «мини» стоял там же, где всегда. Она поехала в лес на окраине города, нашла автостоянку возле мусороперерабатывающего завода. Со стороны леса к стоянке направлялся человек с собакой. Джиллиан, склонившись к рулю, выжидала. Тот человек открыл заднюю дверь машины через два места от нее, собака запрыгнула внутрь. Машина уехала, рядом никого не видно, теперь можно вылезти и пройтись. Тропа вела по опушке леса, там в глубине еще лежал последний нерастаявший снег. Чуть погодя Джиллиан увидела, что навстречу ей шагают двое с походными палками. Расстояние – метров двести, не больше. Остановилась, огляделась. Сзади приближалась женщина с детской коляской. Кустарник на опушке густой – не продерешься. Защищаясь, прикрыла лицо руками, и ветки кустарника расцарапали ей руки. Потом идти стало легче. Влажная палая листва покрывала землю плотным слоем, пружинила под ногами. Послышались голоса, и Джиллиан разглядела сквозь подлесок, что двое с палками и женщина с коляской поравнялись. Выждав минутку, она углубилась в лес. В вечернем, косо падающем свете тени становились все длиннее. Временами Джиллиан останавливалась, чтобы разглядеть получше серебристо-серую кору дерева, похожую на звериную шкуру, или какой-нибудь пенек, дочиста отшлифованный непогодой. Погладишь ладонью прохладную древесину – и только тогда нащупаешь шершавинки. Теперь уже смеркалось, из расположенного неподалеку зоопарка доносились крики животных. Пока она шла назад к автостоянке, совсем стемнело и зажглись уличные фонари.
* * *
На другое утро Джиллиан проснулась очень рано. За окном тьма. Лежа тихонько, она не ощущала своего тела, только начиная двигаться, она обретала привычные для себя формы. Повернула голову – и почувствовала щеку, которая коснулась тонкой ткани наволочки, потом одну ногу, которая вылезла из-под одеяла, потом другую, онемение конечностей, подошва стопы, холодный пол, легкое головокружение. Бродила по комнатам, будто квартира и была ее телом, огромным лежачим телом, неспособным подняться из-за собственного веса.
Она понемногу пришла в себя только после чашки кофе, а тело ее лишь под душем обрело подлинные очертания. Смутно помнилось Джиллиан то время, когда все, казалось, было ей по плечу. И бедра были шире, и грудь больше. Не жизнь, а постоянный вдох и стойка с прямой спиной. А теперь – выдох, давно уже она только и выдыхает, и чувствует порой, что воздуха-то не осталось, но выдыхать все равно ведь придется.
Раз в несколько дней Джиллиан ходила на перевязки. Другие пациенты в приемной у врача старались не встречаться с ней взглядом. Врач утверждал, что раны заживают прекрасно, но ей эти слова казались издевкой. После процедуры она обычно отправлялась кататься по городу. За рулем ее почти не видно, лишь иногда она, остановившись на светофоре и ненароком повернув голову, замечала, как водитель машины на соседней полосе, посмотрев на нее, поспешно отводит взгляд. Она искала всякие пустынные места, где могла бы спокойно пройтись, ездила в промышленные районы на окраинах города, а как-то раз припарковалась возле футбольного стадиона. Не видно ни души, только на усыпанной гравием площадке несколько строительных машин. Вся территория обнесена проволочной сеткой, но ворота открыты. Она вошла, поднялась по ступеням. Стадион оказался намного больше, чем казалось снаружи. Трибуны пусты, во всех секторах сиденья разных цветов – синие, оранжевые, зеленые и серые. Постояла, глядя вниз, на игровое поле, и пытаясь вообразить, как оно тут бывает во время матча, когда трибуны заполнены людьми.
В другой раз она заехала на самый верх многоярусного паркинга. Утром было сухо, а с полудня не переставая лил дождь. Сквозь широкие просветы в стенах, составленных из бетонных блоков, что есть силы задувал ветер. Джиллиан вылезла из машины и прошлась по всему ярусу, лавируя между немногочисленными оставленными здесь автомобилями. Шла и разворачивалась, крутилась вокруг своей оси, пробовала длинные выпады, как на занятиях по фехтованию в училище: прыжок вперед, прыжок назад. Овладевала пространством, как учили их на занятиях по актерскому мастерству, простирала руки, словно пытаясь ладонями раздвинуть стены. Выкрикивала протяжные шипящие звуки, неизвестно отчего придя в возбужденное состояние. Но уж очень велико было это пространство, и оно не отвечало, не оказывало сопротивления. Мелкими шажками подбежала она к стене, выглянула в проем, а там – промышленные корпуса, потоки машин на многополосных улицах, где по краю стоят изуродованные обрезкой тополя, и вдалеке гора, чьи очертания размыты за плотной завесой дождя. Джиллиан стало холодно.
Возвращаясь к машине, она вдруг заметила, что в одном из припакованных на этом ярусе автомобилей сидит мужчина. Сидит не шевелясь. На миг их взгляды встретились. А вдруг он наблюдал за ней все это время?
* * *
Накануне второй операции, в воскресенье, Джиллиан отправилась к родителям. С матерью они последний раз виделись еще до аварии. Та открыла дверь, взглянула на Джиллиан, но тут же отвернулась и расплакалась. Вмешался отец, сделал матери замечание и раздраженно отстранил ее от двери.
– Заходи, заходи, – обратился он к дочери.
Со словами, что обед вот-вот будет готов, мать сбежала в кухню. Джиллиан – за ней.
Вилки и ножи стучали по тарелкам ужасно громко, так громко, что Джиллиан едва удавалось расслышать родителей. Оба – старые люди, жуют, а лица их кривятся уродливыми гримасами. Джиллиан, уткнувшись в свою тарелку, нарезала еду мелкими кусочками и глотала, почти не разжевывая.
– Ты, кажется, совсем не голодная?
– Что? Не расслышала.
– Ты почти ничего не ешь.
– Да я не голодная… – Джиллиан отложила прибор и встала. – Я выйду на минутку.
Закрывая за собой дверь, она увидела, как отец опять накладывает себе полную тарелку еды.
Она сидела на унитазе, тянула время. В доме по-настоящему холодно, она замерзла. «Отец поставил отопление на минимум», – шепнула ей в кухне мать. Джиллиан нажала смыв и вернулась в столовую. Отец еще не расправился с едой, а мать уже убирала со стола. Кофе пили, рассевшись втроем на диване. Отец читал газету, мать примостилась рядом с Джиллиан так, чтобы не смотреть ей в лицо. А Джиллиан разглядывала материнские руки, когда та разливала кофе – одну чашку ей, другую себе, – поблекшие и будто загорелые уже в это время года, покрытые старческими пятнами, но при этом унизанные полудюжиной колец. В молодости мать была очень хороша собой. Интересно бы знать, как же она справилась с утратой красоты? Наверное, все-таки легче, когда это происходит исподволь, а не в одночасье. Где-то она читала, что большинство людей имеют весьма далекое от реальности представление о собственной внешности, кажутся себе стройнее, моложе и красивее, чем они есть на самом деле. Может, мать навсегда осталась для себя той прекрасной молодой женщиной с фотографии, что стоит на буфете? Во всяком случае, вид у нее и теперь ухоженный, хотя тщетность усилий делает распад еще печальнее.
– Ты поправилась? – спросила мать.
Джиллиан провела у них больше времени, чем собиралась изначально. Вышла с отцом в сад, он показывал кусты, которые собственноручно посадил. Потом они все втроем опять сидели в гостиной, читали. В бывшей своей комнате Джиллиан прилегла отдохнуть. Мать хлопотала на кухне – готовила ужин. Отец сновал по дому, будто искал что-то и не мог найти. Иногда заходя к нему в мастерскую, Джиллиан отмечала, что на работе он совсем другой человек – вспыльчивый, но жизнерадостный и отзывчивый. А дома он походил скорее на раненого зверя, рыщущего в поисках укрытия.
– Значит, ты не против, если мы на той неделе уедем кататься на лыжах? – спросила мать.
– Да нет же, – ответила Джиллиан, – операция неопасная. А мое новое лицо вы все равно скоро увидите.
– Почему бы и тебе потом не уехать куда-нибудь в горы или на море?
– Одной?! – возмутилась Джиллиан и ушла в гостиную со стаканами в руках: она накрывала на стол.
Вернулась в кухню, а мать поглядывает на нее с опаской. Но Джиллиан больше ничего не сказала. После ужина они посмотрели вечерние новости.
– Ну, я пошла, – объявила Джиллиан.
Родители ее не задерживали. Проводили до двери, мать обняла ее, отец крепко пожал ей руку.
– Смотрите, ноги там не переломайте! – весело крикнула она, садясь в машину. Развернувшись, взглянула назад, на дом. Дверь закрыта.
Вечером она проверила почту, но в ящике Фрекен Жюли новых сообщений не было.
* * *
Эсэмэска, посланная ей Хубертом вслед за демонстрацией своих картин, показалась Джиллиан обидной. Так прямо и спросил, не ожидала ли она большего. Две недели Джиллиан не выходила с ним на связь, он тоже явно выжидал. Маттиас все спрашивал, что с ней такое, но она только головой качала в ответ, мол, дел невпроворот, половина редакции разъехалась на осенние каникулы.
В конце концов Джиллиан написала Хуберту мейл, упрекая в том, что он якобы ее использовал. «Не каждая из тех, кого ты заманил в мастерскую, станет для тебя раздеваться».
Хуберт ответил немедленно, словно только и ждал от нее сигнала. Ответил со всей любезностью, но и с нарочитым спокойствием. Да, он не предложил ей выступить моделью, хотя должен признаться, что такая мысль его посещала. Правда, он принял решение не продолжать свой цикл ню и заняться чем-нибудь другим, однако было бы небезынтересно совершить последнюю попытку. «Но совсем по-иному, – писал он, – ведь мы с тобой отчасти знакомы, и фотографировать тебя я бы не стал, я бы писал тебя с натуры. Как ты на это смотришь?»
«А что будет с картиной?» – написала Джиллиан в мейле без обращения и без приветствия.
«Тебе подарю», – ответил Хуберт.
«Вряд ли я смогу принести домой собственное изображение в жанре ню», – написала Джиллиан.
«А я и не думал про жанр ню», – был ответ.
* * *
В порядке исключения передачу записали в понедельник, поэтому во вторник Джиллиан могла остаться дома. Проснулась утром – Маттиас стоит у окна с чашкой кофе в руке.
– Туман на улице, – сказал он. – Как я тебе завидую…
Не успел Маттиас выйти, как она вскочила, побежала в душ и одеваться. Все старалась представить себе картину, которую напишет Хуберт. В последнем мейле он попросил ее надеть платье. Долго стояла она в раздумье перед гардеробом. Наконец выбрала классическое закрытое платье из шифона, Маттиасу оно очень нравилось. Надела жемчужные бусы и скромные жемчужные сережки, его подарок на помолвку. Вообще-то она не любила украшения, считала, что они ее старят, но вот для картины маслом, конечно, подойдут.
Сейчас, при свете дня и в тумане, тот район, где находилась мастерская Хуберта, выглядел уж совсем безотрадно. Напротив бывшей прядильной фабрики – уродливое административное здание восьмидесятых годов, фасад облицован металлом, выкрашенным в цвет бордо. Движение на улице весьма оживленное. У входа в здание, где мастерская, стояли молодой человек и совсем юная девушка, курили. С интересом разглядывали Джиллиан. Молодой человек стоял прямо у двери и посторонился только тогда, когда Джиллиан, подойдя к нему вплотную, остановилась.
– Ищешь кого? – спросила девушка.
– У меня назначена встреча, – ответила Джиллиан, хотя такая формулировка не очень-то вязалась с этим местом.
Длинный коридор скудно освещали лампы на потолке. Джиллиан добралась до конца коридора, постучала в дверь и вошла, не ожидая ответа. С тех пор как она побывала тут в прошлый раз, Хуберт навел в мастерской порядок. Мольберт с закрепленным на нем большим листом фанеры стоял теперь у дивана.
– Нашла дорогу, не заблудилась? – спросил он мимоходом, помогая Джиллиан снять пальто и внимательно ее рассматривая. – Платье без складок здорово облегчило бы мне работу. До которого часа ты свободна?
– До обеда, – ответила Джиллиан.
Он попросил ее сесть на диване так, как ей удобно. Но не успела она устроиться поудобнее, как он попросил ее не прислоняться к спинке. Подошел, легонько положил ей руку на плечо, чтобы она всем телом наклонилась чуть вперед.
– Вот так, хорошо?
Она кивнула, и тогда он клейкой лентой красного цвета отметил на полу расположение ее ног. Затем он молча обошел все помещение, разглядывая Джиллиан с разных точек обзора. Взял фотоаппарат, заправил пленку и, сделав несколько снимков, пояснил:
– Это просто для надежности.
Наконец, чуть отодвинув от дивана мольберт, он пометил клейкой лентой и его расположение на полу, а к фанере прикрепил металлическими скрепками лист оберточной бумаги. Очень скоро Джиллиан почувствовала, до чего ей неудобно сидеть, не двигаясь, в таком положении.
– Можно я сниму туфли?
Хуберт кивнул, и Джиллиан тут же скинула свои лодочки. Правда, вскоре ноги стали мерзнуть, и ей пришлось снова обуться.
– Ты можешь сидеть спокойно? – нарушил тишину Хуберт. – И убери, пожалуйста, вот эту улыбочку!
Но стоило измениться выражению ее лица, как он опять начал возмущаться:
– Это тебе не фотосессия! Ты что, не можешь сделать нормальное лицо? Представь, что ты тут совершенно одна.
Джиллиан удивилась: неужели он уже работает над лицом?
– Да нет, это все – твоя поза, – стал он объяснять, – я тебя не вижу, когда ты притворяешься.
Джиллиан часто фотографировалась, но только в ролях, которые играла – раньше в театре, потом на публике. Перед камерой она всегда рисовалась, принимала эффектные позы, как это принято в глянцевых журналах. Лучшими нередко оказывались те фотографии, на которых она с трудом узнавала саму себя. Но сейчас ей не разрешалось даже пошевелиться, и она не могла себе представить, какой Хуберт ее видит.
– Голова у тебя огромная, – безразлично произнес он.
Он отцепил от доски и бросил начатый эскиз, тот спланировал на пол. Закрепил на мольберте новый лист оберточной бумаги. Перерыв они сделали через час.
– Можно мне посмотреть? – спросила Джиллиан.
– Конечно смотри, – ответил он, откручивая крышку старой кофеварки. – Хочешь кофе?
В наброске, сделанном на бумаге углем, угадывались очертания комнаты, мебели. Фигура Джиллиан, тоже лишь намеченная, смотрелась удивительно живо. Но ей все равно не понравилось. Не понравилось. Ведь она надеялась увидеть себя такой, какой доселе не знала.
– Вот интересно, что тебе удастся во мне разглядеть… – обратилась она к Хуберту.
Тот налил в кофеварку воды, поставил ее на плитку.
– Да ничего такого особенного я не вижу. Если удастся схватить внешность – уже хорошо.
Джиллиан, присев на корточки, перебирала валявшиеся на полу наброски. Хуберт направился было к ней с двумя полными кофейными чашечками в руках, но на полпути остановился:
– Прошу тебя, не двигайся.
Он поставил чашки на пол, взял с полки большой блокнот и быстрыми штрихами стал наносить рисунок на бумагу. Когда Джиллиан наконец дождалась своего кофе, тот уже совершенно остыл.
– Может, лучше тебе встать?
Выпив кофе одним глотком, он отнес чашки в раковину, затем прикрепил к фанере новый лист бумаги.
Тем утром они испробовали самые разные позы. Джиллиан садилась на стул, стояла, опираясь на спинку, стояла позади стула, смотрела на Хуберта, смотрела в окно, поворачивалась к нему то боком, то спиной. Иногда он ее лишь рассматривал – не рисовал. Иногда, взяв камеру, он делал несколько снимков. Позирование утомило Джиллиан, но ей нравились сама атмосфера сосредоточенности и то внимание, с каким Хуберт ее разглядывал, и легкие прикосновения его рук, когда он помогал ей найти новую позицию. Около полудня Джиллиан напомнила, что ей пора. К этому часу на полу возле мольберта скопилась целая стопка эскизов.
– Завтра в то же время? – предложил Хуберт. – Только оденься, пожалуйста, по-другому.
* * *
На следующее утро Джиллиан, войдя в мастерскую, сразу увидела на стене все вчерашние эскизы, прикрепленные клейкой лентой. Хуберт, как обычно, помог ей снять пальто. Явилась она в короткой узкой юбочке, простенький верх без рукавов, темные чулки.
За ночь он принял решение, какой должна быть поза. Усадил Джиллиан на неудобный стул с плетеным сиденьем и прямой спинкой, велел скрестить руки. Правую руку положил на левое колено, левую – на правое бедро.
– Сиди прямо, – скомандовал он. – Какое ощущение?
– Ужас как неудобно. Можешь дать мне подушку?
Хуберт отрицательно покачал головой:
– Нельзя тебе сидеть удобно, у тебя сразу появляется эдакий самовлюбленный взгляд.
– А так я в скованном положении, – настаивала Джиллиан. – Добровольно я в жизни бы так не села.
– Тем лучше!
Прежде чем начать, Хуберт выставил на кухонном таймере время – сорок пять минут.
– Как зазвонит, сделаем перерыв, – пояснил он.
Подошел к Джиллиан, чуть подправил складки на одежде. Работая, он почти не раскрывал рта, но выражение его лица менялось постоянно, то становясь сердитым, то проясняясь. Сведет брови к переносице – и выглядит глубоко сосредоточенным, потом, смотришь, опять ослабил напряжение. Джиллиан глядела в окно на огромную груду щебня, видимо оставшуюся после сноса какого-то здания. Вдали виднелся поросший лесом склон. Небо хмурилось. Несмотря на неудобную позу, ее мысли вольно блуждали, будто именно скованность тела пробудила воспоминания о былом. В памяти возникли первые месяцы в училище и то чувство беспомощности, какое охватывало ее всякий раз, когда преподаватель был ею недоволен. «Ты играешь, – не уставал он повторять. – А должна быть собой, раскрывать себя». В отчаянии от собственного бессилия она не раз оказывалась на грани слез, тут-то он говорил: «Вот где ты! Жаль, только на минуту».
Джиллиан очнулась от своих мыслей: Хуберт потребовал, чтобы она сосредоточилась.
– Как это? Зачем это? – удивилась Джиллиан. – По-моему, я для тебя все равно что ваза с фруктами или глиняный кувшин для молока.
– Кувшин не смотрит в окно, – сказал Хуберт. – Ты отвлекаешься.
По сигналу таймера они прервали сеанс. Джиллиан пошла в туалет на другом конце коридора. Окошко открыто и холод ледяной, но грязь и вонь такая, что Джиллиан чуть не стошнило. Вернувшись в мастерскую, она увидела, что Хуберт уже заменил фанеру на грунтованный холст и принялся раскладывать кисточки, смешивать краски. Она тем временем мерила шагами комнату, стараясь размяться.
– Ну что, готова? – спросил он наконец. И опять выставил время на таймере.
Джиллиан вернулась на свой стул. Он подправил ей осанку, легко пригладил ладонью волосы. На этот раз Джиллиан стала наблюдать за Хубертом во время работы. Теперь он держал в руке кисть и, судя по размашистым движениям, набрасывал контуры.
– Ни туда ни сюда, – поделился он. – Писать с фотографии определенно проще.
Хуберт оборвал свои рассуждения, но вскоре опять начал ругаться: невозможно, мол, пере нести на плоскость холста трехмерный объект.
– Объект – это я, значит? – усмехнулась Джиллиан.
Но он продолжал, словно ее не расслышал:
– Вообще не знаю, зачем это делается. Невозможно написать то самое, что ты видишь. Наверное, на людей надо просто смотреть, а не картины с них писать.
– Зачем же ты этим занимаешься?
В ответ он только застонал.
Джиллиан представила себе музей с пустыми стенами. Посетители бродят по залам, а при встрече делают шаг назад и обходят друг друга кругом, внимательнейшим образом рассматривая.
Хуберт щелкнул пальцами:
– Эй, ты еще здесь?
Труднее всего ей давались первые минуты после перерыва. Каждый раз казалось, что новые три четверти часа она не выдержит. То в горле пересохнет и надо откашляться, то зудит где-нибудь и хочется почесаться. Однако со временем Джиллиан привыкла сидеть не шевелясь. В спине и ягодицах она по-прежнему чувствовала ноющую боль, но сжилась с этим ощущением, заполнявшим все тело. Постепенно она успокоилась, перестала волноваться о том, как будет выглядеть на картине и кому эта картина попадется на глаза. Картина будет существовать отдельно, сама по себе, это ведь не отражение ее и не копия. В любом моментальном снимке от нее больше, чем в этой картине. Когда таймер очередной раз подал сигнал, она подошла к мольберту взглянуть, чего добился Хуберт.
– Если захочешь, я буду позировать раздетой.
* * *
Вот уже два дня, как Джиллиан таскала с собой повсюду верстку второго романа, написанного молодым и подающим надежды автором. В мастерскую к Хуберту она на этот раз отправилась на электричке и по дороге успела прочитать десяток страниц. Взглянув во время очередного их перерыва на свой мобильник, она увидела эсэмэску от редактора: стоит ли делать сюжет об этом романе, есть ли у нее идеи?
Книги вообще трудно пробивать на телевидение – какая из писателя картинка? «Придумайте хоть что-нибудь, – каждый раз говорит заведующий редакцией. – Видеть больше не могу одинокого писателя на прогулке по лесу!» Джиллиан написала в ответ, что сегодня готового решения у нее нет, но к завтрашнему дню будет. После ужина она опять взялась за чтение верстки, попутно размышляя, как бы ей поинтереснее подать этого молодого автора в телепередаче. И радовалась любой возможности отвлечься. В одиннадцать Маттиас зашел к ней в кабинет сказать, что ложится спать. К полуночи она вчерне продумала план сюжета: нет, не лесная прогулка, а краткий пересказ романа, проиллюстрированный архивными материалами, еще небольшое интервью с автором о трудностях работы над второй книгой, еще два-три фрагмента творческого вечера, чтобы прозвучали голоса читателей. Вполне достаточно для представления на редакционном совете. Джиллиан пошла в ванную, разделась. Долго изучала себя в зеркале. Вертелась, заглядывала через плечо.
Обычно четверг у нее далеко не самый напряженный день, но тут она все утро монтировала передачу. После обеда закончила наконец и сделала несколько звонков, чтобы уточнить сценарий, который собиралась завтра представить на совете. Книгу до конца она так и не дочитала. Гротескный сюжет, юмористические диалоги, и, несмотря на это – или, может, именно поэтому, – чтение нагоняло на нее скуку. Впрочем, она и в грош не ставила большинство книжных новинок. И теперь почему-то все реже увлекалась какой-либо книгой. Дело в ней самой, наверное. Когда какой-нибудь писатель жаловался, что его, мол, не представили в передаче про культуру, ее так и охватывало искушение дать совет: а ты сначала напиши хорошую книгу!
Она даже подумывала, не отказаться ли от этого сюжета, как вдруг встретилась у кофейного автомата с шефом, а тот, оказывается, уже решил его взять. В три часа она отправилась домой. Попробовала еще почитать, но так и не сумела сосредоточиться. Сегодня за завтраком она сказала Маттиасу, что вечером встречается с Дагмар.
Вышла из дому без чего-то шесть. Накрапывал мелкий дождик, за день похолодало. В трамвае она разглядывала других пассажиров, представляя их раздетыми догола. Пожилые женщины, деловые люди, мамаши, только что забравшие детишек из яслей, – все голые. Вот молодой и шикарно одетый бизнесмен, у него все туловище заросло густыми волосами. Вот мужчина, толстенное брюхо отвисло по самое некуда, вот женщина – груди огромные, вот девушка с рыжеватым пушком на лобке и пирсингом. Морщины, кожные складки, кожа смуглая и светлая, прыщи, веснушки, родинки. Джиллиан пришла на память старинная картина с изображением Страшного суда, где крошечные человечки корчатся на земле от страха и позора. Она попыталась вспомнить имя художника, который добился того, что сотни людей разделись догола, да еще и полегли на землю где попало.
На главном вокзале пересадка. Огромный зал кишит людьми. Джиллиан, как могла, лавировала в толпе, близость посторонних почему-то стала ей неприятна. Всю поездку на электричке она простояла в тамбуре.
Пока добралась, уже почти стемнело. Зонтик она с собой не взяла, лицо и волосы мокрые. Быстрым шагом миновала коридор, ведущий к мастерской. Вошла, не постучавшись. Хуберт сидит на диване, читает газету, рядом на полу бутылка пива. Отложив газету в сторону, он взглянул на Джиллиан. На его лице написано одно – равнодушие. Она бросила пальто на диван. Хуберт встал, бегло поцеловал ее в щеку:
– Ты готова?
Джиллиан наклонилась за пивной бутылкой, сделала большой глоток, вернула бутылку на место. И только после этого, взглянув на Хуберта, кивнула. Тот посоветовал ей сложить одежду на диване, а сам подошел к мольберту, чтобы установить фанерный лист для эскизов.
– Пол немытый, к сожалению, – произнес он, повернувшись к Джиллиан спиной.
Перед мольбертом стоял пустой стул, Джиллиан сидела на нем вчера, а рядом небольшая электрическая печка.
Обеими руками Джиллиан стянула через голову пуловер, осталась в льняной блузочке без рукавов. Расстегнула две верхние пуговки и чуть замешкалась. С Хуберта не спускала глаз. А тот стоял, отвернувшись, у мольберта и перебирал свои рисовальные принадлежности. И все равно она повернулась к нему спиной, снимая джинсы. Штанины узкие, пришлось ей покрутить задом, чтобы из них вылезти. Невольно она подумала, сколь комично это зрелище. Сняла тоненькие гольфы, расстегнула остальные пуговички на блузке. А потом взяла, да и попросила Хуберта выдать ей плечики для одежды. Тут уж пришлось ему обернуться, но смотрел он прямо ей в лицо.
– Лён всегда мнется, – с улыбкой пояснила она, когда Хуберт протянул ей проволочную вешалку.
Джиллиан казалось теперь, что ситуация у нее под контролем. В одном только нижнем белье она уселась на стул.
– Как мне сидеть? Как вчера?
– А я думал… – И Хуберт оборвал себя на полуслове.
Джиллиан поднялась и, повернувшись к нему спиной, быстренько скинула трусики и бюстгальтер. Нагишом она двигалась по-иному, медленнее, с выпрямленной спиной, чуть скованно. Знала точно, что Хуберт сейчас ее оценивает. Мысль о том, что он уже стольких женщин видел и рисовал обнаженными, вселяла в нее неуверенность. Белье она засунула под другую одежду на диване, уселась на стул перед мольбертом.
– Нравится тебе то, что ты сейчас видишь? – спросила она и тотчас разозлилась на себя за этот вопрос.
Хуберт не ответил. Она приняла ту же позу, что накануне, и обрадовалась, что скрещенными руками она себя прикрывает. Хуберт в задумчивости прошелся по комнате, потом двинулся к ней – очень медленно, замирая едва ли не на каждом шагу, чтобы ее рассмотреть. Джиллиан пыталась следить за его взглядом, ощупывающим ее с ног до головы. Лицо у него было серьезным и сосредоточенным.
– Можно мне сделать несколько фотографий?
Джиллиан, помедлив, кивнула.
Хуберт вставил пленку в фотоаппарат и подошел к ней совсем близко. Аппарат, за которым можно скрыться, кажется, придавал ему смелости. Только когда пленка была полностью израсходована, он достал ее и запечатал. И лишь после этого взялся за рисование.
Плетеное сиденье стула резало нещадно, электрическая печка обогревала Джиллиан лишь с одной стороны. Она пыталась отвлечься, подумать о чем-нибудь другом. Что она вообще здесь делает? Маттиас, если когда-нибудь увидит картину, устроит ей грандиозную сцену. Разумеется, Маттиас ее узнает, что бы там Хуберт ни говорил. И нипочем не поверит, что она не спала с художником. Прошлое Джиллиан ему хорошо известно, за десять лет после училища она испробовала все, чего душа пожелает. Могла переспать с мужчиной только из симпатии к его образу жизни. Или из любопытства: каково это – изменить постоянному другу? Маттиас часто расспрашивал ее о тех временах, а она ничего не скрывала. «Зато теперь ты моя!» – эти слова Джиллиан часто от него слышала, и пусть сама формулировка ей не нравилась, но зато придавала уверенности в себе. И незачем ей было гулять на стороне. А случись такое, да Маттиас узнал бы, – все разом бы рухнуло, это уж точно. Она сама не понимала, отчего ее так тянет к Хуберту. Одевается он как попало, да и вообще, кажется, не заботится о своей внешности. Немногословный, в общении даже мрачноватый – с таким всегда можно нарваться на бесцеремонность или грубость. Когда-то давно она завела короткий роман с художником, это был сущий кошмар. Но теперь, может, она искала как раз того, кто способен вселить в нее неуверенность? Надеялась, что именно так она сумеет расшевелиться? Да, она хотела понять и почувствовать самоё себя. Звучит как цитата из сборника жизненных советов. Порой они с Маттиасом хохотали над подобными советами в глянцевых журналах, в том числе и над перечнем способов сохранить свежесть в давно сложившихся отношениях, что не мешало ему увозить ее на праздники в какой-нибудь горный спа-отель, где их ублажали массажами, ваннами и роскошной едой. После чего они спали друг с другом, как будто и это входило в программу пребывания. А ведь Джиллиан давно уже испытывала удовлетворение не столько от секса с Маттиасом, сколько от того факта, что в их отношениях секс имеет место. Как доказательство того, что все у них в порядке и так будет всегда.
Запищал таймер. Поза, в которой Джиллиан сидела, словно заменяла ей защитную одежду, но стоило только подняться, как к ней вернулось ощущение собственной наготы. Тем не менее она подошла к Хуберту, который все так и держал в руке угольный карандаш, и встала рядом. Хуберт отступил на шаг, чтобы рассмотреть эскиз или скорее чтобы не оказаться в непосредственной близости от Джиллиан. С той минуты, как она разделась догола, Хуберт вообще вел себя весьма отстраненно. Повернувшись к Хуберту, стоя спиной к мольберту, она попыталась изобразить на лице то самое растерянное выражение, что запечатлел рисунок углем.
– Неужели у меня действительно такой взгляд? – Джиллиан очень хотела произнести эти слова уверенно и с улыбкой, но не получилось.
Хуберт пошел к двери, снял с крючка на вешалке легкое кимоно и протянул ей:
– А то я буду виноват, что ты простудилась.
Джиллиан разглядывала рисунок. Точнее, черновой набросок, в котором уже угадывалось портретное сходство, хотя вопрос о сходстве сейчас почему-то утратил для нее значение.
– Ты доволен? – обратилась она к Хуберту.
Тот отрицательно покачал головой:
– По моему ощущению, здесь тебя нет. Ну, чуточку стыдливости в самом начале, а потом ты попросту отсутствовала.
– Но что от меня требуется? Я ведь впервые на такое решилась.
– Требуется твое присутствие, – объяснил Хуберт. – Ты должна быть здесь, иначе между нами ничего не произойдет.
Джиллиан язвительно рассмеялась в ответ.
– Раздевайся, – скомандовал Хуберт. – Ноги врозь, упираешься в пол. Чувствуешь пол? Чувствуешь свой вес?
Джиллиан припомнились упражнения, которые они выполняли на первом курсе в училище, она и тогда не очень понимала, что имеется в виду под присутствием.
– О чем ты думаешь?
– О театральном училище.
– А как себя чувствуешь?
– Не знаю. Устала.
– Садись.
Пришлось ей, усевшись на холодном полу, согнуть под прямым углом ноги, опереться локтями о колени, одной рукой взяться за запястье другой руки. Волей-неволей в памяти возникла скульптура Майоля – женская фигура в точно такой же позе. Хуберт выставил время на таймере, принялся рисовать. Время от времени он издавал тяжелый вздох, а то и швырял в ярости карандаш. Ничего не получается! Пиликанье таймера, по глотку пива, новая поза. Чем дальше, тем молчаливее становился Хуберт. Не раз он срывал и швырял на пол лист бумаги, едва успев сделать несколько штрихов. Джиллиан устала, ее тело свело, все болит. В следующий перерыв она начала было делать гимнастику на растяжку, но Хуберт уже снова завел часы:
– Так, разделась!
Джиллиан распахнула кимоно. Он, зайдя сзади, это кимоно с нее чуть ли не сорвал.
– Легла!
Она улеглась ничком на пол, голову положила на скрещенные руки. Почувствовала, как все ее тело покрывается гусиной кожей.
– Мне надо в туалет.
– Не сейчас. Руки вдоль туловища!
Скула заныла от соприкосновения с холодным полом. Хуберт стоял вплотную к ней, виднелись только его ноги.
– Переворачивайся на спину.
Джиллиан перевернулась, грязь с пола прилипла к ее животу, к груди, к лицу. Холод заползал в ее тело, грудь вздымалась и опускалась. Срам она прикрыла рукой.
– Нет! – тотчас отозвался Хуберт.
Убрала руку. И постепенно успокоилась. Лежала там как неживая. А Хуберт все так и стоит рядом, глядя на нее сверху вниз. Джиллиан рассматривала потолок и электропровода, ведущие к уродливым люминесцентным лампам. Каждая такая лампа – серый островок грязи. Она все пыталась заглянуть в глаза Хуберту. Когда наконец они встретились взглядом, Хуберт немедленно отошел в сторону. Она села, а Хуберт глядит в окно, уставился во тьму. Она встала, рукой стряхнула грязь со всего тела, с лица. Подняла с пола и накинула кимоно, мелкими шагами направилась к Хуберту.
– Мне очень жаль.
Хуберт не отвечал.
Джиллиан, прильнув к нему всем телом, коснулась ладонями его груди. Но он и теперь не откликнулся, и тогда она распахнула кимоно.
– Все хорошо…
Ее голос звучал наигранно, она произносила заранее выученные слова. Нежно погладила его шею, старалась, чтобы ее участившееся дыхание достигало его шеи, уха. Жаждала возбудиться и возбудить его.
Но вдруг Хуберт резко оторвался от нее, сделал шаг в сторону и, не глядя, выкрикнул:
– Прекрати немедленно!
Они долго молчали.
– Я тебе совсем не нравлюсь?
Тут Хуберт наконец обернулся и взглянул на нее:
– Моя подруга ждет ребенка. Срок – через месяц.
Джиллиан, рассмеявшись, сделала шаг к нему:
– Ну и что? Мы ведь взрослые люди.
Она будто играла роль в плохом фильме. Однако впервые за этот вечер она испытывала настоящее желание. Пусть бы он на нее накинулся, пусть швырнул бы на этот диван! Вот было бы наказание, способное теперь ее спасти.
В этот самый миг зазвонил таймер. Звонил, звонил, не замолкал. Хуберт подошел к двери, широко ее распахнул:
– Уходи, пожалуйста.
* * *
Отец стоял у окна, хотя оттуда ничего не увидишь, кроме автостоянки для медицинского персонала, жалкой зелени и, чуть дальше, типовых частных домиков. В последние дни Джиллиан часто глядела в это окно, задаваясь вопросом, кто же населяет эти домики, что за жизнь протекает в ритме включенного или выключенного света, открытых или задернутых штор, чьи тени скользят за занавесками? Отец, впрочем, в окно не смотрел, он просто стоял опустив голову. Он еще и четверти часа не пробыл здесь, а уже нервничал. Одна из медицинских сестер удалила повязку, чтобы он смог посмотреть на лицо своей дочери.
Джиллиан подошла к нему сзади, но остановилась на расстоянии двух шагов. Ради нее он прервал отпуск на лыжном курорте, примчался на машине прямо с гор. Джиллиан начала было говорить, как этим тронута, но он только рукой махнул: на дорогу и трех часов не понадобилось.
– Врачи хорошо поработали, – заметил он. – Выглядит уже вполне терпимо, почти как раньше.
Однако Джиллиан выглядела не так, как раньше. Теперь, когда она вновь различает свои черты, ей особенно ясно, что они изменились и никогда уж ей не быть такой, как до аварии.
– Я говорил с врачом, – продолжал отец, – после третьей операции будет почти ничего не заметно.
– Через пять месяцев, – вздохнула Джиллиан. – Лето пройдет.
После операции она созвонилась со своим шефом. Тот предложил расширить ее редакторские обязанности, раз она пока не может работать в кадре. Осторожно прощупал, что там у нее с лицом. «Вроде бы через пять месяцев будет вообще незаметно, – сказала Джиллиан. – Если чуть подгримировать». – «Вот тогда и вернемся к этому разговору, – подытожил шеф. – Ну что, выходишь на работу? Когда?»
– Когда ты выходишь на работу? – спросил отец.
Работу ее он всегда терпеть не мог, возражал когда-то и против актерской профессии. Джиллиан страшно удивилась, когда он все-таки явился на выпускной спектакль. Ее журналистская переподготовка тоже не вызвала у отца восторга. Всех журналистов он считал левыми, а у левых цель одна – навредить частному хозяйству. Джиллиан еще во время учебы начала вести на местном телевидении лайф стайл-программу. И так хорошо делала свое дело, что ей позвонили с одного из центральных каналов, когда им понадобилась ведущая для нового цикла передач о культуре. Но, несмотря на то что известность дочери пошла по нарастающей, отец не прекратил бранить ее профессию. А особенно злился, когда кто-нибудь из клиентов или знакомых интересовался, не состоит ли он с нею в родстве, и ему приходилось выслушивать комментарии к ее передаче, ее нарядам и к репортажам в глянцевых журналах.
После аварии в бульварной прессе появилась ее фотография в больнице. Отец вытащил из портфеля газету, продемонстрировал Джиллиан. Совершенно неизвестно, откуда взялась эта нечеткая фотография – наверное, ее сделал кто-то из больничного персонала и продал в газету. Джиллиан на снимке выглядела абсолютно неузнаваемой – вероятно, снимали с мобильного телефона и при плохом освещении. Под фотографией краткое сообщение: несчастный случай с трагическим исходом, и так далее. Читать этот текст она не стала. Зато пригляделась к другой фотографии: они с Маттиасом на какой-то вечеринке, ее улыбка кажется искусственной, а она сама – старше, чем на самом деле.
– А мне-то какое дело? – сказала она. – Это кто угодно может быть.
Вернула отцу газету, тот спрятал ее в портфель. Джиллиан думала, он сейчас начнет ее упрекать: вот, мол, получила. Но он сказал только, что обратился с жалобой в администрацию клиники и позвонил в редакцию газеты. Он даже посоветовался со своим адвокатом, но тот лишь рукой махнул. Речь, мол, идет о публичной персоне, а в таком случае трудно доказать нарушение прав личности. Кто имеет счастье общаться с журналистами, тот пусть не удивляется, когда они интересуются его несчастьем.
– Так когда ты выходишь на работу? – повторил отец.
– С этим покончено, – заявила Джиллиан. – Можешь больше не злиться. Я не вернусь в редакцию: я не хочу, чтобы они там мне сочувствовали.
А не хотела она писать тексты для Маи, которая благодаря ее несчастью получила теперь шанс работать не за письменным столом, а в кадре.
– Чем же ты займешься? – спросил отец, и по его интонации она не разобрала, радуется он или беспокоится.
– Пока сама не знаю, – ответила Джиллиан. – Что-нибудь да найдется.
– Не хочешь съездить в горы? Мы там только до воскресенья, а потом дом свободен.
Оба они обошли молчанием тот факт, что Джиллиан и Маттиас именно следующую неделю планировали провести в горах вместе.
* * *
На втором этаже больницы располагалось родильное отделение. В лифте висел список детишек, появившихся на свет за последние дни. Джиллиан, покупая в киоске на первом этаже сигареты или газету, видела, как молодые родители толкутся в холле со своими новорожденными. Вид они все имели потерянный и как будто ждали, чтобы хоть кто-нибудь похвалил их младенчика. За их улыбками Джиллиан читала страх перед уродливым созданием, которое отныне им принадлежит и за которое они несут ответственность, понятия не имея, зачем это нужно. Джиллиан заметила также, что молодые родители стараются не встречаться с ней взглядом.
Солнечный зимний денек, холодный воздух, ветер гонит по небу редкие облака. Джиллиан курит на балконе своей палаты, закутавшись в шерстяной плед. С балкона открывается вид на город внизу, на озеро. Джиллиан озябла, закурила вторую сигарету. Курить запрещалось на всей территории больницы, поэтому одна из медицинских сестер, проходя под окнами и заметив ее, сделала возмущенное лицо и помахала рукой у себя перед носом. Джиллиан сделала вид, будто не поняла. Из здания больницы вышла молодая пара. Мужчина неловко держал ребенка на руках, женщина с ним под руку ступала неуверенно и не выглядела особенно счастливой. «Я – вдова». Слово было найдено, и оно повергло Джиллиан в шок больше, чем собственное увечье, чем смерть Маттиаса, чем все остальное.
Солнце, показавшись из-за облака, на миг ослепило ее, и она сделала шаг назад. В палату к ней заглянул врач, чтобы попрощаться. Велел некоторое время избегать солнечных лучей, запретил в первые дни мочить лицо водой, а кроме того, заниматься спортом и вообще подвергать себя нагрузкам. В остальном ей разрешалось делать что угодно. Врач пожал Джиллиан руку и сказал, что ему пора и они увидятся через пять месяцев. Джиллиан взглянула на часы. Начало третьего. Собрала сумку, вышла в коридор. Быстро попрощалась со всеми сестрами. Почему-то ей не хотелось покидать больницу через главный вход. В конце коридора была лестница, ведущая в отделение неотложной помощи, а там запасной выход. Джиллиан вызвала такси. Пока ждала машину, обдумывала, куда бы ей направиться. Никого из друзей она видеть не хотела, вообще не хотела встречаться с теми, кого знала раньше и кто стал бы сравнивать ее новое лицо с прежним. Такси наконец подкатило к зданию, она нацепила темные очки и чуть ли не бегом пробежала несколько метров до машины.
Из дома она позвонила в полицейский участок и попросила к телефону Мануэлу Бауэр. Той не было на месте, но дежурный записал номер Джиллиан и пообещал, что коллега Бауэр обязательно с ней свяжется. Телефонный звонок раздался через три часа, когда Джиллиан уже чуть не плакала.
– Чем могу помочь?
Джиллиан, чуть помедлив, заговорила:
– Мой муж в аварии не виноват. Вести машину должна была я. Но потом я выпила лишнего и не смогла…
– Это вы мне уже рассказывали, – заметила сотрудница полиции.
– Он не виноват! – повторила Джиллиан и невольно расплакалась.
– Он не должен был садиться за руль, – деловым тоном сообщила сотрудница Бауэр. – Кажется, вам все-таки нужна психологическая поддержка. Хотите, я еще раз продиктую вам телефон центра помощи жертвам преступлений?
– Я – не жертва.
С этими словами Джиллиан положила трубку.
Она позвонила матери Маттиаса и тоже все рассказала, но и та не хотела ничего слышать о вине Джиллиан. Потому что нет смысла искать виноватого, ведь гибель Маттиаса свершилась по воле Божьей. Разговор этот длился не дольше, чем предыдущий.
Все последующие дни Джиллиан, перебирая в памяти события новогодней ночи, размышляла о том, как могла бы предотвратить несчастье. Надо было настоять, чтобы они остались у Дагмар, не надо было садиться в машину, ни за что нельзя было разрешать Хуберту фотографировать ее нагишом.
В воскресенье рано утром она позвонила родителям; те еще находились в горах. К телефону подошел отец. Джиллиан стала расспрашивать, где именно произошла авария. Кто-то из отцовской мастерской эвакуировал разбитую машину, и она хочет знать точно, где это место. Еще она сказала, что с удовольствием принимает предложение поехать в горы и пожить в их доме. Отец, в свою очередь, рассказал, что они уедут только к вечеру, что погода прекрасная и они напоследок еще раз собираются на лыжню.
– Ты сегодня приедешь? Хорошо бы мы тут встретились.
– Нет, не успею, – сказала Джиллиан.
– Ну, ладно. Ты знаешь, где ключ.
Весь воскресный день она посвятила разборке вещей и паковке чемодана, хотя и сама не знала, как долго пробудет в горах. А в понедельник с утра отправилась на место аварии. Поставила машину на лесной дороге метров на сто дальше и пешком пошла назад. На обочине она заметила увядший букет цветов и огарок кладбищенской свечки – единственное напоминание о том, что здесь произошло. Час спустя, заехав на бензоколонку заправиться, она выбросила букет вместе со свечкой в большой мусорный бак, который украшало написанное на четырех языках слово СПАСИБО.
* * *
Никогда мне не удастся вложить в портрет ту силу, какая скрыта в человеческой голове. Лишь сам факт жизни требует и такой воли, и такой энергии…
Альберто Джакометти* * *
«Пыль – это материализованное время». Хуберт никак не мог вспомнить, чьи это слова и где он их прочитал. У него в мастерской, тем не менее, время материализовалось в достаточной мере, поскольку все предметы здесь покрылись тонким, почти прозрачным слоем пыли. Он не взял на себя труд вытирать пыль, он пришел сюда лишь за тем, чтобы просмотреть свои старые работы и обдумать, могут ли они на что-нибудь сгодиться. Большие полотна в жанре ню, которые он писал много лет назад, или «голые домохозяйки», как величал их его галерист, вообще не интересовали Хуберта, стали ему совершенно чужими, будто и написаны были кем-то другим. Он снял с полки у стены стопку больших папок. Принялся раскрывать их одну за другой, проглядывая свои индустриальные пейзажи, карандашные зарисовки технических приборов, наброски портретов и обнаженной натуры, самые старые из которых он выполнил еще в годы учебы. Не без колебаний открыл он папку, где на обложке значилось имя: Астрид. Здесь хранились десятка два фотографий и несколько рисунков. Все они относились к самому началу их романа, к летним каникулам на юге Франции. Они объездили на машине все побережье, ночевали в кемпингах. Все фотографии запечатлели обнаженную Астрид на фоне разных пейзажей, но иногда фигурка оказывалась такой маленькой, что ее просто невозможно было узнать. Он намеревался перенести всю эту серию фотографий цветными карандашами на бумагу, но довел до конца лишь несколько рисунков. В его воспоминаниях рисунки были лучше. Уложив их в ту же папку, он взялся за следующую.
Спустя час Хуберт уже вышел на улицу. Не найдя в папках ничего путного, он отнес в машину только проектор и диапозитивы: вдруг исходный материал когда-нибудь пригодится? Стрелки часов близились к полуночи, но все еще было тепло.
Скоро уже шесть лет, как он преподает в Высшей художественной школе. До конца семестра еще две недели, но он, закончив все дела, испытывал то смешанное чувство свободы и угнетенности, какое охватывало его всякий раз перед началом летних каникул.
Хуберт закурил сигарету, открыл в машине окно. Народу на улицах еще полным-полно, издалека доносится вой сирены. Непривычно жаркая и сухая погода стоит вот уже почти месяц. Сначала Хуберт этому радовался, но чем дальше, тем больше он впадал в беспокойство. В новостях сообщалось о погибающих от засухи посевах, только и разговоров было, что о потеплении климата, но не в том состояла причина его беспокойства. Переезжая в цент ре города мост через реку, он обратил внимание на мигающий сигнал штормового предупреждения.
* * *
Наутро пошел мелкий дождь. Хуберт открыл окно с водительской стороны, прохладный ветер дул ему в лицо. Сегодня он проснулся рано, чтобы убрать квартиру перед отъездом. В машине прослушал прогноз погоды: на ближайшие дни обещают холод и дождь, граница снегопада опустится ниже отметки в тысячу метров.
Выехал он в самый час пик. Когда он, не очень-то опытный водитель, чуть медлил со сменой полосы или секундой позже трогался с места на светофоре, сзади раздавались нетерпеливые гудки. На автостраде он двигался в плотном потоке машин. Часа через два он заехал на стоянку прямо перед съездом с автострады, чтобы выпить кофе. В ресторане по всем стенам висели картины художника, который сделал себе имя на изображениях тигров и слонов. В тоненьком рекламном проспекте значились абсурдно высокие цены на выставленные работы. Но у Хуберта эти работы вызывали почти физическое отвращение, он постарался уехать поскорее.
По дороге развлекал себя размышлениями о том, как можно зарабатывать деньги по принципу того художника. С тех пор как Хуберт начал преподавать, он почти не писал картин.
Раньше он всегда смеялся над художниками на теплых профессорских местечках, но после рождения Лукаса принял предложение художественной школы. Работа в штате представлялась единственной возможностью вести добропорядочный образ жизни и не закончить ее нищим художником.
Когда Лукас пошел в детский сад, Астрид вернулась на работу в отдел недвижимости того самого банка, где служила прежде. Они переехали в соседний городок, где могли себе позволить приобрести небольшой дом на окраине.
Помимо службы в банке, Астрид продолжала курс обучения работе с энергией и телом. Хуберт невысоко ценил круги приверженцев эзотерики как способа оказания жизненной помощи, в которых отныне вращалась Астрид. Раз-другой он выступил с ироническими замечаниями по этому поводу, но Астрид отвечала до того раздраженно, что он теперь и слова не говорил, когда она очередной раз записывалась на семинар по психодраме или дыхательной гимнастике в выходные дни.
Прошло немного времени, и она уже сама стала предлагать тренинги для руководителей. В подвале дома она устроила нечто вроде приемной комнаты. По стенам развесила картины одной итальянской художницы, Хуберт с нею дружил. Правда, ее городские пейзажи в режиме мультиэкспозиции, по которым бродят безликие прохожие, всегда казались ему чересчур холодными, но Астрид уверяла, что для ее клиентов ничего лучше не придумаешь. Лишь в углу на маленьком столике она разместила камень – розовый кварц. Заказала печать флаера с текстом про компетенции руководителя и диагностику проблемы, про ресурсы и параметры. Вскоре появились и первые посетители, в основном сотрудники ее банка, вместе они скрывались внизу, в подвале.
– Когда клиентов станет больше, я зарегистрируюсь как индивидуальный предприниматель, – поделилась с ним за ужином Астрид. И страшно разозлилась, когда Хуберт сказал, что начальников привлекает на тренинги исключительно ее сексапильность.
– Или ты случайно на каждый прием надеваешь короткую юбку?
– Что ж, тебе и самому пора бы призадуматься о балансе между работой и личной жизнью, – не сдавалась Астрид. – И еще. Я была бы тебе весьма благодарна, если б ты не начинал косить газон ровно в то время, когда у меня посетители.
* * *
На первый взгляд дела у них шли как никогда прекрасно, но вот в художественной школе Хуберт все больше чувствовал себя каким-то обманщиком: стоит перед студентами, критикует их работы! А сам всякий раз строит грандиозные планы на каникулы, но каждую неделю откладывает их осуществление – то в саду копается, то в доме что-нибудь мастерит, то вдруг возьмется за путаные поиски материалов для проектов, из которых никогда еще ничего путного не выходило. Он много читал, встречался с коллегами. Мастерская в бывшей прядильне так и числилась за ним, но он туда почти не ездил. Поначалу он воображал, будто подобные трудности знаменуют начало нового творческого этапа. Своего галериста он из месяца в месяц кормил обещаниями. А тот, все реже спрашивая, над чем работает Хуберт, посылал ему взамен фотографии только что купленной собаки или приглашения на вернисажи других художников. Бегло взглянув на эти карточки, Хуберт откладывал их в сторону: отчасти он испытывал зависть, отчасти попросту скуку от того, с какой серьезностью его коллеги отстаивают примитивнейшие идеи.
Как вдруг пришел мейл от Арно, директора центра культуры и искусств, где у Хуберта семь лет назад состоялась первая и единственная большая выставка. Ему казалось, что это дело давнее, в памяти не сохранилось никаких живых впечатлений ни от гор, ни от залов, ни от людей. Зато Арно, как выяснилось, и поныне вдохновлен их встречей. Обращаясь к Хуберту на «ты», он восторженно отзывался о тогдашней выставке, приглашал приехать снова. Обещал бюджет, обещал карт-бланш. Живи у нас в культурном центре сколько хочешь, точно назначаем только дату самой выставки – конец июня. Хуберт хотел было сразу отказаться, но потом все-таки распечатал письмо на принтере и положил в стопку к другим незавершенным делам.
* * *
После ужина он рассказал про это письмо Астрид.
– О, как здорово тогда съездили, помнишь? – воскликнула она. – Я же помогала тебе развешивать картины. Беременная. Жили в той крошечной комнатке наверху, кровать одна, скрипучая до ужаса. Как-то Арно даже замечание нам сделал, но тебе это нисколько не помешало… – Астрид даже заулыбалась, но тотчас переменилась в лице, словно само это воспоминание вызывает у нее досаду.
– Наверное, так оно и было, – сказал Хуберт, хотя ровным счетом ничего не помнил.
Они ужинали в саду, Лукас с соседским мальчиком играли на лужайке. Хуберт собрал грязную посуду, отнес в кухню. Шел босиком, чувствуя влажную прохладу травы, оповещавшую о скором наступлении ночи. Когда вернулся, Астрид спросила, почему он не хочет принять приглашение Арно.
– Потому что мне нечего выставлять! – отрезал он.
– Ну, этот вопрос не решится сам, – заметила Астрид. – Рано или поздно тебе придется снова чем-нибудь заняться. А ведь там, в горах, красиво.
– Подлинное искусство никак не связано с красотами ландшафта.
– Места силы – их немало в том регионе.
– Это твои дела, а не мои. Хочешь от меня избавиться?
Астрид встала, позвала Лукаса. Велела ему немедленно идти в дом, голос ее звучал непривычно жестко. Минут через десять она вернулась в сад: Лукас просит отца не забыть про поцелуй перед сном.
В доме было прохладнее, чем на улице, все жалюзи опущены. Лукас тихонько лежал в кровати, ждал. В такие минуты он представлялся Хуберту неведомым существом, чей мир и шире, и загадочней его собственного. Он наклонился, Лукас обнял его за шею, стал целовать то в одну щеку, то в другую.
– Ну, хватит, хватит… – сказал Хуберт. – Тебе спать пора.
На пути к лестнице ему вдруг вспомнилась ранняя серия его рисунков цветными карандашами – кухни, спальни, гостиные… Люди на этих картинках отсутствовали, но казалось, будто в комнате кто-то есть или вот-вот войдет. Хуберт остановился на одной из верхних ступенек. Из кухни доносилось звяканье посуды. И вдруг он увидел, как Астрид идет по темному коридору, явно не замечая его наверху, на лестнице. В руках у нее бутылка вина и два бокала. По походке чувствуется: не хочет попадаться на глаза. Хуберт потихоньку преодолел остальные ступеньки вниз и увидел, что перед стеклянной дверью в сад Астрид вдруг остановилась. И медлит, что-то заметив, наверное, или услышав. Быстрыми шагами он подошел к ней сзади, обнял за талию, поцеловал шею. Астрид обернулась. И только он вновь захотел ее поцеловать, высвободилась из его объятий:
– Мне нужно с тобой поговорить.
Разговор этот Хуберт помнит смутно. На соседнем участке то и дело вспыхивал галогеновый прожектор: верно, по вине какого-то зверька срабатывал датчик движения. Издалека негромко доносился гул автострады. Стало прохладнее, Астрид куталась в одеяло. Около полуночи они наконец пошли в дом. Хуберт делал над собой усилие, чтобы держаться прямо. Занес в кухню две пустые бутылки, поставил на обеденный стол, а сам улегся на диван. Астрид, не произнеся больше ни слова, отправилась в их постель.
Все разговоры, последовавшие за тем, первым, протекали на один лад. Их союз для нее все равно что плен, внушала ему Астрид. С Рольфом у них все по-другому. Рольф – он открывается. С тех пор как Астрид начала вращаться в кругах этих целителей, она заговорила на другом языке.
Всякий раз она с абсолютным спокойствием обосновывала свою позицию, а к приступам его ярости относилась с пониманием, что вводило Хуберта в еще большее неистовство. По словам Астрид, дело совершенно не в нем. Решение принято ею. В конце концов Хуберту ничего не осталось, как только согласиться на пробный разрыв отношений. Пусть Астрид и Лукас остаются в доме, а он найдет себе маленькую квартиру.
С тех пор как Хуберт все узнал, Астрид незачем стало тайком встречаться с любовником. Чуть ли не каждый второй или третий вечер она исчезала, а Хуберт не вылезал из дому и присматривал за Лукасом. Тот спал теперь беспокойно, часто жаловался на страшные сны. Когда около часа ночи Астрид возвращалась домой, Хуберт все так и сидел перед телевизором, а она без всяких объяснений поднималась на верхний этаж.
* * *
Семестр закончился в середине июня, но Хуберт продолжал каждый день ездить на работу. Он снял однокомнатную квартирку неподалеку от озера. О приглашении в горы он и думать забыл, как вдруг Арно опять объявился.
«Как мне надо действовать, чтобы тебя уговорить?» – написал он. После обеда Хуберт пил кофе с заведующей учебным отделом. Та, зная о разрыве с Астрид, посоветовала принять приглашение. У него же целый год впереди, что-нибудь да получится. Может, работать под давлением ему только на пользу.
Сразу после обеденного перерыва Хуберт ответил Арно, что с удовольствием принимает приглашение.
В июле они с Астрид и Лукасом поехали отдыхать. Коттедж забронировали еще зимой, вскоре после Рождества. Хуберт предлагал Астрид отправиться в отпуск с Рольфом, но та ответила, что к такому они оба еще не готовы. А в совместном отдыхе с ним, Хубертом, она не видит для себя никакой проблемы.
Все две недели в Дании стояла холодная и дождливая погода. Лукас, конечно, скучал. Чего они только не затевали! Съездили в сафари-парк, осмотрели перестроенную под музей трехмачтовую шхуну, посетили стеклодувную мастерскую, где Лукасу разрешили сделать отливку его ладони. По крайней мере днем Хуберт мог воображать, будто они и теперь настоящая семья. Да и Лукас явно наслаждался тем, что они снова вместе. Астрид постоянно получала эсэмэски и по меньшей мере раз в день – телефонный звонок. Тогда она уходила в другую комнату, а на улице – в сторону на несколько шагов. Хуберт наблюдал за нею издалека. Выглядела она серьезно и после такого разговора раздражалась еще больше, чем обычно.
Вечером Лукас укладывался спать, а Хуберт и Астрид все так и сидели в гостиной, читали, попивали красное вино. Потом Астрид обычно говорила, что уже устала, и уходила в ванную. Хуберт, отложив книгу, прислушивался к незнакомым шорохам в этом чужом доме, к скрипу лестницы, к шуму льющейся воды, к ветру, кажется, задувавшему здесь денно и нощно. Выждав полчаса, он тоже шел в ванную. Спали они в разных комнатах, но однажды Астрид, уже собравшись в постель, вдруг шепнула: «Пойдем?» Он последовал вплотную за ней по лестнице. А наверху она взяла его за руку и потянула в свою комнату.
Наутро никто из них не упоминал о произошедшем в ту ночь, но в оставшиеся дни отпуска Астрид, случалось, возьмет его под руку на прогулке или чмокнет в щеку, когда он угощает ее и Лукаса мороженым. Не раз он вдруг задумывался о том, что эта совместная поездка для них, скорее всего, последняя.
* * *
Близость в течение двухнедельных каникул еще больше отдалила их друг от друга. Отношения их превращались в товарищеские, и они уже не ссорились при встрече, сравнивая свое расписание и договариваясь, кто и когда забирает Лукаса из школы или с продленки, кто проведет с ним выходные дни.
Астрид спрашивала, не помнит ли Хуберт, куда подевался гарантийный талон от кофе-машины, или просила в выходной день залатать камеру от велосипеда Лукаса. Говорили о работе, иногда Астрид даже рассказывала про Рольфа, а Хуберт выслушивал ее, не прерывая.
Сад требовал ухода, Хуберт от этой работы не отказался. Но в дом он старался не заходить. Вот понадобятся инструменты в подвале, только тогда и зайдет. Лукас часто появлялся во дворе, играл где-нибудь неподалеку, а сам на него исподтишка поглядывал. Если Хуберт просил его принести что-нибудь из дома, мальчик бегом бежал внутрь, словно и ему не очень хотелось, чтобы отец ступил под их кров.
Хуберт все больше свыкался с новым положением вещей, но категорически отказывался от любого контакта с Рольфом. Астрид же, словно назло ему, все чаще рассказывала про своего друга. У него собственное агентство, он консультант по карьере. Ну, это только название, на деле он идет дальше. Его задача – целостный подход, он способен вчувствоваться, вжиться в личность собеседника и тем самым свободно передвигаться по оси времени что вперед, что назад, а значит, давать конкретные советы.
– Он тебе кто – возлюбленный или гуру? – не удержался Хуберт.
– Ни то ни другое, – парировала Астрид. – Когда он здесь ночует, то спит в другой комнате.
Начался новый семестр, и недосуг стало Хуберту размышлять о приглашении в горы. Работы в саду убавилось, Хуберт заходил домой только для того, чтобы забрать Лукаса на выходные или привести обратно. Пытался выведать у мальчика, что там происходит у его матери с Рольфом, о чем они говорят да чем занимаются. Но Лукас не желал распространяться на эту тему.
Осенью Хуберт устроил для своих студентов выставку, только она закрылась, как началась подготовка к балу художников в конце семестра. Любая деятельность была кстати, ведь теперь, когда он один, времени у него хоть отбавляй, особенно вечерами. Иногда он ходил в кино или в театр, а вот с друзьями встречался редко. Вместе с появлением Лукаса он порастерял почти всех своих друзей.
В январе, когда они всем отделом поехали на выходные дни кататься на лыжах, у Хуберта завязался роман с одной студенткой. Почти выпускница, учится последний семестр, красивая и невероятно энергичная. В течение двух месяцев они с Ниной встречались каждую неделю. Сначала постель, потом обсуждение ее работ. Нина очень хотела съездить с ним в горы на пасхальные выходные, но Хуберт отказался под тем предлогом, что хочет провести праздники с сыном.
– Так возьми его с собой! – не уступала Нина. – Против детей и животных я ничего не имею.
Идея провести выходные с Ниной и Лукасом вместе представлялась ему абсурдной, о чем он прямо и сказал. Тут между ними возникла ссора – первая и, как оказалось, последняя, потому что в итоге они решили расстаться.
– У причины всегда бывает множество причин, – сказала напоследок Нина. Хуберт являлся ее официальным руководителем, но Нину это смущало гораздо меньше, чем его. – Я на тебя не сержусь, – добавила она. – Нам было хорошо вместе.
Хуберт все чаще думал о выставке. Принимая приглашение, он полагал, что ему вовремя придет в голову какая-нибудь идея. Однако теперь, когда срок приближался, уверенность его покинула. Заведующая учебным отделом время от времени интересовалась его планами. Он только плечами пожимал в ответ:
– Я мог бы придумать что-нибудь эдакое с молодежью. То ли горы, то ли воды…
– Может, ты там станешь пейзажистом? Ты когда уезжаешь?
– В конце мая, на месяц, – ответил он.
Хуберт уже стоял в дверях, но она успела крикнуть ему вслед, что на сайт надо хоть иногда выставлять новые работы. С Ниной он тоже обсуждал выставку. Сидели в баре, пили пиво.
– Ты знаешь, что там в горах медведь ходит? Читал об этом? – спросила она. – Может, придумаешь что-нибудь с плюшевым мишкой? Или с медвежьим пометом. Как тот африканец, который использует слоновий навоз.
– Крис Офили, только он британец, – поправил ее Хуберт. – Тебя послушать, так все просто.
– Признайся, для тебя любая моя идея – дрянь! – засмеялась Нина.
* * *
Не раз Хуберт спрашивал себя, когда же начался этот творческий кризис. Ведь не сразу и не вдруг. Просто он постепенно осознал, что его больше не тянет к мольберту и он вот уже несколько месяцев даже не пытался взяться за новую картину. Возможно, Лукас был тому причиной. Они с Астрид не собирались заводить ребенка, и вот, как раз готовясь к своей первой персональной выставке, он узнал о ее беременности. Тогда его работы впервые по-настоящему привлекли внимание, в художественном журнале опубликовали фотографии его картин и даже по телевидению о нем рассказывали. Спустя всего несколько дней после открытия выставки несколько картин купили, хотя галерист явно завысил цены. В то время он больше времени проводил в мастерской, чем дома. А галерист говорил тогда: пусть Хуберт напишет сколько угодно «голых домохозяек», все продадутся! Хуберту не нравилось, что галерист так называет его картины. Но не в том дело. Просто они успели ему поднадоесть. Ведь бороться за технику уже не приходилось, и, может, новые картины получались даже лучше старых, но выразительной силы им явно не хватало.
И тут пришел первый мейл от Жюли. Хуберт открыл собственный сайт уже несколько лет назад, но пока еще никто не пытался с ним связаться таким путем. Похвалы Жюли ему польстили. Она спрашивала, кто послужил ему образцом, каковы методы его работы, отчего он пишет только обнаженных женщин. Он ответил, что дело тут не в зацикленности на женщинах, а в рабочем цикле. В сущности, эти картины с женщинами есть логическое продолжение других – тех, где изображены пустые комнаты. Жюли ему не поверила.
Он ни разу не упомянул ни о своей подруге, ни о ребенке, которого та ждала. Жюли он тоже не задавал вопросов о ее жизненных обстоятельствах. В переписке они никогда не переходили на серьезный тон, особенно Жюли: она, похоже, хотела развлекаться, а не вступать в дискуссии. Постепенно Хуберт составил о ней очень ясное представление, он был уверен, что узнал бы ее, случись им встретиться лично.
Однажды Жюли спросила, не хочет ли он написать и ее портрет, но Хуберт решил поначалу, что это очередная ее шуточка. Поколебавшись, он попросил Жюли прислать фотографию, но совершенно не расстроился, когда она так ничего и не прислала. Ведь он заметил, что на эту переписку по электронной почте расходует всю свою энергию, хотя мог бы вложить ее в творчество, преодолев то нежелание работать, что мучило его вот уже несколько месяцев. Единственное, что его интересовало, – Жюли.
Несколько дней спустя они договорились о встрече. В кафе его ожидала Джиллиан, но никакого потрясения он не испытал. Лицо телеведущей давно было ему знакомо, однако лишь при личной встрече в студии Хуберт почувствовал ее неуверенность и искренность, совсем не заметные на экране. Пригласил ее к себе в мастерскую. Когда показывал картины и Джиллиан впервые коснулась его руки, он едва удержался, чтобы не обнять ее. Предложил ей пива, а сам наблюдал, как она это пиво пила. И видел в ее лице не столько красоту, сколько разнообразие заложенных возможностей, множество скрытых в нем других лиц.
Джиллиан ушла, а он снова стал рассматривать фотографии Астрид, сделанные на юге Франции. Как забыть ее волнение, когда он останавливал машину где-нибудь посреди вольной природы? Астрид раздевалась в салоне, он осматривался по сторонам. На цыпочках шла она по каменистой земле; он, найдя удачный ракурс, фотографировал. Раз их прогнал какой-то крестьянин, другой раз Астрид засадила в ногу колючку и пришлось искать врача. Астрид застывала в классических позах, неподвижность придавала изображению что-то кубистское. Позже он все усилия приложил к перерисовыванию фотографий, но только не ее фигуры, а пейзажей. С тех пор она отказывалась ему позировать. Одна из картинок долго висела у них дома. Хуберт снял ее со стены, лишь когда заметил, до чего она смущает почти всех приходящих к ним людей. А потом он начал рисовать малоформатные интерьеры. Отсутствие людей в этих его рисунках вытекало не из художественного замысла, а скорее из бессилия художника.
Мысль о женщинах, случайно попадающихся на пути, он вынашивал довольно долго, прежде чем поделился с Астрид. «Все равно никто не согласится», – был ее ответ.
Вначале действительно никто не соглашался. Со временем Хуберт привык к отказам. Но по самой манере разных женщин выказывать сомнения, перед тем как дать ему решительный отпор, он научился оценивать свои шансы у одной, у другой и понимал, как действовать в дальнейшем. Он начал избегать центральных кварталов города, бродил по окраинам. Однажды дождливым весенним утром он вместо отказа впервые получил согласие. Остановившись у здания бассейна, он заговорил с женщиной лет пятидесяти. Спортивная, с короткой стрижкой. Изложил свои намерения, она в ответ расхохоталась: откуда, мол, ей знать, что он не развратник? Пришлось объяснять, что придется ему довериться. Хуберт до того волновался, что уже в процессе съемки почувствовал будущую неудачу с этими фотографиями. Тем не менее он отщелкал четыре или даже пять пленок и, поблагодарив, заверил ее, что все в порядке. Пообещал пригласить на вернисаж, если дело когда-нибудь дойдет до выставки. Она действительно явилась на вернисаж вместе с мужем и была очень разочарована, не найдя себя ни на одной из картин.
С каждой новой моделью Хуберт становился спокойнее, а его фотографии лучше. Но постепенно эти сеансы стали для него делом столь рутинным, что он попросту заскучал. Понял это незадолго до выставки, и пока все вокруг чествовали его работу, а сам он в интервью плел о ней всякую бессмыслицу, он уже твердо знал, что пора браться за новое. Галерист рассказал ему об американском художнике, который пятнадцать лет подряд писал одну и ту же женщину, свою соседку. Бессчетные ее портреты художник никому не показывал, даже его жена и муж модели ни о чем не догадывались. Хуберт раздобыл каталог того художника и решил тоже сконцентрироваться на одной модели. Когда Джиллиан явилась к нему в мастерскую, он счел, что модель найдена.
Отныне Хуберта не оставляла мысль о том, что он должен ее писать. Без всякого интереса заканчивал он последние свои работы в жанре ню, а сам только и думал, как отобразить на холсте то, что он увидел в лице Джиллиан. Она дала о себе знать лишь спустя две недели. На сердитый тон письма Хуберт и внимания не обратил, поскольку не сомневался, что она настроена столь же решительно, сколь и он сам. Однако работа с самого начала не заладилась. Очевидно, Джиллиан ожидала, что он напишет ее портрет, который дома можно повесить на стену, но Хуберта один-единственный портрет не интересовал. Ему мерещилось, что само ее присутствие сформирует целый цикл. Он был уже близок к тому, чтобы отказаться от замысла, как вдруг она предложила позировать обнаженной. И не столько нагота его воодушевила, сколько надежда, что Джиллиан тем самым подрастеряет самоуверенность. Однако лучше не стало. Джиллиан не позировала, а принимала позы. Своим моделям он всегда давал свободу, разрешал найти такое положение, какое им по душе. Джиллиан он заставлял лежать и сидеть так, как ей совершенно не свойственно, что и стало последней его попыткой вселить в нее неуверенность. А когда и это не помогло, он сдался.
Вскоре после того родился Лукас. Однажды Хуберт отправился с сыном к врачу и, взявшись в приемной листать какой-то иллюстрированный журнал, наткнулся на сообщение о произошедшем с Джиллиан несчастном случае. После чего он неоднократно начинал писать ей мейл, но никак не мог найти нужных слов и в конце концов оставил бесполезные попытки. Через несколько недель он впервые зашел в свою мастерскую и снял со стены сделанные тогда наброски.
* * *
Перед отъездом в горы Хуберт достал походное снаряжение, которым не пользовался вот уже двадцать лет, купил туристические ботинки и непромокаемую куртку. Выехать собирался в понедельник. Последние выходные дни у него провел Лукас. Сходили в зоопарк, на ужин Хуберт испек блины, любимое блюдо сына. В воскресенье он доставил мальчика домой раньше обычного. Астрид предложила выпить кофе. Пока она наливала воду, Хуберт пробежал глазами листочки, прикрепленные к холодильнику: карточку гинеколога с отмеченной датой приема, список необходимых покупок, школьное расписание Лукаса и рекламу вечера танго. «Научись танцевать тишину» – призывал флаер.
– Ты опять этим увлеклась? – поинтересовался Хуберт.
Астрид как раз заполняла молотым кофе фильтр машины.
– Я уговорила Рольфа.
– Ну и как, позволяешь ему вести в танце?
– Если человек знает, куда и как вести, отчего же не позволить?
Астрид налила кофе, подала ему чашку. Он пошел вслед за нею в гостиную, где Лукас собирал конструктор LEGO. Хотел поиграть вместе с отцом, но Астрид вышла в сад со словами, что им надо поговорить. Хуберт последовал за ней, пересек маленькую лужайку и сел под кленовым деревом на скамью из неструганых досок, которую сам сколотил много лет назад.
– Так и стоит у тебя эта скамейка, – заметил он.
– Тут вообще довольно много твоих вещей, – подхватила Астрид. – Вот что я и хочу обсудить. Хорошо бы тебе все это вывезти.
– А зачем мне скамейка? – удивился Хуберт. – У меня же нет сада.
– Речь не про скамейку, а про старое военное снаряжение, книги, пластинки, детские игрушки, телескоп. Чердак забит твоими вещами.
– Но у меня в квартире места мало, да и вообще, к чему такая срочность?
– Что значит – срочность? Скоро год, как ты здесь не проживаешь. – Астрид, сделав глоток кофе, встала. И уже на ходу пояснила: – Я предложила Рольфу переехать ко мне.
Хуберт нагнал ее возле гаража, она открыла ворота. Оказалось, все его вещи уже собраны и сложены.
– Можешь забрать, когда вернешься.
Хуберт поехал домой доделывать последние дела перед отъездом. Всю дорогу думал, что же ему все-таки представить на выставку. Поздно вечером отправился в мастерскую, надеясь, что старые работы наведут его хоть на какую-то мысль, но впечатление оказалось удручающим. Кстати, Астрид недавно попросила его вернуть фотографии, сделанные когда-то на юге Франции. Хуберт перелистал все снимки, а потом вместе с другими работами уложил на полку. Он не собирался отдавать их Астрид.
* * *
На следующее утро он тронулся в путь. Небо затянуто облаками, моросит дождь. Хуберт съехал с автострады на узкую дорогу, которая вела вверх с небольшим наклоном. Дождь чуть ли не на глазах превращался в снег, а снег все гуще валил крупными мокрыми хлопьями. Вообще-то Хуберт собирался держать путь на перевал, но, не доезжая развилки, передумал, решил добираться вместе с машиной по железной дороге. Только он подъехал к платформе, как поезд тронулся. Он вылез из машины, чтобы размяться. Ледяной воздух, пахнет снегом, пахнет коровьим навозом. Невольно ему подумалось, сколь безнадежна была бы попытка перенести на картину этот вид – и запоздалый снег, и влажный холодный воздух, и отроги гор, которые то виднеются, то скрываются в пелене снежных хлопьев, и брутальность бетонной платформы у въезда в туннель.
Пока ехали через туннель, Хуберт не включал освещения в салоне. Скоро полдень, по радио передают прогноз погоды. Вот поезд выбрался из туннеля, а тут снег виднеется лишь на самых верхних склонах, вся долина в зелени.
О центре культуры и искусств Хуберт сохранил весьма смутное воспоминание. Массивное двухэтажное строение посреди довольно узкого ущелья, прорезанного рекой Инн в горной долине. Изначально этот центр был частью курортного комплекса, расположенного рядом. Перед отелем, принадлежащим к известной клубной сети, гостей приветствует огромный щит: «Отдых – это время, отданное чувствам». Выходя из машины, Хуберт увидел, как в парке за высокими деревьями с воплями носятся наряженные в костюмы ребятишки под предводительством взрослой женщины, тоже переодетой. На подстриженном газоне несколько шезлонгов, все пустуют.
Хуберт прошел через крытую галерею ко входу в культурный центр, но дверь оказалась запертой. Ручки у двери не было, на стук никто не отзывался. В галерее стояли длинные скамьи, стол для пинг-понга, к стене прислонились два ржавых велосипеда. Хуберт обошел здание кругом. У торца лестница в несколько ступеней вела вниз, к дорожке, обнесенной металлической оградой и тянущейся вдоль всей задней стены. Тут же, за оградой, и берег реки. Воды Инна – изжелта-серые, течение мощное.
В щелях между затертыми плитами дорожки проросли трава и мелкие кустики. Примерно в середине задней стены находилась дверь – видимо, в подвал. Участок земли перед воротами и стена дома кишели муравьями, крупными, черными.
Завершив обход здания, Хуберт увидел, что рядом с его автомобилем стоит другой, «вольво» темно-зеленого цвета, а дверь в дом открыта. Он вошел в вестибюль, откуда влево и вправо расходились два коридора. Пошел по коридору, на одной из последних дверей увидел написанную от руки табличку «Администрация». Не успел он постучать, как дверь резко распахнулась и перед ним возник плотный мужчина, на вид примерно его ровесник. Заключил Хуберта в объятия, долго хлопал по спине. А тот по-прежнему не мог вспомнить, видел ли он этого человека хоть раз в жизни.
Вместе они вышли к машинам. Арно явно удивился, сообразив, что у Хуберта с собой единственный чемодан, да еще дорожная сумка да две-три открытые картонки с диапозитивами и проектор.
– Ни картин, ни материалов? – решил уточнить он.
Хуберт заверил, что выставку он подготовит на месте, а необходимые материалы тоже найдутся здесь.
Арно согласился:
– Наверху, на чердаке, осталось кое-что от прежних выставок, можешь взглянуть. – Он схватил одну из картонок с диапозитивами и пошел вперед. – Пока что ты здесь единственный гость. Мы закрывались на зиму, открылись лишь пару дней назад. Зато ты можешь выбрать себе любую комнату!
Арно продемонстрировал ему все комнаты поочередно, и Хуберт остановился на большом, почти пустом помещении, подальше от администрации. Помимо кровати и комодика из темного дерева там имелись письменный стол да два глубоких старых кресла, но ни телевизора, ни телефона не было.
– Если надо позвонить, приходи запросто ко мне в кабинет, – пояснил Арно. – Мобильная сеть здесь, в ущелье, почти не ловится.
Хуберт взглянул на свой телефон: действительно, сети нет как нет. Арно сказал еще, что вечерами Хуберт будет один во всем здании. Волоком затащил из коридора принесенную им картонку, поставил на пол посреди комнаты. И тут же неожиданно ушел, так что Хуберту пришлось самому ходить к машине за остальными вещами. Шкафа в комнате не было, поэтому он так и оставил одежду в раскрытом чемодане и вообще ничего распаковывать не стал. Сел на кровать и просто посидел некоторое время. Вдруг ему вспомнилось, как однажды его отправили в летний лагерь, в горы, вместе с оравой совершенно незнакомых ему ребят. Перед обедом автобус остановился возле большого белого здания, и все мальчишки, уже побывавшие здесь, ринулись по комнатам занимать лучшие спальные места. Хуберт еще только поднимался по лестнице, а первые из них уже спускались ему навстречу, мчались вниз исследовать территорию. Хуберт добрался до спальни и долго сидел там один, не решаясь выйти на улицу. Целыми днями он страдал от тоски по дому и от того, что не обладает такой самостоятельностью и предприимчивостью, как остальные.
Хуберт постучал в дверь кабинета. А войдя, сразу увидел на стене за спиной Арно плакат своей первой выставки с изображением дородной женщины лет сорока, которая моет ноги в раковине под краном, – наверное, лучшую картину всего цикла. На плакате значилось и простоватое название выставки – «Встречи», и даты – 6–28 сентября 2003 года.
– У меня дел по горло, – сообщил Арно, скомкав и выбросив в корзину какой-то бланк. – Осмотрись тут сам. Если будут вопросы, ты знаешь, где меня найти.
Хуберт все-таки поинтересовался, когда прибудут другие художники. Арно, оторвавшись от своих бумаг, пожал плечами:
– Одна молоденькая из Германии, она бассейны фотографирует, должна скоро приехать. Но не знаю когда именно. Ой, вот что: около четырех придут из местной газеты, хотят взять у тебя интервью. Надеюсь, ты не возражаешь?
Хуберт отправился осматривать здание культурного центра. Двери по обеим сторонам коридора вели в те самые комнаты, что Арно ему предлагал на выбор. Небольшое помещение отведено под туалет, да плюс три душевые кабины. В самом конце коридора кухня, в центре ее длинный стол и вокруг как попало стулья, среди которых трудно было бы найти два одинаковых. Шкафчики забиты кастрюлями, сковородками, мисками, прочей утварью и посудой. На открытых полках – горы начатых упаковок с рисом и лапшой, чечевицей и горохом, бесчисленные бутылочки и баночки с приправами. Все покрыто тусклым слоем жира, срок у приправ вышел уж не год, а годы тому назад.
Днем он начертил примерный план вестибюля, одновременно служившего выставочным залом, отметил расположение электророзеток, измерил высоту помещения. Все пытался вспомнить первую свою выставку, но не мог отделаться от ощущения, что впервые видит этот зал. И наконец, отправился гулять и осматривать окрестности. Перешел старый мостик через реку возле центра культуры. На другом берегу обнаружил небольшую постройку, над входом надпись: «Павильон», а на стеклянной двери клейкой лентой прицеплена бумажка: «Павильон не работает, вход воспрещен». Через немытые стекла Хуберту удалось разглядеть остатки прежней роскоши, высокие колонны, три ниши из полированного камня с названиями источников вверху: «Луций», «Бонифаций» и «Эмерита».
Старая дорога серпантином карабкалась вверх по лесистому склону. Из-за строительных работ ее перекрыли, но людей вокруг никого, только техника по обочинам. Хуберт перелез через ограждение и стал подниматься в гору. По пути то и дело бросал взгляд на свой телефон, но и здесь сеть не появилась. Вдруг он сообразил, что с самого завтрака у него маковой росинки во рту не было, и повернул назад. Решил перекусить в соседнем отеле.
Солнце било столь нещадно, что Хуберт, войдя в холл, на миг будто ослеп. Просторное помещение, заставленное старыми креслами, в центре лобби-бар, и ни одного человека. Только позади стойки ресепшен за письменным столом сидит девушка перед компьютером. Она поднялась с места, лишь когда Хуберт вежливо покашлял. Направляясь к стойке, она лопотала какие-то приветственные слова, при этом обращаясь к Хуберту на «ты». Сообщила ему, что у них так принято, хотя он даже не успел объяснить ей цель своего прихода. Ресторан открывается в шесть, а в настоящее время все гости отеля разошлись кто куда. Но в баре можно заказать кофе с пирожным. Поблагодарив девушку, Хуберт занял кожаное кресло в нише. Через некоторое время появился молодой человек, переодетый пиратом, и принял заказ. Когда официант принес кофе, Хуберт полюбопытствовал, к чему этот костюм, и узнал, что сегодня состоится пиратская вечеринка.
– Все расписано в твоей программе на неделю, – добавил официант.
– Но я не живу в вашем отеле, – возразил Хуберт, а официант рассмеялся так, будто тот удачно пошутил.
Незадолго до четырех часов Хуберт вернулся в центр культуры и сразу увидел у входа крепкого высокого парня, в руках фотокамера с огромным объективом.
Парень, протянув руку, сообщил, что он из местной газеты. Пришел чуть пораньше, но, может, начать со съемки? Щелкая камерой, он задавал вопросы, из которых Хуберт сделал вывод, что парень понятия не имеет, кто он такой и зачем сюда явился. Ответы его совершенно не интересовали, вероятно, ему важна была только мимика лица.
– Коллега вот-вот придет, – подытожил он, сделав добрых два десятка снимков.
Хуберт сел на одну из длинных лавок в галерее, фотограф – напротив. Сидели молча, ждали. Спустя примерно четверть часа на стоянку заехал крошечный автомобильчик, из него вышла молодая темноволосая женщина.
Уже по дороге к галерее она успела извиниться за опоздание.
– Тамара, – представилась она, протягивая Хуберту руку. Потом обняла фотографа. Хуберту даже показалось, что поцеловала в губы. Фотограф распрощался, а Тамара достала маленький диктофон, положила на стол и подмигнула Хуберту: – Ну, чем нас порадуете? Вы по-прежнему рисуете обнаженных женщин?
Хуберт медлил с ответом.
Тогда Тамара заговорила сама. Дескать, со слов Арно она знает, что Хуберт собирается подготовить выставку на месте, но только пусть не вздумает заняться поисками моделей тут, в деревне! Тут все друг друга знают, и кто это станет для него раздеваться? В голосе Тамары так и слышалась враждебная нотка, и Хуберт на миг представил себе ее голышом с этим самым выражением лица. Сказал, что пока не знает точно, какова будет выставка. Тамара же не преминула заметить, что времени у него не так-то много.
– Да, я в курсе дела, – раздраженно ответил Хуберт, но тут же продолжил, вспомнив про задание Тамары, – надеюсь, сами эти места станут для меня источником вдохновения.
Ведь единственным импульсом для его работы является стремление, даже страстная жажда реальности, присутствия, а также интимности в противовес публичности. В широком смысле речь идет о трансцендентном. У Тамары на лице было написано, что она не воспринимает его слова всерьез.
– Но все же: надо ли предостеречь от вас женщин в округе?
Хуберт покачал головой:
– Я уже много лет не работаю в жанре ню.
Тамара задала еще несколько стандартных вопросов про обстоятельства его жизни, да про работу в художественной школе, да про планы на будущее, после чего встала, и Хуберт за ней.
– Увидимся! Самое позднее – на вернисаже, – попрощалась она, вручив ему визитную карточку и садясь в машину.
* * *
Вход в здание культурного центра находился на северной стороне, там уже легла тень. Похолодало. Хуберт зашел за курткой, а потом на машине поехал осматривать деревню. Как ни странно, центральная ее часть сохранила первозданный вид: ряды солидных особняков, искусно декорированных росписью, в том числе изречениями на ретороманском языке, на одном доме – солнечные часы. Очевидно, эти места прежде населяли зажиточные люди, вот и теперь уродливых отелей-коробок, типичных для туристских центров, почти не видно.
Прогулявшись по деревне, Хуберт сел посреди большой площади на скамейку и стал наблюдать за прохожими. Думал о выставке, конечно. Деревня изумительная, ландшафт восхитительный, даже погода – и та прекрасная. Он и сам вырос в деревне, но что тут скажешь? Сам должен был догадаться, что здесь он придумает не больше, чем дома, в городе.
Тени становились все длиннее, вот они уже достигли скамейки, где сидел Хуберт, и ему стало холодно. Он зашел в ресторанчик рядом, заказал чаю и проверил почту. Мейлы от Астрид, от Нины и еще от двух студенток. Из художественной школы – приглашение на заседание и протокол предыдущего заседания. Галерист с вопросом: как идут дела в горах? Рад будет попасть на вернисаж, пусть Хуберт забронирует ему номер в гостинице.
На все вопросы в письмах Хуберт отвечал уклончиво. Закончил, когда уже пробило семь, и заказал ужин. Посетителей в ресторанчике почти не было, только за круглым столиком сидели с пивом несколько мужчин, во весь голос обсуждая новости местной политики. Незадолго до девяти вечера Хуберт вышел из ресторана. Вообще-то он выпил лишнего, а ведь ехать придется на машине.
Отель сверкал огнями. Паркуя машину, Хуберт слышал голоса и смех в парке, и музыку тоже. В центре культуры и искусств – ни огонька, дверь заперта, здание смотрится неприветливо. Водя рукой по стенам, Хуберт все-таки нащупал выключатель. В кухне он нашел полбутылки граппы. Взял с собой в комнату, установил диапроектор и стал просматривать фотографии женщин, сделанные им когда-то. Работать с этими слайдами Хуберт не собирался, а с собой их прихватил не иначе как потому, что они являлись частью его последнего достойного проекта. Прямо на стене своей комнаты он просматривал картинки. Давно их не видел, и в воспоминаниях они были гораздо интереснее. Теперь же он лишь удивлялся той дерзости, с какой тогда действовал, – видимо, совершенно уверенный в себе и своей творческой задаче. Еще поразительнее то, что его убежденность, его воодушевление передавались другим и он находил-таки женщин, готовых соответствовать. На одном из снимков – маленькая темноволосая женщина, она почтальон, Хуберт перехватил ее в конце смены. Зажала между коленями бутылку шампанского, возится с пробкой. На следующем снимке она тянется к высокой полке за бокалами, на третьем – наполняет бокал и смеется, потому что пена полилась через край. Потом два размытых снимка, где она идет по коридору, и один – где она откидывает край одеяла на своей кровати. Хуберт в тот единственный раз переспал со своей моделью. А фотографии так никогда и не использовал.
В другой коробочке хранились снимки женщины лет шестидесяти – она вяжет на спицах, в третьей – совсем молодой женщины, она кормит грудью, младенец тоже голышом. Эта, встав в позу, после сеанса потребовала прислать ей напечатанные фотографии, но Хуберт так никогда этого и не сделал. Ее снимки тоже оказались непригодны. Сейчас он пересмотрел весь свой архив, фотографии четырех с лишним десятков женщин. Большинство из них он в общем сумел вспомнить, хотя в нескольких последних диамагазинах попадались слайды, вроде бы никогда им не виденные. Одну серию он отснял при слабом освещении, снимки получились чуть размытые, к тому же лицо целиком не видно ни разу, женщина то и дело прикрывалась распущенными волосами, а сама так и старалась отвернуться от камеры. Хуберт не сумел разглядеть, чем она занимается: склонилась над столом, что-то рассматривает или раскладывает по порядку. И комната, где она находится, какая-то безликая – ни мебели, кроме стола, ни личных ее вещей. Но все снимки излучают покой, будто модель действительно одна в помещении.
* * *
На следующее утро, когда он варил себе кофе, в кухню заявился Арно. Пора подумать про печать плакатов для выставки, может ли Хуберт уже сейчас предоставить иллюстративный материал?
– Нет, – сказал Хуберт.
– Может, наброски? Ну хоть что-нибудь? А название у тебя есть?
Хуберт покачал головой. Арно вымученно улыбнулся:
– Можем на белой бумаге напечатать: «Карт-бланш», и все тут. Как считаешь? Или еще лучше: белым по черному. Ты понял? – засмеялся Арно. – А статью ты прочитал?
Он вышел и тут же вернулся с тоненькой газетенкой в руках, положил ее на стол. Хуберт взял газету к себе в комнату. На первой полосе крошечная его фотография, под ней его имя, подпись: «художник» – и номер страницы, на которой находится статья. А там – опять его фотография и перепечатанный плакат той выставки. Текст в целом дружелюбный, но не без призвука иронии. Биографию вместе с ошибками Тамара списала из Википедии. Вспомнила первую выставку в культурном центре и небольшой скандал вокруг нее, описала процесс его работы. Некоторые его высказывания явно позаимствовала из других интервью. «Хуберта Амрейна уже не интересует обнаженная натура, – писала Тамара, – и зрелость, а может, возраст не гонят его теперь на охоту за голым телом. Раньше женщинам следовало его остерегаться, теперь он нацелен на поиск духовности. Не исключено, что именно в нашем регионе он таковую и обнаружит».
Хуберт понятия не имел, откуда она это взяла. Понес газету в кабинет к Арно. Тот взглянул на него вопросительно:
– Понравился тебе материал?
– Насчет духовности – полная чушь, – ответил Хуберт. – Понятия не имею, как ей такое в голову пришло.
Арно объяснил, что их регион известен многими местами силы и большинство художников ими интересуются.
– А я – нет, – отрезал Хуберт и ушел к себе в комнату.
После обеда он отправился на прогулку. Позвонил Тамаре с вопросом, не найдется ли у нее время для чашки кофе, к тому же она в своем материале довольно легкомысленно обошлась с цитированием его слов.
– Вы требуете опровержения в газете?
– Нет, кофе меня вполне удовлетворит, – сказал он. – И еще у меня есть несколько вопросов.
– Ну, хорошо, тогда в шесть часов заходите за мной в редакцию.
* * *
– Места силы! – воскликнула Тамара и даже засопела. – О, это непростая история.
Тамара ела салат, и Хуберт подумал было, что для нее тема уже закрыта, как вдруг она, отложив вилку с ножом и отодвинув от себя лишь наполовину пустую тарелку, доверительно сообщила ему, что во все такие дела не верит. Однако в газете она поостереглась бы высказываться по данному вопросу в негативном смысле, поскольку многие люди только за тем и приезжают сюда, в горы.
– Тут есть несколько менгиров и жертвенных камней. Ну да, бронзовый век, – говорила она. – Но все равно эти типы, которые рыскают с маятниками по всей округе, меряют энергию в единицах Бови и утверждают, что сила магнетизма здесь точно как в Шартрском соборе, по-моему, просто психи.
Еще Тамара рассказала про одного этнолога, который называет себя локальным мифологом и которому повсюду в этой местности мерещатся признаки местной богини Ана. Холмы – это ее груди, долины и источники – ее утроба. Хуберту вспомнились пейзажи Джорджии О’Кифф, где холмы напоминают обнаженное женское тело.
Тамара подозвала официантку и попросила счет. Торопилась на заседание совета общины. Хуберт настоял на том, что по счету заплатит он. Тамара ушла, а он еще долго сидел. Попросил местную газету и перечитал статью о себе, прислушивался к разговорам мужчин, сидевших за соседним столиком.
В отеле, кажется, опять все кипело. Хуберт направился туда глотнуть последнего на сегодня пива. У круговой барной стойки в холле только парочки, да еще компания молодых людей – говорят громко, хохочут. Он обратил внимание на женщину напротив, она стояла между двумя мужчинами, а те вели разговор между собой, будто ее и нет. Светлые волосы, совсем бледная кожа, так что в темноватом холле казалось, будто на нее направлен прожектор. Выглядит безучастной ко всему, словно впала в оцепенение. Даже встретившись на мгновение с нею взглядом, Хуберт не заметил в ее глазах никакой реакции. Он быстро набросал ее портрет на обороте круглой подставки для пива. На миг задумался о том, что мог бы изготовить на пивных подставках целую серию портретов отдыхающих, но тут же засомневался: а не отвергнет ли он эту идею, как только протрезвеет?
* * *
На другое утро он отправился завтракать в отель довольно поздно. Гостей в ресторане оставалось уже немного, но в их числе две-три молодые пары. Хуберт невольно задался вопросом: что им тут делать? – и представил себе, каково было бы провести в отеле день-другой с Ниной. Когда официанты уже начали собирать блюда со шведского стола, он пошел на ресепшен, спросил, сколько стоит номер и можно ли ему по оплате посещать здешний бассейн.
– И бассейн, и велнес-центр, – сообщила девушка за стойкой, назвав при этом довольно высокую цену.
Хуберт, поблагодарив, решил побродить по этому отелю. Здание выглядело довольно запущенным и мрачноватым, хотя повсюду горели лампы. Из окна на третьем этаже он рассмотрел парк, где несколько детишек и молодая женщина сидели кружком в траве и перекидывались мячиком. В шезлонгах отдыхали пожилые люди, кто читал, кто спал, хотя часы показывали лишь начало одиннадцатого.
Хуберт вернулся на первый этаж и принялся изучать доску объявлений: программа на неделю, ресторанное меню на сегодня, памятный ему с детства плакат с охраняемыми альпийскими растениями, указания на случай возникновения лесного пожара. Рядом во всей полноте были представлены организационная структура отеля, имена и должности всего персонала. Над каждым именем небольшая фотография, почти на всех фотографиях – улыбающиеся молодые люди в красных рубашках поло, у большинства женщин длинные волосы, многие из них – блондинки.
Одно лицо оказалось Хуберту знакомо. «Джил, менеджер по развлечениям» – вот что значилось под фотографией. Лицо Джиллиан выглядело не совсем так, как прежде, но дело, может быть, в съемке? Хуберт огляделся по сторонам, будто его застигли за каким-то запрещенным занятием, и поспешно покинул территорию отеля.
Он шел по узкой дорожке вдоль реки, вспоминая последнюю встречу с Джиллиан, когда он выставил ее из своей мастерской.
После прогулки заскочил на минутку в культурный центр за плавками. Он не знал, как вести себя с Джиллиан при встрече, но в отель его так и тянуло. В бассейне какие-то люди делали гимнастику, повторяя упражнения за молодым человеком, стоявшим на бортике. Хуберт отправился было в сауну, но долго не смог терпеть жар. А когда вернулся, в бассейне уже галдела стайка ребятишек. Посмотрел, посмотрел на них да и пошел в кабинку одеваться. Волей-неволей он постоянно думал о Джиллиан, все пытаясь мысленно сформулировать объяснение случившемуся тогда.
Проходя мимо стойки ресепшен, он вдруг решительно повернулся и спросил дежурную, как ее найти. Девушка попросила его представиться и быстро куда-то позвонила.
– Ждите, сейчас придет, – обнадежила она.
Хуберт направился к знакомой нише, вновь уселся в старое кожаное кресло. Пять минут – и вот Джиллиан перед ним. Он немедленно вскочил с кресла, и на миг они оба замерли, глядя друг на друга. Лицо у Джиллиан выглядело так, будто что-то в нем разладилось, и видны были едва заметные шрамы, как у тех, кто лечил угревую сыпь, и нос какой-то другой – бесформенный, будто чуть припухший. Она заулыбалась, расцеловала Хуберта в обе щеки и предложила пойти в ресторан и что-нибудь выпить.
– У тебя есть время? – удивился он.
Джиллиан кивнула:
– В межсезонье тут спокойно. Давай выйдем на воздух?
И пошла вперед через гостиничный холл. В красной рубашке поло и узких белых брюках.
Терраса ресторана, выходившая на заднюю сторону здания, граничила с парком. Лишь за одним из столиков сидели две пожилые пары, пили пиво и играли в карты.
Джиллиан села, подозвала официанта. Заказала белое вино с минеральной водой, Хуберт повторил ее заказ.
До тех пор пока официант не принес напитки, ни один из них не проронил ни слова.
Джиллиан приветственно подняла бокал, улыбнулась и сказала:
– Джил. Здесь я называю себя Джил, людям это имя проще выговаривать.
И снова оба помолчали.
– Вообще-то у меня есть все основания на тебя сердиться, – нарушила она тишину. И улыбнулась.
Хуберт кивнул и сам удивился тому, с какой готовностью признал свою вину.
– Как ты меня нашел? Арно тебе что-то сказал?
– Нет. Совершенно случайно. Я просто увидел фотографию на доске объявлений, – сказал Хуберт. – Я готовлю новую выставку в цент ре культуры.
– Знаю, знаю, – сказала Джил. – Правда, из статьи в газете я поняла немного…
– Я тоже! – подхватил Хуберт. – Ужас как давно это было, я почти ничего и не помню.
– Собственно, это я предложила пригласить тебя снова. Я состою в совете центра. Единственная моя связь с культурной деятельностью.
– Почему ты не написала, не позвонила?
Джил поморщилась:
– Тогда ты довольно четко дал мне понять, что я тебе неинтересна.
– От меня ушла жена, – сообщил Хуберт.
Джил и бровью не повела, зато спросила, что он собирается представить на выставке.
Хуберт пожал плечами. И неуверенно засмеялся. Вдруг Джил быстро поднялась и стоя допила бокал. Ей пора работать.
– Приходи как-нибудь ко мне, поужинаем, – предложила она. – В воскресенье, например, ты свободен?
– Я всегда свободен, – ответил Хуберт.
– Тогда заходи за мной сюда в шесть часов.
Наклонилась к нему, поцеловала в щеку и ушла.
* * *
Хуберт еще не вставал с кровати, когда раздался стук в дверь и послышался голос Арно:
– Это я! Можно с тобой поговорить?
– Сейчас зайду к тебе в кабинет! – крикнул ему Хуберт.
Подождал, пока в коридоре затихнут шаги, и отправился в ванную. Двадцать минут спустя он стоял в кабинете перед столом Арно, как нерадивый школьник, которого вызвали к директору.
– Послушай, может, тебе нужна помощь? – произнес Арно. – Если я хоть чем-то…
Хуберт солгал, что идея у него есть, но точно он пока ничего сказать не может. Арно пустился в объяснения:
– Понимаешь, на нас тут давят. Кое-кто из местных политиков настроен к нам недоброжелательно, нам нужно подтвердить сертификат. Очень важно, чтобы выставка прошла с успехом.
– Буду держать тебя в курсе, – пообещал Хуберт.
– Сделай что-нибудь, да что угодно… – сказал напоследок Арно, – главное, чтоб через три недели мы не оказались перед пустыми стенами.
Хуберт снова позавтракал в отеле. Потом попросил пароль для вай-фая и набрал имя Джиллиан. Поисковик выдал сотню-другую результатов, но все ссылки относились, похоже, к ее прежней работе на телевидении. Тогда он заменил имя Джиллиан на Джил и получил меньше десятка результатов, причем только в связи с работой в клубном отеле.
* * *
В пятницу в художественной школе открывалась выставка студенческих дипломных работ. Нине, как и другим своим ученикам, он обещал присутствовать на открытии, но, выходя утром из культурного центра, наткнулся на большой черный плакат, где белыми буквами было написано: «carta alba / carte blanche», стояли его имя и даты. Вернисаж назначен на 25 июня, ровно через три недели. Хуберт передумал спускаться с гор в долину, вместо этого он пошел в отель и уселся в холле. Написал Нине мейл с извинениями: сроки давят, он не знает, как быть, и сейчас уехать не может. Но, конечно, в течение ближайших двух недель прибудет в город, чтобы посмотреть ее работы.
А днем, отправившись в деревню купить чего-нибудь съестного, он увидел плакат своей выставки в некоторых витринах. Невольно ему пришла мысль, что Арно попросту выставил его на посмешище. Вечер он провел в холле отеля, без толку лазая по Интернету.
В субботу утром созвонился с Астрид. Та спросила, конечно, как у него дела и как продвигается работа. Он ответил уклончиво. Обсудили кое-какие организационные вопросы, а напоследок Астрид спросила, не стоит ли ей с Лукасом как-нибудь его навестить. Может, и Рольф бы к ним присоединился. Но Хуберт отговорился: момент, дескать, неподходящий, ему нужно сосредоточиться на работе. Затем он попросил Лукаса взять трубку и поинтересовался, чем тот сейчас занимается, но мальчик отвечал неохотно и старался поскорее разъединиться.
* * *
Все воскресенье Хуберта терзало беспокойство. По поводу выставки ему приходили на ум самые невероятные идеи. Думал, не получится ли поработать со старыми слайдами, проецируя их на стену или, увеличив их, превратив все серии в нечто вроде фоторомана. Или путем выкадровки увеличить детали до того, чтоб и не разобрать было что к чему. Или сфотографировать самого себя – хоть бы одетым, а хоть бы и голым – за теми же занятиями, что написанные им когда-то на холсте женщины, и пусть это будет ироническим комментарием к последней выставке. Снова вспомнил про портреты отдыхающих на подставках для пива. Или, может, составить гербарий? Или использовать природный материал – сложенный из камней круг, ну вроде намека на места силы. Мелькнула даже мысль про перформанс, хотя уж это ему претило. И вообще все это ему неинтересно.
Днем он снова отправился в отель, в велнес-центр. В шесть часов спросил на ресепшен, где сейчас Джил. Та передала ему, что выйдет сию секунду, но появилась в холле только минут через десять.
– Можем поехать на моей машине, – предложила она на ходу, торопясь покинуть отель.
Ее машиной оказался красный «твинго», заднее сиденье завалено одеждой и стопками бумаг. Вверх по узкой дороге, по новому мосту Джил ехала быстро.
– Ты разве не в деревне живешь? – удивился Хуберт.
– Нет, за деревней, но недалеко, – ответила она.
И уже минут через пять затормозила возле небольшого дома, постройки примерно пятидесятых годов.
– Никакой особенной красоты, но зато это домик моих родителей, – пояснила она, – так что платить за него не надо.
– И давно ты тут проживаешь? – продолжал расспросы Хуберт.
– Шесть лет. Перебралась сюда сразу после аварии.
Хуберт сказал, что узнал тогда из журнала о происшедшем. Но что же на самом деле случилось?
Джил вышла из машины. Пока стояли у дома, коротко изложила: муж ее был пьян, задавил косулю, сам погиб в автокатастрофе.
– Я тоже сильно пострадала. Можно сказать, лишилась носа! Но мне его восстановили почти в прежнем виде. На это ушло больше трех лет, понадобилось множество операций, чтобы нос выглядел более или менее прилично. Заходи. Показать тебе дом?
Провела его по всем помещениям, посвятив в подробности масляного отопления, которое когда-нибудь все-таки следует заменить, и устройства крыши, которую можно расширить, если когда-нибудь потребуется больше места. Обстановка дома показалась ему безликой – потому, наверное, что мебель была в основном старая и многие предметы не подходили друг к другу, как будто оказались лишними и их просто сюда снесли. Стены украшали несколько вырезанных из календаря энгадинских пейзажей, их подбирала уж явно не Джил. Грандиозный пейзаж, открывающийся взгляду за окном, но уменьшенный и пожелтевший. Горчично-желтая скатерть покрывала стол в гостиной, в центре красовалась кованая пепельница. Пахло застоявшимся табачным дымом.
Они сидели за маленьким гранитным столиком в саду, посреди цветочной лужайки, обрамленной высокими кустами. Солнце пока не зашло, но освещение уже переменилось, и широкие тени наползали на склоны гор.
– Зимой меня тут не раз по-настоящему заметало снегом, – рассказывала Джил. – Теперь я привыкла к горам, только зимы здесь уж очень длинные.
– Какими же судьбами занесло тебя в этот отель? – спросил Хуберт.
Джил все ему рассказала.
– Надо было где-то работать… В эфир – нельзя, опять в редакцию – не хотелось. Вообще-то я приехала сюда отдохнуть ненадолго, но увидела объявление – они как раз искали человека на эту должность – и неожиданно решилась. Сначала работала с молодежью. К счастью, девяносто девять процентов гостей – из Германии. Никто меня не узнавал. Только моя непосредственная начальница знала про телевидение. А тем, кто все-таки интересовался, я рассказывала об аварии, и больше вопросов мне не задавали. К тому же и мой нос после каждой операции становился все красивее! Вот так я понемногу обжилась здесь, а тут как раз освободилось место менеджера по развлечениям, начальница мне его предложила.
– И чем же ты там занимаешься? – продолжал допытываться Хуберт.
– У нас каждые два дня представления: вечер песни, спектакль, мюзикл. Еще я отвечаю за спорт и велнес, составляю программу, занимаюсь с людьми из своей команды. Часто провожу время и с отдыхающими, хожу с ними в походы, организовываю игры, даже в спектаклях выступаю. Моего таланта как раз и хватает для тех пьес, которые мы ставим на сцене. Вот в понедельник вечером у нас «Любовь между долиной и горой», ты приходи, если захочешь. Я играю уродливую дочку хозяина.
Хуберт глядел на Джил, широко раскрыв глаза от изумления. Она выдержала его взгляд.
– Пьеса совсем не такая дурацкая, как может показаться. Во всяком случае, гостям отеля она нравится. И мне доставляет удовольствие снова выходить на публику. Только здесь я поняла, что сыта по горло культурной жизнью в большом городе.
Джил стала расспрашивать Хуберта, чем занимался он все это время. Хуберт рассказал про свою профессуру, не скрывая и того, что в последние годы почти не писал картин.
– Не знаю, в чем причина, – признался он. – Возможно, я видел слишком много плохих работ, включая мои собственные.
Солнце скрылось за горной грядой, тени поползли вверх по склонам.
– Мне холодно, – сказала Джил, – пойдем в дом?
Хуберт последовал за ней в кухню. Джил открыла дверцу холодильника, нерешительно оглядела скудные свои припасы:
– Никаких специальных закупок я не делала. Тебе чего хотелось бы?
– Наверное, мне просто следует принять тот факт, что людям нравятся такие картины, которые можно повесить на стену, – невпопад ответил Хуберт, наблюдая, как Джил моет листья салата и тонкими ломтиками режет морковку. – И это не преступление, в конце-то концов. Но я сам лучше буду на стройке вкалывать или гостей в ресторане обслуживать, чем создавать картины для потребителя.
– А ты оставайся здесь! – вдруг предложила Джил. – Давай я спрошу в отеле. Можешь давать уроки рисования, это точно хорошо пойдет.
Джил стояла к нему спиной, и на миг ему поверилось, что она это всерьез. Но она повернулась и с усмешкой подала ему миску салата.
Пока ужинали, Джил только и болтала про отель-клуб, про разных отдыхающих и проблемы персонала, про большую семью, которую они все вместе составляют.
– Я так ужасно выглядела, когда пришла сюда работать, я даже сейчас удивляюсь, что они меня взяли. Так, погоди…
Она достала бутылку вина, уже вторую за вечер, подошла к небольшому письменному столу у окна, открыла ящик, вытащила оттуда картонную папку и положила ее перед Хубертом. Села рядом, открыла папку. Первой он увидел фотографию, на которой Джил выглядела примерно так, как сегодня. Джил листала страницы, и от картинки к картинке лицо ее менялось. Даже как будто распадалось, хотя оставалось все тем же ее лицом. Не раз Хуберт придерживал ее руку, просил вернуться на предыдущую страницу. И вот они дошли до того фото, где ее нос выглядел как большая красная картофелина, и до другого фото, где все лицо исполосовано и окровавлено. Веки припухли так, что и глаз почти не видно, по всему лицу кровоподтеки. А носа вообще нет.
– Вот так я выглядела после аварии, – вымолвила Джил. – Сразу сфотографировали тогда, в больнице.
Хуберт отвел глаза. Не последняя это фотография в папке, но Джил долго ее не убирала, не переворачивала страницу. Наконец открылся портрет, где она выглядела точно так, как в дни знакомства с Хубертом. В ее лице такая незащищенность, словно она предчувствует, что на нее надвигается катастрофа. Хуберт вспомнил, откуда эти снимки, только взглянув на следующий портрет. Джил сидит в его мастерской, обнаженная, руки сложены на коленях – поза, подсмотренная им у Мунка. Те самые фотографии, что он сделал тогда. И они лучше, чем ему казалось. Он вспомнил, как упрекал Джил: ее здесь нет, она притворяется! Хуберт взял остальные фотографии, разложил на столе и встал, чтобы получше рассмотреть. На некоторых – Джил по пояс, на других – только ее лицо.
– Ну, как? Нравится? – не утерпела она.
И Хуберту вдруг вспомнилось, какой вопрос она задала ему тогда, только успев раздеться: «Нравится тебе то, что ты сейчас видишь?»
– Да, нравится, – ответил он. – Думаю, из этого могло что-то получиться.
Он разложил рядом и фотографии Джил с изуродованным лицом.
– Они связаны между собой больше, чем можно подумать, – заговорила Джил. – Если бы мой муж не увидел фотографии, которые ты сделал, так и авария не произошла бы, – продолжала она, подлив себе вина и закурив сигарету. – Страшно, наверное, знать, что своим искусством ты можешь убить человека, не так ли?
Он сложил фотографии в две стопки: портреты ню, портреты с изуродованным лицом.
– Хочешь, чтобы я сделал выставку с ними?
– Не знаю. Это ведь ты – художник, – был ее ответ.
Она курила одну сигарету за другой, в низком помещении плавали клубы дыма. Хуберт хотел открыть окно, но, поднявшись, едва удержался на ногах и схватился за стул, на котором сидела Джил. Она тоже встала, так резко, что стул опрокинулся. Они крепко схватились друг за друга.
– Пошли, – сказала Джил.
Хуберт заглянул ей в глаза, но встретил остекленевший взгляд. В спальне было прохладно, пахло деревом и застоявшимся табаком.
* * *
Хуберт проснулся. Голова кружилась, но хотя бы не болела. Он был полностью одет. Рядом лежала Джил и вроде бы спала. Коротенькая ночная рубашка из шелка чуть съехала наверх. Хуберт ласково гладил ее, чувствуя, как она пробуждается, хотя и лежит неподвижно.
Чуть погодя она повернулась, взглянула на Хуберта:
– Который час?
Не отвечая, он положил руку ей на живот, опять стал ее поглаживать. Джил улыбалась, но когда рука скользнула ниже, крепко ее схватила:
– Нарисуй меня! Хуберт застонал.
– Внизу на моем письменном столе лежит блокнот, карандаши тоже есть.
Он снова застонал, но поднялся и пошел на первый этаж. А когда вернулся, она уже разделась. Лежала ничком, голова на сложенных руках.
Хуберт, разместившись на стуле рядом, стал ее рисовать. Только закончил один рисунок, как Джил сменила позу, и он, перевернув страницу в блокноте, принялся за новый. Она ложилась на бок, всем корпусом опираясь на локоть, она опускалась на колени, сцепив руки за спиной, она вставала у окна, скрестив руки на груди, она усаживалась в кресло, широко расставив ноги и уложив руки на коленях.
Он уже сделал десятка два набросков, как тут Джил подошла к нему, уперла руки в боки:
– А ну показывай, что получилось!
– Стой, не двигайся! – скомандовал он и, пересев со стула на кровать, принялся рисовать снова.
– Повернись!
Сделал еще один-два наброска, тут Джил заявила, что страшно голодна и немедленно требует кофе и сигарету. Завтракали в саду, на солнышке.
– А здорово получилось, – подвела итог Джил.
Но Хуберт покачал головой:
– Куда там. Просто разминка для пальцев.
Джил перелистала блокнот, который лежал на столе между ними:
– А мне эти рисунки нравятся!
– Что ж, я могу и еще несколько сделать, но это ничего не изменит, – упорствовал Хуберт.
– По-моему, тогда мне хотелось в твоих рисунках узнать нечто новое о самой себе, – сообщила Джил. – Но потом я поняла, что ты попросту меня не чувствуешь. Вот я и решила раздеться. Глупо, даже абсурдно думать, что человек есть нечто завершенное, как будто он стул или стол. В общем, однажды мне пришлось примириться с тем, что меня попросту не существует… – Джил вновь перелистала блокнот с рисунками. – Кстати, насчет уроков рисования я всерьез. Только без обнаженной натуры, пожалуйста. Если уж ты здесь, в горах. А так – и деньги платят, и вдохновение, может, тебя тут и посетит.
Хуберт нажимал одну за другой кнопки своего мобильника.
– И тут тоже нет сети, – вздохнул он.
* * *
Все последующие дни он на машине катался по окрестностям, хотя и чувствовал себя усталым, нездоровым. Фотографировал пейзажи, хотя знал заранее, что не сможет использовать эти снимки. Погода стояла прекрасная, теплая. Порой он, остановив машину, шел куда-нибудь вверх по горному склону, но всегда вскоре возвращался. Случалось, сталкивались с Арно, и тот молча глядел на него с упреком. Как-то раз Хуберт все-таки поинтересовался, когда прибудут остальные художники. Арно, пожав плечами, ответил, что дело затягивается и ничего точного он сообщить пока не может.
В четверг Хуберт на поезде съездил вниз, в город, и провел там выходные, но не связался ни с Ниной, ни с Астрид, и выставку дипломных работ тоже не посетил. Несколько раз ему пытался дозвониться Арно, но Хуберт сбрасывал звонок. Вместо этого он сам позвонил Джил и договорился с ней поужинать вместе в воскресенье.
На этот раз они пошли в ресторан, в деревню. Уже в машине Джил стала допытываться, где он пропадал, ведь Арно разыскивал его просто в отчаянии.
– Завтра после обеда у нас заседание комиссии, мы составляем программу. По-моему, он уже не рассчитывает всерьез на то, что ты сумеешь подготовить выставку. Осталось меньше двух недель! Арно уже думает, кем бы тебя заменить.
Хуберт не стал отвечать. После ужина Джил повезла его на машине к себе домой, будто это само собой разумеется. Распили бутылку вина, поговорили о минувших шести годах. В полночь Джил спросила, останется ли он ночевать. И снова они легли спать в одну постель.
Наутро, когда Хуберт проснулся, Джил, как оказалось, уже встала, и в спальне пахло кофе. За завтраком она сказала, что ей-то пора выезжать, но ему торопиться некуда, может остаться. Одно только: сегодня же утром надо позвонить Арно.
Хуберту не было охоты возвращаться в культурный центр и выслушивать упреки, поэтому он, приняв душ, отправился на прогулку по той дороге, по которой они ехали вверх. Некоторое время дорога и дальше вела в гору, тянулась через поля, усеянные крупными валунами, а потом резко ушла вниз, и он оказался в залитой светом роще. Влажный и прохладный воздух, запах смолы и легкого дымка. Солнечные лучи, проникая сквозь редкие деревья, рисовали на земле подвижные узоры. Хуберт, усевшись на ствол поваленного дерева у дорожной обочины, прислушивался к пению птиц. Снизу, издалека, доносился шум речного потока, это Инн. Вспомнились ему походы в детстве, с родителями, каникулы в горах, бесконечная долгота дней, когда они устраивали запруды на горных ручьях, в лесу играли в прятки, разжигали костры да жарили колбаски. Вдруг послышалось многократное пиканье, Хуберт взглянул на дисплей мобильника: пять коротких сообщений подряд. Три от Арно – сегодня заседание комиссии, объявиться следует немедленно. Четвертое от Астрид с вопросом: как дела? Она собирается приехать на вернисаж. И еще от Нины какая-то незначительная чепуха. Хуберт удалил все сообщения и спрятал мобильный телефон.
Он вернулся в дом Джил, вымыл оставшуюся после завтрака посуду, нарвал в саду полевых цветов. Вазы не нашлось, и он поставил букетик в высокий пивной стакан. А потом снова осмотрелся в доме. Книги на полке принадлежали, очевидно, родителям Джил. Повсюду стопками лежали иллюстрированные и модные журналы, в гостиной возле дивана стояла стереосистема, рядом полочка с двумя десятками дисков. Хуберт присел к письменному столу Джил, открыл ящик. Нашел в глубине ящика старые календари, пролистал. Записи относились главным образом к ее работе, еще график массажа и педикюра, еще просто какие-то имена без указания времени или комментария. Женские имена в основном, причем они повторялись через относительно равные промежутки времени.
Время – всего-то два часа дня. Хуберт снова вышел в сад. Взял полено из поленницы у входа, уселся за гранитный столик и принялся орудовать своим перочинным ножом. Но не фигурку он мастерил. Он сперва удалил кору, потом терпеливо расчленил весь древесный обрубок на тонкие щепки. Ребенком он часто проводил время за такими занятиями, выдергивая нить за нитью из грубой ткани, рассучивая веревку, пока не останутся от нее лишь тоненькие ниточки, разделяя на части цветок или еловую веточку, густо заштриховывая карандашом бумагу, пока не образуется новая ровная поверхность. И вдруг перед глазами у него возникла выставка – такая, какую он хочет. Белые стелы-столбики по всему залу, на них – результаты подобных его трудов, горстки ниточек, пеньковых волокон, цветочных лепестков. Или еще лучше: стелы пустые, а материал рядом на полу, будто его выбросили, или предметы сами собой разделились на мелкие части. Хуберт вернулся в дом, нашел в кухне пластиковый пакет, уложил в него щепочки и остаток деревянного бруска.
После чего он взял обратный курс на центр культуры и искусств. Почти уверенный, что у Арно его идея не вызовет восторга, да какая разница? Эта идея выросла из той ситуации, в какой он находится, это логическое продолжение прежних его работ. Но прежде он всегда пытался остановить время, теперь же – впервые – он пытается запечатлеть процесс творчества. Сомнительно, что кто-либо его поймет, но важнее, что для него это звучит убедительно.
Придя в культурный центр, он поспешил к Арно с хорошей новостью, но того в кабинете не было. Наверное, как раз теперь шло заседание, где обсуждалась его выставка. Сначала Хуберт решил позвонить Арно, но тут же понял, что ему приятно воображать, как вся комиссия ломает голову по его поводу, а у него-то готовое решение в кармане. Сегодня вечером он посвятит Джил в свой проект, и времени еще хоть отбавляй.
Хуберт поехал в деревню закупать необходимые материалы: веревку, мягкие карандаши, несколько красных подставок под тарелки – грубого плетения, их легко расчленить. Затем, вернувшись в культурный центр, он забрался на чердак. В пространном помещении под крышей без изоляции было жарко, пахло пылью и каким-то старьем. Бог весть какие предметы собрались здесь вместе, и неудивительно, что после недолгих поисков Хуберт обнаружил и белые столбики, общим числом около двух десятков. Правда, они оказались повыше, чем ему бы хотелось. Хуберт сволок шесть штук на первый этаж, дотащил до кухни и вымыл теплой водой с мылом. Все они оказались буквально опутаны липкой паутиной, он потратил немало времени, чтобы хоть как-то их очистить. Он притащил их в нижний вестибюль, попытался верно расставить. И в конце концов решил, что лучше всего столбики смотрятся просто в один ряд.
* * *
Джил ждала его в холле. Предложила поужинать в отеле и отвела его в ресторанный зал. Они набрали разных закусок на шведском столе и заняли большой стол у окна. Джил, проходя по залу, кивала направо и налево, здоровалась с гостями, а с кем-то перекидывалась несколькими словами.
Не успели они сесть за столик, как Джил сообщила, что у нее для Хуберта имеется отличная новость.
– У меня тоже есть отличная новость! – не остался в долгу Хуберт. – Но давай так: ты начинаешь.
– Мы нашли тебе замену, – объявила Джил. – Молодая художница из Германии, она так и так собиралась сюда приехать. Зовут Тея Генсер. Может, ты ее знаешь? Арно созванивался с ней пару дней назад, но раз так получилось, то она приедет чуть пораньше и привезет свои работы, целый цикл, который недавно закончила.
Хуберт с улыбкой покачал головой: в этом, мол, нет необходимости, у него родилась прекрасная идея.
– Когда?! – воскликнула Джил.
И Хуберт посвятил ее в свои планы.
– Но Тея уже получила от нас подтверждение, – возразила Джил. – Она уже бывала здесь у нас.
– По меньшей мере вы могли бы поинтересоваться моим мнением, – укорил ее Хуберт.
– Арно целый день пытался тебе дозвониться, – не сдавалась Джил, – но ты не брал трубку. Ладно, я с ним еще раз переговорю.
Ресторанный зал уже почти опустел, но все-таки к ним за стол подсел какой-то молодой человек. Опустошив полную тарелку закусок, он вернулся к шведскому столу, а Джил в его отсутствие пояснила, что такова концепция клуба: сидеть в одиночестве не полагается. Хуберт и рад был бы поговорить с нею наедине, но молодой человек то и дело встревал в разговор да еще пытался с набитым ртом рассказать о сегодняшней вылазке в горы. На высоту тысяча двести метров, по его словам. Джил не могла оставить без похвалы подобное достижение. Встала, чтобы сходить к шведскому столу за десертом, и на ходу быстро погладила его по плечу. Хуберт двинулся за нею следом, но взял только чашку кофе.
– Это что еще за тип? – не утерпел он. – Что у тебя с ним?
– Развлечение гостей – часть моей работы, – неохотно обронила Джил.
Она доела свой яблочный штрудель и объявила: теперь пора переодеваться и краситься для спектакля.
– Увидимся потом в баре, не так ли?
Джил ушла, а молодой человек снова поведал Хуберту всю историю горного похода, будто тот прежде ничего не слышал. Хуберт поднялся и пошел в бар.
В холле на диванах и в креслах возле окон сидели какие-то пары, а в самом центре стоял служащий отеля и громким голосом, с явным швабским выговором, задавал им вопросы. Похоже, что-то вроде викторины: кто знает ответ, тот должен выкрикнуть какое-то слово, но Хуберт этого слова не знал.
Он вышел на улицу, прогулялся по парку вокруг здания. Когда вернулся, двери в театральный зал уже открыли, и он занял место подальше от тех двух десятков отдыхающих, что ждали начала спектакля. В самом первом ряду сидел тот самый молодой человек с ужина.
Пьеса вполне банальная, но раз-другой Хуберт не мог не рассмеяться. Всей прочей публике пьеса явно нравилась. На сцене дочка-красавица вылила своей сестрице-уродине полный ночной горшок прямо на платье. Джил пришлось снять деревенский наряд, она осталась на сцене в одном только белье старинного образца, что принесло ей дополнительные аплодисменты. Не особенно хорошо она играла, но все же лучше остальных, к тому же явно с удовольствием. В финале некрасивая дочка все-таки обретала жениха, простоватого слугу Тони в кожаных штанах. Под громкие аплодисменты труппа вышла на поклон, и в зале зажегся свет.
Хуберт ждал у бара, но вместо Джил перед ним вдруг вырос Арно. Под мышкой рулон бумаги.
– Джил мне позвонила… – начал Арно.
– У меня есть идея для выставки, – перебил его Хуберт.
– Увы, теперь поздно, – ответил Арно, и в его голосе Хуберту почудилось злорадство. – Я уже переклеил все плакаты.
И он развернул рулон бумаги, который держал под мышкой, голубой плакат с надписью: «Тея Генсер. Сквозь воду».
– Тея фотографирует открытые бассейны, которые пустуют зимой, – прокомментировал название Арно. – И это сильно.
– Ну, название мне все равно непонятно, – отозвался Хуберт.
Он заказал еще пива и вдруг заметил у другого конца барной стойки Джил и молодого человека с ужина за оживленной беседой. Арно сообщил, что ему пора, и удалился.
Хуберт, взяв свой бокал, направился к Джил. Именно в эту минуту Джил громко расхохоталась:
– Ох, представь, Армин подумал, что я всегда ношу такое нижнее белье!
– Он что, совсем прибабахнутый? Вряд ли, – буркнул Хуберт.
И оба они замолчали.
– Мне кажется, дело не в белье, а как раз в нижнем… – вновь вступил Хуберт.
– Погоди-ка минутку, – обратилась Джил к Армину и, взяв Хуберта под руку, повела его к выходу. – Прекрати, пожалуйста, распугивать наших гостей. По-моему, тебе пора домой.
– А у меня здесь нет дома! – брякнул Хуберт, осушив бокал до дна.
Джил, взяв пустой бокал из его рук, предложила ему переночевать у нее – если он хочет, конечно.
* * *
Когда Хуберт проснулся, Джил стояла у окна, раздергивая занавески. На улице ярко светило солнце. Она подошла, присела на краешек кровати:
– Выспался?
– Ты вообще когда вернулась домой? – вопросом на вопрос ответил Хуберт.
– Ну уж не настолько поздно, чтобы утром не подняться с постели! Хочешь со мной позавтракать – поторопись.
Джил ушла на работу, а Хуберт просмотрел почту в компьютере, ответил на важные мейлы. Вчера он прилично выпил, но все равно поехал на машине. А теперь отправился в культурный центр пешком – торопиться-то некуда.
Возле здания центра стоял старенький мини-вэн с немецкими номерами. Молодая женщина как раз заносила в дом большой деревянный ящик. Хуберт придержал ей дверь. И только после этого заметил голубой плакат, наклеенный поверх черного таким образом, что он казался окошком в темном помещении. Столбики, которые он вчера расставил в вестибюле, теперь были сдвинуты в угол, а на полу лежала груда алюминиевых рамок, завернутых в пузырчатую пленку. Молодая женщина скрылась в одной из комнат для гостей, потом вдруг появилась вновь. Подошла к Хуберту, протянула руку:
– Меня зовут Тея.
– Хуберт, – представился он.
– А, вот как. Ну, надеюсь, ты не в обиде, что у меня тут выставка.
Он пожал плечами, взял один из столбиков и уволок в свою комнату.
Остаток дня он посвятил тому, чтобы вытащить из красных подставок все нити, чтобы остался только каркас, напоминающий об их изначальной форме. Сидел, работал, как вдруг неподалеку зазвучала музыка, потом послышался взволнованный голос диктора. Хуберт спустился в вестибюль, где Тея распаковывала свои картины и прислоняла каждую по отдельности к стене. На полу, где-то посреди упаковок, стоял маленький транзистор, издававший эти дребезжащие звуки. Хуберт попросил ее выключить радио.
– Не вопрос, – согласилась Тея.
– Не могу работать при шуме, – раздраженно добавил Хуберт.
– Не вопрос, – повторила Тея. – Я просто не знала, что ты еще здесь.
Ближе к вечеру Хуберт вышел погулять. Двинулся по дороге к дому Джил. Услышал шум приближающегося сзади автомобиля. И только когда тот остановился рядом с ним, понял, что это Джил. Стекло опустилось, и она спросила, не к ней ли он направляется.
* * *
В доме было холодно. Джил не зажигала света. Синее небо, виднеющееся в окошке, напомнило Хуберту плакат для выставки Теи. Джил подсела к нему, закурила сигарету.
– Это что за комедия? – выпалил Хуберт.
– Ты про вчерашний спектакль? – спросила Джил. – Брось, это просто ради забавы, нельзя к такому относиться всерьез.
– Нет, я про все вместе, – сказал он. – Пригласили в центр культуры и искусств, а в последнюю минуту забрали помещение для выставки и назначили хозяйкой девчонку-художницу, у которой и диплома-то, поди, нет. А ты сама что делаешь в этом бездарном отеле? Ну не всерьез же ты там работаешь? Если так, это просто не ты.
– Пусть бы и так, но зато мне живется тут легко, – призналась Джил. – Гости хотят получать удовольствие, за что и платят, и если они получают удовольствие, то они благодарны и счастливы.
Сидя друг против друга, глядя друг на друга, они молчали. Наконец Джил нарушила тишину:
– Поначалу я смотрела тут на все иронически, со стороны, но со временем люди стали мне по-настоящему дороги. Ты даже не представляешь себе, какие гости приезжают к нам на каникулы.
Хуберт хотел было что-то сказать, но Джил оборвала его на полуслове:
– Знаешь, мне хотелось тебе все это продемонстрировать. Ведь ты тогда меня отчитал, ты сказал, что меня просто нет. – Она встала, поклонилась ему, как актриса на сцене, улыбнулась: – Ну и как? Нравится тебе то, что ты видишь?
* * *
Все оставшиеся до отъезда дни Хуберт работал не покладая рук. Он расставил столбики в своей комнате. На одном лежал брусок, то самое обструганное полено, а рядом щепки, на другом – подставки под тарелки с вытянутыми из них волокнами, а на полу – эти самые красные волокна. Над одним из столбиков он повесил раскрученный канат. Несколько листов бумаги он снова и снова заштриховывал карандашом, пока не возникла новая, монохромная поверхность, отливающая черным, и в ней совсем не различались отдельные штрихи. Иногда карандаш прорывал тонкую бумагу или листок мялся в процессе работы, но Хуберту это было безразлично.
Тея целыми днями занималась обустройством выставочного зала под свои работы. Как ни выйдешь из комнаты, она тут, а в руках или рядом на полу фотография в рамочке. Вечером Хуберт уходил из культурного центра, отправлялся на машине в деревню, ужинал в ресторане. Потом просматривал почту. Астрид писала, что собирается приехать на вернисаж с Лукасом и Рольфом, просила снять ей номер в хорошем отеле. Нина тоже известила его о намерении прибыть на открытие выставки, прихватив с собой еще двух однокурсниц. Хуберт стирал мейлы, не отвечая: необходимо сосредоточиться на работе.
Только по утрам он выходил в кухню, варил себе кофе. В отеле больше не показывался. То немногое, в чем он нуждался, покупал в деревенском магазинчике. В какие-то дни питался только солеными орешками, так что во рту жгло, и пил кофе в невероятном количестве. Ночами спал плохо, видел сумбурные сны и утром просыпался весь в поту. Иногда у него возникала уверенность, что все окружающее связано с его медленной разрушительной работой: и игра света на полу помещения, и шум реки, доносящийся снаружи, и детские крики в парке отеля. Он разодрал старую рубашку, а потом с помощью иголки выдергивал ниточку за ниточкой из обрывка ткани, такой тонкой, что пришлось использовать объектив диапроектора в качестве увеличительного стекла. Поработав таким образом несколько часов, он сдвигал все в сторону, чтобы тотчас приступить к выполнению новой задачи. Вот так ему удавалось хоть на полдня забыть о времени.
* * *
Конечная воля состоит в подлинности нашего присутствия. Когда переживаемое мгновение принадлежит нам, а мы – ему.
Эрнст Блох* * *
Джил подошла к окошку своего рабочего кабинета, выглянула в парк, расположенный позади отеля. Стоит прекрасный, сияющий день, почти все шезлонги заняты, дети играют, кто на лужайке, кто чуть поодаль, а в тени нескольких могучих деревьев, что высятся на берегу реки, кружком сидят человек десять отдыхающих. Почти все босиком, некоторые в шортах, в маечках. Держа на коленях блокноты для рисования, они все смотрят на Хуберта, а тот стоит в центре кружка и что-то им объясняет. Рядом с ним на плетеном стуле сидит молодая женщина – обнаженная. Хуберт широко взмахивает рукой, будто рисует в воздухе ее портрет.
Курс рисования пользовался огромным успехом, Джил могла бы набрать не одну, а две группы, так много заявок к ней поступило. И модель нашлась очень быстро – массажистка Урсина, у нее в деревне свой кабинет, а в отель она приезжает по вызовам. Как-то она рассказывала Джил, что в студенческие годы подрабатывала моделью, потому и теперь согласилась без всяких колебаний. И выглядела совершенно естественно, когда во время коротких перерывов, потянувшись, обходила кружок рисовальщиков и заглядывала в их альбомы. Джил помахала Хуберту рукой, но он не заметил, и тогда она вновь села к письменному столу составлять программу на ближайший месяц.
Удивительно, как быстро Хуберт оправился после пережитого провала. Утром перед вернисажем Джил всерьез о нем беспокоилась. Арно позвонил ей со словами, что прибыть следует незамедлительно. А у нее выходной, она вообще в ночной рубашке, но ровно через четверть часа – вот, стоит рядом с Арно в комнате, где живет Хуберт. Тот бледен как полотно, на лбу капельки пота. Джил вызвала врача, а сама принесла из кухни полный стакан воды. «Выпить обязательно!» – скомандовала она, помогая Хуберту сесть. Врач прописал ему какое-то средство от повышенного давления, но прежде всего, по его словам, пациенту требовался отдых.
«Жена приедет, а еще трое моих студентов, – поделился с нею Хуберт. – Все они думают, что сегодня открывается моя выставка». – «И что же, других забот у тебя нет? – поспешила успокоить его Джил. – Давай-ка поедем ко мне, там тебя никто не найдет».
* * *
Первые дни в доме Джил он провел в бездействии. Вечером она всегда спрашивала, как прошел день, но Хуберт только плечами пожимал. Лишь спустя некоторое время он начал читать. Большинство книг в доме принадлежали матери Джил. Посвященные региону фотоальбомы, кулинарные книги, английские развлекательные романы. Эта случайно составленная библиотека помогла Джиллиан отчасти примириться с матерью. На полях кулинарных книг она находила сделанные материнской рукой пометки, но ведь не какие-то семейные секреты, а просто следы жизни, цель которой состояла лишь в том, чтобы создать настоящий домашний уют мужу и дочери.
С тех пор как Джил поселилась в этом доме, родители все реже ездили в горы. Отцу с его больными коленями трудно преодолевать лестничные ступеньки. Если уж они и отправлялись отдыхать, так на курорты, где отец проходил курс лечения.
Хуберт хватался за любое чтение, что в руки попадется: томик с местными легендами, справочник альпийской флоры, сборник энгадинских пословиц и изречений, тех самых, что украшают фасады здешних домов.
«Ругаться просто, а дело делать трудно, – зачитывал он вслух. – Смотри-ка, не иначе в этом доме жил художник. Или вот: в каждом человеке есть частица волка».
Джил стояла у плиты в кухне, готовила ужин.
«Судьбу свою люби, пускай она и горькая, – продолжал читать Хуберт. – Как думаешь, это верно?» – «Вымой салат, пожалуйста», – ответила Джил.
На следующий день, вернувшись с работы, она обнаружила Хуберта возле дома с блокнотом в руках. Подошла, заглянула ему через плечо. Он как раз перерисовывал сграффито из книжицы житейской мудрости. Перелистав блокнот, он предъявил ей все выполненные им рисунки, тщательные копии русалок, крокодилов, солнечных колес, украшавших надписи на фасадах. Хуберт вырвал из блокнота один листок, протянул ей, она прочитала: «Долог год, коротки десять лет».
Спать они ложились в одну постель. Джил первой уходила в ванную. Когда Хуберт, погасив свет, укладывался рядом с нею, она перекатывалась к нему поближе, они обнимались. Не произносили ни слова, и чуть погодя Джил возвращалась на свою половину кровати. Однажды вечером она всерьез спросила, не хочет ли он все-таки вести курс рисования в отеле, и удивилась, когда он тотчас согласился.
* * *
Джил чувствовала себя счастливой, как никогда. Лишь теперь она поняла, сколь одинока была все эти годы. Вспоминая время, проведенное с Маттиасом, она вовсе не ощущала его связи с нынешней жизнью. Зато воспоминание о сеансах в мастерской у Хуберта оставалось живым еще много лет.
Уговорив Арно опять пригласить Хуберта в культурный центр, она долгое время нервничала, не могла успокоиться. А когда увидела его в холле, в кресле, то вдруг все вернулось на свои места, стало таким, как прежде.
С тех пор как Хуберт у нее поселился, она каждый день радовалась возвращению домой. Хуберт теперь регулярно готовил ужин. После еды они подолгу сидели возле дома, разговаривали.
Темой первого курса, предложенного Хубертом, был пейзаж. Записались немногие, чуть больше полдесятка отдыхающих. Вечером Джил повстречалась одна участница, пожилая дама, она приехала с внучкой и вместе с нею посетила первое занятие. И пришла в полнейший восторг, да и внучке понравилось. Хуберт и сам, кажется, наслаждался этим днем. Когда Джил вернулась домой, ужин уже ждал ее на плите.
– Ну, как прошло? – спросила она.
– Знаешь, что удивительно? Оказывается, множество людей на досуге занимается рисованием! – поделился с ней Хуберт. – Больших талантов не заметил, но все они не новички.
– К тому же ты сегодня, похоже, приобрел поклонницу, – улыбнулась Джил.
Хуберт сначала сделал большие глаза, потом вроде бы вспомнил:
– Ах, Елена? Да ей и двадцати лет нет.
– Вообще-то я имела в виду ее бабушку, – сказала Джил и рассмеялась.
Многие гости приезжали в отель на две недели, но все они жаждали рисовать, поэтому на второй неделе Хуберт объявил курс портрета. Видимо, среди отдыхающих распространился слух, что он хороший учитель, поэтому число участников сразу удвоилось. А к концу недели Джил уже спрашивала, не хочет ли он поработать с обнаженной натурой, это несомненно привлечет на занятия людей помоложе. «А кто будет позировать? Ты сама?» – резонно заметил он. «Сама, если другую не найдем», – ответила Джил.
* * *
На обнаженную натуру записались в основном мужчины.
Вечером Хуберт иногда показывал Джил наброски, сделанные участниками: злобные мелкие карикатуры одного робкого юноши, который едва отваживался поднять голову, уткнувшись в лист бумаги; лысого толстого дядьки лет пятидесяти, который от усердия высовывал кончик языка во время работы; одного старичка, который в ужасе таращил глаза, будто сама смерть шла ему навстречу.
– На той неделе мы все это вывесим в холле, – подвела итог Джиллиан. – Вот будет реклама твоему курсу.
Хуберт все больше времени проводил на территории клубного отеля. Джил наблюдала из окна, как он болтает с отдыхающими, как вместе с группой молодежи направляется к футбольному полю. Вечерами он обычно заходил за нею в рабочий кабинет.
– Может, возьмешь машину? – как-то предложила она. – У меня сегодня спектакль.
Все та же постановка, какую Хуберт однажды видел на этой сцене. Хуберт сказал, что хочет остаться на спектакль: а вдруг да обнаружатся в этой пьесе скрытые достоинства? Они поужинали вместе на террасе, потом он проводил ее в крошечную костюмерную, устроенную рядом с театральным залом. Костюмы висели в кладовке, прилегающем помещении без окон, забитом кулисами, вешалками и прочим реквизитом, необходимым для разных постановок. В костюмерной царила суета, но никого, кажется, не смутило присутствие Хуберта. Джил любила атмосферу перед представлением, когда все исполнители взволнованы, все желают друг другу удачи и символически плюют через левое плечо.
Весь спектакль Хуберт просмотрел, стоя за кулисами. Джил перед каждым выходом оказывалась к нему так близко, что чувствовала тепло его тела. Он пытался ей что-то шепнуть, но она всякий раз прикладывала палец к губам. Публика хохотала вовсю, и вот Джил опять надо на сцену, и опять ей на платье летит все содержимое ночного горшка. На финальные аплодисменты актеры заодно вытащили на сцену и Хуберта, хотя он не имел никакого отношения к постановке, и он, смеясь, кланялся вместе со всеми.
Почти все они, не сменив костюмов, отправились в бар, чтобы отпраздновать спектакль вместе со зрителями. Джил и Хуберт последними оказались в гардеробе. Джил повесила сушиться свой крестьянский наряд, в нижнем белье старомодного образца уселась перед одним из двух имеющихся зеркал, и лицо ее сияло. Хуберт скрылся в кладовке, пока Джил смывала грим. И вдруг! И вдруг она увидела его в зеркале позади себя. На нем кожаные штаны и клетчатая рубаха – почти тот самый костюм, что у слуги, которого по пьесе Джил выбрала себе в мужья.
– Шикарно выглядишь! – рассмеялась Джил. – Тебе нужно почаще надевать кожаные штаны.
Хуберт шагнул к ней, заключил ее в объятия, поцеловал в губы.
– Фу, Тони, – с наигранным возмущением Джил ответила цитатой из своей роли, – после дойки ты хотя бы руки вымой!
Ответ Тони беспроигрышно вызывал у публики смех на каждом представлении, но Хуберт вместо этого вновь поцеловал Джил, причем еще крепче. И обнимал ее так крепко, что ей чуть больно не стало. Она ответила на его поцелуй, а он, сочтя это согласием, стал поспешно раздеваться. Осыпал поцелуями ее шею, и вот они стоят там, оба в нижних сорочках, и он развернул ее к себе, и наконец…
– Не так быстро, прошу, – взмолилась Джил, – мне больно…
Но Хуберт, кажется, ничего не слышал. Вдруг в зеркале она увидела его глаза – остекленевшие, как у пьяного.
– Тихонько, тихонько, – шептала Джил, – со мной давным-давно этого не было…
И действительно, она только в самое первое время раз-другой завела роман с кем-то из отдыхающих, потом в течение целого сезона крутила с шеф-поваром, но он перешел в отель той же клубной сети на юге Турции, а она не захотела последовать за ним. Со временем ей попросту расхотелось завязывать отношения с каким-либо мужчиной, и она довольствовалась легким флиртом.
Хуберт двигался все быстрее и быстрее, потом издал громкий стон, несколько раз вздрогнул и как будто осел, навалившись на нее. Чуть погодя выпрямился и отступил на шаг. Джил почувствовала, как теплая жидкость стекает по ее ноге.
– Иди ко мне, – сказала Джил и взяла его за руку.
В театральном зале тьма, только светящиеся указатели аварийных выходов дают немного света. Они вместе улеглись в кровать, стоявшую на авансцене.
– А вдруг сюда кто-то придет? – прошептал Хуберт.
– Не волнуйся, – успокоила его Джил, – только уборщики завтра утром.
Они обнимались, целовались, потом Джил уселась на него верхом и содрала с себя рубаху. Странное дело – заниматься любовью на сцене. Джил с закрытыми глазами двигалась плавно. Хуберт лежал смирно-смирно. Открыв на миг глаза, она встретила его изумленный взгляд.
* * *
Джиллиан семнадцать лет. Стоя у окна в этом горном домике и уперевшись локтями в шершавый деревянный карниз, она глядит в небо. Ночь полна шумов и запахов. Джил влюблена, тогда она часто влюблялась, и самой малости было довольно, чтобы пробудить – впрочем, как и угасить – прекраснейшие ее мечты. Всякое ее ощущение немедленно перерождалось в чувство.
Она закрыла окно и спустилась по лестнице на первый этаж. Дверь дома заперта, но изнутри она открывается без ключа. На улице прохладно. Босиком, без теплой одежды она мерзла, но ведь так и полагается. Пошла по дороге в сторону реки, в любой миг готовая спрятаться в траве, если на дороге появится машина. Еще немного, и вот дорожка, ведущая в лес, теперь уже недалеко осталось. В лесу совсем ничего не видно, приходится замедлить шаг. С автомагистрали по ту сторону ущелья время от времени слышится шум проезжающих машин, но и ближе, в глубине леса, то и дело раздаются какие-то звуки, будто сама тьма потихоньку движется, легко сотрясая воздух. Дойдя до дороги, серпантином спускающейся к реке, она уже различала огни отеля. Лес тут не такой густой, видимость стала лучше. Она побежала вниз, следуя извилинам дороги, и через мост. Пятки так и горят, асфальт ведь какой шершавый.
Обошла кругом большое здание, миновала ярко освещенный центральный вход. Завернув за угол, услышала голоса и смех. Дверь в кухню открыта, там работают повара, у всех штаны в мелкую клетку и белые кителя. Сейчас они наводят порядок в кухне. Прошло немного времени, и наконец ее заметил ученик-поваренок, ну, тот, с длинными волосами. Подошел к двери, поздоровался и протянул ей сигарету-самокрутку.
– Вот-вот закончим, – сказал он и сам закурил. Затем сунулся головой в кухонные двери и выкрикнул: – Эдо, твоя подружка пришла!
Ей понравилось звучание этого слова. Она – подружка Эдо, хотя познакомились они всего неделю назад в пабе у вокзала. Он угостил ее пивом и рассказал, что работает в отеле.
С отцом она договорилась, что тот заедет за ней в паб в половине одиннадцатого. Сказала об этом, но Эдо принялся над нею смеяться. У нее вообще постоянно возникало чувство, что Эдо не воспринимает ее всерьез. Он четвертый год состоял в учениках повара, был тремя годами ее старше и даже имел собственный автомобиль, наполовину проржавевший «фиат». Отправляясь в паб на следующий день, она сказала отцу, что забирать ее не нужно, ее довезут до дому. Отец непременно хотел знать, кто именно довезет, они поссорились. Эдо в тот вечер не явился в паб, и пришлось ей пешком добираться до дому, дорога заняла больше часа. На другой день она собралась с мужеством, после обеда отправилась в отель и спросила Эдо. А тот курил вместе с другими поварами у черного хода. Она подошла ко всей этой мужской компании, сделав вид, будто случайно оказалась рядом. «У меня тихий час по расписанию, хочешь посмотреть мою комнату?» – обратился к ней Эдо с самодовольным смешком. Эти слова вызвали столь бурное ликование других поваров, что Эдо и сам покраснел. Она ответила, что лучше бы им вместе погулять, если он не возражает.
Наедине с нею Эдо вел себя совершенно по-другому. Даже голос у него изменился, зазвучал тихо и вкрадчиво. Они гуляли по берегу реки, тропинка вела сквозь высокую траву и кусты, такая узкая, что пришлось идти по одному. Джиллиан шла первой, так и чувствуя спиной взгляд Эдо. Пройдя метров двести, они уселись в тени деревьев на береговом откосе. Течение реки тут сильное, Эдо швырял какие-то ветки, валявшиеся кругом, в реку, и они сразу глубоко уходили под воду, словно неведомая сила тянула их вниз и уносила за собой. Эдо делился с ней своими планами на будущее. Пройдя обязательную военную подготовку, он собирается за границу, куда-нибудь в Африку или в Азию. Пока Джиллиан в гимназии будет зубрить латынь и математику, он начнет открывать для себя мир. Она прилегла на траву, закрыла глаза и ждала, когда же он ее поцелует. Но он все говорил и говорил. У нее-то планы совсем другие, ну ничуть не похожие, но его воодушевление оказалось заразительным. На обратном пути Джиллиан сильно обожгла руку крапивой. Эдо стал рассматривать покрасневшую кожу. Чуть поколебавшись, он поднес ее руку к губам и поцеловал. А она словно только того и ждала. Бросилась к нему на шею, стала целовать.
– Эдо, твоя подружка пришла! – еще раз крикнул поваренок. Повернулся к ней и сообщил, что они сейчас все вместе отправляются купаться. – Хочешь с нами?
– Купаться? Сейчас? – И она недоверчиво засмеялась.
Вышел Эдо, быстро поцеловал ее в губы. Молча они покурили. Повара один за другим выходили из кухни, прощались, исчезали в темноте. Последним вышел шеф-повар. Напомнил Эдо, что надо запереть дверь, он сегодня дежурный.
– Пошли! – скомандовал Эдо, обращаясь к ней и к сотоварищу по кухне, как только шеф удалился.
Внутри трое учеников драили помещение: здоровенный малый с прыщавым лицом, еще один мелкий, похожий на ребенка, и пухленькая девчонка с тонкими косичками.
– Пошли! – повторил команду Эдо.
В кладовке они взяли две литровые бутылки вина, какое обычно используют для готовки. Эдо первым двинулся по узкому коридору к металлической двери, через которую они попали в вестибюль отеля. Хихикая, пробрались через этот вестибюль к двери с надписью: «Бассейн». Тут Эдо остановился.
Внутри темнота, хоть глаз выколи, и пахнет хлоркой. Джиллиан почувствовала, как кто-то нащупал и сжал ее руку: осторожно, ступеньки. И вдруг они оказались прямо у бассейна. Сквозь большое окно сюда проникал слабый лунный свет. За окном угадывался парк – темные стволы деревьев, кусты. Обернувшись, она увидела, что остальные уже раздеваются. Бросают одежду на пол, скрючившись, бегут к бортику, и раз – скользнули в воду. А из воды с нескрываемым интересом наблюдают за обеими девушками. Юная повариха уже только в нижнем белье, груди у нее огромные, бедра широченные. Разделась догола и с неожиданной грацией дошла до бортика, до лесенки, и – в воду. Ребята развернулись, и все вместе они поплыли к стеклянной стене на противоположной стороне бассейна. Джиллиан воспользовалась минуткой, чтобы раздеться и войти в бассейн. Эдо, отделившись от стайки, поплыл к ней навстречу. Следующий час смутно сохранился в ее памяти – и поцелуи, и прикосновения, и шепот. Остальные уже вылезли из воды и гонялись друг за дружкой вокруг бассейна, очень стараясь не производить шума. Она видела, как юноша с длинными волосами на бортике боролся с толстушкой, как она высвободилась и, пыхтя и смеясь, отбежала на несколько шагов. Длинноволосый ее догнал, опять они начали бороться и толкаться. А потом исчезли в темноте вестибюля. Двое других поварят, разлегшись на шезлонгах, прикладывались по очереди к винной бутылке. Эдо целовал ее шею, и тут уж она забыла про всех остальных. Закрыла глаза, он заключил ее в объятия, и она это позволила, хотя сама не решалась до него дотронуться. Тогда он прекратил ее целовать, положил голову ей на плечо, будто иного и не добивался. Лица его она не видела, зато руку чувствовала еще как. Вверх, вверх, и вот она почти лежит на воде. Как вдруг – резкая, короткая вспышка боли. Никакого удовольствия она не испытала, зато почувствовала свою плоть такой, как никогда прежде. И осталась пустота, тоже такая, как никогда прежде.
Оттолкнувшись от стенки бассейна, она поплыла к лесенке. Эдо за ней. Уселись на верхней ступеньке, разводили воду руками, будто случайно касаясь друг друга. «Я люблю тебя», – шепнул он – или ей только почудилось? «Я люблю тебя», – шепнула она. А он в ответ: «Я тебя тоже». Как вдруг вспыхнул синий свет, и она почти перепугалась, но вдруг поняла, что свет исходит от воды. Кто-то из двух поварят включил освещение в бассейне. А другой вскочил со своего шезлонга, подбежал к тому с бутылкой вина в руке, и оба они затеяли потасовку у выключателя. Но исправно прерывали борьбу, чтобы хлебнуть из бутылки. Эдо перевернулся на живот. Она видела, как ее собственное тело и его тело светятся желтоватым светом, лишь над поверхностью воды они кажутся сероватыми. А вода, перекатываясь по животу, кажется вязкой и маслянистой. Как хочется, чтобы опять наступила темнота: при свете ей казалось, что Эдо от нее уходит, удаляется. Хотела притянуть его к себе, но он высвободился из объятий, вышел из воды. Шикнул на двух борцов у выключателя, погасил свет, но к лесенке в бассейне не вернулся.
Спустя четверть часа они распрощались возле дома, где проживает персонал отеля. Длинноволосый все так и обжимался с толстушкой. Другие явно собирались пить до утренней зари.
– Мне надо домой, – сказала Джиллиан.
А Эдо уже не спрашивал, не хочет ли она посмотреть его комнату. Да, поцеловал, но не так, как целовал раньше.
Босиком, с мокрыми волосами побежала она домой. На другое утро свалилась с простудой.
* * *
– Как хорошо… хорошо… – протянула Джил. Открыла глаза и вдруг почувствовала, как по щеке течет горячая слеза. Хуберт заволновался: что такое?
– Да ничего, – ответила она, – просто я счастлива.
Так они и лежали рядом, когда заскрипела дверь в костюмерную и раздался мужской голос:
– Это кто тут разбрасывает костюмы прямо на полу?!
Джил натянула одеяло на голову, затаив дыхание они ждали, когда голоса умолкнут. Потом вскочили, проскользнули в костюмерную и наспех оделись.
От того факта, что они отныне спали друг с другом, в их совместном проживании почти ничего не изменилось, вопреки чаяниям Джил. Как будто ночь – иной мир, куда они отправляются вместе. Наутро у Джил сохранялись лишь упоительные воспоминания о ночи. Хуберт настаивал, чтобы они любили друг друга при включенном свете. Не спускал с нее глаз, пока она раздевалась. Ласкал ее тело обеими руками, ни одного местечка не пропуская. А то вдруг встанет с кровати и разглядывает ее на расстоянии, а то согнет ногу в колене или раскинет ее ноги, как врач, проверяющий подвижность суставов, а она – полусмеясь, полусердясь – притянет его за волосы к себе, да расцелует. Он же тогда целовал ее сухо и наскоро, как ребенок, будто сам он находится где-то вдали и неприступен. Ей он все время подыскивал правильное положение, ворочал из стороны в сторону, как предмет. Порой она даже напоминала ему, что не стоит обходиться с нею так грубо. Но лучшие минуты – те, когда они просто лежали рядом, касались друг друга, погрузившись каждый в свои мысли. Однажды она все-таки спросила о том, не желал ли он ее и тогда, когда пытался написать ее портрет.
– О, конечно, именно так, – признался Хуберт. – Может, потому и не удалось мне тебя написать.
– А теперь? – допытывалась она.
– Зачем мне теперь твой портрет? Ты и так со мной, – ответил он.
Спустя несколько дней он спросил, не помешает ли ей Лукас, если приедет к ним в горы на каникулы. Джил не знала, что ответить, от одной мысли о таком она начинала нервничать.
– Астрид его привезет, – добавил Хуберт.
– Она знает о моем существовании? – еще больше заволновалась Джил.
– Да. Но не знает о том, что мы давно знакомы.
* * *
Хуберт и Джил на машине поехали на вокзал встречать мальчика.
– Ты ведь не говорил, что она притащит с собой и друга! – возмутилась Джил.
– Я этого и сам не знал, – раздраженно ответил Хуберт, направляясь к Астрид, Лукасу и Рольфу, чтобы поздороваться.
На обратном пути все молчали. Только Астрид пыталась завязать разговор. К Хуберту обращалась, как к больному, восхищалась красотой ландшафта и погодой, будто все эти достижения вменяла себе в заслугу. Но ничего не сказала о том, где они сами собираются остановиться. Астрид, когда говорила, сильно наклонялась вперед. Хуберту и Лукасу удавалось чуточку подурачиться у нее за спиной. Наконец Джил остановила машину возле своего дома.
– Пойдем, я покажу тебе твою комнату, – обратился Хуберт к сыну.
И они вместе поднялись на верхний этаж. Астрид и Рольф последовали за Джил.
– Может, посидим возле дома?
Астрид поинтересовалась, кем работает Джил.
– Отвечаю за развлечения в клубном отеле, это рядом с центром культуры, – ответила та.
Астрид продолжала расспрашивать Джил, но в вопросах ее не чувствовалось подлинного интереса.
– Никогда не бывала в подобном отеле, – сообщила Астрид. – Что за люди там отдыхают?
Тут вмешался Рольф. Однажды он по молодости в клубном отеле проводил каникулы. Сплошь одиночки. Каждый день вечеринка. Вообще-то довольно занятно.
– Все ясно, – отчеканила Астрид. – Люди, которые не знают, чем себя занять.
В эту минуту Джил начала сочувствовать Рольфу.
– В наш отель приезжают главным образом семейные пары с детьми, – пояснила она. – А Хуберт с недавних пор ведет у нас курс рисования.
– Ого! – воскликнула Астрид. Кажется, она и вправду удивилась.
Все замолчали. Астрид то потягивалась, то глубоко вздыхала, словно очень хотела показать, как ей хорошо. Чуть погодя из дома вышли Хуберт и Лукас. Держась за руки.
– Каким поездом вы поедете? – спросил Хуберт.
– Не знаю, я еще не посмотрела расписание, – ответила Астрид.
– Поезда отсюда уходят в час сорок, два сорок и так далее. Если поторопиться, то вы как раз успеете на ближайший, – сказал Хуберт.
– Может, лучше прогуляемся немного? – возразила Астрид. – Раз уж мы сюда приехали.
Рольф, вытащив из рюкзака карту местности, добавил, что поблизости находится известное место силы и он бы с удовольствием его осмотрел. Хуберт уже закатил глаза, как вдруг Джил заявила, что отправится с ними вместе.
– Ты что, веришь в эти фокусы? – возмутился Хуберт.
– Вера тут ни при чем, – встрял в разговор Рольф. – Обычно эти места очень красиво расположены, потому и воздействие у них особое.
Они прошли по дороге дальше, потом узкой пешей тропой спустились в низинку, оттуда поднялись по склону. Там, обнесенная деревянной оградой, лежала большая каменная плита со множеством мелких углублений на поверхности.
– Это чашечный камень, – взялся объяснять Рольф, – такие в Европе встречаются повсюду. По всей вероятности, это культовые объекты, созданные человеком в бронзовом веке. Смотрите, вот солнечное колесо!
Действительно, на поверхности различалось вырезанное в камне колесо со спицами – впрочем, на вид вовсе не древнее. Джил нарисовала его пальцем в воздухе. Рольф, созерцая камень, молчал.
– Ну как? Что ты ощущаешь? – съязвил Хуберт.
– Не торопись, – мирно ответил Рольф. – Попробуй сначала мысленно достичь тишины. В текущей воде тебе не распознать собственного отражения.
Пока Рольф изучал камень, Астрид молча стояла рядом. Похоже, старалась что-то серьезно обдумать. Лукас помчался вверх по склону, туда, где росли березки со скривленными стволами. Сел на травку и стал разглядывать взрослых внизу. Джил даже интересно стало: что думает о них мальчик? Сама она с детства знала места силы, причем задолго до того, как поняла их смысл. Знала просто такие места, куда всегда тянет, такие места, значение которых никому больше не понять.
– Речь идет об иерархизации пространства, – просвещал Хуберта Рольф, – и ты, как художник, занимаешься тем же, не правда ли?
На обратном пути Астрид завела разговор с Джил, так что мужчины, обогнав их, скоро оказались на тропе далеко впереди. Лукас бегал туда-сюда, от одной пары к другой, пока Астрид не велела ему идти рядом с ней. Дескать, Рольфу с его отцом надо кое-что обсудить. Уже возле дома они нагнали обоих мужчин, Джил вопросительно посмотрела на Хуберта. Рольф и Астрид распрощались с Лукасом, Хуберт повез их на вокзал.
Джил предложила мальчику поиграть во что-нибудь или почитать вслух, но он отказался, покачав головой, и ушел в дом. Когда Хуберт вернулся, Джил стала расспрашивать его, что же такое Рольфу надо было обсудить.
– Честно говоря, я и сам не понял, – вздохнул Хуберт. – Он все болтал про какое-то примирение. А я сказал, что нет у меня повода с ним примиряться, мы ведь никогда не ссорились. Еще про Астрид поговорили. Для меня вопрос, долго ли они протянут вместе.
– А уж она меня допытывала! – пожаловалась Джил. – Все хотела знать, давно ли мы вместе, да когда познакомились, да что угодно. Мне вдруг даже показалось, что она ревнует.
– Разумеется, она ревнует, – сказал Хуберт. – И что же ты ей рассказала?
– Что у тебя все отлично!
* * *
Оказалось, что две недели с Лукасом – это совсем не так долго. Джил только удивлялась, сколько времени Хуберт готов посвятить сыну. Часто они вдвоем отправлялись в пеший поход, да и вечерами не уставали вести разговоры, а то целый день строили запруду на ручье в горах или лазали по скалам. Иногда они являлись в отель, навещали ее на рабочем месте, плавали в бассейне. Когда Хуберт проводил свои занятия, Лукас играл с детьми отдыхающих в отеле. Он, единственный среди них швейцарец, всегда оказывался в центре внимания благодаря своему забавному выговору. В те дни, когда Джил не работала, они устраивали совместные вылазки на природу. Уже несколько человек видели тогда медведя, шатающегося по окрестностям. Лукас то и дело про него расспрашивал. Казалось, мальчик боится, но одновременно и восхищается лесным зверем. Стоило какой-нибудь ветке хрустнуть, как он тут же с вопросом: а не медведь ли?
– Ясное дело, – как-то пошутил Хуберт, – медведь следует за нами по пятам.
– Не пугай ребенка! – возмутилась Джил.
Лукас успокоился только тогда, когда они вышли из лесу на опушку. Хуберт и Лукас тут же принялись лазить по камням, а Джил задремала от усталости. Открывает глаза – а небо над головой почти черное, хотя солнце еще не зашло. Ни Лукаса, ни Хуберта не видно, хотя издалека доносятся то смех, то возглас. И вдруг ей померещилось, что не было никакой катастрофы. Она замужем, у нее ребенок, она живет нормальной жизнью, как все остальные люди на свете. Прошедшие годы – химера, чья-то чужая жизнь.
Вечером того дня она впервые сама укладывала мальчика спать. Сделала замечание, когда он недостаточно долго чистил зубы, присматривала за ним, когда он переодевался в пижаму. Потом помогла отыскать плюшевого мишку, и тут Лукас опять вспомнил про медведя в лесу.
– Ты сама его видела? – спросил он.
– Не видела, – успокоила его Джил, – он вообще пугливый, не любит показываться людям.
– А семья у него есть? – не унимался Лукас.
– Семьи у него нет, – терпеливо ответила она, – по-моему, он слишком молод. Он просто шатается по округе, хочет поглядеть на мир. Мне кажется, медведи вообще предпочитают одиночество.
– А я – нет, – заявил Лукас.
– Я тоже нет, – кивнула Джил, поцеловала мальчика в лоб и позвала Хуберта.
* * *
Через две недели за Лукасом приехала Астрид, и Джил, кажется, его отъезд расстроил больше, чем Хуберта. После завтрака она попрощалась с мальчиком и отправилась на работу, но никак не могла сосредоточиться. Стоит и стоит у окна, глядит на парк. «Мы все – одна большая семья», – любит повторять ее начальница. Одну-две недели все поддерживают эту иллюзию, переходят на «ты», обедают вместе за большими столами, занимаются спортом, играют в загадки, флиртуют друг с другом. Но в день отъезда все рушится. Уже за завтраком наблюдается спешка, родители ругают детей за нерасторопность, у стойки ресепшен толкотня, потому что все гости оплачивают счета одновременно, а в холле грудами высятся чемоданы, на которых сидят дети, подобно путешественникам, выброшенным на необитаемый остров. Гости обычно уезжают, ни с кем из персонала не попрощавшись. Около полудня в здании устанавливается тишина, лишь на верхних этажах вовсю трудятся горничные, устраняя следы отбывших гостей. После обеда – новый заезд, и все начинается заново.
В тот день Джил вернулась домой раньше обычного. Хуберт находился в саду, рисовал.
Джил подошла ближе, он захлопнул блокнот и произнес:
– Ну, что? Теперь у нас снова тишина и покой. Может, выпьем по глотку вина?
Рассказал еще, как они с Астрид вместе обедали и та поделилась новостью: они с Рольфом переживают кризис в отношениях.
– Не знаю, в чем там дело, – продолжал он, – при Лукасе она не могла распространяться на эту тему, ограничилась намеками. Думаю, он хочет ребенка, а она не хочет. Да и вообще у него какие-то заурядные представления о совместной жизни. Эзотерик-обыватель!
– Хотеть ребенка – это по-обывательски, да? – не сдержалась Джил.
– Да просто она для него стара, я с самого начала это говорил.
– Значит, теперь Астрид хочет заполучить тебя обратно?
– Даже если бы и хотела… – ответил Хуберт, слегка замешкавшись, будто никогда не брал в расчет такую возможность.
* * *
– Через месяц начинается новый семестр, – сказал он однажды за завтраком.
Джил взглянула на него, но промолчала.
Хуберт продолжил:
– Мне надо появляться на работе два раза в неделю, ну, иногда и три раза. Все остальное время я могу находиться здесь. Что думаешь?
Джил кивнула:
– Делай, как считаешь нужным.
Хуберт уезжал в среду вечером, возвращался в пятницу сразу после полуночи с последним поездом. Джил забирала его с вокзала на машине, и он – всегда в прекрасном настроении – рассказывал ей про студентов, про встречу с Лукасом, про походы на выставки и в кино.
Сейчас, когда каникулы кончились, отдыхающих в отеле стало меньше и курсы рисования отменили, зато Хуберт больше времени отдавал собственной работе. Но от расспросов Джил уклонялся. Мол, не любит он рассуждать о проектах, которыми вот сейчас занимается. Вечерами он все чаще искал уединения. На верхнем этаже, в бывшей детской Джил, он устроил себе нечто вроде мастерской. Там и пропадал часами. Джил смотрела телевизор или читала. Около полуночи стучалась к нему в дверь. А он откроет, высунется в щелочку, быстро поцелует ее и говорит: «Сейчас тоже ложусь спать». Джил раздевалась, чистила зубы. В ванной подолгу смотрелась в зеркало, а его все нет и нет.
В середине сентября он сообщил, что в связи с началом семестра вынужден подольше остаться в городе, ведь надо решить множество организационных вопросов.
– Как долго? – спросила Джил.
– Трудно сказать, – ответил он. – Наверное, неделю. Ну, дней десять.
– Отчего же ты раньше ничего не сказал? Я бы как-нибудь подстроилась…
* * *
Ночью ей впервые за долгие годы снова приснился Маттиас. У них есть ребенок, сын, на вид вылитый Лукас. Что там происходило во сне, она наутро вспомнить не могла, но вот эта картинка так и стояла перед глазами: семейное фото, Маттиас и она на фоне горного пейзажа, а между ними мальчик.
Хуберт звонил каждые два дня. Рассказать ему было почти нечего, да и Джил не знала, о чем говорить.
– У меня все как обычно, – поспешила она прервать паузу. – Ты вернешься в эту субботу?
– Да, – ответил Хуберт, – почти наверняка в субботу.
– Приезжай, когда хочешь, – заверила его Джил, – но хорошо бы ты дал мне знать заранее.
После этого разговора ей стало еще хуже. В субботу она взяла выходной, но тем не менее проснулась очень рано. Провела в ванной больше времени, чем обычно. Нельзя сказать, что она хорошо и вдохновенно готовила, но сегодня решила встретить Хуберта праздничным ужином. В деревенской мясной лавке ей порекомендовали взять говядину на жаркое и подробно объяснили, как ее следует тушить. Дома она поставила мясо на огонь и накрыла стол, украсила его несколькими луговыми цветочками, уцелевшими в осеннем саду. Только она закончила все приготовления, как раздался телефонный звонок. Хуберт. Сегодня приехать не сможет. Раньше сообщить не получилось. Астрид плохо, надо остаться с ней.
– Ты у нее сейчас? – спросила Джил.
– Прости, не могу говорить.
И Хуберт повесил трубку.
Джил присела возле дома, но на улице оказалось холоднее, чем она думала, и пришлось уйти внутрь. А в доме она принялась за уборку. Собрала надеванную одежду Хуберта, понесла к стиральной машине, по дороге вдохнула его запах и чуть успокоилась. Попыталась себе представить, каково это – вновь остаться в одиночестве. Еще несколько лет, и ей стукнет пятьдесят. Впервые у нее возникло чувство, что многого в жизни ей уже не успеть.
Пылесосила лестницу. У двери мастерской нерешительно остановилась. С тех пор как Хуберт там обосновался, Джил не переступала порога своей бывшей детской – не хотела ему мешать, ущемлять его в правах. Выключила пылесос, открыла дверь. Неожиданная тишина вселила в нее еще большую неуверенность, и такое возникло чувство, будто все молчание ее детства, выплеснувшись наружу, захлестнуло ее потоком. Джил чуть было не закрыла дверь, но потом все-таки вошла в комнату и уселась в потертое кресло, стоявшее в уголке. Комната осталась едва ли не такой же, какой она помнила ее с детства. Хуберт почти не оставил здесь следов, только освободил стол и сложил на полу стопками книги, тетради для заметок, альбомы для рисования. Лампа на потолке заливала все помещение слабым желтоватым светом. Джил подошла к письменному столу, открыла альбом, лежавший сверху. Взяла в руку карандаш, словно сама решила что-то нарисовать. Страницы альбома были заштрихованы карандашом. Иногда так густо, что на блестящей поверхности с трудом различались отдельные штрихи, однако при этом создавалось ощущение пространства. На других листах рисунки, казалось, не закончены: то ли фантастические пейзажи, то ли географические карты – череда заштрихованных пятен, устремляющихся в разные стороны, а при встрече образующих непонятные узоры. Джил никак не могла понять, что же это за рисунки – произведения искусства или беспомощные попытки убить время? Перелистывая страницы дальше, она вдруг поняла, что держит в руках тот самый блокнот с набросками, сделанными в ту ночь, когда Хуберт впервые остался у нее, а она позировала ему голышом. Может, он ничего дурного и не имел в виду, это ведь всего лишь наброски на скорую руку. Но ни один не сохранился в целости, создавалось даже впечатление, что Хуберт все их перечеркнул, а уж потом начал густо заштриховывать. И вдруг Джил окончательно поняла, что он никогда уже не вернется.
И сама взялась заштриховывать его рисунок – тот, где она стоит на коленях и держит руки за спиной, будто они связаны. Карандаш жесткий, она нашла другой. И перечеркнула всю картинку, будто похоронив свое беззащитное тело под слоем графита – ископаемые останки, которые никто и никогда не найдет.
* * *
Время подошло к полуночи. Джил стянула чулки и босиком вышла из дома. Воздух холодный, а земля под ногами еще холоднее. Вот и дорога. Несколько лет назад через ущелье перекинули новый мост, но Джил выбрала тот же путь, что тогда. Дорога, ведущая вниз, в ущелье, перекрыта: весной сошел оползень со склона, теперь надо восстанавливать опорные стены. Джил перелезла через ограждение, прошла мимо строительных машин, замерших по обочинам, словно спящие звери. В некоторых комнатах культурного центра все еще горел свет, отель сверкал яркими огнями. Через лужайку она прошла к пристройке, где находился бассейн. Когда гостиницу присоединили к клубной сети, тут все переменилось. Заглянула в широкое окно, но ничего не сумела разглядеть, кроме мерцания переключателей света. Прислонилась спиной к холодному стеклу, загляделась на звездное небо. Наверное, кто-то открыл окно, потому что звуки музыки из отеля теперь доносились громче. Ага, сегодня опять на очереди капитан Джек Воробей и «Пираты Карибского моря». Джил мерзла. А ведь у нее в кабинете висит теплая куртка. Она обошла пристройку, вот главный вход.
На ресепшен дежурил молодой грек, он поступил на работу в этом сезоне, так что имя его Джил еще не запомнила. А, тоже на опен-эйр? Да нет, просто надо кое-что забрать в кабинете. Вскоре она вернулась, нарядившись в шерстяную куртку и босоножки, которые обычно носила на работе. В холле несколько ее коллег из персонала, все одеты в пестрые костюмы, как будто собрались на карнавал. Мужчины приветствовали появление Джил громкими возгласами.
– Ты с нами на опен-эйр? – обратилась к ней Урсина.
Урсина – местная уроженка, из немногих в отеле, и даже умеет изъясняться на ретороманском. Но вечно поносит своих земляков, а в отеле чувствует себя явно лучше, чем в деревне.
– Не знаю… – протянула Джил. – Вообще-то я просто хотела кое-что взять в кабинете.
– Поехали с нами! – закричала массажистка, обнимая Джил. – Ты когда последний раз танцевала?
Возле стойки несколько мужчин из их компании подшучивали над греком, у которого сегодня ночное дежурство, и никуда ему не поехать. Ко входу подрулил микроавтобус.
– Маркос нас отвезет! – радостно сообщила Урсина.
Всей компанией Джил вытащили на улицу, в итоге ей пришлось залезть в автобус.
Ехали по шоссе, ведущему вверх по долине. Маркос поставил диск, послышались переборы гитарных струн, потом зазвучал меланхолический женский голос. А с заднего сиденья раздались голоса протестующих мужчин. Что, другой музыки нет? Но водитель даже бровью не повел. Джил, сидя на переднем сиденье, не преминула спросить, что это за музыка.
– Фаду, Португалия, – ответил водитель. – Амалия Родригиш.
– О чем же она поет?
Маркос не отвечал, Джил сперва подумала, что он просто не понял ее вопроса, но потом заметила, что он прислушивается к песне. Когда вновь зазвучала гитара, без голоса, он, запинаясь, стал переводить:
– Какой странною жизнью живет мое сердце. Одинокое сердце, свободное сердце, я над сердцем не властна. Если не знаешь, куда ты идешь, зачем же тебе непременно идти?
– Как это прекрасно… – вдруг произнесла Урсина.
Голос ее прозвучал совсем рядом. Джил, обернувшись, увидела, что та всем телом подалась вперед и вслушивается – пытается разобрать слова. Но Маркос замолчал. Через полчаса они свернули с шоссе на горную дорогу в боковой долине, и только тогда он спросил, что за концерт у них впереди.
– Гоа! – ответил с заднего сиденья Грегор, молоденький повар. – Гоа-транс, понимаешь?
И принялся подробно объяснять различия между стилями техно. Джил не вслушивалась, она устала так, что глаза сами закрывались. Проехали через какую-то деревню, потом через палаточный городок, освещенный призрачным светом. Полыхали факелы, воткнутые в землю, пылали костры, светились изнутри разноцветные палатки. Маркос на своей машине пробирался вперед со скоростью пешехода. В свете прожекторов Джил различала странные фигуры, движущиеся вверх и вниз по горному склону: одни как будто исполняли танцевальные па, другие как будто ежились, втянув голову в плечи. Наконец они прибыли ко входу на фестивальную площадку. Сцена отсюда не видна, зато слышится монотонный рокот – музыка. Маркос спросил, когда за ними заехать.
– Завтра утром! – расхохоталась Урсина.
Кто-то сказал, что домой хорошо бы все-таки вернуться. Хоть бы и автобусом-шаттлом, говорят, они тут ходят.
Вдруг все одновременно куда-то пропали, только Урсина осталась рядом с Джил. Схватила ее за руку, потянула ко входу.
Они только приближались к сцене, а Урсина уже стала двигаться в ритме музыки. Топик едва прикрывает живот, волосы заплетены в две косички.
– Тебе не холодно? – спросила Джил. Она завидовала и ее стройной фигуре, и ее гибкости.
– Сейчас пройдет! – выкрикнула Урсина, проталкиваясь вперед через движущуюся толпу.
Почти вся здешняя публика по возрасту была вдвое моложе Джил, она чувствовала себя не в своей тарелке, но кому же помешает ее присутствие, если общий настрой – расслабленность? Музыка теперь напоминала ей ковер из лоскутков-звуков, ей слышались и ситар, и какое-то потрескивание, и старческий мужской голос, по-английски выкрикивавший что-то про видение будущего и мир народов. Диджей на сцене поднял вверх руку, потом несколько раз выбросил руку вперед, и сразу будто гром загремел. Такие низкие звуки, что Джил, чувствуя их всем телом, вынужденно сопротивлялась. Зрители, как по команде, принялись подпрыгивать, попадая в такт, – масса тел в синхронном движении. Одни загребали руками, словно они плывут в вязкой трясине; другие стояли смирно, лишь слегка подергивая плечами, или крутили туда-сюда головой. Джил тоже не устояла на месте, поддавшись ритму, и довольно неуверенно начала пританцовывать. Урсина, быстро обернувшись к ней, улыбнулась и довольно сложным, но красивым движением крутанула руками в воздухе. Над сценой вздымались цветные паруса, освещенные ультрафиолетовым светом, а психоделические узоры, проецируемые на экран позади диджея, менялись в соответствии с пульсированием музыки. Джил пыталась ни о чем не думать. Вдруг она почувствовала, как кто-то положил руку ей на плечо, обернулась, а за ней Грегор, повар. Он пытался прокричать ей что-то прямо в ухо, но она не разобрала слов. Зато почувствовала, как он что-то сунул ей в руку. Разжала ладонь и во вспышках прожекторов разглядела крошечную таблетку. Грегор пальцем показал на ее рот, еще что-то выкрикнул. Джил оценила шутку – почему бы нет? Чуть поколебавшись, закинула таблетку в рот. Повар, пробиваясь в толпе, добрался до Урсины, которая отплясывала где-то рядом, и положил руку ей на плечо. Джил увидела, как они склонили головы друг к другу, о чем-то переговариваясь. И вдруг Урсина затрясла головой, обернулась к ней с озабоченным лицом и снова затрясла головой: нет! Джил, закрыв глаза, все танцевала и танцевала. Музыка, кажется, двигалась к апофеозу, только он все не наступал. В какой-то миг бас заглох, и вот они вновь – сферические волны звука, а сразу за ними вновь громом понеслись ритмические удары. Иногда они ускорялись, гремели чаще, и Джил некоторое время старалась им соответствовать, но потом сдавалась, отдавалась на волю волн, втягивалась в водоворот звуков. Ей казалось, будто она в высоком доме спускается с этажа на этаж, и повсюду звучит музыка, мелькают цветные огоньки, танцуют какие-то люди. Вдруг кто-то схватил ее, держит изо всех сил. Джил открыла глаза: Урсина стоит рядом.
– Пойдем, – прокричала Урсина, – тебе надо отдохнуть!
– Я совсем не устала, – возразила ей Джил.
Однако Урсина взяла ее за руку, вывела из толпы и привела к киоску, где предлагали воду.
– Пей как можно больше, – посоветовала она, – а то рано или поздно сломаешься.
– Мне бы в туалет, – сказала Джил.
Перед будочкой на краю фестивальной площадки стояла длинная очередь. Музыка здесь звучала не так громко, смешиваясь с шумом горной речки внизу, чуть поодаль. Джил, верно, потеряла где-то свои босоножки, во всяком случае, теперь она стояла тут босиком, чувствуя холод росы, выпавшей на поляну. Часов у нее не было, она и понятия не имела, сколько времени прошло.
– С тобой все в порядке? Все хорошо? – беспокоилась Урсина.
– Мне давно уже не было так хорошо, как сейчас! – веселилась Джил.
– Послушай, а где Хуберт? Что-то я его не вижу в последнее время.
– Хуберт? Он канул в Лету.
– Я к нему хорошо отношусь, – не смутилась Урсина. – Он замечательный художник.
И тут настроение Джил резко испортилось, даже дыхание перехватило. Все понятно. Хуберт спит с Урсиной. Причем уже давно. Вот почему он не может работать, вот почему уничтожил все рисунки, где она, Джил. Может, он и сейчас не в городе, а прячется в квартире у массажистки. Или он здесь, на фестивале! Урсина смотрела на нее с выражением полного ужаса на лице:
– Что ты несешь? Ты сочиняешь, вот что!
Джил закрыла глаза, голова кружилась. Она чуть было не упала, но Урсина успела ее подхватить и усадить на траву.
– Мне очень жаль, – пробормотала Джил, обнимая Урсину.
– Чего тебе жаль?
– Не знаю, не знаю, – бормотала Джил. – Всего. Мне всего жаль… Опять в туалет хочется. – И тут она рассмеялась.
– Да ты еще не была в туалете, – укоризненно произнесла Урсина.
И вот Джил снова танцует. То смирненько постоит, чуть поводя головой и плечами. То летит над землей, только что крыльями не машет, и над нею, как при замедленной съемке, плывут облака. То окунется в синее море да любуется подводными пейзажами и стайками рыб, как те с немыслимой скоростью, но будто бы сливаясь в единое существо, мечутся меж коралловых рифов. А музыка будто бы опережает ее все время на долю секунды, но и ее собственные движения вызывают, модулируют звуки музыки. Биты изменяют пространство, они наполняются, подобно гигантским невидимым пузырям, приближаются к ней по воздуху, подлетают и от нее отскакивают. Танцующие поднимают руки, отталкивают пузыри, и те взлетают все выше, парят над темной долиной. Далеко внизу виднеются лес, железная дорога, шоссе. Музыка становится все тише и переходит в монотонный шум ветра. Джил видит заснеженные вершины, и горные цепи, одну за другой, и зелень долин между ними, и Паданскую равнину с ее сонными городками, а вдали – огни приморских деревенек и черную гладь моря. Ни тяжести гор, ни защиты гор, а только чувство невесомости, и она бесстрашно ему отдается.
Открывает глаза. Сама на земле, голова на коленях Урсины. Кто-то прикрыл ее ветровкой. Перед ними полыхает большой костер, вокруг сидят люди, Джил никого из них не знает. Мысли ее прояснились.
– Эта музыка никогда не кончится? – спросила она Урсину. – Который час?
Урсина, покачав головой, взглянула на часы:
– Половина четвертого.
– А где остальные?
– Понятия не имею. Уж как-нибудь вернутся назад.
Джил, резко выпрямившись, заявила:
– Я не хочу назад.
Впрочем, она сама твердо не знала, что имеет в виду. Зато хотела узнать, чем угостил ее Грегор.
– Дрянью какой-то, – отрезала Урсина. – Ты действительно рассталась с Хубертом?
– Это он со мной расстался, – сказала Джил. – А вообще, не знаю. Может, и не расстался. Он у бывшей жены, ей вроде как сейчас плохо. Не думаю, что он вернется.
– Вот уж такое трудно себе представить! – возразила Урсина.
Джил засмеялась:
– Отчего же трудно?
– Оттого, что ты самый прекрасный человек из всех, кого я знаю, – призналась Урсина и глянула Джил прямо в глаза. – Будь я мужчиной, выбрала бы только тебя. Честно, ты добрый ангел отеля, так все говорят. В деревне кое-кто считает тебя странноватой, но это лишь оттого, что ты живешь так замкнуто. Ладно, пойдем танцевать, а то я уже замерзла, – закончила она свою речь, вставая.
Толпа возле сцены ничуть не поредела. Диджей сменился, но музыка, кажется, та же. Урсина теперь не отходила от Джил. Перекусили у киоска, хотя вегетарианское блюдо с восточными приправами тушилось так долго, что превратилось в вязкую кашицу. Опять пошли танцевать. Небо потихоньку светлело. Урсина хлопнула Джил по плечу и взмахнула рукой, указывая на горные вершины, полыхавшие красным цветом в первых солнечных лучах. Другие танцующие тоже это заметили, некоторые даже замерли, устремив взгляд в вышину. Джил и Урсина, покинув толпу, отошли к краю площадки и наблюдали, как свет, опускаясь все ниже и ниже, медленно заливал горные склоны и достиг наконец фестивальной площадки.
– По-моему, мне пора домой, – сказала Джил. – Я не такая закаленная, как ты.
– Хочешь, я тебя провожу? – предложила Урсина.
Джил отрицательно покачала головой:
– Как-нибудь не потеряюсь.
* * *
На автобусе-шаттле она поехала на вокзал. Попутчиками оказались несколько усталых существ, на вид просто нездоровых. Никто не сказал ни слова, и тишина казалась ей благотворной после шумной ночи. Джил чувствовала себя трезвой и разумной, как никогда, словно она только теперь очнулась от долгого обморока. На вокзале она купила кофе в автомате, села на скамейку погреться под солнышком. Разглядывала свои запачканные ноги. Да и юбка у нее вся в пятнах. В поезде вспомнились ей слова Урсины. Она чувствовала себя так, словно ее в детстве обнаружили во время игры в прятки. Затаенное дыхание в укромном углу, и вот оно, освобождение, и наконец-то можно свободно двигаться, ведь это была лишь игра. Шесть лет она пряталась тут, в горах, и не замечала, что никто ее не ищет. Со временем она так обжилась в укромном своем уголке, что чуть было не поверила, будто это и есть настоящая жизнь. Только весной, когда снега никак не хотели таять, она порой подумывала о том, чтобы спуститься с гор. Наверное, она под предлогом выставки хотела и Хуберта затащить сюда ради того, чтобы он вырвал ее из чужой жизни. Вот что она сказала бы ему, когда бы он вернулся. Делай что хочешь, мне ты ничего не должен.
Опять пересадка, автобус. Шофер автобуса поздоровался с ней и что-то сказал о погоде. На переднем сиденье пожилая женщина с дорожной сумкой, единственная, кроме нее, пассажирка. По дороге они с шофером переговаривались на ретороманском языке. Джил не разобрала ни слова из их разговора. И невольно ей подумалось, что скоро лиственницы пожелтеют, скоро выпадет первый снег и не стает до марта, до апреля. Невозможно представить, что она еще одну зиму проведет здесь в одиночестве, эти холодные дни, эти долгие ночи.
Автобусная остановка находилась на расстоянии метров двухсот от ее дома. Джил шла от остановки к дому и размышляла о том, как проведет сегодняшний день. Сначала под душ, потом вымыть голову, потом с капучино и сигаретой посидеть в саду да почитать воскресную газету. Обедать она не станет: вегетарианское блюдо до сих пор комом стоит в желудке, а во рту сохранился неприятный привкус. Может, во второй половине дня она зайдет ненадолго на работу, чтобы закончить несколько мелких дел и не чувствовать себя лентяйкой, чтобы перекинуться с кем-нибудь словечком. Вновь прибывшие гости будут стоять в растерянности посреди холла, потому что пока не разобрались тут, в отеле, и не знают клубных правил. Мы все обращаемся друг к другу на «ты». Бассейн? Прямо по коридору, потом по лестнице вниз. Ужин накрывают в половине седьмого. В конце объявляется победитель конкурса. Желаю тебе приятного отдыха. Она прикидывала, когда прибудет наконец Хуберт, если он рано выехал, если он перед этим завтракал с Астрид и Лукасом, если он с ними обедал.
Джил встала под душ, смыла всю грязь – и вдруг поняла, что уйдет с работы и уедет отсюда. Не сейчас, зачем торопиться? Может, и Хуберт присоединится к ней, чтобы где-нибудь начать новую жизнь, однако ее решение с его решением никак не связано. Игра окончилась, она свободна и может идти куда захочет.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


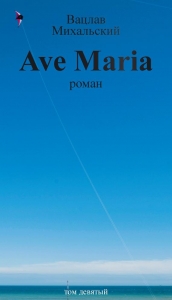




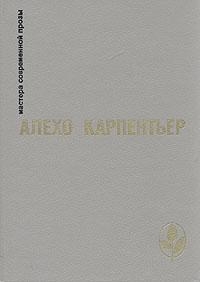

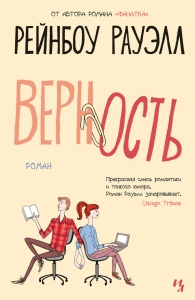

Комментарии к книге «Ночь светла», Петер Штамм
Всего 0 комментариев