Денис Викторович Драгунский Мальчик, дяденька и я Книга злой любви и благодарной зависти
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© Драгунский Д. В.
© ООО «Издательство ACT»
Рига внутри
Сгущался туман.
Это еще смешнее, чем «мороз крепчал».
Однако туман сгущался с каждой секундой.
Туман был желтый, золотистый, апельсиновый.
Из тумана ко мне потянулись руки. Мужские и женские руки, пальцы в тяжелых перстнях, – и я услышал тихое лопотание: «Иди к нам, иди к нам!»
Апельсиновый туман стал сгущаться, темнеть – но вдруг я увидел сам себя как будто откуда-то сверху. Нет, не совсем сверху, не из-под потолка, но всё равно сверху. Как будто бы я сижу на больничной каталке и смотрю на свои ноги. Но я же не сидел, я лежал пластом – и вдруг будто бы сверху я увидел, как к моим бокам приставляют бежевые утюжки электрошока, и доктор командует: «Отойти! Разряд!», и мое тело подпрыгивает, как лягушка, которую мучают электричеством на уроке биологии. Было больно, и я чувствовал эту боль, хотя смотрел как будто со стороны.
– Пошел, – сказал доктор. – Пошел, пошел.
Я открыл глаза, и он закричал:
– На меня смотреть! На меня смотреть! Глаза не уводить! На меня смотреть внимательно! На мою руку смотреть! – он пощелкал пальцами. – Глаза не уводить! Кто я? Кто я?
– Врач, – сказал я.
– Как меня зовут?
Я вспомнил и сказал:
– Янис Ансабергс.
– Labi, – сказал он.
То есть по-латышски – «хорошо».
Конечно, хорошо. Просто отлично.
Уже на следующий день я стоял на балконе и смотрел вниз. Ко входу в больницу подъехал полицейский микроавтобус. Вышел водитель в форме, с пистолетом на поясе. Еще один офицер в форме, тоже с пистолетом. Открыли заднюю дверцу – там еще одна решетка. Отперли замок этой решетки. Вышел парень, голый до пояса, очень худой и мускулистый, весь в татуировках, но без наручников. Полицейские повели его в приемный покой.
Не дождался, как они его поведут обратно.
Потому что в соседней палате солидные деды, русские и латыши, вылезли на свой балкон, вытащили стулья, расселись и по-русски разговаривают о политике. От Андропова до Медведева и Путина, о нефти, об Америке, обо всём на свете. Всё на свете знают, всё на свете понимают. Ужас! Закрыл балконную дверь.
Через час выглянул – машины уже нет.
Гуляю по больничному саду.
Иду по аллее.
Девушка говорит по мобильному по-латышски, быстро и гневно. Всё время вставляя одно-единственное русское слово, обозначающее женщину с невысоким моральным обликом: «Ко? Kad? Blad! Es negribu, blad! Cik nāk? Blad! Man nav laika, blad!»
Я в Риге.
А Рига у меня внутри.
Внутри – то есть в груди, в самом прямом смысле слова. Под левой ключицей. Я тычу себя в грудь пальцем – вот, вот здесь. Люди не знают анатомии и думают, что это и есть сердце. Ну в общем-то они правы.
Рига вшита в меня, она совсем маленькая, размером со старинную серебряную монету. Можно потрогать пальцами, убедиться – вот она, всегда со мной.
Я ее очень люблю. Трогаю пальцами, вспоминаю и улыбаюсь.
Странное дело – мне совершенно безразлично, что о ней говорят. Всякое говорят. Но разные огорчительные сведения я пропускаю мимо ушей. И отвечаю: «Может быть, может быть. А может быть, и нет. Но это неважно. Главное – она красивая, она хорошая, она мне нравится уже давно».
Так бывает, когда любишь далеких женщин.
Сначала мне казалось, что я люблю ее безответно. Не в каком-то трагическом смысле, что вот я добиваюсь ее любви, а она меня отвергает. Она просто не знает обо мне. Может быть, надо было объясниться, и всё стало бы хорошо?
Так у меня бывало много раз. Не сказал. Не понял. Не спросил. И всё.
Но теперь уж поздно.
Остается только вспоминать.
Я был в Риге очень много раз. Когда пытался подсчитать, то получалось, что в целом накопилось около года. Отпуска тогда были длинные, и путевки в дома отдыха продавались на двадцать четыре дня.
Точнее, почти все разы я бывал не в Риге, а на Рижском взморье.
Но так даже лучше.
Потому что я давным-давно пообещал себе: если когда-нибудь я напишу о моей Риге – о Риге моей юности – ах, как это романтично, патетично и пошло звучит, ну и пусть! – то в этой книге точно не будет, ни за что не будет двух вещей.
Первое. Там не будет описаний старой Риги, узких улочек, позеленевших крыш, Домской площади, домов в стиле модерн и всего прочего в таком роде. То есть они, конечно, будут, но разве что мелькать. Мы же не в пустом пространстве живем, не в условных декорациях современной пьесы. Но вот этого специального смакования, описания узких улочек, булыжных мостовых, чугунных люков – лучше не надо. Потому что это наталкивает на мысль, что автор использовал гугловские уличные панорамы – ах, как удобно! Идет у тебя герой по улице хоть в Риге, хоть в Барселоне, хоть где хочешь. Ищи эту улицу на карте, нажимай кнопку «Панорама» и описывай подробно, тщательно и, как говорят иные рецензенты, «вкусно».
Старинный русский писатель Загоскин в своем романе «Тоска по родине» отправил своего героя в Мадрид и описал, как тот идет по площади. Очень подробно, зримо и вкусно описал все дома, дворцы и соборы, мимо которых он шел. Приятель Загоскина, журналист Иван Панаев, знавший точно, что автор в Европе далее Данцига не бывал, изумился: как это удалось? На что писатель вытащил из ящика стола лаковую табакерку фабрики Лукутина с видом Мадрида, где была изображена та самая площадь. У Загоскина была целая коллекция таких табакерок с видами разных городов – оттого и описания заграницы получались у него столь живо. Так что если писателю XIX века позволительно было описывать проход своего героя по городу согласно картинке на табакерке, то отчего же это не сделать сейчас, во всеоружии «Гугла» и «Википедии»? Но как-то не хочется вводить читателя в соблазн таких подозрений.
И второе мое обещание: там не будет рассуждений о так называемой исторической правде. Рассуждений автора, моих рассуждений, я имею в виду.
А раз я бóльшую часть времени провел не в самой Риге, а всего лишь на Рижском взморье, – то и не надо.
Дубулты
Мы с мамой приезжали в Дубулты, в Дом творчества писателей Литфонда СССР имени Яна Райниса на полный срок. Дом был писательский, но папа с нами не ездил. Он уже тогда чувствовал себя неважно. Ему была трудна ночь в поезде, труден был и самолет, хотя лететь было всего час с небольшим. Поэтому он оставался на даче с моей маленькой сестрой Ксюшей и няней Полей. А еще раньше он оставался не только с няней, но и с бабушкой. Бабушка тогда еще была жива. Папе не очень нравилось, что мы с мамой уезжаем в Ригу. Мама говорила, что он присылает ей письма и просит поскорее вернуться. И что она отвечает ему в письмах и по телефону, что путевка на двадцать четыре дня и что он сам ее купил для нас. Но он всё равно был недоволен.
Я понимаю почему. Мама была очень красива. Настоящая русская красавица.
Русская красавица – это было ее эстрадное амплуа. Она училась во ВГИКе у Герасимова и Макаровой, ушла оттуда, не закончив курса, – и ее взяли в знаменитый танцевальный ансамбль «Березка». Это была визитная карточка русской народной культуры, в основном для экспорта. Маму взяли вести программу, то есть объявлять номера. Она выходила в сверкающем сарафане, с накладной косой, в кокошнике и красивым голосом говорила: «Праздничная плясовая!» или «Лебёдушка!» – причем на разных языках, зависимо от страны гастролей. В том числе даже на арабском.
Она была красивая всегда. Но особенно она похорошела, помолодела и посвежела после того, как в сорок один год родила мою сестру Ксюшу. Мужчины на нее засматривались. В самом прямом смысле слова. Идешь с ней рядом по улице или по пляжу – а они смотрят. Глазами провожают. Кстати говоря, в один из этих приездов за мамой начал ухаживать тот человек, который потом, после папиной смерти, на несколько лет стал ее почти что официальным любовником.
Впрочем, ладно.
Дом творчества был напротив железнодорожной станции; территория, огороженная низеньким забором, выходила прямо к морю, вернее, к Рижскому заливу. Именно в этом месте, в Дубултах, находится самый узкий перешеек между Рижским заливом и рекой Лиелупе, что в переводе значит «Большая река». Сама река была не очень большая, гораздо меньше Даугавы, но все-таки вполне солидная. По ней тогда плавали баржи и пассажирские кораблики – сейчас этого уже нет. Еще нам рассказывали, что река Лиелупе невероятно, просто чудовищно глубока – двадцать, тридцать, а кое-где и сорок метров. В это верилось, потому что, когда входил в воду, через два-три шага дно резко обрывалось вниз, в бездну.
А примерно в трехстах метрах, если пройти через территорию Дома творчества, был Рижский залив, и он, наоборот, был утомительно мелким. Надо было идти пятьдесят, а то и сто шагов, прежде чем намочишь трусы. Поэтому мы обычно плавали на мелководье, не заходя особенно далеко и время от времени натыкаясь коленками на песчаное дно. В других местах было чуть-чуть поглубже, но у нас в Дубултах – вот так.
Однако именно здесь, именно в этой мелкой воде много-много лет назад утонул, купаясь, великий русский критик Дмитрий Иванович Писарев. Тот самый, который сказал, что сапоги важнее Пушкина и что в России нужны не школы, а университеты. Ему было всего двадцать восемь лет, и он уже успел написать четыре тома хулиганских статей. Можете себе представить, что было бы, если бы он дожил хотя бы до пятидесяти? Вполне возможно, что революция в России случилась бы на двадцать лет раньше и вообще всё было бы по-другому.
Ах, это проклятое «по-другому»!
Всё время кажется: для другой судьбы ничего особенного делать не надо. Всего лишь повернуться на миллиметр в другую сторону. Изменить курс на одну секунду дугового градуса.
Всё время кажется: позвонил бы я по телефону или, наоборот, не позвонил бы, пошел бы в гости, несмотря на температуру, перемогся бы как-нибудь или, наоборот, не стал бы перемогаться, остался бы дома, под теплым пледом, пить чай с лимоном – и всё, всё, вы понимаете, всё-всё-всё в моей жизни было бы по-другому.
Однако Писарев утонул, а я не позвонил. Но зато через силу пошел в гости.
И поэтому всё получилось так, как оно получилось.
Дом творчества в Дубултах – это была территория, как я уже сказал, обнесенная забором, с закрытыми на хилую задвижку воротами, безо всякого замка и, уж конечно, безо всякой охраны. Тем более что забор был только со стороны улицы, а со стороны залива были просто кусты, а меж кустов – тропинки или ступеньки, ведущие к пляжу.
На этой территории стояло несколько деревянных домиков, как тогда говорилось, корпусов. Один из этих домиков был весьма солидный, похожий на московский ампирный особнячок, с двумя колоннами и парадным полукруглым крыльцом. Конечно, он не был каменным. Он был точно таким же деревянным, только оштукатуренным. Но если московские особнячки были желтые, то этот был покрашен каким-то холодным цветом, точно не помню, но кажется, серо-бежевым. А может быть, даже серо-голубым. В этом красивом корпусе жило литературное начальство, секретари правления и члены правления Союза писателей или просто знаменитости, вроде известнейшего драматурга Алексея Николаевича Арбузова, например. Писатели попроще жили в более демократичных корпусах. Что же касается членов семей, вроде нас с мамой, то мы жили в дальнем углу территории, в здании, которое называлось Детский корпус. Почему «детский», не знаю – маленьких детей туда не принимали. Кажется, пускали с детьми с двенадцати лет. В другой раз мы жили в корпусе около самых ворот. Он тоже был очень скромный, если не сказать – ободранный. Еще был Дом с привидениями, тоже деревянный, ободранный, но с винтовой лестницей и с широким крыльцом из замшелых камней. Кстати говоря, туалетов в номерах не было. Туалеты и душевые были на этаже, то есть в коридоре, общие для всех. В каждой комнате была раковина, и уже спасибо. Была только холодная вода. Я помню, как брился холодной водой, как больно скребла безопасная бритва.
Когда мы приехали в первый раз, там уже шло строительство большого многоэтажного современного корпуса. Был готов только широкий первый этаж, в котором располагались столовая, буфет и кинозал. Старожилы говорили, что это прекрасно, потому что раньше кино не было вовсе, а столовая была втиснута в один из деревянных корпусов. А тут она была просторная и современная, как тогда говорили.
А когда мы приехали туда в 1972 году, уже после папиной смерти – он умер в мае, мы приехали в августе, – то новый корпус был уже выстроен.
Хотя нет, позвольте. Кажется, его построили раньше, когда папа был еще жив.
Мне сейчас довольно трудно развести в уме, разъединить в памяти эти два лета. Когда папа был жив и когда папа уже умер. Я, конечно, попробую. Но, с другой стороны, так ли это важно?
Итак, когда мы приехали и новый корпус уже работал, нас, естественно, туда не поселили, потому что мы были не писателями, а членами семьи. Но я как-то не печалился по этому поводу. Тем более что моя знакомая девушка Лена, дочка одного хорошего писателя, тоже жила не в новом корпусе, а вообще снимала комнату неподалеку. И это несмотря на то, что ее папа с мамой жили в этом замечательном корпусе в роскошном двухкомнатном номере. Только не подумайте, что эта Лена была в ссоре с мамой и папой. Она просто хотела пожить сама. Вернее, не сама, а со своей подругой Машей – дочку этой самой Маши я недавно увидел в одном издательстве и прямо вздрогнул: одно лицо со своей мамой.
Лена и Маша снимали сначала какую-то комнату, потом их оттуда выселили. Они сняли отдельный домик, более похожий на собачью будку. А может, это и была собачья будка для очень большой собаки, стоявшая в углу участка. Без электричества, вообще без ничего. Потом их устроили в мансарде в двух кварталах от Дома творчества, но с условием, что в соседней комнате будет жить какой-то Янис и чтоб они за этим Янисом присмотрели.
С Янисом была отдельная история, но об этом немного погодя.
А пока вернемся в Дом творчества.
Нас была целая компания. Почти все живы, но разъехались, в основном по разным странам. Хотя кое с кем я встречаюсь до сих пор и надеюсь, ребята, что вы на меня не обидитесь. Тем более что никаких секретов я сообщать не собираюсь. Да у нас и не было никаких секретов. Ничего, кроме редких случайных поцелуев.
Я прекрасно помню эти выходы к завтраку, обеду и ужину, когда писательские жены, писательские вдовы, писательские дочки, косясь друг на друга, поднимались по маленькой лестнице из холла в столовую. Каждой было чем похвалиться. Великим именем, дорогой модной одеждой или просто молодостью. Справедливый баланс: вдова, жена, дочь – у каждой свои козыри. Но бывали случаи обидные и возмутительные. Например, когда женой известного и богатого писателя вдруг оказывалась сущая девчонка. Ну конечно, не прямо уж совсем девчонка, а молодая женщина, которая годилась ему в дочери.
Бывали случаи еще более возмутительные. Когда пожилой и, прямо скажем, уродливый писатель – пузатый, с носиком-пипочкой, короткими пальцами и мелкими желтыми зубами – на глазах у всей столовой и всего холла бросал свою прекрасную и довольно молодую, меньше сорока, красавицу жену, которая, кстати говоря, и без него кое-что из себя представляла, и все только удивлялись, что могло заставить ее выйти замуж за этого урода, которому бы в детском спектакле про Дюймовочку играть старую жабу, – так вот, вся столовая и весь холл видели, как она страдала, сидя одна в кресле, меж тем как ее гнусный муж флиртовал с двадцатилетней внучкой какого-то писателя. Она была точно такая же, как он, – гнусная пигалица с угреватым носиком, редкими желтыми зубками, маленькими глазенками и сальной челкой. Потом они садились в такси и куда-то уезжали, а красавица брошенная жена красиво страдала в красивом кресле.
Во всём новом корпусе в одном-единственном номере был прямой московский телефон. Там жил главный редактор «Литературной газеты» Чаковский. Хотя на самом деле не Чаковский жил в номере с прямой связью, а прямую связь провели в тот номер, где он жил. Подчеркивались две вещи: он жил в номере с московским телефоном, значит, он очень важен; но при этом он жил в однокомнатном номере, а значит, он по-советски, по-партийному скромен. «Литературная газета» выходила по средам. Рассказывали, что Чаковскому на черной «Волге» Рижского горкома партии поздно вечером во вторник привозили самый первый контрольный экземпляр. Не знаю, я не видел этого экземпляра, не видел этой черной «Волги». Дел других у меня не было, как следить за машиной, которая приезжала к Чаковскому, – но я вместе со всеми был уверен, что дело так и обстоит.
Кроме черной «Волги», к Чаковскому приезжала любовница – немолодая дама, латышка, стройная, белая, золотоволосая и синеглазая, воплощенная Латвия для монеты или символического бюста, чтоб стоял в каждой мэрии. Она была вдовой известного драматурга, человека весьма богатого – его комедии шли по всей стране, особенно в провинции, – но имевшего славу анекдотического скупердяя. Впрочем, на людях он сам всё время обшучивал свою скупость. Например, восклицая на всю столовую: «Жена купила туфли! В Москву пойдем по шпалам!» Или громко поучая собрата по профессии, когда тот заказывал в буфете рюмку коньяку: «Не будь расточителен! Пей простую водку! На сорок копеек дешевле, а результат тот же!» Особенно забавно, что этот собрат тоже был известен как карикатурный жмот.
Чаковский курил трубку. Как положено настоящему трубочному гурману, трубки он постоянно менял. Это было заметно – они были разных фасонов. Он даже курил трубку стиля «Макартур», сделанную из двух кукурузных початков. А может быть, это только я замечал, потому что я тоже курил трубку и у меня, представьте себе, тоже был кукурузный «Макартур». Хотя остальные мои трубки были, конечно, попроще, чем у Чаковского. Впрочем, и «Макартур» – трубка тоже простая, очень дешевая. Ее курят больше из сувенирных соображений. Ну а называется она так в честь американского генерала – героя Тихоокеанского театра Второй мировой войны. Он на всех фотографиях с такой трубкой. Кстати, темные очки с перепонкой сверху в те годы назывались «Макнамара» – в честь американского министра обороны, – но это я к слову.
Однажды мы с ребятами сидели в креслах в холле около места, которое теперь называется «рецепция», а тогда называлось «администрация». Мы болтали я уже не помню о чем. С нами сидел такой Додик Глезер. Хотя какой он нам Додик, он нам в отцы годился. Старый рижанин, переводчик со многих языков. С латышского на русский и обратно, и с немецкого, кажется, тоже. Почему-то он любил общаться с ребятами. Рассказывал разные истории и отвечал на вопросы, а как будет по-латышски то-то и то-то. Однажды я спросил его, как будет по-латышски «Ein' feste Burg ist unser Gott» – первая строка лютеранского гимна. Он ответил, и я это запомнил до сих пор: «Tas Kungs ir musu stiprā pils».
Мы тогда были все ужасно умные.
Итак, мы сидели и болтали с Додиком. Вдруг открылась дверь лифта. Вышел Чаковский с дымящейся трубкой и подошел к нам. Он спросил:
– Додик, как будет по-немецки «огонь»?
– «Фойер», – ответил Додик.
– А огонь в смысле команды? – спросил Чаковский. – В смысле, когда артиллерист кричит: «Огонь!»
– Тоже «фойер», – сказал Додик.
– Напиши, пожалуйста, – сказал Чаковский и протянул Додику карандаш и бумажку.
Это был лоскуток газеты. Додик написал «Feuer!» вот так, с восклицательным знаком. Чаковский поблагодарил, сел в лифт и уехал.
– Зачем ему? – спросил я у Додика. – Как вы думаете?
– Он пишет роман о войне, – сказал Додик.
Мне показалось, что он с трудом удерживается от смеха. Мне тоже вдруг стало ужасно смешно. Вот сейчас вспоминаю и смеюсь.
Хотя, конечно, я несправедлив.
Я ведь тоже чуть что залезаю в «Гугл-Переводчик».
Мы стояли в очереди за билетами в кино. Кто-то захотел пропустить вперед без очереди престарелую Мариэтту Шагинян. Она устроила скандал на весь холл, объясняла, что она, во-первых, в добром здравии, а во-вторых, коммунистка. Передо мной стоял означенный Чаковский, а рядом с ним – Саша Ильф, то есть Александра Ильинична, дочка знаменитого сатирика. Они о чем-то разговаривали и собирались завтра пойти погулять вдвоем. Меня поразило, что они, во-первых, на «ты», а во-вторых, как будто бы даже дружат.
Мы, конечно, знали, что «Литературная газета» – это трибуна интеллигенции, газета смелая, как тогда почему-то говорили – левая, и очень любили ее читать. С нетерпением ждали среды, когда она выходила. Бежали к почтовому ящику. Дома выхватывали ее друг у друга.
Но сам Чаковский был для нас воплощением советского официоза, важности, надутости, партийности, чиновности и всего прочего. Повторяю, может быть, я несправедлив, поскольку не знаком с ним лично. Но именно так он выглядел, когда горделиво шествовал по дорожкам Дома творчества, ни с кем особенно не раскланиваясь. А Саша Ильф, наверное, в силу обаяния имени ее отца, казалась мне воплощением всего демократического, левого и даже диссидентского. Я представить себе не мог, что она с Чаковским на «ты», что она может гулять с ним по пляжу и разговаривать. О чем?
Хотя, если рассудить здраво, фельетоны и даже романы Ильфа и Петрова были на сто процентов советские – точно такие же, как смелые разоблачительные статьи в «Литературке» Чаковского.
Я, конечно, уже тогда понимал, что мир сложнее, чем может показаться двадцатилетнему парню, но и сейчас почти каждый день какие-то перекладины, рейки и стропила моего мироздания всё время трещат, ломаются и рушатся. Правда, на их месте немедленно появляются другие – увы, столь же недолговечные. А может быть, не увы, а к счастью.
Варя
Варя Бессарабова была совсем маленькая – она училась в девятом классе или даже в восьмом. Поразительно красивая – смуглой, чуть-чуть восточной, тонкой и большеглазой красотой. Она была дочкой довольно известного, даже, можно сказать, почти знаменитого ленинградского историка, который когда-то давно был мужем совсем уж знаменитой художницы, звезды русского авангарда. Звезда авангарда была сильно старше молодого доцента и умерла сразу после войны, так что Вариной мамой была вторая жена уже профессора Бессарабова – сравнительно молодая дама, полная, темноволосая, тоже, кстати говоря, красивая. Они были похожи с Варей, но дочь была лучше. Мама была приторно красива, а дочь – утонченно. Как звали маму, я сразу забыл.
Мы всей компанией часто бегали на крышу – то есть на самый верхний этаж главного корпуса. Там было девять этажей, кажется. Наверху была огороженная площадка. Это и была та самая крыша. Мы стояли там, смотрели то на Лиелупе, то на залив, и курили. Курили очень быстро, потому что сильный ветер обдувал наши сигареты, и от этого они горели вдвое быстрее, чем на земле. Варя Бессарабова не курила, она была маленькая. А я был, кажется, на втором курсе. То есть перешел на третий.
Да, конечно, тогда мой папа был еще жив.
Это были два разных лета.
Одно – имени Вари. Другое – имени Лены.
Варя была маленькая, но очень милая, очень добрая, очень умная. Я совершенно не помню, о чем мы с ней говорили. Впрочем, мы с ней вдвоем ни о чем не говорили. Просто она вдруг кричала: «Хочу на крышу!» – и мы, сколько нас было – трое, четверо, пятеро, – забивались в лифт, доезжали до верхнего этажа, пробегали еще пару лестничных пролетов и оказывались наверху, на сыром и прекрасном ветру. Через две минуты замерзали. Курильщики к тому времени уже успевали докурить свою «Шипку» или «Яву», и мы снова неслись вниз.
Однажды мама вдруг спросила меня:
– А ты бы хотел жениться на Варе Бессарабовой?
Я довольно нахально ответил:
– А что, поступили предложения с той стороны? – Потому что я много чего хотел, но уж только не жениться на Варе Бессарабовой. Потому что как раз в это время я, как положено всякому двадцатилетнему парню, был безнадежно влюблен в одну девушку, ухаживал за другой девушкой и горько переживал разлуку с третьей девушкой – и всё это, как нынче говорят, в одном флаконе. И конечно, в этом флаконе не было места для какой-то ленинградской восьмиклассницы.
– Так что, были такие предложения? – повторил я свой вопрос.
– Нет, – сказала мама. – С чего ты взял? Не в прошлом же веке живем.
– А с чего тогда ты взяла? – сказал я.
– Как-то так, – сказала мама. – Мне кажется, была бы хорошая пара. И вообще мне кажется, что ты ей очень нравишься и она тебе тоже.
– Тоже очень? – спросил я.
– Да, – сказала мама.
– Ой, слушай, хватит. Не сходи с ума, – сказал я маме и почувствовал, что у меня краснеют уши.
Они покраснели у меня так сильно, что я взялся за них руками. Они в самом деле стали горячими, и я почувствовал буквально через две секунды, что я влюбился в Варю Бессарабову по уши. Вот по эти самые горячие уши, которые я держал холодными руками.
Но я прекрасно понимал, что между нами ничего нет и ничего быть не может. Ну да, она юна, красива, умна, из хорошей семьи. Допустим, даже в меня влюблена. Но я уже на втором, то есть даже на третьем курсе, а она еще школьница. Ей еще надо оканчивать девятый, потом десятый класс, сдавать экзамены. Куда-то поступать учиться. Она еще минимум семь лет будет маменькиной дочкой, так что не годится. И вообще страшно. Вот если бы мама спросила меня, не хочу ли я жениться на своей ровеснице или даже на девушке постарше, ну, ненамного, на год, на два или даже на три, я бы, как говорится, всерьез рассматривал этот вопрос. Наверно, я тогда сам был еще очень маленький и не мог представить себе, что рядом со мной будет настоящий ребенок. Глупости. Всё. Забыли.
Наш разговор с мамой был вечером, перед сном. Я вспомнил, что мама еще раньше говорила, что Варя Бессарабова похожа на Наташу Ростову. Этакий, что называется, образ. Ночью мне приснился роман Толстого «Война и мир», а именно – как нехорошо поступила Наташа со своим женихом князем Андреем.
Поэтому на следующее утро, когда Варя Бессарабова захотела на крышу, я сказал, что у меня насморк, а там сильный ветер. «Ты врешь, – сказала Варя. – А ну, похмыкай носом!» Я похмыкал. «Ну вот, – сказала она, – нет у тебя никакого насморка, пошли на крышу». Все стояли вокруг и смотрели на нас. «В другой раз», – сказал я. «Мы сегодня уезжаем, – сказала Варя. – В Ленинград. Давай в последний раз». «Хорошо», – сказал я и вызвал лифт. Мы опять постояли на крыше, покурили, побросали вниз крохотные камешки – даже не камешки, а крупные песчинки, – и спустились вниз. Часа через два Варя Бессарабова и ее мама с папой грузили чемоданы в такси – ехать на вокзал. Их провожали несколько человек. Моя мама была тут же. «Попрощайтесь, ребята», – сказала она. «Пока», – сказал я. «Пока», – сказала Варя. Машина уехала.
Прошло несколько дней. И вдруг мне принесли телеграмму. Она пришла прямо на стойку администратора. Я стоял там, когда пришел почтальон. В телеграмме было написано: «Дорогие все (то есть телеграмма была просто на мое имя. А на самом деле всем) тчк дорогие человеки вскл терпеть ненавижу Ленинград тчк хочу на крышу вскл варя». А внизу была приклеена ленточка со словом «так» и фамилией телеграфиста. По тогдашним правилам, если в телеграмме встречались какие-то необычные слова или странные выражения, то телеграфист обязан был переспросить отправителя и заверить это словом «так». В смысле, не переврали.
Конечно, я сразу рассказал ребятам про телеграмму. Показал. Тем более что я получил ее как раз перед обедом, когда все собирались в столовую. Ребята передавали телеграмму из рук в руки, смеялись. Особенно было смешно слово «так» в конце. Но все тут же забыли про Варю, про телеграмму и про крышу. Да, и про крышу тоже, потому что на крышу мы с тех пор не ходили. Но не из-за того, что Вари не было, а потому, что начались дожди. Сами понимаете – балтийская погода.
Потом я приехал в Москву. Мы ездили в Дубулты обычно в августе, так что у меня сразу началась институтская жизнь. Я, конечно, думать забыл про Варю. Мне это даже странно стало. Я удивился: на какие-то три часа я в нее по уши влюбился, настолько влюбился, что мне даже страшно было к ней подойти, посмотреть в ее прекрасные, чуть-чуть узкие темные глаза, – а вот теперь, поди ж ты, забыл совсем.
Внимательный читатель спросит: когда же это ты, голубчик, удивился, что забыл? Если ты и вправду забыл, то как же ты удивился? А если удивился сейчас, через сорок с лишним лет, то это не считается. У каждого таких удивлений целая корзина или даже мешок. «Ах, как я тогда мог!» Или: «Ах, как я тогда не мог!»
Нет, дорогой читатель, я знаю, что я говорю.
Удивился я примерно в середине октября того самого года, потому что мне пришло письмо от Вари. Там был всего один тетрадный листочек, и на нем крупно наискосок было написано: «Хочу на крышу!!!» Вот так, три восклицательных знака. И подпись, две буквы – В. Б. Вот тут-то я и вспомнил про то, как влюбился в нее часа на три или около того, а потом совсем забыл. Мне стало стыдно, и тревожно, и вообще как-то ужасно внутри. Получается, что где-то далеко, за семьсот километров, живет чудесная маленькая девочка, красавица и умница, влюбленная в меня, а я совершенно не знаю, что ей ответить. И не потому, что она мне просто не нравится и что я сейчас влюблен в другую девушку, взрослую, хорошо знакомую, свою ровесницу и вообще во всех отношениях настоящую, реальную, фактическую. Не в том смысле, что Варя была выдумкой или случайным видением, а в том смысле, что она мне все-таки казалась какой-то принцессой, героиней старинной книжки, а вовсе не настоящей девушкой, которую можно взять под руку, не говоря уже о чем-нибудь другом. И потом, этот детский почерк, эти печатные буквы, этот – мне на секунду показалось – капризный девчачий тон… «Хочу на крышу». «Хочу куклу». «Хочу мороженого»…
Но я сразу же себя одернул, прекратил эти свои мысли. Каждый человек чувствует так, как он умеет, и вот такое смешное выражение чувства – оно может быть самым искренним. Тем более что я вспомнил, как буквально два дня назад я сказал одной девушке: «Ласточка», – сказал ласково и нежно, шепотом, но она тут же меня передразнила, громко и нарочно с каким-то одесским акцентом: «Ой ты ж моя ластонька, рыбонька, кисонька!» Я обиделся, отвернулся, даже ускорил шаги – мы шли по вечерней улице, и у нас был очень серьезный разговор: буквально – как нам с нею быть дальше; и я хотел с нею быть дальше, на полном серьезе на очень далекое «дальше», и вот я, обняв ее за плечо и склонившись к ней, почти касаясь губами ее уха, твердого, прохладного и шелкового, сказал ей: «Ласточка» – а она меня передразнила. Я, отвернувшись, ускорил шаг. Она меня догнала и сказала: «А не говори всякую пошлятину. Ласточка – ишь, чего придумал». Но я-то говорил от души, вот беда. И поэтому я тут же подумал, что, может быть, нежная и искренняя Варя гораздо лучше, чем наши строгие филологические девицы с их странными понятиями о пошлости.
И еще я вспомнил одного своего школьного приятеля. Он был старше меня – по-моему, на два года, – но мы дружили. Дружили – сильно сказано. Скорее, он оказывал мне дружеское покровительство. Его звали Андрей, фамилия Стуруа. Прозвище «Стурик». Он был сыном знаменитого советского журналиста из газеты «Известия» Мэлора Стуруа, иностранного корреспондента, который писал статьи то из Лондона, то из Нью-Йорка. Андрей к нему ездил на лето и потом рассказывал про иностранную жизнь, а я слушал его очень внимательно. Один раз он пришел ко мне в гости – у меня тогда родителей не было дома, а он вообще жил практически один (родители за границей, я же говорил). И вот никогда не забуду, как мы с ним, болтая с восьми вечера до половины третьего ночи, выпили шесть, да-да, шесть чайников чая. Шесть больших алюминиевых чайников со свистком. То есть, наверное, литра по четыре на нос. И вот в этом разговоре Стурик поделился со мной следующими соображениями. Он вообще любил говорить разные умные вещи. «Понимаешь, старик, – сказал он мне, – я тут долго думал и понял, что девчонка должна быть моложе лет на десять». «Ты, что, мыло ел? – спросил я его. – Тебе сейчас шестнадцать, а ей что, шесть? Детсад, подготовительная группа?» Стурик понял, что он слегка обсчитался, но уперся – он же был старше меня. Он был уже в десятом классе, а я был сопляк из восьмого. И он не мог передо мной просто так уронить свой авторитет, сказать: «Извини, старик, я чуток промахнулся». Поэтому он упрямо сказал: «А вот представь себе. Но не пойми меня буквально, я же не про сейчас говорю, когда я в десятом классе! Я говорю о том возрасте, когда мне лет двадцать пять, ну, или немножечко меньше… – Я видел, как он напряженно считает в уме. – Ну даже, к примеру, двадцать три. Вот! И познакомиться с девочкой лет тринадцати, влюбиться в нее и вырастить ее для себя! – Он назидательно поднял палец. – Для себя, старик, понимаешь? Себе в жены! Чтобы она понимала тебя, как никто другой. Ну и ты ее тоже, конечно же. Понял?» «Понял», – сказал я, и дальше он стал рассказывать о загранице, об Англии, как он там учился водить машину, а машины там по-другому ездят, левостороннее движение. Он говорил: «Старик, в Лондоне очень трудно парковаться», – говорил, наверняка думая, что я не знаю слово «парковаться», и повторял много раз: «Едва запарковался, там парковаться негде», – словно бы ожидая, что я сейчас спрошу: «А что такое „парковаться“?», но я знал это слово, потому что читал журнал «За рулем» и там было про заграничные правила уличного движения.
Вот! Это сейчас правила дорожного движения. А в семидесятых были – уличного.
Я совсем забыл этот разговор – и вот сейчас вспомнил.
Сейчас – то есть тогда.
Вспомнил, держа в руках тетрадный листочек, где было написано: «Хочу на крышу!!!» и подпись – В. Б.
«А вдруг Стурик дело говорил? – подумал я. – Вдруг так оно и есть? Варе сейчас как раз лет четырнадцать или около того. А мне – двадцать (или двадцать один? Ладно, неважно). Ну да, ей еще учиться два года, а потом еще институт. Я буду за ней ухаживать, ее воспитывать, приучать к себе, как заповедал мудрый Стурик. В результате лет через семь, а может, даже чуточку раньше у меня будет потрясающая жена. Мало того, что красавица, – она будет понимать меня, как никто другой. Ну и я ее тоже, конечно.
Но все это полный бред, разумеется», – подумал я еще через три секунды. Лень объяснять почему – и так всё понятно. Но одно все-таки скажу. Не то мне было страшно, что несколько лет мне надо было бы воспитывать ее, как ребенка, сдувать пылинки, быть добрым, умным, нежным и терпеливым. Меня, подлеца, другое испугало: я сразу представил себе, как через год или через два такого нежного сдувания пылинок она возьмет да и влюбится в какого-нибудь своего однокурсника ну или вообще в кого угодно, в кого захочет. И скажет мне: «Прости, мой дорогой. Но что я могу поделать? Спасибо тебе за всё, я безмерно тебе благодарна – но теперь я люблю другого». И в самом деле, что она может поделать? Но самое главное – что могу поделать я? Ведь она же не в рабство мне отдалась. Ведь не крепостное же право? И не средние века где-нибудь в Италии, когда родители обручают молодых – и всё, приехали, отныне и навсегда. Мы ведь современные люди, свободные люди. «Свободные граждане свободной страны» – было у нас тогда, в самом начале семидесятых, такое отчасти фрондёрское присловье… «Я свободный гражданин свободной страны и имею право выпить портвейну!» Итак. Какое я буду иметь право сказать ей: «Ты мне обещала, и поэтому ты обязана»? Никакого. А если я скажу так, если буду к ее совести взывать, то это будет вообще смешно. Она засмеется и скажет: «Но я же была тогда совсем маленькая. Мне было тогда вовсе четырнадцать лет».
Конечно, полная ерунда.
Но ответное письмо все-таки надо было написать.
Я написал Варе длинный ответ. Помню, что я писал его на машинке, потому что у меня был ужасающий почерк. А на машинке я шлепал довольно бойко, я даже папе помогал перепечатывать рассказы. Я написал длинное, на целую страничку через маленький интервал, и, как я теперь вспоминаю, умное и доброе письмо. Я писал примерно то, что мне за минуту до этого подумалось, но, конечно, другими словами. Осторожно, бережно, стараясь ни в коем случае не обидеть. Я не писал ей, что она мне не нравится, что я ее не люблю. И вообще ничего типа «напрасны ваши совершенства» или, боже упаси, «я уже давно люблю одну девушку». Нет, я напирал на другое. На то, что ее жизнь только начинается и что это с ее стороны было бы глупо и странно в четырнадцать лет влюбляться во взрослого дяденьку – нет, слов «любовь» и «влюбляться» я не произносил, в смысле – не писал в этом письме. Я писал так, чтоб всё это само сложилось в ее голове. Я писал, что в этом возрасте не надо связывать себя какими-то длительными привязанностями, тем более – прочными обязательствами. Но при этом я тихонько подводил ее к мысли о том, что обязательства-то как раз необходимы, что без обязательств – никуда. Что жить по принципу «влюбилась – разлюбила, повстречались – разбежались» и все такое – нехорошо. Недостойно умных, интеллигентных и, главное, порядочных людей. Ну и так далее в таком роде. Но, конечно, я не удержался и прибавил несколько туманных, лирических и отчасти философских фраз. Что-то про долготу и тоскливость жизни. То есть не удержался, негодник, от легкого, легчайшего, ну просто микрометрического заигрывания. Ну прямо как Онегин, который в своей жесткой отповеди все-таки подпускает лирики и говорит Татьяне: «Я вас люблю любовью брата, а может быть, еще нежней». Еще нежней, может быть, вот так! То есть как бы какую-то щекочущую травинку он Татьяне протягивал. Не то чтобы соломинку надежды, а, скорее, цветок – засушить в книге. Что, мол, я вовсе не бессердечный педант, который учит юных девушек суровым правилам жизни, а точно такой же очарованный юноша – но просто чуть более взрослый. Вспомнив про письмо Онегина, я решил не переписывать свое письмо Варе. Оставил всё как есть и – вот это я помню совершенно точно – забыл расписаться. Почему-то забыл поставить свою подпись авторучкой. То есть письмо было на машинке целиком.
Я, конечно, не ждал от Вари ответа, но очень удивлялся, что его нет. Мне почему-то казалось, что она должна написать мне что-то вроде: «Да, да, ты прав, но мы всё равно будем друзьями, правда?» или «Прощай. Но, может быть, мы встретимся через пять или десять лет, когда я буду совсем взрослая». Ну или я не знаю что. Но хоть что-нибудь.
Ответа, однако, не было. Но странное дело, я время от времени вспоминал о ней, тем более что моя мама неизвестно зачем поставила себе на туалетный столик фотографию Вари в виде красавицы начала XIX века. В каком-то театральном костюме. Типичная Наташа Ростова с типичной иллюстрации. Наташа Ростова на балу: волосы на прямой пробор, навитые локоны вдоль ушей, скромное колье на длинной стройной шее. И всё это – в маленькой рамке из красного дерева. Как раз тогда мама купила себе – в Ленинграде, кстати! – старинный, чуть ли не первой половины XIX века, туалетный столик красного дерева. Когда она его купила (господи, да мы же с ней вместе ездили его покупать в Ленинград, но это совсем другая история), он был совсем ободранный, со сбитыми углами, но зато с целым – «родным», как выражаются антиквары, – зеркалом. Он долго стоял на площадке перед нашей квартирой, потом приходил реставратор, работал на этой самой площадке, и в результате получилась прекрасная, почти музейная вещица. Ну, музейная – это сильно сказано. Хотя для краеведческого музея в небольшом городе вполне бы сгодилась.
Вообще это особая история, как некоторая часть пишущей, рисующей и снимающей интеллигенции в 1960-1970-е годы вдруг увлеклась антиквариатом и в особенности старинной мебелью красного дерева.
Потом, потом, потом… Как говорила моя трехлетняя дочь – «если будет время».
И вот на этом туалетном столике в числе прочего – вместе с моей фотографией, где я, по уверению мамы, был очень похож на молодого Льва Толстого, вместе с фотографией моей сестры Ксюши в шестилетнем возрасте и вместе с красивым фото упомянутого выше маминого официального любовника – появилась и маленькая рамочка красного дерева с портретом красавицы Вари.
– Зачем это? – спрашивал я маму.
– А тебе не нравится? – спрашивала она.
– Варя? – спрашивал я.
– Фотография, – отвечала мама. – По-моему, очень стильно.
Не знаю, что там стильного, особенно рядом с фотографией ребенка в косынке, подростка в кепочке и крупного усатого мужчины в клетчатом пальто и шикарно повязанном кашне – какой-то фьюжн, как сказали бы сейчас. А тогда такого слова не было и говорили проще: винегрет или окрошка.
– Ничего стильного! Что за окрошка! – говорил я.
– Тогда возьми себе, – и мама совала мне эту рамочку.
Я прятал руки за спину. Мне кажется, мама меня дразнила. Зачем? Она меня довольно часто дразнила. Я к этому уже привык.
Но самое смешное, что в результате всего этого я года два, наверное, думал о Варе как о каком-то своем волшебном неразменном червонце, как о постоянном ресурсе, говоря опять же по-нынешнему. Даже не думал, а чувствовал. То есть мне казалось, что в случае чего я всегда могу жениться на Варе. Смешно сказать, но это придавало мне уверенности в отношениях с девушками. «Ну-ну, – думал я, даже не только думал, а саркастически произносил в уме, когда какой-нибудь моей подруге под хвост попадала какая-нибудь вожжа. – Ты ведь, небось, и не подозреваешь…» И дальше большое, большое многоточие. Потому что мне казалось – я об этом не думал вот прямо так – мне именно что казалось, где-то на заднем плане моих мыслей, за кулисами сознания, мне мерещилось, что где-то далеко-далеко – а на самом деле всего в восьми часах на «Красной стреле» – живет девушка вот с этой самой фотографии, которая стоит на мамином туалетном столике, – сидит и ждет меня. За таким же столиком сидит, красного дерева. Но это, повторяю, был всего лишь тон и привкус.
– Ты знаешь, мой друг, что мне рассказала Лара Бессарабова? – сказала мне мама, однажды вернувшись из Ленинграда.
Ну вот, теперь я вспомнил – Ларисой ее звали, Варину маму, жену ленинградского профессора.
– Что она рассказала?
– Ты не поверишь! Они вскрыли твое письмо. Письмо, которое ты послал Варе.
– Там ничего такого не было, – сказал я. – Пожалуйста, читайте на здоровье.
– Не в том дело, – всплеснула руками мама. – Это ужасно – вскрывать чужие письма! Даже если они адресованы твоей несовершеннолетней дочери. В крайнем случае можно настойчиво попросить, даже потребовать, чтоб она потом дала прочитать это письмо родителям. Ну в самом крайнем случае, – развоевалась мама, – можно было сказать: «Давай прочитаем это письмо вместе». Но вскрывать чужое письмо – это ужасно. Я так и сказала Ларисе.
– Ну и что она? – спросил я.
– Ты знаешь, ведь она сама завела этот разговор, – сказала мама. – Она была очень смущена. Она даже покраснела. Она сильно покраснела, – мама подняла палец.
Подняла палец, прямо как Стурик, который поучал меня, что надо найти девочку на десять лет моложе себя и потом выращивать ее себе в жены. Наверно, назидательные жесты у всех людей одинаковые.
– Я ей сказала, что это ужасно, и она даже покраснела, – сказала мама, держа перед носом поднятый палец.
– А как вообще об этом разговор зашел? – поинтересовался я.
– Она меня спросила: «Денис, наверно, ждет письма от Вари, ждет ответа?» Я ничего не поняла. И тогда она мне рассказала. «Я, говорит, нашла в почтовом ящике письмо для Вари из Москвы. Адрес напечатан на машинке и обратный тоже. Я увидела, что это письмо от Дениса. Мы с Василием Петровичем целый час сидели над этим конвертом и решали, что делать. Но потом все-таки решили вскрыть».
– Ну и как им, понравилось? – спросил я.
– Она сказала: «Мы просто изумились. Такое тонкое, такое взрослое, такое мудрое письмо. Уж я не знаю, что Варя ему написала, но я примерно поняла, о чем, так сказать, речь. Очень мудрое письмо. Прекрасное письмо. Мы с Василием Петровичем подумали и решили, что лучшего письма мы бы даже сами не смогли написать. Ах, какое письмо! Но потом мы решили, – сказала Лариса, – что Варе еще слишком рано получать такие письма. Что оно ее встревожит. Ну, вернее, не встревожит, а, как бы это сказать, разволнует. Не само письмо, – сказала Лариса, – оно безупречное, умное, доброе и всё такое, а сам факт. Сам факт, вы понимаете? И поэтому мы решили его сжечь вместе с конвертом». Вот так она мне сказала, – сказала мама.
Я сказал:
– А сам факт, что мальчик из хорошей семьи вдруг оказался хамом и не ответил на ее письмо, – этот факт ее не разволнует?
– Представь себе, – вскричала мама, – именно это и я сказала Ларисе. Но она сказала: «Ах, мало ли что! Почта потеряла, занятия в университете, какая-то девушка, которой он увлечен, и ему не до девчонок-школьниц». В общем, на нет и суда нет. «Иногда молчание, грубое молчание, – сказала Лариса, – полезнее самого умного и вежливого ответа». Вот так, – сказала мама.
– Ну-ну, – сказал я.
– Ну а ты-то сам как считаешь? – спросила мама. – Ведь ты, в конце концов, можешь ей позвонить. У меня есть их телефон.
– Мама, – сказал я, – по-моему, это ты в нее влюбилась, а не я. Давай закроем тему.
– И очень зря, – сказала мама.
– Закрыли, – сказал я.
Варина жизнь сложилась просто замечательно. Она рано вышла замуж за молодого, безумно талантливого экономиста, по-моему, финансиста, который чуть ли не в тридцать лет стал заместителем министра, еще в советские годы, что вообще чудо, а потом они уехали в Америку, и там он то ли возглавил инвестиционный банк, то ли основал брокерскую фирму. В общем, все прекрасно.
Висела когда-то в Москве реклама Росгосстраха. Там было написано: «Всё правильно сделал!»
Вот и я думаю: всё правильно сделал! И я сделал правильно, что написал умное и сдержанное письмо, и Василий Петрович Бессарабов со своей женой Ларисой, которые перехватили его и сожгли, – тоже всё сделали правильно.
Roma Secreta
Но вернемся в Ригу. То есть в Дубулты.
Там была еще одна страннейшая пара.
Вернее, никакая не пара, а мама с сыном.
Мама была совсем старая, у нее была платиново-белая – или добела седая? – короткая стрижка; зализанные запятые на висках острыми кончиками упирались в уголки сильно подведенных глаз. Она была похожа на афишу двадцатых годов: длинные пальцы, длинная папироса – именно папироса и именно длинная, дамская, марки «Фестиваль»; невероятная худоба, узкая юбка до середины икры, сильно приталенный пиджак. Она прихрамывала и ходила с тросточкой – тросточка была старинная, из темно-красного дерева, с бронзовым кончиком внизу и рукояткой в виде костяной головы мопса. На тросточку она почти не опиралась, она вертела ее в руках, как стек, как игрушку, а когда садилась – сидела колени в одну сторону, профиль в другую, тросточка на коленях поверх узкой сумочки, в левой руке папироса, и дым от нее шел, как нарисованный. Нездешняя старуха. Не в ангельском смысле, разумеется, а в смысле человек не отсюда. Не здесь и не сейчас. Не дом творчества под Ригой в семидесятые годы, а Петроград в двадцатые. Какой-нибудь кафешантан на Лиговке. Угар НЭПа, котелки и пролетки, комиссары и бандиты. А может быть, даже Париж десятых. «Belle époque»… Только на лацкане вместо брошки – медалька лауреата Сталинской премии. Но эта деталь не портила картину, а, наоборот, придавала ей слегка безумную советскую парадоксальность.
Когда я узнал, кто эта дама, я стал глядеть на нее во все глаза и до сих пор страшно жалею, что не подошел с нею познакомиться. Представиться, пожать руку, попросить автограф. Это была Дарья Михайловна Фонарева. Дочь офицера, гимназистка, беспризорница, партизанка, ЧОНовка (уж мало кто помнит, что это такое было – «Часть особого назначения»), потом чекистка, студентка, журналистка – в общем, Дуня Фонарева. Героиня одноименного автобиографического романа и автор знаменитых рассказов для подростков «Перископ», «Письмо» и «Дело принципа», а также повести «Империя голодранцев». Повесть была про коммуну беспризорников, организованную, однако, как республиканское царство – с ежемесячно выбираемым царем, князьями, министрами и даже, если я правильно помню, Сенатом и Синодом. Во главе ее стоял какой-то полоумный большевик из обслуги Зимнего дворца.
Поэтому повесть запретили уже в тридцатых и второй раз напечатали буквально только что, то есть в самом конце шестидесятых, но сразу переиздали много раз, и в разных областных издательствах тоже, и Дарья Михайловна в материальном смысле вздохнула свободнее – потому что до того, несмотря на Сталинскую премию второй степени за очень воспитательный рассказ «Дело принципа», она жила скудно. Тем более что ее муж, какой-то совсем не знаменитый музыкант, умер лет десять тому назад, то есть лет за пять до второй волны славы и денег, которая почти нежданно окатила совсем было забытую Дарью Михайловну.
Итак, Дарья Михайловна, поигрывая тросточкой, входила в холл и останавливалась, оглядывая компанию.
Рядом с нею был юноша в узком темном костюме, почти мальчик, который всё время стоял на полшага сзади ее и молча шевелил своими длинными смуглыми пальцами, то ли просто разминая их, то ли мысленно рассуждая о чем-то и отмечая: «Во-первых, во-вторых, в-третьих».
Это был Саша, ее сын – герой ее книги «Воспитание мужчины», несчастный объект ужасающего эксперимента, который проделала над своим ребенком эта умная, образованная, талантливая и, как оказалось потом, верующая женщина.
Саше было лет пятнадцать – на год старше Вари и, соответственно, на пару-тройку лет младше самых старших из нас. Но он не бегал с нами на крышу, не ходил в нашей большой компании в кино и на пляж, а купался один, перед этим делая зарядку, приседая, прыгая, отжимаясь на кулаках. Он был очень мускулистый и жилистый.
В любую самую жаркую погоду он был в костюме, в белой рубашке и в галстуке-бабочке. Начищенные туфли. Манжеты с запонками. На его лице были следы бритвы – наверное, он недавно начал бриться и резал себе подбородок. Еще у него были затемненные очки. Когда он купался, то складывал свою одежду на скамейке над пляжем – все-таки на пляж в таком виде не вылезал, уже молодец, – оставлял ее под маминым присмотром и бодрым спортивным шагом, размахивая полотенцем, шел к воде. Клал полотенце на песок и начинал делать упражнения. Потом шел купаться, но, бывало, Дарья Михайловна останавливала его криком – даже не криком, а каким-то молодецким покриком, богатырским посвистом:
– Эгеуууу!!!
– Что, мама? – оборачивался он.
– Еще четыре минуты! – и Дарья Михайловна тыкала пальцем себе в запястье, в часы, и четыре раза взмахивала тросточкой.
Саша кивал и снова принимался за упражнения.
– Эй-эй-ееуу! – снова кричала она.
– Да, мама? – отвечал он, встав с песка, где только что делал мостик.
– Всё! – Дарья Михайловна показывала тросточкой на море, и Саша шел купаться.
А с нами Саша не общался, потому что мы курили, и ругались матом, и вообще шумели. Рассказывали неприличные анекдоты и слишком громко хохотали. Это мне потом мама объяснила, поговорив с Дарьей Михайловной.
Помню, как в холле, где толпились и болтали писатели, писательские жены и писательские дети (слова «тусоваться» тогда еще не было) – я помню, как кто-то ему сказал: «Садитесь, молодой человек». Кажется, моя мама сказала и указала ему на свободное кресло рядом. Но Саша скромно отошел на два шага в сторону со словами: «Благодарю вас, я постою». Хотя в холле было полно свободных кресел. Я ни разу не видел, чтобы Саша сидел. Он всегда стоял в углу и двигал пальцами.
Итак, моя мама разговорилась с Дарьей Михайловной. Мама могла познакомиться, разговориться и подружиться с кем угодно. Она спросила ее: «Простите, а что с вашим сыном? Я ему предлагаю сесть рядом, а он не садится». Объяснение было какое-то невнятное – дескать, все равно может войти пожилой человек и придется уступать место. Поэтому все равно лучше стоять. И вообще, юноша-подросток должен быть скромным. «Скромным, скромным и еще раз скромным, – сказала Дарья Михайловна. – В запросах и в поведении». И добавила, что она приучила Сашу никогда не садиться в трамвае или метро. Чтобы как будто заранее уступить место всем, кому только возможно.
Через много лет в букинистическом мне попалась книга Фонаревой «Воспитание мужчины», и я купил ее: мне на самой деле любопытно было узнать, что случилось с этим приятным, вроде бы нормальным парнем. Когда я раскрыл эту книжку, я все понял и чуть не заплакал от жалости к мальчишке. И мне, прости господи (ибо сейчас уже все умерли), захотелось съездить тяжелым предметом по умной головушке замечательной советской писательницы.
Судите сами: в самом начале своей книжки она пишет: «Не один раз мы с мужем видели ужасных детей: капризных, своевольных, невоспитанных, которые в детстве требуют, чтобы им что-то купили, то ли игрушку, то ли шоколадку, и плачут, и верещат, и дрыгают ногами, упав на пол. А слегка повзрослев, они начинают ругаться матом, тайком пробовать вино, рассказывать похабные анекдоты, курить и лгать…» И они с мужем – немолодая бездетная пара – решили: «Давай усыновим ребенка и сделаем, чтобы он не был таким, как эти ужасные, отвратительные, капризные, лживые и вороватые дети. Чтобы он был скромным, воспитанным и вежливым». Сказано – сделано. Они усыновили маленького – кажется, двухлетнего – Сашу и с первых дней начали его воспитывать в духе скромности, самопожертвования, чуть ли не аскетизма, плюс спорт, закалка, этикет и здоровые привычки. Начали воспитывать настоящего мужчину.
Если бы в свои двадцать лет, когда я увидел Сашу Фонарева, я бы уже прочитал какие-то книжки по клинической психологии, мне бы стало еще страшнее. Я бы понял, что всё, он уже никогда не станет нормальным.
Так и вышло. Бедный Саша провел остаток жизни в доме скорби. Ужасная история. До сих пор вспоминаю – сердце сжимается. При том что меня самого воспитывали в строгости. Я всегда сам гладил брюки и штопал носки, на даче колол дрова и топил печку, а дома помогал маме готовиться к приходу гостей. Но то-то и оно! Меня воспитывали не столько в строгости, сколько в труде. А это все-таки разные вещи. Бедный Саша!
У мамы сохранились письма от Фонаревой, в которых она пишет, что у Саши был тяжелый грипп, а потом осложнения, и после этого его отправили в психиатрическую больницу. Даже интересно: неужели она на самом деле думала, что её сын безнадежно сошел с ума от гриппа, которым болеют сотни тысяч людей каждую зиму? Неужели она думала, что всё это действительно от тяжелой наследственности, от микробов, от загадочных «процессов в коре головного мозга» – в общем, от не пойми чего? Неужели она ни на секунду не подумала, что сама, своими руками искалечила и в итоге убила человека, желая сделать этого человека – своего единственного сына! – скромным, воспитанным и вежливым?
Хотя, может быть, дело не только в этом кошмарно суровом воспитании, которое опрокинулось на голову бедного Саши. Дело, может быть, еще и в другом. Дарья Михайловна была верующей, как я уже сказал. Причем католичкой. При рождении она была крещена по римскому обряду – ее мать была полькой. Да, она была католичкой истовой, яростной и, что самое главное, скрытой. Об этом рассказано в ее тайком написанной и посмертно напечатанной книге, которая называется «Roma secreta» («Тайный Рим»). Дарья Михайловна была смертельно напугана советской властью – тем более что в своей чекистской юности сама могла насмерть испугать кого угодно, да не просто испугать, а насмерть убить, как говорят в народе – потому и понимала, что в открытую ходить в церковь и выполнять обряды в нашей стране разрешается только темным бабкам…
…Я прекрасно помню случай, как меня не пустили в церковь в 1972 году, потому что я был молод и прилично одет. Была пасхальная ночь. Вокруг церкви – это была церковь Ивана Воина на Якиманке – цепью стояли молодые люди комсомольского возраста с очень комсомольскими лицами – веселыми, открытыми, ясноглазыми. Проходили согбенные бабки, проходили тощие старики, прошел юродивого вида юноша с редкой клочковатой бородой, в огромной кепке и старых калошах, – цепь расступалась, их пропускали к воротам церковной ограды. Но как только подходил я, цепь тут же смыкалась и молодые люди меня отпихивали – не больно, но беспрекословно, круглыми налитыми плечами, и тихонько бормотали-напевали при этом: «Домой, домой, домой!»…
Да, так вот: в нашей стране тогда разрешалось верить в Бога и ходить в церковь только темным бабкам. Ну или если ты какой-нибудь совсем уже академик Павлов. Дарья Михайловна не была темной бабкой, но и совсем уже академиком Павловым не была тоже. Она была уважаемой, но все-таки рядовой советской писательницей, членом партии и даже заместителем председателя бюро секции детской литературы городской организации Союза писателей, и поэтому открыто ходить в костел не могла, а посещала какого-то тайного ксендза, но и ему не могла сказать правду, потому что он был из интеллигентного круга и была опасность, что он проговорится. Поэтому она переодевалась в обноски и притворялась нищей старухой из Белоруссии. То есть ксендзу она врала тоже.
И, наверно, бедный Саша, если и не знал всё это вот так напрямую, то всей своей душой, всей своей жизнью ощущал эту лживую двойственность, в которой живет его мама. Не говоря уже о том, что мама курила, а ему было нельзя. Представляю себе, как она ему говорила: «При чем тут я? Я закурила в войну! В Гражданскую!» Хотя, скорее всего, закурила она в беспризорной компании. А может, еще и в гимназии.
И, возможно, именно это большое и маленькое вранье, в сочетании с воспитанием-дрессировкой, окончательно искалечило Сашину душу. Смешной и очевидный вывод: будь честен, будь искренен и при этом будь терпим даже к капризам ближнего своего. Тогда у твоих детей есть шансы. Только шансы, повторяю. Никаких гарантий. Но если ты будешь жить двойной, лицемерной жизнью и при этом отказывать ребенку в конфетке из высоких воспитательных принципов – шансов не будет никаких.
Звучит, конечно, плоско и банально. Но никуда не денешься.
Мальчик и дяденька
В Риге была одна девочка – ее звали Ася Черновицкая, латышка наполовину. Мы с ней встречались и разговаривали два или три раза – да, третий раз в Москве, она приехала к своим родственникам, она позвонила, мы погуляли по улицам. Была зима, был вечер, она была в черной шубке – она захотела зайти ко мне домой, а я сказал что-то вроде «нет, сегодня неудобно, в другой раз, завтра». Сказал странными, бумажными словами: «Прости, сегодня я не смогу тебя принять». Но другого раза не было, потому что назавтра она уезжала, вот и всё. Мы были еще школьники. Вот и вся история. Но мне хотелось с ней поговорить ещё раз. Просто так. Спросить, как дела, как жизнь.
Как найти человека в большом городе?
Миллион способов, особенно сейчас, когда есть интернет, а в интернете – «Гугл», «Фейсбук» и прочие штучки. Но и раньше, и сейчас самый надежный способ – сесть на скамейку, причем не обязательно в очень людном месте. В слишком людном месте, в густой толпе можно и не заметить, кого ты ищешь. Но уж конечно, не надо нарочно выбирать какую-нибудь пустую окраину, задворки брошенной фабрики. Нужно выбрать место средней людности. Городской сквер, например. Станция электрички в курортном городке тоже годится.
Надо сесть на скамейку и смотреть на проходящих мимо. Рано или поздно тот, кого ты разыскиваешь, пройдет мимо. Возможно, он узнает тебя и сам присядет рядом. А если нет, ты его окликнешь.
Я хотел ее встретить – вот так. Поэтому иногда пропускал поезд или даже два, сидя на перроне или в станционном буфете.
Один раз я сидел в буфете на станции Дубулты – совершенно один в пустом зальчике. Нет, конечно, не совершенно один. Рядом, за близкими столиками, сидели еще два человека: слева от меня в углу – какой-то дяденька, а справа, ближе к окну, на фоне освещенных солнцем деревьев, отчего его было трудно рассмотреть, особенно лицо (он сидел ко мне боком, то есть в профиль, но всё время глядел в окно, как будто от меня отворачивался), – какой-то мальчик.
А может быть, мне показалось, что он отворачивается.
Конечно, ни от кого он не отворачивался.
У него были свои дела. Он водил пальцем по айфону, пил пиво из большого, то есть полулитрового пластмассового стакана, пошевеливал ногой рюкзак и вообще занимался сам собой.
Дяденька же, наоборот, словно нарочно сидел так, чтобы я мог рассмотреть его во всех подробностях: его не старое, но и не молодое лицо с толстым угреватым носом, на котором сидели тоненькие железные очки; с начинающими седеть бровями; с залысинами и редеющими волосами, хотя по виду ему было самое большее сорок пять лет; с тонкими, не привыкшими к ручному труду пальцами. Это было сразу видно, потому что у него были чуть длинноватые, но аккуратно подпиленные и совершенно, можно даже сказать, идеально чистые ногти, а еще, кроме обручального кольца на той же правой руке, на мизинце у него сидел довольно большой – издалека видно, я в этом чуточку разбираюсь – перстень с классической камеей. Белый профиль на темно-коричневом фоне.
Когда-то давно у меня был старший друг, Юрий Александрович Слувис, скульптор малых форм, ювелир, резчик великолепных камей и инталий. Я познакомился с ним, когда мне было двадцать шесть, а ему – около пятидесяти. Когда он умер, ему было семьдесят шесть, кажется, а мне – без пары недель пятьдесят три. Незадолго до его смерти я сказал ему: «Теперь мне больше лет, чем было вам, когда мы встретились». Почему-то меня это удивляло и озадачивало.
Судьба у него была удивительная – пять классов, завод, армия, потом косторезом на мясокомбинате, потом сразу приняли в Союз художников; заказы были из комбината декоративно-оформительского искусства, но и частные тоже в немалом количестве.
Камеи хорошо продавались. Деньги водились. Он держал редких рыб и черепах. Собирал раковины. Раковины – это целый мир и целая отрасль коллекционирования. В его мастерской на столах и скамейках стопками лежали толстые цветные каталоги. С потолка свешивались кованые фонари с цветными стеклами. На полках стояли коробки с раковинами.
Он сидел на вертящемся стульчике, в защитных очках, и бормашиной вытачивал античные головки из кусков многослойно-многоцветных раковин. Кашлял – страдал силикозом из-за тончайшей каменной пыли, которой дышал годами.
Потом камеи вышли из моды. Потом снова потихоньку вошли. Под старость он работал еще больше. Просто без продыха. Жена отвозила его на такси в мастерскую, и он жил там с понедельника до пятницы.
Он очень широко общался. У него за столом собирались актеры, ученые, родственники, друзья детства, океанологи, которые привозили ему раковины со всех концов света. Художников, правда, не было. Потому что они считали Слувиса… ну, как бы это сказать… как бы средневековым мастером, который работает в строгих рамках канона. Его поразительные камеи и декоративные кубки не претендовали ни на какую новизну. Это были греко-римские профили богов и императоров, изображения мифологических персонажей, повторение вечных высоких образцов. Пространства для своей игры почти не было.
Он делал вид, что ни капли не страдает из-за этого.
Жалко, что в последние его годы я бывал у него совсем редко.
Но я что-то отвлекся.
Перстень был очевидно дамский. И по фасону судя – это была античная женская головка, и по размеру – если налез ему только на мизинец. Непонятно – да и как я мог это понять? – то ли дяденька носил его в память о какой-то женщине, то ли он просто был выпендрежник. А поскольку денег, чтоб повыпендриваться по-настоящему у него не было, он и выпендривался маминым или бабушкиным перстеньком, придавая себе эстетский и, наверно, как ему самому казалось, загадочный вид. В мое время нарочито женские перстеньки носили сами знаете кто. Но при этом на гомосексуала этот дядя не был похож ни капельки. Он не был похож ни на расслабленного, утонченного, ломучего педераста-декадента в европейском стиле, этакого Оскара Уайльда, ни тем более на бодрого и атлетичного американского гея. Американцы мне говорили: если увидишь мужика со спортивной выправкой, с широким разворотом плеч, аккуратно подбритым затылком, короткими усиками, стрижкой ежиком и ходит, как офицер на параде, то есть по-вашему по-европейски – мужик на двести процентов, то у нас это – точно гей.
Но дяденька было совершенно обыкновенный мужичок, просто склонный к некоторому выпендрежу. Еще на нем были потертые, но вполне приличные американские джинсы, ковбойка, заправленная под ремень, и кожаный короткий пиджачок, который не носят уже лет тридцать. А может, даже тридцать пять. В те времена, в начале восьмидесятых, была повальная мода на кожаные пиджаки, кожаные куртки, кожаные пальто. Дамы, мужчины и молодые люди просто в лепешку расшибались, чтобы достать себе что-то эдакое. Наверное, дело не просто в моде. Наверное, здесь есть какое-то глубокое психологическое основание. Что такое кожа? Наша, обыкновенная, так сказать, шкура? Это, помимо всего прочего, еще и граница, граница между мной и окружающим миром, куда более безусловная и отчетливая, чем, скажем, стены дома или дачный забор. Всё, что внутри кожи, – это я, всё что снаружи, – уж извините. Хотя лучше, наверно, сказать наоборот. Всё, что снаружи моего кожного покрова, – внешний мир: другие люди, улицы, дома, машины, общество, партия и правительство и всё прогрессивное человечество, пошло оно к черту. А вот то, что внутри, – уж извините! Это уже я, в своей несомненной физической реальности, без всяких фокусов типа души, которая в заветной лире, и так далее. Не переживет, и не убежит, и не надо! Вот мое бренное тело, здесь и сейчас, и я его никому не отдам. Так что, наверное, в восьмидесятые годы, те самые тридцать пять лет назад, о которых я говорю, люди наконец массово поняли, точнее, почувствовали, что они не только часть великого целого, но еще и сами по себе, что между ними и великим целым должна быть какая-то четкая граница, прочная граница, потому что десятилетия растворения в великом целом ни к чему хорошему не привели. А поскольку никаких законов о частной жизни, ни писаных, ни неписаных, в те годы еще придумано не было и придумано быть не могло – поэтому эта граница между собой и внешним миром стала обозначаться вот так. С помощью дополнительной кожи. В виде кожаного пиджака, кожаной куртки или кожаного пальто.
– Да, да, да! – вдруг сказал дяденька, то есть не сказал, а вспомнил, но вспомнил с такой силой, что вся история отразилась на его лице. – Однажды жена примчалась с работы с огромным тюком в руках и сказала, что в комиссионном магазине она за какую-то смешную сумму, всего за, ах, простите, не помню, за сколько, всего за сколько-то рублей она купила для меня вот какое чудо! Разорвала бумажную веревочку, разодрала серую с прожилками упаковочную бумагу и кинула на диван огромное летчицкое пальто болгарского производства. О, это было не пальто, а целый дом, блиндаж, долговременная укрепленная огневая точка, скроенное регланом, длиною до полу, с цигейковой подстежкой и пристежным цигейковым же воротником. Без единой молнии, но всё в каких-то непонятных лямочках, кнопках, добавочных ремешках с гремящими пряжками, с загадочными прорезями, клапанами и люверсами. Наверное, для полевой сумки, для бинокля, для кобуры с пистолетом, для пакета с шоколадом, для аптечки, черт знает… Это было не пальто. Это было произведение инженерной мысли. Это было просто орудие какое-то. По всем правилам, такое пальто когда-то в поздние тридцатые годы должно было входить обязательной частью в боекомплект какого-нибудь бомбардировщика дальнего действия или десантно-транспортного самолета. Именно так, потому что для истребителя или штурмовика оно было бы тяжеловато. Знакомый скорняк чуть-чуть ушил мне его и по моей просьбе сделал с этим пальто нечто ужасное, преступное – переделал реглан на нормальный рукав. Он был хорошим мастером, и плечи у него получились вполне, с нормальным окатом рукава. Так что, ежели кто не знал о том, как это пальто выглядело раньше, он мог вообще ни о чем ни догадаться. Но я горько ощущал, что совершил преступление. Какое-то архитектурное преступление, казалось мне. Как если бы я велел заменить башни Нотр-Дама на нечто более современное. Например, надеть на них единую стеклянную коробку. Или велел бы приделать руки Венере Милосской.
Это пальто я носил довольно долго. В нем было очень тепло, но сдается мне, не потому, что цигейковая подстежка была теплая, а потому что оно было страшно тяжелое, и всякое передвижение в нем было как физическое упражнение, как пробежка с гантелями в руках. Тут в любой мороз вспотеешь.
Но чего удивляться? Построить границу между своим «я» и окружающим миром – это всегда довольно трудная задача. Особенно когда приходится обзаводиться второй кожей.
Но, возможно, это всё дикий психоанализ, то есть мои домыслы и фантазии.
Не в том дело.
А дело в том, что на дяденьке был сильно поношенный кожаный пиджачок из восьмидесятых. Я подумал: вот интересно, где он его тогда взял? В комиссионке или у фарцовщиков? Или какой-нибудь выездной родственник привез из-за границы в подарок, или свой старый отдал, поскольку себе новый купил? То есть достался он ему новеньким, с этикеткой на суровой нитке, или уже ношеным, с какой-нибудь некрасивой царапиной в районе левой манжеты и с обидным запахом чужих подмышек, который приходилось выводить целую неделю, вывешивая этот пиджак в вывернутом виде на балкон и пшикая на подкладку одеколоном?
Дяденька сидел настолько напоказ, настолько широко и даже демонстративно раскинувшись на стуле, глядя поверх меня на табло расписания, но при этом явно замечая, что я его рассматриваю, и всем своим видом давая понять, что ему абсолютно наплевать на это и, что если я хоть взглядом намекну – он готов показаться мне хоть в левый профиль, хоть в правый, – что мне показалось: он нарочно так сидит. Специально для меня. Он тоже пил пиво из большого пластикового стакана и жевал какую-то тестяную завертку с зеленью, то ли с сыром, то ли с курицей, которую сейчас называют то итальянском словом «панини», то американским словом «ролл». Он ничего не читал, не ковырялся в мобильнике в отличие от мальчика у окна. Он о чем-то думал, но не напряженно думал, не решал какие-то свои задачи в уме, не рассуждал, как быть и что делать. И уж, конечно, не тосковал. Никакой печали не было на его довольно-таки веселом, легкомысленном круглом лице. Но при этом он думал, и мне показалось, что он думает примерно так же, как другие читают, то есть вспоминает что-то приятное и забавное. А если неприятное или грустное, то всё равно это для него как книга – что-то давно прошедшее, сегодня уже совсем чужое. И вот он листает эту книгу в уме, с пристальным, но не очень-то заинтересованным вниманием. Читает, так сказать, собственные мысли. Жизнь свою, как сказал по сходному поводу Пушкин, но не с отвращением, а так. Просто.
У его ног стоял портфель. Вернее сказать, не портфель, а атташе-кейс, как раз такой, какой все носили в восьмидесятые, а чуточку раньше ужасно гонялись за этими кейсами, доставали их по знакомству или привозили из-за границы. Да, рядом с ним стоял кейс. Давайте скажем просто – чемоданчик. И он время от времени трогал его ногой, как бы убеждаясь, что он на месте, что его, не дай бог, не сперли. Мальчик, который сидел у окна, тоже трогал ногой свой рюкзак, и тоже, наверно, с этой же целью, хотя мне показалось, что он ногой пытается нащупать там что-то. А может быть, вообще понять, что там внутри. А может быть, вообще этот рюкзак ворованный. Но нет, у мальчика был вполне приличный вид. Мальчиком я его называю, конечно, условно, поскольку, хи-хи, не девочка. А лет ему было примерно двадцать или, самое большее, двадцать два. То есть он вполне годился дяденьке в сыновья.
Но если дяденька, несмотря на свою задрипанную и старомодную внешность, сидел на жестком стуле буфета совершенно свободно, просто по-королевски вольно, ничуть не заботясь, смотрят на него или нет, – то мальчик, наоборот, ерзал на стуле, отворачивался к окну. А когда мимо окна кто-то проходил – поворачивался в зал, но, видя меня и дяденьку, опускал глаза. Конечно, всё это происходило не так быстро и дергано, как я описываю, а гораздо плавнее и незаметнее. Маленькие, едва уловимые повороты шеи, но тем не менее это было видно. Было видно, что мальчик ни с кем не хочет встречаться глазами и, упаси господь, ни с кем разговаривать. Как будто бы он опасался, что кто-то из нас – то ли я, то ли дяденька, то ли буфетчица, которая что-то считала на калькуляторе, – что кто-то из нас воскликнет: «О, привет, дорогой! А я тебя не сразу узнал, богатый будешь!» И вот этого, казалось мне, он боялся больше всего. И поэтому сидел, уткнувшись в свой айфон, но время от времени поглядывал то в окно, то на нас. Присмотревшись, я увидел, что все эти вполне современные милые модные шмоточки, как-то: темно-бежевые брюки и кеды, куртка, под курткой – футболка с картинкой, бейсболка на голове козырьком назад, огромные пластмассовые часы с тремя циферблатами – в общем, весь набор усредненного «нашего юного современника», включая сюда рюкзак, айфон и наушники от плеера, воткнутые в его маленькие красные уши, – что всё это сидит на нем, извините, как на корове седло. Что он какой-то ряженый, а может, вообще замаскированный, загримированный. Насколько естественным был дяденька в своей на тридцать пять лет запоздалой одежде и со всем своим на столько же лет запоздалым лицом – настолько же тревожно-ненатуральным был этот мальчик в своих несомненно теперешних одежках и со своей вроде бы современной рожицей.
Мне от этого тоже стало тревожно. Я допил – нет, не пиво, любезный читатель, потому что пиво я по печальным медицинским причинам вот уже несколько лет как не пью, – допил свой слабенький зеленый чай, доел вкуснейшую плюшку местной выпечки и вышел, обошел здание станции по часовой стрелке, полюбовался этой прелестной архитектурой семидесятых с изогнутой, как шляпка курортницы, бетонной крышей (почти услышал, как тогдашние приезжие москвичи восторженно шептали: «Всё такое современное, всё такое левое!»), снова подошел к окну буфета и увидел сквозь бликующее стекло, что мальчик и дяденька теперь сидят за одним столом. Мне это показалось странным, а они, увидев, что я на них смотрю, замахали руками и жестами позвали меня зайти вовнутрь, вернуться. Я пожал плечами и сел на скамейку спиной к ним. На скамейку, стоявшую на платформе, разумеется. Сел, положил ногу на ногу и подумал, что зря я пожал плечами, зря показал, что заметил, что они меня зовут. Потому что надо было вовсе не реагировать.
А с другой стороны, почему не реагировать? Что за страхи?
Другим летом – тем летом, когда я был в Дубултах одновременно с Машей и Леной, а также с моим факультетским другом Лешей Мельниковым, – мы зашли в какое-то кафе недалеко от церкви, от протестанской кирхи, точнее говоря. Потому что там буквально в трех кварталах есть еще она церковь – православная, «parezticīga» (что в дословном переводе значит «правильно верующая»). Но мы, повторяю, зашли в кафешку рядом с лютеранской кирхой. Кажется, эта кафешка была там, где сейчас замечательное дубултское бистро – большое, недорогое, но с огромным оборотом и поэтому, наверное, очень выгодное хозяевам.
Тогда там было теснее, темнее, шумнее и, наверное, уютнее, с нашей двадцатидвухлетней точки зрения. Нас с Лешей Мельниковым туда затащили Лена и Маша, причем не за чем-нибудь, а чтоб попробовать шницель. А в шницеле им сильнее всего понравилось название – он назывался «Шницель „Как у мамы дома“». Почему-то именно это привело девчонок в восторг. «Представляете себе, как здорово, как оригинально: „Как у мамы дома“!». «Чего тут оригинального? – отбивался я. – Оригинально – это „Как у Франсуазы в борделе“!». «Ты ничего не понимаешь!» – возмутились девчонки.
О, самое лучшее, самое любимое, самое юное возражение: «Ты ничего не понимаешь!»
Зачем ты связалась с этим косматым немытым бездельником? Зачем тебе нужна эта тупая плебейка? Ты же порядочный мальчик из интеллигентной семьи! Что ты будешь делать весь июль и половину августа в горах Сванетии? Какого черта мы платили кучу денег репетиторам? Зачем ты два с половиной года мучился, сдавая пять сессий, уже пять сессий, дурак! Биохимию! Анатомию, нормальную, патологическую и топографическую! И вот теперь хочешь переходить из медицинского института в театральное училище?
Ответ один: папа, ты ничего не понимаешь!
Я действительно ничего не понимаю. И ты, мой милый, тоже ничего не поймешь в свое время. За наши слезы нашим детям отомстят наши внуки.
Хорошо, хорошо, пошли в кафе.
Да, я действительно ничего не понял в этом шницеле, потому что это была обыкновенная котлета, вполне доброкачественная, но довольно пресная. Обыкновенная, я же говорю. Так что в меню правду сказали: «Как у мамы дома» – вот и получи, как у мамы дома. Мама дома не делает овощной гарнир розочками и какой-нибудь бруснично-марципановый соус к котлетам. Шлепнет две столовые ложки картофельного пюре, положит сверху маленький кусочек сливочного масла и: ешь! С хлебом ешь, с хлебом! Вот примерно такой шницель нам и принесли, и серого хлеба к нему. Потом мы взяли пива. А сидели мы с этим шницелем и пивом за длинным и высоковатым столом. Это было некое подобие бара, хотя бы потому, что с другой стороны сидений не было, а было что-то вроде коридора, по которому ходили официанты. Даже не официанты, а подавальщики. Я сидел с краю. Слева от меня сидела Лена, потом Маша, потом Алеша. А справа подсел какой-то молодой человек, заказавший сто грамм водки и какую-то ерунду на закуску. Все курили. Я вытащил сигарету и стал хлопать себя по карманам, ища спички. Мой сосед справа немедленно чиркнул спичкой и поднес мне ее прямо к носу. Я закурил, кивнул и повернулся к своим.
– Вы, наверное, из Москвы? – раздалось справа.
– Ага, – сказал я.
– Я сразу понял, – сказал он. На нем были очки с толстыми стеклами.
– Ну да, – сказал я. – Мы же по-русски говорим.
– Нет, – иронически засмеялся он. – Ах, нет. У нас в Риге люди прекрасно говорят по-русски, не так, как я, – он говорил с явным акцентом. – Совершенно чисто говорят по-русски, не отличишь от москвича, – и замолчал, ожидая, что я задам ему вопрос.
Я, конечно, задал:
– Ну а как же вы догадались?
– У нас, – сказал он, – когда человек в баре подносит незнакомому человеку спичку, это значит, он хочет завести разговор. И у нас в ответ на это обязательно скажут «спасибо», а потом спросят: «Как дела? Как вам этот бар?» и всё такое прочее.
– Спасибо, как дела? – спросил я. – Как вам этот бар? И всё прочее?
– Ах, вы обиделись! – рассмеялся он.
– Ни капельки, – сказал я.
– Зачем вы тогда передразниваете?
– Я не передразниваю, – сказал я. – О чем еще спросить незнакомого человека? Вы совершенно правы. Самые хорошие вопросы – «Как дела?» и «Как вам этот бар?»
Я сразу понял, что дракой здесь не пахнет. Драки на отдыхе начинаются не так. Хотя, конечно, я держался несколько настороже, но знал, что в случае чего рядом со мной мой приятель Леша Мельников – мужик довольно здоровый.
– Ну так как дела? – теперь уже я переспросил довольно настойчиво. – И как вам этот бар? Не только в Москве, но и в Риге, полагаю, если человеку задают вопрос, он должен ответить. Да и во всём мире тоже, разве нет?
– Да, – сказал он. – Хотите коньяку?
– Нет, – сказал я.
– Я позволю себе, – сказал он, – если у вас мало денег, я позволю себе, с вашего разрешения, угостить вас коньяком.
Я постарался рассмотреть его внимательнее. Русые, зачесанные назад волосы, толстые очки, острый нос, заношенный свитер в бледных крупных узорах.
– Нет, нет, спасибо, – сказал я. – Не в деньгах дело. У меня живот болит от коньяка и вообще от всего резкого и острого.
– А изжога бывает? – спросил он.
– Да, – сказал я.
– У вас антральный гастрит, – сказал он. – Поздравляю вас! У меня тоже. Пожмем друг другу руки.
Мы пожали друг другу руки и поговорили еще минут пять – буквально ни о чем. О погоде, о котлетах и о том, чем лечить изжогу. Странный разговор двух очень молодых людей вечером в баре. Где мальчики кадрят девочек, где все курят, кисло пахнет пролитым пивом и отовсюду раздается то смех, то гогот, то перепалка.
Вдруг мне показалось, что он знает что-нибудь про девочку Асю, про ту самую, которая зимой. Которая в черной шубке. Которую я почему-то не повел к себе в гости. Сказал какие-то странные, не свои слова: «Прости, сегодня я не могу тебя принять».
Вообще-то глупо, находясь в Риге, вот так сидеть и мечтать найти эту Асю, да и вообще кого угодно из рижских жителей. Наверно, это было не так уж трудно. Тем более что в писательском доме я жил вместе с мамой, а мама-то уж наверняка знала адрес и телефон ее родителей. Ну и вообще, существуют справочные бюро: на каждом вокзале, в каждом городе, да и не только на вокзале, стоят такие будки под названием «Горсправка». Ну и конечно, «Рига-горсправка» тоже была. Не поленись, мой дорогой, доезжай до Риги – ведь всего полчаса на электричке. Найди такой киоск, напиши запрос, и через полчаса тебе выдадут бумажку с адресом и телефоном.
Но нет. Это было неинтересно. Или просто в голову не пришло, как довольно часто не приходят в голову самые простые и очевидные вещи.
Я вспомнил про девочку Асю и спросил у этого незнакомца (кстати, мы так и не представились друг другу).
– Вы знаете, – сказал я, – когда-то, лет пять назад, я здесь познакомился с одной девушкой.
– И что? – спросил он.
– И вот я хотел спросить, а вдруг вы случайно…
Он не дал мне договорить. Он ужасно обиделся.
– Ха-ха-ха-ха! – искусственно засмеялся он. – Вы в Москве, наверное, думаете, что Латвия – такая маленькая страна, а Рига – такой крошечный город, что тут все друг друга знают, как в деревне? Это не так. Это совсем не так, – сказал он и отодвинулся от меня.
На этом наш разговор и закончился.
Я, как человек мягкий и, наверно, добрый, попытался сказать что-то вроде: «Ах, извините, я не хотел вас задеть. Я прекрасно знаю, что Рига огромный город, но я просто подумал: вдруг случайно, может быть, мало ли что». Но он молчал и надменно курил, отвернувшись.
Вот и весь разговор. Я не знаю, что он от меня хотел. Может, просто сказать два-три слова, а потом срезать своего собеседника. Бывает и так.
Всё бывает.
Вот я сказал: я, как добрый человек. И вспомнил историю, смешную и странную. Еще более странную, чем разговор с этим несостоявшимся собеседником в кафе около церкви в Дубултах.
Однажды, классе в восьмом или девятом, мы стояли после уроков на школьном дворе. Человек десять ребят, и девчонки, кажется, были тоже. Я всех помню по фамилиям и в лицо. Но не в том дело. Не о том речь. А речь о том, что в разговоре я сказал: «Но я, конечно, как человек очень добрый, не мог поступить иначе…» – и еще что-то в этом роде. «Что? – вдруг закричал мой друг Володя Зимоненко, которого мы звали Вэл. – Что ты сказал?» «Я сказал, что иначе не мог поступить», – сказал я. «Постой, постой, – заржал Вэл. – А до того ты что сказал?» «Я сказал, что я добрый». «Ребяяя! – закричал Вэл. – Драгунский говорит, что он добрый!» Все обернулись, посмотрели на меня и тоже заржали. «Вы чего?» – спросил я. «Это ты чего? – сказал Вэл, совершенно искренне, совсем непритворно. – Ты в самом деле думаешь, что ты добрый?» «Ну да, – сказал я. – А что?» «Вынужден тебе сообщить, – объявил Вэл под хохот всех ребят и девчонок, – ты не только злой как собака. Ты еще и тупой как полено». Конечно, надо было кинуться в драку, но я был настолько ошарашен и просто-таки убит, что пролепетал: «А почему?» «Потому что ты сам не понимаешь, – сказал Вэл, – какой ты на самом деле злобный тип. Но это я любя, любя, по дружбе!» – заключил он и крепко обнял меня за плечи.
Я потом целый месяц, наверно, ходил сам не свой и осторожно задавал вопросы то маме с папой, то знакомым девчонкам из других школ: «Так какой же я на самом деле?» Но я понимал, что нельзя задавать этот вопрос прямо, что за ерунда: «Мамочка, папочка, скажите, пожалуйста, я добрый или злой?» Конечно, они скажут: «Добрый». Они же меня любят и не захотят огорчать. Я вспоминал знаменитый детский анекдот про то, как мальчик приходит домой из детского сада и говорит: «Мама! Меня дразнят, что у меня голова квадратная». А мама, гладя его по голове, рукой рисуя в воздухе квадрат, отвечает: «Наговаривают, наговаривают!» Нет, спрашивать нельзя. Надо как-то обиняками. Но как – совершенно непонятно. Наверно, надо что-то сделать, кому-нибудь помочь: проводить девушку до дома, неся ее портфель или какую-нибудь сумку с продуктами, если ей велено по дороге зайти в магазин, или дать двоечнику списать задание. И чтоб мне сказали: спасибо, какой ты добрый… Но у меня не было знакомых девчонок, которых по дороге из школы посылали в магазин. А что касается заданий, то я и сам учился не так чтоб на пять с плюсом и сам норовил списать или чтобы мне продиктовали по телефону. Так что не было у меня никакой возможности проверить, добрый я на самом деле или злой. И вспомнить я не мог, почему ребята считают меня злым. Может быть, потому что в шестом и седьмом классе я дрался больнее всех? Это правда. Норовил до крови, по носу или по зубам. Но это уже сколько лет прошло! Неужели они такие злопамятные? Сплошные загадки.
Подул ветер.
Я поднял воротник своей куртки. Начал капать дождик. Я встал со скамейки и обернулся к стеклянному окну станционного буфета. Мальчик и дяденька изо всех сил махали мне рукой и что-то показывали. Зонтик, боже мой! Я забыл в буфете зонтик. И они звали меня, чтобы отдать. Я благодарственно помахал им рукой и вернулся. Они сидели за одним столом, я говорил; но мне уже было всё равно. Ну, в смысле, я не обращал на это внимания. Я перестал о них думать. Я думал о том, что всё равно не разыщу эту Асю и не задам ей самый главный вопрос. Дяденька, едва привстав, протянул мне мой зонт – старенький зонтик в футляре. Который я, не знаю как, ухитрился забыть в этом буфете. Я же не выкладывал его наружу. Он был очень маленький, и я держал его в кармане. В глубоком левом кармане куртки. Наверно, я его выронил на пол и не услышал, потому что как раз в это время к станции подъезжала электричка. Мальчик встал, подошел к буфету, вернулся, держа в руках три большие пластиковые стакана с пивом. Он их держал в обхвате ладоней, растопырив пальцы. Поставил на стол. Пододвинул один стакан ко мне.
– Благодарю, – сказал я. – Сколько с меня? Хотя на самом деле я не пью пиво.
– Знаю, – сказал мальчик.
– Зачем тогда принес? – спросил дяденька.
– Так, – сказал мальчик.
– Отнеси пиво назад, – сказал дяденька, – а ему принеси чай.
– Обратно не возьмут, – сказал мальчик. – Мы его разделим. – И обратился ко мне: – Чай черный, зеленый?
– Спасибо, я не хочу чая, – сказал я. – Только что выпил чашку.
– Сразу видно, что вы из Москвы, – сказал дяденька. – У нас, когда тебя угощают пивом или чаем, не принято фыркать и говорить: «Пива я не пью, а чаю не хочу».
Мне не понравился этот разговор.
– У вас принято угощать насильно? – сказал я. – Не может быть! Я живу в Риге уже целый год, ежели в сумме. И в меня никогда насильно не вливали ни пива, ни чая, ни водки, ни коньяка. В Москве или, скажем, в Тбилиси – это сколько угодно. Пей, если уважаешь, и всё такое. А здесь ведь Европа, нет?
– Да, но здесь не принято фыркать и отказываться, – сказал дяденька. – Принято в ответ сказать: «Спасибо. Как поживаете? Как погода? Как вам этот бар?» А пиво, в конце концов, можно и не допить. Так, пригубить для приличия.
– Рига – очень большой город, – сказал я, – и поэтому вы, конечно, никого из моих давних знакомых не знаете.
– Конечно, – сказал дяденька.
– Я здесь когда-то знал одну девочку, – сказал мальчик.
Ася
У родителей в Риге были друзья, Вита и Гриша. Фамилия Черновицкие. Познакомились в туристической поездке в Болгарии.
Вита была Черновицкая по мужу он был русский, а она была дочерью крупнейшего латышского художника-коммуниста – причем коммунистом он стал очень давно, чуть ли не до семнадцатого года, так что он был не просто коммунист, а настоящий старый большевик. Коммунистом он был и во времена независимости (говоря на советском языке – «в период буржуазной республики»). Вдобавок он был убежденным реалистом. Ничего похожего на рижских экспрессионистов-модернистов-декадентов, вроде Екаба Казакса и Карлиса Падегса. Никаких кафешантанов, игорных домов и полуголых девушек из квартала красных фонарей, не говоря уже о «Мадонне с пулеметом». Впрочем, судя по содержанию картин, эти господа тоже были левыми (уже не в советско-интеллигентском, а в точном смысле слова), но что касается формы – один сплошной авангард.
Нет, его картины, исполненные в суровом стиле передвижников, повествовали о тяжелой жизни латышских трудящихся: «Сын моряка», «Вдова рыбака», «Дочь рабочего», серия портретов латгальских крестьян и монументальное полотно «Перед бурей». В буржуазной республике у него были неприятности, и он даже два раза сидел в тюрьме – не за творчество, конечно, а за подпольную работу. Зато после сорок пятого года он укрепился и процвел, стал «художником и общественным деятелем, видным борцом за мир» – это была особая награда, которая полагалась самым заслуженным мастерам кисти и резца. Он был заместителем председателя Президиума Верховного совета Латвии, членом ЦК партии, и прочая, и прочая, и прочая.
Вита была историком, кандидатом наук, а ее муж Гриша, профессор-физик, – директором какого-то технического НИИ. Настоящая рижская элита.
Однажды мы с мамой были у них в гостях. И на даче, и в самой Риге. Дачный дом – целая вилла, желтая и кубическая, в духе конструктивизма двадцатых годов. Дедушка (то есть художник-лауреат-депутат) еще был жив. А сами, так сказать, молодые- то есть сорокалетние Вита и Гриша – жили в небольшом домике около гаража. Наверное, когда-то это был домик для прислуги. В большом доме мы так и не побывали. Гриша сказал, что эта вилла раньше принадлежала какому-то видному чиновнику в правительстве Ульманиса, но там нет ничего особенного: две гостиные и столовая на первом этаже, а на втором – четыре спальни; мастерская – в новой пристройке за домом, тоже ничего интересного. Ну, понятное дело, – не могли же они водить туда экскурсии, тем более что дедушка был дома и даже пару раз задумчиво подошел к окну, пока мы сидели и пили чай на свежем воздухе.
Мы пошли гулять, шли мимо таких вот желтых кубических домиков, и Гриша показал виллу Балодиса – министра обороны в том правительстве – и стал рассказывать, какой этот Балодис был симпатяга. А президент Карлис Ульманис, сказал Гриша, был человек скучный и злой и говорил тоненьким голосом.
Я засомневался, что Гриша видел живого Ульманиса. Хотя кто знает? Грише до войны могло быть десять-пятнадцать лет. Даже скорее пятнадцать. Вита и Гриша были ровесниками моей мамы, а моя мама родилась в 1924-м, так что Гриша вполне мог судить об Ульманисе по личным впечатлениям – если, конечно, он был русский рижанин довоенного образца, чего я точно не помню.
«Так что вот, – говорил Гриша, – Ульманис был пресный, сухой, недобрый человек, аскетичный в быту и вообще бывший агроном. Чего можно ждать от бывшего агронома, кроме трудолюбивой скромности? И постоянной дурацкой приговорки: „Kas ir, tas ir, ka nav, ta nav“ (что есть, то есть, чего нет, того нет)? А вот Балодис был весельчак, картежник и пьяница!» Это нравилось Грише гораздо больше.
Милые, веселые, добрые, внимательные люди.
Однажды вдруг – в момент моего краткого увлечения сравнительным языкознанием – вдруг мне захотелось изучить – ну, не изучить, а внимательно рассмотреть – мертвый старопрусский язык. Третий балтийский язык, кроме литовского и латышского. Я написал об этом Вите Черновицкой, и она мне ответила длинным, подробным письмом с указанием книг и пособий по этой теме. Я даже растерялся, потому что за эти две недели, пока письмо шло туда и обратно, я расхотел изучать старопрусский язык, а тут получается, что придется, раз такая ученая дама предоставила мне столь подробную консультацию. Но потом реальность взяла верх над вежливостью. Я ее поблагодарил в ответном письме; тем дело и кончилось. Вита не раз к нам заезжала, когда бывала по своим научным делам в Москве. Привозила всякие сувениры, в том числе знаменитые рижские шоколадные наборы «Лайма».
Про эти конфеты другая русская рижанка говорила моей маме, а я вертелся рядом: «Очень вкусные конфеты. Единственное, что осталось. Такие конфеты у нас были еще до катастрофы». Я понял, что имеется в виду под «катастрофой», и поэтому, когда однажды Вита привезла эти конфеты в Москву, я довольно бестактно сказал: «Ох, какие конфеты, спасибо! Конфеты прямо как до катастрофы». Бестактно потому, что катастрофой это было – как мне потом рассказала латышская писательница Цецилия Робертовна Динере – катастрофой это было для одной трети жителей Латвии. Для другой трети это было исполнением желаний, а для третьей трети, как водится, всё было без разницы – лишь бы не трогали. Сказав про катастрофу, я в ту же секунду понял, что Вита, наверное, как раз принадлежит к той трети, для которой это было исполнением желаний, потому что ее папа при Ульманисе был коммунистом и даже подпольщиком, а после катастрофы процвел и вошел в силу. Я устыдился своих слов, но Вита, к моему удивлению, не стала мне ничего объяснять, не стала упрекать меня в «политической незрелости», а такой упрек был бы вполне уместен в устах дочери крупного общественного деятеля советской Латвии. Нет, она просто сказала: «Угу». Безо всякого выражения.
В Риге мы с мамой были у них дома в городской квартире. Адреса не помню. Но помню, что это был большой и добротный дом, но не сталинский, а, скорее всего, довоенный. Как теперь говорят, межвоенный. Не пышный позднесоветский ампир, а чуть-чуть приукрашенный восточноевропейский конструктивизм.
Мне рассказали, что Ульманис собирался застроить всю Ригу вот такими домами, тяжеловесными, многоэтажными, с квадратными окнами и гранитными парапетами. Такие дома сейчас стоят у края Домской площади, там сейчас разные офисы. Якобы Ульманис хотел продлить этот квартал до самой Даугавы, всё застроить такими домищами, а всю старую Ригу, включая Домский собор, снести к чертовой бабушке. Получается, что советская оккупация, помимо всех безобразий, имела как минимум одно положительное следствие – сохранение средневековых архитектурных сокровищ. Страшно представить себе Ригу без Домского собора, без шпиля Святого Петра и без переплетения крохотных, узеньких, булыжником мощенных улочек.
Вы таки будете смеяться, но я понял Ульманиса. Если твердо встать на точку зрения латышского националиста, то его мечта вполне понятна. Ибо о чем говорят сердцу латышского националиста – настоящего, рафинированного, беспримесного националиста – все эти готические крыши, стрельчатые окна, лабазы, кирхи, ратуши и прочие средневековые прелести? Молчите? То-то же! Они говорят о немецком угнетении, о тех ужасных временах, когда латышский народ стонал под игом остзейских баронов, Тевтонского ордена и прочей немчуры. То есть к собственно латышской культуре все эти красоты не имеют никакого отношения. И вот якобы какие-то радикалы решили начать строительство национальной культуры с чистого листа, чтобы в городском облике уцелели только те произведения, в создании которых, безо всякого сомнения, принимали участие латыши и в которых отразился дух свободной Латвии. Ясное дело, что речь могла идти только о домах эпохи модерна, например, об этих дивных домах на улице Альберта, построенных Михаилом Эйзенштейном – отцом знаменитого революционного кинорежиссера. Ну и об улицах, близко примыкающих к центру – самый конец XIX – начало XX века. Ну и свое родное, конечно. То, что после 1920 года.
Не знаю. Может быть, это я всё додумал, досочинил. Может быть, это была просто бюрократическая горячка плюс лоббизм строительных фирм и никакой идеологии за этим не стояло.
А скорее всего, вся эта история – о том, как Ульманис вознамерился сносить старую Ригу вместе с Домским собором, – тоже выдумка.
Итак, мы с мамой были у Черновицких в гостях. Ничего не запомнил, кроме того, что квартира было довольно-таки большая. Я даже не помню, ужинали мы там, обедали или просто зашли, гуляючи. Но зато я запомнил, что в хозяйской спальне над кроватью прямо в изголовье висела фотография – Гриша и Вита совсем молодые, чуть ли не во время свадьбы или ненамного позже. Очень молодые, праздничные, нарядные. Голова к голове склонившись друг к другу, весело улыбаются в объектив. Мне сразу же пришел в голову вопрос: а интересно, они в постель ложатся соответственно фотографии? То есть на фото Гриша справа, Вита слева – значит, они так же и спят? Я даже попытался разглядеть какие-то приметы вроде мужских часов или женского какого-то украшения или крема, чтобы понять, где чья тумбочка. Но не сумел. Вернее говоря, не успел, поскольку в ходе осмотра квартиры в спальню мы заглянули буквально на несколько секунд.
У Юры и Виты были две дочки. Старшая Аня и младшая Таня. Аню дома звали Ася. Когда-то, давным-давно, еще до моего знакомства с этими девочками, я получил от них в подарок толстую красивую книжку латышских сказок с милой, отчасти кокетливой надписью: «От рижанок-незнакомок Аси и Тани». В этих рижанках-незнакомках мне чудилось что-то особенное, что-то изящное и даже, как ни смешно, – влекущее. Потом мы познакомились. Ася была старше меня, по-моему, на полгода или год. Таня – наоборот, младше года на четыре. Таня была светленькая, голубоглазая, немножечко курносая, похожая на свою маму. Ася – темноволосая, большеглазая, с тонким лицом, похожая скорее на папу.
Вот с этой Асей однажды мы поехали в Булдури. Наверное, это было той самой зимой, когда мы ходили к ним в гости. Мы тогда приехали в Ригу не в Дом творчества, а просто погулять по городу. Мама, Ася и я – мы втроем поехали в замечательный ресторан «Юрас-Перле». Помню подробно и ярко: мама кормит нас обедом. Мама заказывает нам немножко коньяку. Полупустой зал, солнце сквозь стеклянные стены, белые скатерти, салфетки корабликами, вкуснейшие миноги с кусками лимона на закуску. В общем, чудо. Потом гуляли. Заснеженный пляж, прокопанная в высоком снегу дорожка. Я был тогда в восьмом классе или, самое большее, в девятом. Я закурил трубку.
Родители воспитывали меня в строгости, но курить почему-то разрешали. До сих пор удивляюсь. Дома я, конечно, не курил; ну разве что на балконе.
Родители об этом прекрасно знали. У меня на невысоких книжных полках на самом верху был целый склад сигарет, и вот откуда он взялся. Когда к нам приходили гости, то они иногда курили за столом. Чаще, впрочем, их выгоняли на лестницу, и я шел вместе с ними. Мне было лет четырнадцать-пятнадцать, и друзья родителей угощали меня сигаретами, и ни мама, ни папа не обращали на это никакого внимания. Но иногда, повторяю, гости курили за столом. Тогда был странный этикет. Вынутую из кармана и положенную на стол пачку сигарет считалось неприличным забирать назад. Еще одна тонкость: если человек клал сигареты на стол, то можно было брать без спросу. Он тем самым клал их как бы для общего пользования. Если же ты хотел распорядиться иначе, то должен был вынуть из кармана пачку сигарет, достать сигарету и спрятать пачку обратно. А что на стол попало – то пропало! Разумеется, сказанное не относилось к портсигарам. Выложенный на стол портсигар человек, естественно, забирал с собой. Это было понятно. Но перед уходом снова положить в карман пачку «Столичных» или «БТ» рассматривалось как несомненное жлобство.
Это я к чему? Это я к тому, что когда гости уходили, то в кратком промежутке времени между стукнувшей дверью лифта – родители всегда провожали гостей до лифта – и возвращением мамы с папой в комнату я успевал подхватить одну-две, а то и три оставленные пачки сигарет и перетащить в свою комнату, в свое хранилище наверху полок.
Мало того, я в свои пятнадцать или даже четырнадцать лет курил трубку! Объяснение тут простое. Я учился тогда в восьмом классе, а в десятом учились два парня, Климов и Тырин. Они летом ходили на охоту. У них были охотничьи ружья – кстати, охотничье ружье-одностволка шестнадцатого калибра тогда стоило в районе двадцати рублей. У них были какие-то охотничьи сумки и какие-то особенные, пахнущие дегтем сапоги, которые они иногда надевали под школьные брюки – просто так, похвастаться. Мы все, особенно кто помладше, были в восторге. Мы обожали Тырина и Климова и пытались им подражать. И вот они-то как раз курили трубки – на школьном дворе, а то и в школьном сортире. И человека три из нашего класса тоже раздобыли трубки и стали дымить, воображая себя то ли охотниками, то ли боцманами. Все скоро бросили, а я продолжал. Мне по-настоящему понравилось. Тем более что Тырин сказал мне, что у него образовалась лишняя трубка и он может продать мне ее за три рубля. Три рубля! Огромная сумма! Но у меня были три рубля (два бумажных и рубль мелочью), накопленные за целый год, наверное. За эти три рубля Тырин принес мне потрясающую трубку, очень старую, довоенную. Прямую, фасона «бильярд», с роговым мундштуком, из великолепного вереска, знаменитой итальянской марки «Савинелли». На самом деле она стоила, конечно, гораздо дороже, как я узнал позже. Но Тырин, наоборот, усовестился такой дороговизны и на следующий день принес мне – в прибавку – едва начатую пачку трубочного табака «Золотое руно». 90 копеек стоил этот табак, так что роскошная, прямо-таки коллекционная трубка «Савинелли» досталась мне, считайте, за 2 руб. 10 коп. Такая трубка в антикварном стоила самое маленькое тридцатку.
Я в те годы часто толкался по антикварным магазинам.
Смешно сказать, как это началось. Один знакомый мальчик из соседней школы – я встретил его на Арбате – вдруг сказал мне: «Пойдем возбуждаться!» «А?» – я не понял. «Пойдем голые сиськи смотреть». «Чего?» – спросил я. «Ну голых теток, – объяснил он мне. – Знаешь, такой класс! Смотрю и возбуждаюсь!» «Где?» – спросил я. «Да вот тут», – сказал он, схватил меня за рукав и потащил в магазин с вывеской «Комиссионный». Это был антикварный художественный магазин, и там все стены были завешаны картинами, среди которых довольно часто попадались голые тетеньки в стиле Рубенса. Наверно, это был еще трофейный товар. Но меня больше заинтересовало, что делалось на прилавках. А там лежала целая россыпь поразительных штучек: миниатюрные портреты дам и господ, китайские каменные и японские костяные статуэтки, лорнеты и пенсне, бисерные кошельки, фигурные янтарные мундштуки в черных выложенных муаром футлярах и, конечно, трубки. Прямые и гнутые, резные и гладкие, пенковые, вересковые и даже фарфоровые. Они стоили довольно дорого, не меньше десяти рублей штука, а некоторые – по тридцать, по сорок и даже по пятьдесят. При этом дорогие трубки часто выглядели вполне скромно, а дешевые являли собой то птичью лапу, сжимающую стакан, то голову бульдога, Мефистофеля или Наполеона. Я даже спросил продавца, в чем тут секрет. Продавец ответил: «Зависит от фирмы».
Помню, много-много лет спустя, в самом начале девяностых, я сказал одному своему приятелю, что вот, мол, хорошо бы заняться бизнесом, а то все кругом бизнесмены, все богатеют на глазах. А что я, хуже? Он долго смеялся и объяснил мне, что бизнесменом нельзя стать вот так, по щелчку: захотел – и вот я теперь бизнесмен. Как нельзя вдруг с бухты-барахты стать поэтом. И даже процитировал знаменитое стихотворение Пастернака: «Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут – а слова являются о третьем годе…» Он даже прослезился, читая, хотя сам был не поэт, а именно что бизнесмен. «При чем тут?» – спросил я обиженно. «А при том, – сказал он, – что как поэт начинает с неотчетливого, ритмического бухтения-мычания, с упоения звуком, так и бизнесмен начинает с того, что в детстве безо всякого наущения меняет жвачки на шариковые ручки или что-то в этом роде». «То есть фарцует?» – спросил я. «Не фарцует, а занимается бизнесом», – сказал он, слегка поморщившись, но стараясь не обижаться.
Прав, конечно. Вот я, помню, в Америке встретил одного папашу, который то ли жаловался на свою шестилетнюю дочь, то ли восхищался ею: во время снегопада девочка бежала к соседям и договаривалась, что отгребет снег от гаражей. Доллар – гараж. Всего гаражей пятнадцать. После этого нанимала двух мальчишек-пуэрториканцев и платила им за всю работу по два доллара на нос. Бизнесвумен.
Это я к чему? Это я к тому что прав был мой приятель-бизнесмен из девяностых. Если бы во мне была бы хоть какая-то деловая жилка, я бы, зная состояние дел на рынке трубок, продал бы ту свою «Савинелли» как минимум за четвертак и вложил бы эту сумму в дело. Например, скупал бы по трешке у ребят дедовские трубки и перепродавал бы с выгодой. Но увы! Я курил эту трубку в свое удовольствие, а заодно и хвастал, какая она дорогая и замечательная, – разумеется, после того как Тырин окончил школу, чтоб ему не было обидно. Дело кончилось тем, что в десятом классе я забыл ее в кармане пальто в раздевалке. И всё! Стащили! До сих пор всей душой надеюсь, что кто-то специально охотился за моей трубкой. Мне почему-то гораздо легче примириться с этим, чем признать, что в нашей школе были подонки, которые обшаривали карманы своих товарищей просто так, вдруг чего найдется.
Но тогда моя трубка «Савинелли» с роговым мундштуком была еще при мне, и мы с мамой и с Асей шли по тропинке, расчищенной в снегу. Я курил трубку, и, как мне потом сказала мама, у меня была страшно довольная рожа. Что совершенно понятно.
То ли в эту же зиму, то ли в следующую Ася Черновицкая приехала в Москву. Мы с ней встретились в каким-то совершенно незнакомом районе, правда, недалеко от метро. Что-то типа «Октябрьского поля» или «Полежаевской». Я уже не помню, была тогда уже открыта эта станция или нет. Но где-то вот там, где кварталы серых домов из силикатного кирпича, много деревьев, без листьев, потому что зима. Помню эти черные ветки на фоне желтых кругов фонаря. Мелкий, мелкий снежок. Было холодно. Мы гуляли. Мне кажется, мы даже приплясывали. Я был в зимних ботинках, она была в черных сапожках. Говорить нам было, в общем-то, не о чем. Но всё равно было очень приятно говорить ни о чем, перекидываться словами. Я спросил у Аси: «Вот у вас есть такая радиола, называется „Сакта“. И есть магазин в Риге, я видел. Тоже называется „Сакта“. Что такое „сакта“?» Ася объяснила мне, что сакта – это такая брошка-застежка. Обычно на плече носится. Деталь национального костюма. Потом она вдруг сказала: «Хочешь, я тебе неприличную частушку спою?» Я сказал: «Давай». Она спела, то есть проговорила: «На горе стоит баран, золотые рожки, парень девушку ля-ля за мешок картошки» – вместо неприличного слова она сказала «ля-ля». Мы посмеялись, потом она спела еще одну песенку на латышском языке, сказав, что это очень модная у них песенка. Про девушку, которая работает в кафе, а кафе называется «Ницца». И что по-латышски выходит смешно – кафе по-латышски будет «Kafejnīca». Вот и получается «Kafejnīca „Nice“». «По-моему, очень мило, – сказал я. – Kafejnīca „Nice“».
Потом Ася сказала: «Я бы очень хотела посмотреть твои картины».
В те годы я был талантливым многообещающим юным художником. Во всяком случае, дома так считали. Но не только дома. Знакомые художники очень меня хвалили. У меня есть слабая надежда, что они хвалили меня не только потому, что они дружили с моим папой. Может быть, в моих картинках в самом деле что-то было. Ведь у меня было целых две выставки и несколько публикаций. Обо мне даже писали в газете «Комсомольская правда». Правда, к шестнадцати годам это всё начало куда-то испаряться – весь талант, вся оригинальность, вся необычность и все яркие цвета. Говорят, это обычное дело. Все дети гениально рисуют. Что ни ребенок, то Матисс или Шагал. Но вот когда начинают усы пробиваться, всё это куда-то девается. Не знаю, в усах ли дело, но должен признаться честно: все мои попытки серьезно обучаться живописи ни к чему хорошему не привели. Я уныло ходил в художественную школу, развозил по бумаге акварельную грязь и тосковал от необходимости рисовать кувшин, яблоко и чучело вороны. И дома перед чистым листом ватмана я тоже вдруг начал теряться. Если раньше картинка выходила сама, то потом она стала какой-то вымученной, высосанной из пальца и поэтому некрасивой, неинтересной. Папа мне однажды так и сказал: «Не мучай ты себя».
Вот тогда, когда Ася сказала, что хочет посмотреть мои картинки, я уже рисовал мало и плохо, хотя мои хорошие картины висели по всем стенам нашей квартиры в Каретном ряду.
И я, сам не знаю почему, сказал: «Прости, пожалуйста, но я сегодня не могу принять тебя». Вот такую странную, претенциозную, вымученную, как мои последние картинки, фразу сказал я ей. Это было бесконечно глупо и страшно невежливо. Не только по отношению к ней, но и ко всему ее семейству, с которым наша семья так дружила. И ведь дома у меня всё было прекрасно – чисто, светло, красиво и весело. Мама и папа были дома. Были бы радостные крики. Мама бы накрыла стол. Мы все вместе попили бы чаю. Я бы показал ей свои картинки, потом мы бы посидели в моей комнате, поговорили бы. Потом я бы ее проводил до дома и, может быть, мы бы даже поцеловались на прощанье, хотя бы слегка, в щечку.
Тем более что она мне вдруг понравилась. Просто очень. У меня сердце забилось, когда она сказала, что хочет прийти ко мне в гости, посмотреть мои картинки. Было темно, мы стояли под фонарем. Она была в шубке из черного курчавого барашка, в светлом шерстяном платке. Темноглазая, с тонким лицом. Чудо-девушка. И снежок, и мороз, и воспоминания о волшебной Риге. А я, вместо того чтобы взять ее за руку и сказать: «Пойдем, конечно. Мама нам чай приготовит. Прости, что я сам тебя не пригласил!» – вместо этого я произнес эту странную картонную фразу: «Я сегодня не могу тебя принять».
Но, может быть, это опять был тот самый миллиметр. Еще один правильный поступок, в смысле моей теперешней судьбы.
Хотя после этого, уже во взрослые свои годы, я не раз вспоминал ее, и мне казалось, что я был в нее влюблен, и она в меня тоже, и ах, какой кошмар, и что теперь поделать, и как жаль, что…
Но – миллиметр, как уже было сказано.
Но, приезжая в Ригу, я всё время озирался.
Лена
– А правда, что у твоей мамы, когда она сердилась, глаза делались зеленые, как крыжовник? – спросила Лена.
Я засмеялся: приятный вопрос. Хоть что-то новенькое. Обычно меня спрашивали – и до сих пор спрашивают, – правда ли, что я выливал манную кашу в окно. А тут про мамины глаза. Тем более что мама была здесь, в Дубултах, и Лена с ней была знакома.
Про мамины глаза я точно не знал. Наверное, это мой папа в своих рассказах слегка преувеличил и приукрасил. Может быть, у мамы зеленели глаза, когда она сердилась на него. А когда на меня – глаза у нее были серые, как всегда.
– Правда? – переспросила Лена.
– Правда, – ответил я. – Конечно, правда.
– Она интересная женщина, – сказала Лена.
– Знаю, знаю, – сказал я. – А я?
– Что – ты?
– А я интересный?
– А ты – пока не знаю! – засмеялась Лена.
Она была старше меня. Я был на четвертом курсе, а она уже окончила институт и работала.
Разговор шел на лодке. Мы решили переплыть реку Лиелупе, искупаться и погулять на том берегу. Сейчас на этом месте только бетонные мостки, а сорок с чем-то лет назад была лодочная станция.
Мы взяли лодку и поплыли.
Это была непростая штука, хотя я хорошо умел грести – можно сказать, с раннего детства.
По Лиелупе то и дело шли баржи, и надо было всё время вертеть головой, иметь их в виду. Если баржа показывалась из-за дальнего поворота – грести быстро-быстро, чтоб проскочить фарватер, а если баржа вдруг оказывалась довольно близко – давать задний ход и ставить лодку носом против волны. Особенно много забот было с «Ракетами» – корабликами на подводных крыльях. Они неслись страшно быстро и давали волну.
– Однажды на такой волне, – вдруг сказал дяденька, – но не в этом месте, а на четыре станции ближе к Риге, там, где этот красный кирпичный пансионат Академии наук, я чуть не утопил сам себя, жену и дочь. Спасибо, что мы успели загнать лодку в прибрежные камыши, потому что оказались совсем близко от этой чертовой «Ракеты», и было жутко смотреть и слышать, как вода чавкает в камышах, подымаясь почти до половины их камышового роста, а потом резко уходит вниз, обнажая крупно-каменистое дно, об которое колотилась наша бедная лодочка. Но всё кончилось хорошо.
Мы удержались на плаву и даже не промокли. А в другой раз нас чуть не потопил какой-то маленький буксирчик на другой стороне Лиелупе. Там было что-то вроде камышовых плавней или мелких островков с протоками. И вот там мы нос к носу совершенно внезапно столкнулись – ну столкнулись – это, конечно, сильно сказано – точнее, наткнулись на какой-то вполне увесистый буксир. Если смотреть сверху, с моста, этот буксир, конечно, показался бы крохотным – даже не буксир, скорее, а какой-то задрипанный старый катерок, может быть, даже сороковых годов. Но это если сверху. А когда из-за камышового островка на твою крохотную лодочку вдруг наезжает такая штука высотой в два метра самое маленькое и, главное, ты понимаешь, что он тебя просто не видит из своей рубки, – вот тут душа в пятки. Особенно когда с тобой жена и пятилетний ребенок. Ладно, об этом в другой раз.
– Вот именно, – сказал мальчик. – В другой раз!
А сейчас вернемся в 1972 год, в Дубулты. Папа умер шестого мая, а за два месяца до его смерти я женился на Кире.
А в августе мы с мамой поехали отдыхать на Рижское взморье, несмотря на недавнюю папину смерть и, самое смешное, несмотря на мою недавнюю женитьбу. Поехали с мамой – вот что смешно. Потому что с Кирой у меня с самого начала пошло всё ужасно. А если честно говоря – с самого-самого-самого начала, чуть ли не с первого дня нашего знакомства, за два года до того. Зачем мы все-таки поженились – сам не знаю. Вернее, знаю, но не скажу.
Так что мы с мамой опять, в очередной раз, приехали в Дубулты, и там я познакомился с Леной.
Тогда я был ужасный фантазер и врун. Увлекающийся врун, вроде барона Мюнхгаузена. Врал настолько нахально и истово, что мне довольно часто верили. (При том что я, конечно, был человек в общем и целом порядочный и честный, а также образованный и неглупый. Но это как-то уживалось в моей душе. Ведь в моем вранье не было никакого мошенничества. Я врал бескорыстно, для красоты. Ну разве что самая маленькая корысть была – понравиться девушкам. Ну а теперь давайте, хватайте камни и кидайте в меня.)
Что же я наврал в этот раз? Точнее, нафантазировал? Всякая фантазия, конечно, имеет некоторую опору в реальности. Так вот, в этот и предыдущий год я занимался карате. Хотя, конечно, на самом деле это была полная чепуха и самообман. Я сам себя уговаривал, что занимаюсь карате. Но моим тренером был выдающийся, просто-таки великий мастер этого страшного искусства. Так получилось, что он был другом моего самого лучшего друга Андрюши. Андрюша уже давно занимался всяким, как тогда говорили, культуризмом – тягал гантели и гири и был, выражаясь по-нынешнему, очень накачан. С нашим общим другом по имени Алек он был знаком очень давно, давнее меня, и в какой-то момент Алек рассказал ему о своих тайных занятиях боевыми искусствами (а тогда за это действительно могли арестовать и дать срок). Андрюша стал заниматься с Алеком, потом проболтался мне. Я заныл, что я тоже хочу. Алек очень хорошо ко мне относился. Вообще он был умный и добрый парень. Велел мне раздеться и попрыгать. Я был тогда жутко худой, при росте 172 сантиметра я весил 54 кг и очень этим гордился. Алек мне долго объяснял, что без хорошо развитой мускулатуры всё равно ничего не получится, потому что россказни о смертоносных ударах, которые наносят крошечные и невесомые японцы, – это действительно сказки. Потому что эти японцы на самом деле довольно мускулистые. Он показал мне фотографии. «Но ведь они же весят по пятьдесят кило», – возмутился я. «Да, но у них в таком случае рост метр пятьдесят, – объяснил Алек. – Разницу понял?» Я понял, но не отставал от него. Тем более что драться я с детства любил и даже, как мне казалось, умел. Меня учил драться папа. Он, кстати говоря, был меньше меня ростом, но очень сильный, с большими бицепсами и развитой грудью – наверно, от природы. Папа учил меня не пихаться кулаками в грудь, как это делают мальчишки, а бить в челюсть, скулу или переносицу, под дых или коленкой ниже пояса. В общем, учил меня тому, что называется приемами. Я всё это выложил Алеку. Он согласился меня немножко поучить. И мы примерно два раза в неделю собирались в какой-нибудь пустой квартире, а летом – на даче, на заднем дворе. Учились прыгать, делать растяжки, набивали себе костяшки пальцев и ребро ладони на специальных приспособлениях, которые назывались «макивара». Звучит красиво, но на самом деле это просто силикатный кирпич, одна половинка которого замотана крепкой пеньковой веревкой, а на другой половинке прокорябаны борозды справа-налево и слева-направо. Такой как будто каменный напильник. И вот об эти макивары мы стучали ребром ладони и кулаком, отжимались на костяшках пальцев, учились меткости, а самое главное, резкости удара. Например, Алек брал большой газетный лист и держал его за кончик двумя пальцами, а я должен был кулаком пробить этот лист насквозь. На самом деле это вовсе не просто. Удар должен быть очень резкий, то есть чрезвычайно быстрый, какой-то хлесткий. Даже не знаю, как объяснить. Попробуйте – увидите. Сам Алек мог запросто пробить кулаком стенку фанерного ящика, стоящего на столе. Причем ящик не слетал со стола. То есть кулак у него был как пуля. Он был здоровенный, просто гора мышц, но мышцы эти были очень гладкие, переливчатые, не как у бодибилдеров, а как у настоящего ягуара. И вот ягуар Алек с некоторой усмешкой учил меня всем этим каратешным премудростям. «Не для того, чтоб тебе черный пояс повесить, – говорил он, – а для какой-нибудь уличной, так сказать, ситуации».
Но я, естественно, воображал себя мастером, кандидатом в черные пояса.
Сейчас я могу сказать, что судьба оказалась ко мне очень милостива, потому что никакой серьезной уличной ситуации в молодые годы со мной ни разу да, честное слово, ни разу не случилось. Потому что я могу себе представить, как бы меня отдубасили, если бы в этой самой «уличной ситуации» я стал бы демонстрировать свое искусство: подпрыгивать, махать ногами и издавать боевые вопли. А уж к сорока годам я перестал фантазировать на темы карате.
Но тогда я верил в это. И поэтому, знакомясь с девушками, я где-то на десятой минуте разговора этак как будто случайно намекал на то, что владею тайным «искусством пустой руки», то есть смертоносного японского рукопашного боя.
– А почему ты тогда куришь? – спросила Лена. – Ведь кто занимается боксом…
– Это не бокс, – перебил я.
– Ну, спортом, – сказала Лена.
– Это не спорт, – сказал я.
– Ну хорошо, физическими нагрузками, – терпеливо сказала Лена. – Те, кто занимаются физическими нагрузками (она, как я понял, нарочно не сказала слово «упражнения», потому что поняла, что на слово «упражнения» я скажу: «Это не упражнения»), – те, кто занимаются физическими нагрузками, – повторила она, – обычно не курят. А ты куришь. И к тому же без фильтра.
Но мне потребовалось меньше трех секунд, чтобы сообразить, что ответить.
– Видишь ли, – сказал я. – Вообще-то ты, конечно, права. Но я, к сожалению, курю довольно давно, можно сказать, почти с двенадцати лет, ну, с тринадцати (это была правда, кстати). Но я, когда начал заниматься этими (я иронически усмехнулся), как ты выражаешься, физическими нагрузками, я, конечно, перестал курить.
– Бросил? – спросила она. – А как у тебя вышло? Вот я, например, курю всего с десятого класса. Хочу бросить, а не могу.
– Не бросил, а прекратил, – сказал я. – На время тренировок. А сейчас, – сказал я, – у меня, во-первых, отпуск, а, во-вторых, как ты видишь, небольшой насморк (у меня действительно был насморк). Поэтому я сейчас не могу заниматься, и поэтому позволяю себе курить. Пока. Временно.
Зачем я всё это рассказываю? Чтоб еще раз вспомнить, какой я был смешной и, наверно, неуверенный в себе, раз украшал свою персону такими выдумками. Но Лене понравилось. А может быть, она просто не обратила на это внимания.
У нас с моим другом Андрюшей был один приятель, который очень увлекался философией, хотя к его профессии это не имело никакого отношения. Он скупал книжки, конспектировал их и даже устраивал у себя дома что-то вроде философского семинара. Мы, бывало, захаживали к нему на этот семинар. Там были самые разные люди: и филологические девочки, и самодеятельные поэты, и вообще не пойми кто. А его жена, чудесная милая добрая женщина, задавленная безденежьем и мужниными причудами, подавала гостям чай и маленькие бутербродики.
Один раз я сказал Андрюше: «Как она все-таки его любит!» «Да, – ответил Андрюша. – Очень. Но знаешь что, старичок? Мне кажется, что она его любит не за то, что он такой философ, а несмотря на это».
Вот и сейчас мне кажется, что я понравился Лене не за мои россказни о тайных японских боевых искусствах, а несмотря на это.
Итак, мы плыли на лодке по реке Лиелупе.
Мы переехали на ту сторону, привязали лодку к кусту, немножко побродили по большому пустому полю, потом решили искупаться. Кажется, мы за этим и поехали на лодке, чтобы искупаться по-настоящему – в глубокой воде. Лена уже была в купальнике, а я в плавках. Поплавали, удивляясь крутому скату дна после двух шагов сразу резко вниз, в бездну. Я сказал ей, что Лиелупе страшно глубокая. Двадцать-тридцать, а то и сорок метров. «Значит, получается, – сказала Лена, бултыхаясь в воде, – что там, на дне, на середине реки может стоять пятиэтажный дом? А пароход сверху проедет и даже не заденет?» – «Здорово, правда?» – сказал я. «А мне страшно», – сказала Лена. Мне тоже стало немножко страшно. Мы вылезли на берег, потому что разговор-то шел в воде, и нам обоим показалось, что посредине реки, вдоль по течению, на дне стоят пятиэтажные дома. То ли пустые, а то ли там живет неизвестно кто. Стало страшно, что вот ты плывешь, купаешься, а там на балконе пятого этажа стоит кто-то, и смотрит вверх, и видит, как в вышине проплывает брюхо парохода, а потом дрыгаются чьи-то ноги, ноги купальщиков. И вдруг этот кто-то оттолкнется от ограды своего балкона, подпрыгнет вверх, и схватит тебя за ногу, и утащит вниз, в подводное царство бетонных пятиэтажек. Наверно, мы с Леной одинаково об этом подумали, потому что быстро поплыли к берегу и вылезли, цепляясь за куст, к которому была привязана наша лодка. Вытерлись, переоделись, отвернувшись друг от друга, сели на траву, свесив ноги над обрывом и стараясь не смотреть на воду. Конечно, по всем правилам я должен был бы обнять Лену за плечи. Хотя бы так, слегка – для начала. Я вообще был сторонником быстрых ухаживаний. Сначала руку на плечо, а там посмотрим. Но я не положил ей руку на плечо, хотя мы сидели совсем рядом, почти касаясь друг друга локтями. Потому что я очень тосковал по своей законной жене Кире, которая почему-то поехала отдыхать в Сочи с подругой. Я точно знал, что с подругой. То есть я знал, что она мне не изменяет. Но не в этом же дело. Если ты буквально только что вышла замуж, да еще у твоего мужа буквально два месяца назад умер отец, то уж, казалось бы! Хотя мысль об отце я, конечно, гнал из своих рассуждений. Нельзя делать из смерти отца козырную карту. Не в этом дело. Просто как-то странно: четыре с половиной месяца назад поженились, и уже отдыхаем отдельно. Хотя мы могли поехать вместе куда угодно. В тот же Сочи, или в те же Дубулты, или в какое-то третье, пятое, десятое место. Но она не захотела. Как? Да очень просто. Сказала: «Я не хочу». А я, такой умный, ловкий, такой напористый, такой всеобщий любимец и к тому же без пяти минут мастер карате – почему-то нагнул голову и пробурчал: «Ну смотри, как хочешь».
Вот, но я всё время об этом помню. Я чувствовал себя обманутым. Не просто обмишуленным, обмухлеванным в каком-то конкретном деле, а, если можно так выразиться, обманутым по большому счету.
Самое смешное – хотя чего уж тут смешного, – что это был не первый случай такой вот с ног до головы обманутости, и еще смешнее – но теперь уж точно смешно, – что предыдущий случай я тоже переживал в Дубултах и тоже в разговорах со своей мамой.
Это было за два года до плавания с Леной по Лиелупе. Кажется, в 1970 году. Кажется, это был год, когда в Москве была страшная жара, и лесные пожары в Московской области, и дымная мгла на улицах, тяжелый торфяной запах, инфаркты и инсульты знакомых стариков, вообще какой-то апокалипсис. Потом эти апокалипсисы участились. А сейчас вообще что ни лето, то пожар и смог. Но тогда, в 1970 году, это было впервые, и поэтому так ужасно. Вдобавок я всё никак не мог пережить одну совершенно вроде бы детскую разлуку. Девушка, в которую я был влюблен с восьмого класса, точнее, с того лета, когда я уже перешел из восьмого в девятый, в которую я был влюблен два года подряд без малейшего перерыва, которую я встречал и провожал, с которой я ходил на концерты и в театры, с которой – бывали такие случаи – виделся по два раза в день, без которой вообще жить не мог. То есть мне казалось, что я вообще с ней уже живу в некотором высоком смысле слова – и она тоже, казалось мне, так считала, вот что особенно интересно! – и вдруг она сказала мне, что полюбила другого и выходит за него замуж. При этом сказала мне так, что я понял: все эти годы, встречи-проводы, телефонные звонки и даже письма – а она писала мне письма, я правду говорю! – что все это было – или вдруг оказалось? – просто так, ерунда, чепуха, детские игры, школьные забавы. В общем, что-то в высшей степени несерьезное, а вот сейчас, с «этим человеком», у нее серьезно. Сейчас у нее наступило нечто настоящее. А со мной была, повторяю, какая-то чепуховина.
Вот именно это меня убило. А не сам факт того, что девушка ушла. Хотя в этом факте нет ничего особенно приятного, но, думал я, выходя на балкон и глядя на россыпь зажигающихся в вечернем тумане окон, на бескрайнюю россыпь окон (мы жили тогда на одиннадцатом этаже дома на углу Садовой и Каретного ряда. Балкон кухни смотрел на север, то есть на театр Советской армии и высотку у Красных ворот, рядом с которой торчала еще одна высотка – гостиница «Ленинградская». Балкон моей комнаты смотрел на юг. Оттуда была видна гостиница «Пекин», высотка на площади Восстания, МИД и где-то в расселине между домами – шпиль гостиницы «Украина». Окон было множество. Хотя, наверное, не столько, сколько сейчас. Но тогда тоже было не сосчитать), – и вот я, стоя на балконе, то на том, то на другом, и глядя на темнеющую Москву с загорающимися окнами, думал: «Ну подумаешь, девушка ушла. Пальцем ткнуть в каждое десятое из этих окон, ну хорошо, в каждое сотое – так обязательно у кого-нибудь в этот миг девушка уходит или муж с женой разводятся. А где-то, наоборот, в первый раз поцеловались».
Я с детства любил такие мысли – умные и ни о чем. Однажды на даче мы с бабушкой вечером шли по аллейке, и над нами довольно низко пролетал тяжелый пассажирский самолет – недалеко был аэродром Внуково. На корпусе самолета светились окошечки. Я подумал, что около каждого окошечка сидит человек, а скорее всего, два или три, и с другой стороны тоже, и у каждого что-то свое, каждый о чем-то своем думает, у каждого свое горе или своя радость. Я сказал об этом бабушке.
– Бабушка, – сказал я, – а вот если бы узнать, о чем все эти люди думают. Вот эти, которые сейчас в самолете сидят, и что у них вообще в жизни делается.
– Разное, – сказала бабушка. – И вообще, не разводи филожопию.
Моя бабушка довольно резко выражалась.
Но я так и не перестал разводить филожопию. Во всяком случае, к двадцати годам еще не разучился. Вот я и думал, стоя на балконе, о том, что в каждую отдельно взятую минуту – это было наше любимое выражение в нашей сначала школьной, а затем институтской компании – «в каждую отдельно взятую минуту»: например, «я в каждую отдельно взятую минуту хочу выпить!» – так вот, в каждую такую минуту в нашей Москве, наверно, сто девушек говорят парням: «Я тебя больше не люблю». А если взять весь Советский Союз и прибавить к нему все страны Варшавского договора, а также государства, входящие в блок НАТО, а также неприсоединившиеся страны, то вообще страшное дело. Оглохнешь от этих криков «Я тебя больше не люблю» или «I don't love you anymore».
Но это же совсем другое. Одно дело – любила-разлюбила, а другое дело – «Теперь у меня серьезно» – то есть, выходит, «а ты у меня был просто так». Вот этого я не мог пережить и простить, потому что у меня-то это было серьезней некуда.
И вот об этом я говорил своей маме жарким августовским вечером 1970, кажется, года. Здесь, в Дубултах, тоже было жарко, хотя, конечно не так, как в Москве. Кроме того, по телефону сказали, что в Москве появилась холера, и это тоже не прибавляло радости.
Или это было в другой год? Надо вспомнить.
Я был весь в тоске из-за жары и из-за холеры – представьте себе, холера меня очень огорчала, даже пугала. Но не потому что я боялся заразиться, что меня лично могли коснуться эти несколько случаев древней смертельной болезни откуда-то с дальнего юга или из далекого прошлого – а потому, что эта чертова холера выбивала из-под меня какие-то мысленные опоры и устои. Я верил, что мир в целом благоустроен. Тем более у нас, в Советском Союзе, где все эпидемии побеждены, и уж, во всяком случае, такая погань, как холера, нашим людям не грозит. Мне было ужасно жалко людей, которые в эту холеру вляпались. Не знаю почему но я им очень сочувствовал, хотя и не знал, кто они такие. А может быть, на самом деле я жалел себя. Это был просто повод поогорчаться. Нечто вроде спускового крючка.
– Ну холера, – сказала мне мама. – Мой руки перед едой и не покупай фрукты на рынке. А если купил – ополаскивай кипятком. У тебя вот дедушка от рака умер, а бабушка Аня – от диабета, а бабушка Рита – от инфаркта, а у папы – страшная гипертония, ты ведь сам знаешь (папа тогда еще был жив). Так что, – грустно усмехнулась мама, – бывают штуки посильнее холеры.
Я понял, что она почти цитирует: «Эта штука сильнее „Фауста“ Гете» – и тоже улыбнулся.
– Да, – сказала мама, – посильнее холеры, и главное, поближе к нам. К нам с тобой.
И тут я понял, что не торфяные пожары и не холера – причина моего плохого настроения, и замолчал и махнул рукой.
– Всё никак ее забыть не можешь? – сказала мама. Она прекрасно знала про эту историю. Тем более что она, эта девушка, – вот ведь ужас-то! – продолжала дружить с моей мамой. Звонила ей по телефону, а иногда даже заходила в гости, когда меня дома не было.
– Да, – сказал я, – представь себе.
– Ладно, – сказала мама. – Ну сколько можно? Бывает.
– Ты, наверное, хочешь сказать, что девушки довольно часто разлюбляют молодых людей. В одной Москве штук сто в каждую отдельно взятую минуту. Да? – я саркастически рассмеялся.
Мама не уловила моего сарказма и сказала, засмеявшись в ответ:
– Да, именно.
– Нет! – вскричал я. – Именно что нет! Мне кажется, что я как будто человек, который много лет подряд носил деньги в банк, а ему показали фигу!
Тогда, в 1970 году, не было никаких банков, кроме сберкассы, и уж подавно не было такого понятия «обманутый вкладчик». Обманутые вкладчики появились четверть века спустя. Но вот поди ж ты, я, за четверть века до всяких финансовых пирамид и лопнувших банков, чувствовал себя именно как тот дурачок у закрытой двери банковского офиса. У двери, которая опечатана полицией и перед которой дежурит охранник и парочка корреспондентов снимают для телевидения жидкую толпу таких, как я, дурачков. Дурачок! Чуть ли не каждую неделю носил деньги в банк, считал проценты, прибавлял и умножал в уме, носил – надо подчеркнуть – не ворованное, а честно заработанное. А бывало, что и сэкономленное, и планировал, как купит себе машину, квартиру, обстановку. И вдруг раз! «Извините, мы банкроты». А сами-то, небось, банкроты-то не по миру с протянутой рукой ходят, а сидят где-нибудь во Франции на Лазурном берегу и над нами, дурачками, смеются. Вот всё это и примерно такими словами я, чуть не плача, рассказал своей маме. Вообще, надо сказать, я своей маме очень душевно доверял. Во всяком случае, в те годы.
– Понятно, – сказала мама, – то есть ты в нее вкладывал, а она… – и мама сделала паузу.
– Да! – чуть не закричал я.
– Понятно, – сказала мама еще раз. – Но вот что я тебе хочу сказать. Ты, конечно, на нее злишься, что вот ты в нее вкладывал, а она всё профукала с другим. Так? – жестоко спросила она.
– Так, – сказал я.
– Нет, все-таки не так, – сказала мама. – Потому что человек не сберкнижка. Понял?
– Не знаю, – сказал я.
– Но ты постарайся, – сказала мама. – Постарайся! Постарайся! Постарайся понять! Человек – не сберкнижка. Она – не сберкнижка. Она не обязана была возвращать тебе вклад с процентами.
– Ага! – сказал я. – Значит, никто никому ничего не обязан?
Это был наш давний семейный спор. Помню, как он начался. У мамы была тетка, Анастасия Алексеевна, – тетя Стася мы ее звали. Женщина с очень крутой биографией: беглянка из мещанской провинциальной семьи, танцовщица в московском кабаке, внезапная жена богатого адвоката – у них был целый этаж в роскошном доме, угол Колымажного и Ваганьковского переулков – то есть на задах нынешнего музея имени Пушкина, – а потом бедная старушка жила в коммуналке, в одной комнате с незамужней дочерью. Так вот, она всё время повторяла: «Никто никому ничего не обязан!» – наверное, имея в виду свою странную несчастную жизнь. Однажды мама, уж не помню к чему, сказала – так, походя, то ли вспоминая какой-то разговор, то ли просто пряча перетертую посуду в буфет:
– Как говорит тетя Стася, «никто никому ничего не обязан».
И вдруг папа возмутился:
– Как это? Что ты сказала? Ты действительно так считаешь?
– Ну, в общем-то, да, – сказала мама. – Всё, что мы делаем друг другу, мы делаем добровольно. Потому что мы хотим это сделать.
– Нет, – закричал папа, – это не так! Это подло так рассуждать! Люди скованы тысячью обязательств. Каждый человек обязан своим родителям, своим учителям, своим товарищам по работе. Людям, которые тебя выручают каждый день. Своим друзьям. Всем вокруг. Все друг другу обязаны. Это цинизм – говорить, что никто никому ничем не обязан.
– Допустим, – сказала мама. – Ну а как принудить?
– Что значит «принудить»? – не понял папа.
– Выполнить свои обязательства, – сказала мама учительским голосом. – Допустим, я обязана своей подруге, что она одалживала мне деньги. Но как она обяжет меня одолжить ей деньги в ответ? Возьму и скажу: «Извини, дорогая, у меня сейчас ни копейки».
– А совесть? – сказал папа. – Тем более если на самом деле у тебя есть деньги!
– Допустим, – сказала мама. – Допустим, деньги у меня есть, но я же не миллионерша. Вот у меня есть тысяча рублей. Что мне делать? Одолжить ей, потому что я обязана, потому что совесть, или купить Денисочке (она погладила меня по голове) новую курточку и вообще спокойно прожить месяц, не ужимаясь?
Тогда были еще старые деньги. Тысяча по-старому – сто по-новому. Для 1960 года – серьезная сумма.
– И всё равно, – сказал папа, – ты нарочно хочешь меня переспорить. Но если никто никому не обязан, то это будет не жизнь, а не знаю что.
– Тебе просто нечего сказать, – сказала мама.
Они стали кричать друг на друга, а я ушел из комнаты.
Потому что я понял, что дело не в афоризме тети Стаси и не в задаче о том, как правильно потратить сто рублей. Я понял, что там какой-то давний спор, а может быть, какая-то давняя ссора. А мне, поскольку мне было лет десять, ужасно не хотелось в этом разбираться. И вообще я ненавидел, когда мама с папой ссорятся. Особенно если я не понимал, из-за чего.
– Значит, – повторил я, – никто никому ничего не обязан?
Повторил со значением, громко, упрямо глядя на маму.
Мне кажется, что она вспомнила ту старую ссору с папой и даже покраснела. Наверное, там действительно что-то было…
– Да, – сказала она, – но не в том смысле. Не в смысле, что можно свободно обманывать друг друга. Пользоваться дружбой, а потом плевать в колодец. Нет. А в смысле, что по обязанности ничего не получается. По обязанности получаются тоска, рабство и злоба. Поэтому она ничем тебе не обязана. Радуйся тому, что ты за ней ухаживал, что ты встречал ее, ходил с ней под руку. Ведь есть же о чем вспомнить? Правда? – Она улыбнулась.
– Не знаю, мама, – сказал я. – Может быть, ты права, но я так не могу.
Я очень долго так не мог. Смог буквально недавно. То есть лет через сорок после этого нашего с мамой разговора. Но до сих пор у меня нет твердого ответа: так что? обязан или не обязан?
Тем временем наступал вечер. Проехала баржа, на которой уже горели огоньки. Я разговаривал с Леной о какой-то ерунде, об университете, о приятелях, рассказывал анекдоты. У меня очень хорошо получалось, особенно анекдоты. Она смеялась.
– Одни очень милые люди, – сказал дяденька, – тоже смеялись, когда я анекдоты рассказывал. А за глаза говорили, что приглашают меня специально, чтоб я смешил публику.
– Ну ладно, ладно, ладно тебе! – сказал мальчик.
Да.
Она смеялась. Сказала, что я ее совсем уморил и что пора ехать домой, потому что скоро ужин.
Мы отвязали лодку, уселись (она на корму я на весла) и довольно быстро, переждав какую-то баржу, переехали на ту сторону. Отдали лодку, заплатили копеек шестьдесят или около того, вышли на бетонный дебаркадер, перешли рельсы, вылезли на платформу станции «Дубулты», а там – буквально три минуты до Дома творчества. Точный адрес Дома творчества был улица Гончарова, потому что на этих дачах в старину отдыхал не только утонувший революционер и эпатажник Писарев, но и благополучнейший русский классик, автор «Обломова». Кстати говоря, Гончарова молодой Чехов ставил на второе место среди современных ему русских литераторов – рядом со Львом Толстым. Да, да, не «вслед за», а «рядом с». А на первом месте, согласно Чехову, никого не было. Так и написано: Литературная табель о рангах. Действительный тайный советник – вакансия. Тайный советник – Лев Толстой, Гончаров. Ну, может быть, чуточку на втором месте, так как свое генеральство он получил позже…
В воротах было уже совсем темно. Низкие деревья, гравий под ногами, сырой запах, идущий от земли и травы. Написал бы – «сырой запах заборных перекладин», – но получится знаменитое пародийно-паустовское «пахло мокрыми заборами», но вот смешно: мокрые заборы в самом деле пахнут мокрыми заборами, эх. И вот тут я в первый раз обнял Лену за плечи, и она слегка, ответно – это было похоже на ответное рукопожатие – обняла меня. И потом мы взялись за руки и пошли к столовой. Но я всё равно думал о Кире, и мне было как-то не очень хорошо на душе, хотя Лена была лучше Киры, если рассуждать объективно. Ну уж, во всяком случае, ни чуточки не хуже.
Взявшись за руки, мы дошли до столовой. Там я пошел ужинать, а Лена поговорила со своими родителями и пошла к себе на другую улицу. Я же говорил, что она жила со своей подругой Машей, снимала комнату неподалеку. Хотя подробности я уже не помню.
Интересно другое. Когда мы с Леной шли, взявшись за руки, по темной аллее к столовой, мы не целовались. Мы вообще начали целоваться очень не сразу. Мне даже самому странно, почему так вышло. Хотя на самом деле – чего странного. Я, как говорили в старину, любил другую женщину. Свою законную жену. Какой бред, какой обидный абсурд: я любил свою законную жену, с которой мы расписались меньше полугода назад, – а она теперь со своей подругой в Сочи, а я со своей мамой в Дубултах. Бред, я же говорю. Поэтому я даже не могу точно сказать, нравилась мне тогда Лена или нет. Конечно, если, что называется, взглянуть объективно, она должна была мне понравиться. Довольно красивая, стройная, умная и, что особенно приятно, чуть-чуть старше меня. Я с детства влюблялся в девушек, которые были старше. Например, моя «молодая жена», которая сейчас была в Сочи, была старше меня и вовсе на четыре года, и это составляло предмет моей какой-то особой, трепетной гордости. Психологически понятно, хотя довольно смешно. Наверно, из того же мешка, в котором лежала моя привязанность к маме, – «комплекс-шмомплекс, лишь бы мамочку любил» – но вообще, конечно, странен сам факт: взрослый парень, да просто молодой мужчина, ездит отдыхать вместе с мамой, живет с ней в одном номере и не видит в этом ничего ужасного. Впрочем, многие ребята ездили точно так же, но всё равно это очень странно. Любой нормальный двадцатилетний, а тем более двадцатидвухлетний парень – да что там парень, двадцатидвухлетний мужик, конечно бы, ни за какие коврижки не поехал на каникулы, пускай даже к морю, пускай даже в любимую Ригу – но с мамой, с мамашей, с мамочкой, в компании пожилых дам и старушек и скучных советских писателей. Конечно, любой нормальный парень сказал бы: «Мама, сколько стоит моя путевка плюс билеты? Сто пятьдесят рублей, наверное? Дай мне эти деньги, пожалуйста. Вот ровно эти самые, и я поеду с ребятами на юг, или в какой-нибудь студенческий лагерь, или хоть в ту же Ригу. Но сам, сам, понимаешь?» Сейчас я уверен, что мама, конечно, выдала бы мне такую сумму, а может быть, даже чуточку больше. Может быть, даже помогла бы найти путевку в какой-нибудь студенческий лагерь. Но вот, поди ж ты, мне это даже в голову не приходило. А сейчас мне в голову пришло, что я, может быть, даже мешал ей отчасти. Ну что за радость – жить в одной комнате с сыном, где каждую секунду надо говорить: «Отвернись» или «Выйди» или самой выходить или отворачиваться. И, кроме того, тогда моей маме было всего сорок восемь лет. Молодой усатый джентльмен рядом с ней, который, оказывается, ее сын, – конечно, я ее, грубо говоря, старил. Я помню, как мы с мамой, как раз именно в этот раз, именно в эту поездку ехали в поезде – а может быть, когда мы с ней опять-таки вдвоем ездили в Ленинград уже в 1974 году, – я помню, как она мне со смехом рассказывала, что соседка по купе ее спросила, когда я пошел умываться: «Это, простите, это ваш муж?» – и мама сказала мне: «Я просто воскликнула: ну что вы, как вы могли подумать такое? Это мой сын». А соседка якобы сказала: «Ну знаете, сейчас современная жизнь такая… Еще и не такие случаи бывают. И не разберешь». Я видел, что маме это нравится. То есть не это само по себе, а нравится, что ее считают молодой женщиной. И поэтому, когда позже, в свои пятьдесят лет, она ездила отдыхать с маленькой Ксюшей, моей сестрой, то это ее, наоборот, молодило, украшало. А со мной получилось вот так, как получилось. Странное дело, что никто из нас, ни я, ни она, не сделали и малейшей попытки, чтобы хотя бы отдыхать отдельно. Наверное, мы оба мучились и оба не отдавали себе в этом отчета. И наверно, здесь была одна из причин нашего ужасного отчуждения, если не сказать ненависти, которая возникла буквально через три года на смену самой искренней дружбы, привязанности и материнско-сыновней любви.
Но об этом когда-нибудь в другой раз. Если дойдем. А не дойдем, то и слава богу.
Лена тем временем, попрощавшись с родителями, пошла по аллейке к выходу. То ли одна, то ли вместе с подругой Машей, которая то ли была тут же, то ли дожидалась Лену в воротах. И я ее даже не проводил.
Мы, конечно, скоро начали целоваться. Но мы только целовались, и более ничего. Что тоже, конечно, очень странно. И наверно, удивляло прежде всего саму Лену. А я скучал по Кире. Хотя это мне не мешало обнимать и целовать, но только обнимать и целовать, другую девушку, виноват, взрослую женщину.
Иногда случались совсем уже странные вещи, когда мы, например, стояли на деревянном балконе старого деревянного корпуса (то ли Детского корпуса, то ли Дома с привидениями), стояли, обнявшись. И вдруг на соседней церкви, на протестантской кирхе, начинали звонить часы, короткими тугими ударами отбивая время. И я, зажмурившись и при этом обняв Лену за плечи, за талию, крепко обняв и прижав ее к себе, шептал с каждым ударом: «Кира, Кира, Кира, Кира!» Вернее, не шептал, а говорил про себя. Это не мешало обнимать и гладить Лену. Это было как молитва. Я вспоминал фразу из какого-то старинного катехизиса: «Когда следует молиться Господу Богу? Господу Богу следует молиться денно и нощно». Но, конечно, это было очень странно. Мне казалось, что я совершаю двойное предательство. Что я предаю одновременно и Киру – хотя Кира, честно говоря, заслужила, казалось мне в тот миг, – заслужила самой нормальной измены. Но тут же спрашивал себя: если она заслужила, если она такая дрянь, если она тебя, по существу, бросила – неважно, что не с мужчиной, просто бросила едва через полгода после свадьбы, да вдобавок через три месяца после смерти отца, – если она такая дрянь, то почему же я не изменяю ей? Вот прямо сейчас, с женщиной, которая в меня влюблена? С женщиной красивой, умной и во всех отношениях достойной? Почему я вместо этого тайно шепчу, как дурак, ее имя? «Кира, Кира, Кира»? А если я так ее люблю, эту дрянную и ужасную Киру, то зачем же я тискаю плечи и целую виски, щеки и шею бедной Лены? Сидел бы себе на скамеечке над пляжем, курил бы сигареты без фильтра и тосковал бы по своей Кире. И не обманывал бы ни в чем не виноватую Лену.
Обманывал чувствами, вот что ужасно. Обманывал не в смысле что-то обещал и не сделал – я вообще никогда никому ничего не обещал, даже мельком, даже в самой необязательной форме. Я был в этом смысле редкостный ловкач. Меня никто, ни знакомые парни, ни тем более знакомые девушки, никогда, никогда не могли поймать за язык, не могли сказать: «Подлец, ты же обещал!» Ну, не обещал, но намекал явственно… А вот и нет! Ничего я не обещал и не намекал тоже. Ни явственно, ни даже туманно. Нет, конечно, я давал обещания, много раз, но только те, в которых я был, во-первых, абсолютно уверен, а, во-вторых, которые не касались таких опасных материй, как любовь, верность, будущее. То есть я мог сказать: «Принесу тебе эту книжку завтра. Я обещаю», – как делают все нормальные люди. Но никогда не обещал любви до гроба. И не говорил что-нибудь вроде: «Ах, как было бы хорошо нам с тобой на будущий год поехать на Черное море». Или пуще того: «Я мечтаю, чтоб у нас было трое детей, два мальчика и девочка». Боже упаси. Никогда.
То есть я был вот такой ловкий и расчетливый человек, но тем более ужасным казалось мне мое поведение с Леной. Я ничего не обещал ей словами, да. Но я же проводил с ней целые часы, мы болтали обо всём на свете, мы обнимались и целовались, значит, я делал нечто большее, чем какие-то обещания. Я был с ней. Но ведь на самом деле сердцем и тоской я был совсем с другой женщиной. Со своей законной женой, что довольно смешно.
Законная жена однажды написала мне письмо. Во-первых, она написала, что вот, мол, как жаль, что она поехала со своей подругой, а не со мной. «Тебе бы там понравилось», – написала она. Хорошенькое дело – как будто поехать в Сочи была тяжкая повинность, и как будто бы она упросила свою подругу выполнить за меня эту неприятную работу! Или что она на самом деле боялась, что ахах, мне там не понравится! Грозный капризный муж будет недоволен! Полная дурь! Еще она написала, что там был цирк лилипутов и что ей было очень стыдно на него идти, и она решила не ходить, но потом все-таки пошла. Что представление было хорошее, смешное, но ей всё равно было стыдно. Что как будто она насмехается над «маленькими людьми» и еще тому подобные рассуждения. Еще в конце про то, что она увидела на рынке попугая какаду, который продавался всего за пятьдесят рублей, и что у нее были лишние пятьдесят рублей. Хотела купить, но побоялась, что попугай не выдержит перелета. «А то бы я тебе его подарила», – написала она. О, она любила такие легчайшие издевательства. Например, она говорила так: «Я тут купила одну штучку тебе в подарок, а потом пришла домой и распаковала. Просто чтобы посмотреть. Поставила на стол и увидела, что она теперь живет у меня. Так что прости меня, ладно?» Речь шла о какой-то статуэтке или о стакане для карандашей, не помню. Какая-то настольная безделушка. Но зачем эти разговоры? Я просил купить мне статуэтку! Я, конечно, не маленький ребенок. Мне не нужна эта статуэтка, но всё равно это называется «дразнить». Вот так она меня всегда дразнила. Правда, недолго, но это уже другая история.
А в те дни я очень мучился своей безответной любовью к законной жене, что не мешало мне вовсю красоваться, и распускать хвост, и интересничать перед Леной, и целоваться с ней.
Лена была очень остроумная.
Один раз мы с нею стояли и целовались посреди пансионатского номера, прямо под люстрой, потому что ее папа и мама только что уехали на экскурсию. Я на улице, на лавочке сидя, сторожил этот момент. Вот они вышли из дверей, я с ними вежливо поздоровался; увидел, как они вместе с целой группой советских писателей погрузились в автобус; автобус выехал из ворот, – и я тут же побежал в корпус, пешком взлетел на пятый этаж и вбежал в номер.
Мы сразу принялись обниматься и целоваться. Вдруг в дверь постучали; ручка дверного замка стала двигаться вверх-вниз.
Мы переглянулись. Лена погрозила мне кулаком и строго сказала: «Да? Заходите!» Потому что дверь мы забыли запереть. Я забыл запереть.
Вошел средних лет писатель Литвинов. Худенький, большеголовый и кудрявый, в маленьких очках на задумчивом носу. Ему нужен был отец Лены. Мы объяснили, что ее папа уехал, будет вечером. Ну и всё, казалось бы. Но писатель Литвинов не уходил. Он стал беседовать с нами о судьбах литературы и искусства.
Даже удивительно, какой это был самоупоенный человек. Он совершенно не понимал, насколько он здесь некстати. Хотя чего тут понимать: раскрасневшиеся, растрепанные молодые люди, одни в номере, днем. А он продолжал разговаривать про умное, а потом прочел нам свое стихотворение. Довольно длинное.
Оно было написано от первого лица. Как бы покаяние перед обманутыми женщинами. Краткое содержание: вот, мол, он (то есть автор) вроде бы нормальный честный человек, но на самом деле настоящий подлец. Потому что ему доверялись женщины, а он бросал их, предавал, надругивался над их чувствами. И нет ему (автору то есть) прощения. Ну и так далее. Прочитав стихотворение, писатель Литвинов склонил вбок свою большую кудрявую голову и посмотрел на нас с Леной сквозь очки.
Конечно, надо было похвалить или хотя бы вздохнуть. Но мне хотелось заорать: «Уйдешь ты или нет, в конце концов?!» Поэтому я молчал.
Тут Лена сказала:
– Какой у вас странный лирический герой!
– То есть? – спросил писатель Литвинов. – В каком смысле?
– В смысле что вот вы пишете: «Я, я, я», – а ведь это вовсе не про вас.
– Но позвольте, откуда вам знать?
– Да вы же милый добрый однолюб, это же видно! – засмеялась Лена. – Вы в шестнадцать лет влюбились в одноклассницу, потом женились на ней и до сих пор ее любите, и это очень хорошо, так и надо жить! Вы не могли обманывать женщин. Вы на себя наговариваете. Ничего такого не было, сознайтесь!
Писатель Литвинов закашлялся, покраснел и выбежал из номера, а мы заперли дверь и снова стали обниматься.
Писатель Литвинов был очень самовлюбленным человеком.
Я помню, как я из-за него не смог как следует поговорить с замечательным рижанином Лёней Штурманом.
С Лёней Штурманом я познакомился два года до того. Я помню, как я сидел на лавочке над морем.
Он подошел, сел рядом, и как-то, слово за слово, мы разговорились. Это оказался очень приятный парень, года на четыре старше меня, по образованию физик, работавший в институте экспериментальной хирургии. Был в Риге такой институт, которым руководил легендарный, по словам самого Лёни, врач, ученый, изобретатель и конструктор Виктор Константинович Калнберз. Лёня рассказал смешную историю про то, как Калнберз сделал весьма остроумный, конструктивно оригинальный протез одного важнейшего органа некоему молодому грузину. Это действительно было новое слово в эндопротезировании. Уникальная операция. Пациент был страшно благодарен, а через год приехал протез чинить, потому что слишком увлекся новыми возможностями и вообще «всем надо было показать, понимаешь?». Лёня Штурман дал мне свой телефон и адрес, сказал, что у него пятикомнатный дом в Юрмале, что он в любое время ждет меня в гости. Я записал этот телефон на какой-то бумажке, бумажку спрятал в записную книжку и, наверное, года два проверял, лежит ли она на месте. Переписать, однако, поленился.
И вот через два года солнечным днем я сижу на пляже на полотенце, а рядом со мной на большой подстилке лежит писатель Литвинов. Лежит на спине, свернув валиком брюки и положив их под затылок, и вслух читает мне журнал «Театральная жизнь». Статью Анатолия Эфроса про то, как он, Эфрос то есть, ставил «Трех сестер». Он читает мне о том, как Соленый собирается подстрелить барона Тузенбаха «как вальдшнепа», читает очень увлеченно, с выражением, взмахивая рукой, наверно, потому, что у нас с ним несколько раз заходил разговор о театре. И вдруг я увидел, что ко мне подходит ужасно знакомый человек. Подходит и очень вежливо здоровается и спрашивает: «Не узнаете меня?» Я не сразу его узнал, и он уже было хотел отойти в сторону, но тут-то я его и узнал. Я сказал: «Здравствуйте, Лёня! Как я рад вас видеть!» Лёня присел рядом, а писатель Литвинов, увидев, что ко мне подошел приятель, стал читать еще громче, еще выразительнее. И вот беда – ни у кого из нас, ни у меня, ни у Лёни Штурмана, не хватило решимости прервать эту декламацию. Лёня вполне мог сказать: «Давай поговорим» или вполне благовоспитанно: «Я позволю себе прервать вас буквально на минутку». Мы бы с ним договорились о встрече. Или я мог сказать: «Простите. Я вот тут товарища старого встретил». Встать и отойти с Лёней в сторону. Что страшного? Кто мне писатель Литвинов? Дедушка? Дядя? Начальник? Да никто. И как писатель он был не слишком знаменитый. А если бы и знаменитый, то что? Я был студент филфака, и будь он хоть секретарь правления Союза писателей, мне-то что? Но я почему-то оробел, сконфузился, не мог противостоять этому выразительному, напористому, выпевающему слова голосу, не мог остановить этот самовлюбленный поток. Как странно. Я сидел, понурясь, и злобно слушал, как Литвинов читает уже скорее сам себе. А Лёня Штурман, наверное, подумал, что вмешался в какой-то очень важный разговор, что это какой-то очень важный для меня человек объясняет мне что-то уж такое важное, что нельзя ни на секунду прерваться, или он почувствовал мою злость, но решил, что она адресована ему, поэтому он минуты через две, может, даже через пять (ведь это же очень долго – пять минут!) встал, понимающе кивнул мне и удалился. Осторожно ступая по пляжу, как будто бы стараясь не топать. Я хотел броситься его догнать, но писатель Литвинов громко перелистнул страницу, прочел еще пару фраз и обратился ко мне: «Нет, вы понимаете? Вы понимаете?..» «Да, да, конечно, очень здорово…» – сказал я, страшно ненавидя его, а на самом деле ненавидя себя за свои совершенно неуместные в данном случае вежливость и воспитанность. Одно хорошо, что я понял: когда бываешь слишком вежлив к одному человеку, ты тем самым обязательно нахамишь другому. Я надеялся встретить Лёню Штурмана на пляже еще, но увы. А записная книжка с листком бумаги у меня лежала в Москве. А когда я вернулся в Москву, то дела закрутили меня. Я вспомнил про эту историю еще года через два, как раз когда собирался снова поехать куда-нибудь на лето, и вспомнил, что добрый Лёня Штурман предлагал мне остановиться у него, и бросился искать эту записную книжку с бумажкой, но, конечно, не нашел. Может быть, потому, что к тому времени я переехал в другую квартиру, а может быть, я сунул ее в другую записную книжку. Не помню. Вернее, помню прекрасно, но не знаю, куда она делась.
«Помню, но не знаю» – так бывает.
Так бывает довольно часто. Люди, встречи, разговоры убегают, пролетают, и остается только жалость, что не хватило тебе буквально десяти минут, просто чтобы поговорить, и, может быть, от этого разговора жизнь пошла бы чуть-чуть по-другому. На тот самый миллиметр, но миллиметр через двадцать лет вполне мог бы превратиться во многие сотни километров. Например, в переезд в Ригу: кто знает, кого бы я мог встретить в доме Лёни Штурмана или в его компании…
А с Леной у нас однажды вышел настоящий скандал. Короткий, но очень внятный.
Это было как раз в тот раз, когда мы с трудом выперли прочь писателя Литвинова. Мы обнимались. Потом Лена уселась на большой письменный стол, отодвинув в сторону рукописи своего отца. Я стоял рядом. Мы болтали о всякой всячине.
Вдруг она сказала: «А если бы твоя законная жена узнала, чем мы тут с тобой занимаемся? Что бы она с тобой сделала?» «А чем мы занимаемся?» – спросил я в ответ.
Лена чуть прикусила губу и спросила: «А что, мы с тобой ничем не занимаемся?»
«Занимаемся, занимаемся, – сказал я, усмехаясь, гладя ее плечи. – Но ведь, если серьезно говорить, я ведь своей законной жене не изменяю». «Ах, не изменяешь?» «Во всяком случае, пока не изменяю», – сказал я.
Лена сбросила мои руки со своих плеч. Я попытался ее обнять снова. Она оттолкнула меня и тихо, как будто бы без выражения, но на самом деле яростно сказала: «Вон отсюда!» «Ты с ума сошла?» – сказал я. «Вон отсюда немедленно! – сказала она так же тихо и отчетливо. – И не подходи ко мне больше!» «Не сходи с ума», – я попытался ее обнять. Но она очень сильно и больно ударила меня кулаком в грудь – так что я отскочил в сторону. «Вон отсюда! Кому сказано? Уходи!» – закричала она, схватила меня за рубашку и потащила к двери.
Я не давался. Я обнял ее очень сильно. «Перестань, – говорил я. – Ну что ты? Ну не надо! Ну прекрати. Ну хватит!» Я очень крепко держал ее, и прижимал к себе, и старался поцеловать. А она больно упиралась локтями мне в грудь и отворачивала лицо. Я всё время повторял: «Хватит, перестань, прекрати, довольно!» – но, ужас! – я не мог произнести: «Я тебя люблю!», а сказать: «Ты мне очень нравишься!» было бы безумно пошло и еще более оскорбительно, чем «Я не изменяю жене». Я не знал, что мне делать. Мне страшно не хотелось уходить, хотя настоящий джентльмен на «Вон отсюда!» должен сказать: «Всего доброго, мадам!» и уйти и не возвращаться. Но я был не настоящий джентльмен и уходить не хотел ни в коем случае. И я уже чувствовал, что начинаю чуть-чуть разлюблять Киру, но еще не настолько, чтобы сказать Лене: «Я тебя люблю!» Даже не разлюблять «свою законную жену» я начал, а скорее, злоба на нее поднялась во мне. Покуда она там смотрит цирк с лилипутами и сообщает мне о ценах на попугаев, я здесь вынужденно оскорбил прекрасного человека, прекрасную женщину. Может быть, я с ней был бы счастлив, а не с тобой, дрянь такая! Ну да, да, да! Но я не мог вот так сразу всё переменить в своей жизни, и поэтому я сказал Лене:
– Прости меня! Я сказал глупость. Конечно, я изменяю жене. С тобой.
– Правда? – спросила она.
– Правда.
– Точно изменяешь?
– Точно изменяю.
– Уже изменил?
– Уже изменил, – кивал я, пытаясь обнять ее.
– А когда? – спросила Лена, вывернувшись. – Ну-ка, говори, когда ты первый раз изменил своей жене со мной?
– Когда мы поехали кататься на лодке, – сказал я. – На реке Лиелупе.
– Может быть, ты врешь, – устало усмехнулась Лена. – Но ответ правильный.
Она перестала упираться локтями мне в грудь, и мы примирительно обнялись. И тут в дверь снова постучали. Это пришла Маша, ее подруга, и сказала, что надо перетаскивать вещи.
Я уже говорил, что они с Машей сначала сняли как-то безобразную будку, а потом им нашли комнату, где по соседству жил некий Янис, за которым надо было присматривать. А сейчас надо было перетаскивать собранные сумки в новое жилье. Я пошел помогать девчонкам.
– Но погоди, – вдруг сказал дяденька. – Ты развелся с подлой мучительницей Кирой? Да?
Я кивнул.
– И потом женился на чудесной Лене?
– Странные вопросы, – вдруг вмешался мальчик. – Ты ведь всё и так знаешь!
Теперь кивнул уже дяденька.
– Вот! – сказал мальчик. – Зачем же спрашивать?
– Я подумал – а вдруг? – сказал дяденька. – Вдруг, понимаешь? На этот раз.
– Что – на этот раз? – наступал на него мальчик.
– Что на этот раз всё выйдет честно. Справедливо.
– Справедливость… Какое детство! – сказал мальчик.
Янис
Эту комнату устроила Маше и Лене латышская писательница Цецилия Робертовна Динере. Она сама отдыхала в Дубултах вместе со своей дочерью Лилей. Лиле тогда было лет пятнадцать. Она училась то ли в Академии художеств, то ли в школе при Академии художеств. Сейчас она известная рижская художница, а тогда это была очень тихая, довольно красивая худенькая девочка, с длинными черными волнистыми волосами. Наверно, похожая на свою маму в ранней молодости – а мама, видно, родила ее не так чтоб в двадцать лет. Мама была небольшого роста, милая такая, разговорчивая старушка. Хотя на самом деле ей было пятьдесят с небольшим, она была всего на пять лет старше моей матери. Динере была хорошей поэтессой и еще писала рассказы – она показала мне свой рассказ в каком-то рижском еженедельнике, похожем на нашу московскую «Неделю». Рассказ был, естественно, по-латышски, но она показывала мне не сам рассказ, а иллюстрацию, которую сделала ее дочь Лиля. Показывала с гордостью. А сама Лиля всё время сидела на лавочке и рисовала. На коленях у нее был большой картонный планшет, она рисовала елки, кусты, какие-то ветки – с натуры, в очень академической, натуралистической манере. Кажется, я с ней не сказал и двух слов. Разве что: «Вы рисуете?» – «Да, я учусь в Академии художеств». А с Цецилией Робертовной мы как-то, не могу сказать, чтобы сдружились, но с удовольствием разговаривали. Она рассказывала всякие смешные вещи. «Однажды, – говорила она, – меня пригласили в партийный комитет Союза писателей и спросили: „Скажите, ваше творчество партийно? Вы считаете себя партийным писателем?“ А я, конечно, не член партии. Я им ответила так: „А вот вы мне скажите сначала. Партия выступает за гуманизм? За любовь к человеку? За свободу личности?“ Тогда они немножко растерялись и сказали: „Конечно, конечно! Конечно, партия всегда за гуманизм и свободу“. А я им говорю: „Ну раз так, тогда я партийный писатель!“ И они от меня отстали».
Судьба Цецилии Робертовны оказалась ужасной. Она эмигрировала в Израиль. Однажды ее нашли мертвой. Она сидела, обняв связки нераспроданного тиража своих стихов – крохотного тиража, двести экземпляров, наверное. Никого не нашлось прочитать книжку бедной Цецилии Робертовны, и она умерла, а вслед ей полетели запоздалые похвалы и лестные сравнения.
Однажды она рассказала мне вот такую историю.
Жили-были три товарища.
Хотя, конечно, это были не товарищи, а так, друзья детства. Они вместе учились в какой-то провинциальной школе. Но у них сразу разошлись дороги. Тем более что они были очень разные.
Один – из богатой семьи, но по убеждениям – почти коммунист. Красный, если в одно слово. Правда, свои убеждения он мало кому доверял, особенно после тридцать четвертого года. Тогда было очень тяжелое время. Лучше было не вылезать с красными идеями. Но друзьям он говорил, наверное. Делился мыслями.
Второй – поэт. Еще в школе писал стихи и дальше пошел по этой дороге: газета, журнал, литературные кружки, книги.
А третий – ни то ни сё. Никто. Даже школу не окончил. Работал где придется, хворал, кашлял, даже семьи у него не было. Но он очень любил своих друзей, особенно того, который поэт. Издалека любил. Читал про него в газетах и гордился, что учился с ним в одном классе.
И вот тут – сороковой год. Русские. Советская власть.
– Конечно, все сейчас шепчут: «Оккупация, катастрофа, Ульманис», – но я вам честно скажу, – говорила Цецилия Робертовна, – ничего хорошего в Ульманисе не было. Обыкновенный диктатор. У нас был один хороший президент – Чаксте, самый первый. Ему до сих пор на могилу приносят цветы. Остальные гораздо хуже, а Ульманис хуже всех. Так что, если честно, у советской власти была поддержка, конечно. Каждый третий был «за», каждый третий был «против», а еще каждый третий просто жил себе потихонечку…
Настала советская власть – и тот, который был красным, сразу выдвинулся и даже стал играть какую-то роль. Стал советским деятелем. А тот, который поэт, – наоборот, совсем сник и приуныл. Неизвестно, встречались ли они. Возможно, да. В Риге вся интеллигенция – знакомые. Возможно, поэт просил красного о помощи, а тот ему отказал. Или наоборот, как-то очень обидно и унизительно помог. Или вообще запретил журнал, где поэт работал. Всё может быть. Теперь никто не узнает.
А вот этот, третий, который никто, устроился садовником к одному пастору, где-то далеко, на границе с Литвой. Там был богатый приход, и у пастора было целое хозяйство.
Но тут – сорок первый год. Немцы.
Красный скрывался – и в один прекрасный день постучался к тому же самому пастору; его приютили. Он не узнал своего старого школьного друга – или виду не показал? Но и друг – который никто – тоже, конечно, не показал виду, что они знакомы.
Как-то раз туда приехали немцы на трех автомобилях. Всё бы хорошо, но с ними был тот, который поэт. Он выглядел вполне благополучным господином. Может, он играл какую-то роль в оккупационной администрации. А может быть, и нет. Может быть, немецкий офицер, который болтал с ним и всё время брал его под руку, когда-то тоже писал стихи, и они были давно знакомы по какому-нибудь поэтическому кружку в Риге тридцатых годов, и вот, значит, какая приятная встреча.
Красный как раз окапывал дерево. Поэт подошел к офицеру и что-то прошептал. На красного надели наручники и увезли. Всё это своими глазами видел третий – тот, который никто.
Ужасно было, что он очень любил поэта и даже знал его стихи наизусть.
Что было делать?
Он поступил просто, проще некуда: после войны устроился чистильщиком сапог около вокзала. Сидел на низкой скамеечке и вглядывался в толпу.
Через двадцать лет поэт все-таки решился навестить родные места. Приехал. Сошел с поезда, прошел через вокзал, вышел на площадь – элегантный пожилой иностранец.
Тот, который никто, заступил ему дорогу и схватил за горло.
Меня этот рассказ так поразил, что я примерно через год или через два написал целый сценарий, киноповесть, как у нас тогда выражались. О судьбе этой киноповести я могу много чего рассказать. О том, как один редактор ее читал и хвалил просто до небес, а другой редактор читал и говорил, что это на двойку с минусом. Но интересно не это. Интересно, что я показал ее на Рижской киностудии. Мне ответили, что постановка фильма по данному сценарию бесперспективна, в том числе и потому, что описанные в нем события не имеют никакого отношения к исторической правде. Прошло совсем много лет. Эту киноповесть я выбросил на помойку, вместе с двадцатью, наверное, – да, не меньше чем с двадцатью моими пьесами и сценариями. Был у меня такой момент в жизни, когда я решил завершить, как нынче выражаются, «драматургический проект» – проще говоря, решил перестать писать пьесы и сценарии, потому что ничего, кроме разочарования и не слишком больших заработков, это мне не приносило. Сейчас мне жаль, конечно, выброшенных пьес. И сценариев тоже. Из них можно было бы вытащить десятка три прилично написанных страниц. Но уж ладно.
Так вот. Когда через много лет я сделал из этой почти стостраничной киноповести сухой и короткий рассказ странички на две – вот такой, как вы сейчас прочитали, то есть почти в точности как рассказала Цецилия Робертовна, – и вывесил его в своем блоге, я получил совершенно другой ответ. Почти все написали, что это сущая правда и что эта история стопроцентно латышская, что именно в этой истории отражена трагедия Латвии в XX веке, где треть народа была за национальную независимость, треть – за коммунистов и СССР, а треть хотела, чтобы ее оставили в покое и дали возможность тихо работать на хуторе, или на фабрике, или в конторе, и горите вы огнем вместе со своими националистами и коммунистами!
Янис был парень лет двадцати пяти, то есть чуточку нас старше. Он жил в маленькой комнате под крышей, рядом с комнатой побольше, которую сдали Лене и Маше. Блондинистый, с короткими, чуть курчавыми волосами. Как написала по сходному поводу моя сестра Ксения – «с волосами как стружки». Мрачный, всегда нахмуренный, плохо одетый, с маленькими голубыми глазами, с большими грубыми рабочими руками. Мы с Леной и Машей не знали, чем он занимался. Кажется, рабочим он все-таки не был. Чаще всего он ходил босиком. Ноги у него тоже были большие, с толстыми пальцами и натоптанными пятками. По-русски говорил очень хорошо, но отрывисто и мало. Лена и Маша его побаивались. И кроме того, они не совсем понимали, что значит «за ним присматривать». Цецилия Робертовна сказала: «Просто надо быть рядом. Если что-нибудь случится, сказать мне». «А что? – спросили Лена и Маша. – Что с ним может случиться?» «Ну мало ли что, – отвечала она. – Что-нибудь нехорошее, опасное». То есть она ничего не объяснила, а только нагнала еще больше страху. Лена и Маша спрашивали меня: «А что он такого может сделать? Драку устроить? Дом поджечь? А может, он только что из тюрьмы освободился? А может, у него припадки какие-нибудь?» Я успокаивал девчонок, но тоже не понимал, в чем тут дело.
Однажды Лена и Маша рассказали, что повели Яниса в столовую, потому что обратили внимание, что у него в комнате нет никакой еды и вообще непонятно, как он кормится. «Он так ел, так ел! – кричали девчонки. – Ты себе представить не можешь! Вареную курицу съел чуть ли не с костями. Он просто голодный. А знаешь, что мы узнали, только никому не говори! Оказывается, он ее сын!»
Вот это да! Вот это история! Значит, чудесная Цецилия Робертовна жила в прекрасном пансионате со своей юной дочерью, а буквально в двух кварталах где-то в каморке под крышей жил ее босоногий и нечесаный сын. «Ужас какой!» – повторила Лена, но я постарался ее успокоить. «Ну да, – сказал я, – твои папа и мама живут в роскошном двухкомнатном номере на пятом этаже современного пансионата, а буквально в двух кварталах в каморке под крышей ютится их родная дочь. Еще вынуждена присматривать за каким-то босоногим нечесаным типом». Все засмеялись, но всё равно было как-то странно. Наверное, этот Янис был сыном не очень любимым, не очень удачным.
Хотя откуда мне знать?
Может быть, он вообще был ей не сын, а племянник.
Насморк
Я говорил, что у меня был насморк, когда я познакомился с Леной. Откуда он взялся – смешная история. Лена со своей подругой Машей приехали примерно через неделю после меня, а я, когда приехал, буквально в тот же день… «Господи! – скажет читатель. – Ну что мне за дело до насморка, который случился почти полвека назад у совершенно незначительного человека! Вот насморк у Наполеона перед Ватерлоо – другое дело. А тут насморк у студента. Добро бы у отличника, а то у студента с хвостами и пересдачами».
Однако продолжим про насморк, несмотря на возможные возражения.
Итак, приехав в Дубулты, я буквально в тот же день бросился искать своих факультетских друзей. Это были люди старше меня – Оля Савельева, Сева Сахаров и еще одна девушка, с которой я до того не был знаком. Ее звали Люся. Кажется, она была подругой Оли, но училась не у нас. Они написали мне еще в Москву, что сняли комнату на станции Асари по адресу: Красноармейская улица, дом пять. На всякий случай фамилия хозяина – Берзинь. Сам не знаю, почему мне так захотелось увидеть их в первый же день. Дождь шел неимоверный, просто как из ведра. Кстати говоря, ночью дождь кончился, и потом все остальные двадцать три дня была прекрасная погода.
Когда-то, совсем еще мальчиком – кажется, мне было вообще тринадцать лет, – я обиделся на весь свет за то, что первого мая пошел сильный дождь. Мы всегда выходили гулять первого мая утром с мамой и папой или только с мамой. Обычно мы доходили до площади Маяковского, спускались вниз по улице Горького и потом по Страстному бульвару возвращались назад. Видели людей с флажками, шариками и большими бумажными цветами – они возвращались с демонстрации. Было весело и приятно. Это была у нас традиционная прогулка перед праздничным обедом, потому что, хотя основные гости намечались на вечер – а у нас всегда на Первое мая и на 7 ноября были гости (собирались, пили, закусывали и на чем свет стоит ругали советскую власть, как все или почти все), – хотя праздничный ужин только предстоял, обед тоже был вкусный и если уж не совсем торжественный, то всё равно особенный, приподнятый. На скатерти и с каким-то, уже не помню с каким, украшением на горке салата. Огурцов тогда в мае не было, а петрушка и укроп на Центральном рынке стоили довольно дорого, но, скорее всего, это была именно веточка петрушки.
Ни с того ни с сего на Первое мая пошел страшный дождь. Но я сказал: «Надо идти гулять!» Мама сказала: «Не сходи с ума. Льет как из ведра». Я сказал: «А я всё равно пойду. Из принципа». «Что за принципы?» – засмеялся папа. «Первого мая надо идти гулять во что бы то ни стало», – сказал я. Мне самому стало смешно. Но я всё равно надел плащ – был у меня очень даже промокаемый плащ кирпичного цвета с черной пластмассовой пряжкой, – надел ботинки, натянул покрепче кепку, взял зонтик и вышел. Дождь шел такой, что никакой зонтик спасти не мог. По Садовому кольцу, включив фары, медленно ехали редкие машины. Сточные решетки не справлялись. Вода подымалась вровень с тротуаром. Частые и толстые струи дождя втыкались в лужи и расцветали фонтанными выплесками. По ручьям плыли пузыри – по старой примете это означало, что дождь надолго. Гудели водосточные трубы. Из них вырывались пенистые потоки воды. Добравшись до угла Садовой и улицы Чехова (сейчас она называется Малая Дмитровка), я уже был довольно мокрый. Мои вельветовые брюки были забрызганы по икры, в ботинках немножко почмокивало. Конечно, надо было бегом возвращаться, но я постоял несколько секунд и решил, что хоть я и не пойду на Маяковскую, но маленький кружочек всё равно сделаю. И поэтому повернул на Чехова, прошел мимо закрытой лавочки, где всегда продавали молочные коктейли, а рядом было окошечко, в котором пекли знаменитые на всю Москву бублики без мака по пять копеек, дальше прошел мимо чугунного забора маленького особняка (кажется, там был райком комсомола) и повернул налево, в Успенский переулок. Успенский шел чуть книзу, и поэтому там просто бушевали реки – хоть разувайся. Но я отважно и мрачно дошел до Петровки, вернее говоря, до самого того места, где справа Петровка, а слева Каретный ряд, помахал рукой огромному бежевому зданию Петровки, 38, повернул налево и мимо сада «Эрмитаж» добежал до подъезда.
Промок я ну просто не знаю как кто, как цуцик, как выдра, до ниточки, и потом долго переодевался, развешивал мокрые вещи, набивал ботинки газетой, потому что в мае батареи уже не работали и сушить их было непонятно где и как. У меня зуб на зуб не попадал. По маминому настоятельному совету я полез в горячий душ, но несмотря на это у меня тут же заложило нос, и мама мне закапала в нос эфедрин.
Тогда он еще продавался без рецепта в любой аптеке – тогда вообще всё продавалось без рецепта, включая снотворные. Можно было ночью позвонить в дверь дежурной аптеки и сказать, что не спится, дайте что-нибудь. Я так делал по маминой просьбе.
У нас была аптека на Угольной площади.
Добрая аптекарша давала тебе хоть нембутал, хоть ноксирон, и безо всякого рецепта и вообще безо всякой задней мысли. Без мысли о том, что перед ней может быть наркоман или, к примеру, самоубийца. Но наркоманов было, наверное, в десять, а может быть, в сто раз меньше, чем сейчас, когда кругом такие строгости, и контролеры думают, что бы еще запретить. Может быть, валерьянку?.. А самоубийц всегда бывает примерно одинаково.
Мама закапывала мне эфедрин и камфару и натягивала на ноги шерстяные носки, а я чувствовал себя победителем. Я настоял на своем! Я ходил гулять на Первое мая!
Так вот.
Так вот, шел дождь. Я добежал до электрички, доехал до станции Асари – это через три остановки от Дубулт – и стал искать Красноармейскую улицу. О боже! Во-первых, из-за дождя ни на станции, ни тем более на улицах поселка никого не было. А те, кого я все-таки встречал или окликал с улицы – например, вышел дедушка покурить на крыльцо, а я ему кричу: «Простите, пожалуйста! Вы не скажете мне, где тут Красноармейская улица?» – никто такой улицы не знал.
«О господи!» – подумал я. Конечно, они не знают, вернее, не хотят знать. Конечно, эту улицу назвали так после сорокового года, потом, наверно, года на четыре переименовали обратно. А потом снова назвали Красноармейская. Или в сорок пятом назвали, или в пятидесятом – какая разница? Важно, что это им всё поперек горла, и они нарочно не скажут. Они – это латыши, естественно.
Я тогда еще не подружился с Цецилией Робертовной и не знал, что таких, которые ни за что не скажут, где Красноармейская улица, – самое большее одна треть. А другая треть вполне даже красная, а последней трети вообще наплевать – только оставьте нас в покое. А тут я еще вспомнил, как мне рассказывал один знакомый, что в эстонском городе – не в латвийском, именно в эстонском – он искал кассу «Аэрофлота». Ему кто-то сказал: «Это тут рядом, на площади, где памятник Ленину, буквально позади Ленина. Прямо смотришь на Ленина и видишь: сзади написано „Аэрофлот“». И он, дурак такой, спрашивал всех: «Как пройти к памятнику Ленину?» Все вежливо улыбались и говорили: «Понятия не имею». Наверно, я вляпался в такую же историю. Какого черта они сняли комнату именно на Красноармейской улице?! Я вернулся обратно на станцию, потому что помнил, что там висел план поселка. По стеклу, за которым висела эта довольно большая, от руки нарисованная туристическая карта, бежали струи воды. Я разгонял ее ладонями и искал Красноармейскую улицу. Как-то она мне сразу не бросилась в глаза. Тогда я решил прочитать всю карту сверху донизу. Но Красноармейской улицы не было. Конечно, нормальный человек плюнул бы на всё, поехал бы домой сушиться и ждать, пока Оля Савельева и Сева Сахаров объявятся сами. Ведь я же им сказал, что приеду и буду жить в Доме писателей в Дубултах – а найти Дом писателей в миллион раз легче, чем какую-то Красноармейскую улицу.
Но я был не таков. Я соображал, что делать. И сообразил. Я подошел к кассе, постучал в окно и спросил: где здесь милиция? Кассирша так разволновалась, что заперла кассу, вышла со мной на платформу и показала мне, куда идти. Это было действительно недалеко, каких-нибудь пять минут по размытым, пузырящимся от дождя дорожкам. В милиции пахло сукном и портупеями. Два румяных молодых милиционера спросили меня: «А тебе зачем?» Я сказал: «Там снимают комнату мои друзья». «Фамилии?» – спросил милиционер. «А вам зачем?» – спросил я. Они почему-то долго смеялись, а потом подвели меня к карте. Это оказалось довольно близко от станции. Настолько близко, что я, кажется, два раза проскакивал эту улицу в своих поисках. Это был крохотный проулочек. Ну вот я на месте. Осталось только докричаться через забор, потому что калитка была заперта изнутри. Потом оказалось, что она была вовсе не заперта. Это просто я от усталости и злости не мог справиться со щеколдой.
Меня напоили чаем, а перед этим дали выпить рюмочку водки. Я не очень промок, потому что на мне был хороший плащ и зонтик тоже был большой. Мы посидели, поболтали. Мне было очень приятно с ребятами, и они предложили мне остаться у них ночевать. У них было две комнаты. В большой комнате спали девушки, а в маленькой на большом раздвижном диване-кровати – Сева. Так что место для меня было. Мне ужасно захотелось остаться. Просто не передать, не рассказать, как сильно захотелось сбегать за водкой и купить еще хлеба с колбасой. Сидеть так весь вечер, а потом, опьянев от водки, от чудесного воздуха и от девушек, которые были постарше меня (это меня особенно очаровывало), лечь спать. У меня совершенно не было никаких мечтаний, связанных с девушками, – ни с одной, ни с другой. Люсю я видел первый раз в жизни, а Олю Савельеву знал давно, но влюблен в нее не был, хотя она мне нравилась, но как-то по-особому. Ничего такого-этакого туда не входило. Остаться же мне хотелось просто очень, но мама же будет волноваться! Ну а с другой стороны, всего три остановки на электричке плюс пять минут от станции там и пять минут от станции здесь. Я сказал: «Я съезжу предупрежу маму и вернусь».
Так я и сделал.
Мы купили еще водки. Мы прекрасно выпили. Мне постелили постель рядом с Севой. Диван был такой огромный, что там уместилось бы еще два, а может, и три человека. Маленькая комната со скошенным потолком и с узкой дверцей в стене. Сева приложил палец к губам и открыл эту дверцу. Там висели копченые окорока и колбасы. «Понял, как люди живут?» – сказал Сева. «Ух ты! Страшное дело!» – сказал я.
Утром мы гуляли и купались. Было солнечно. Пляж высох, и вообще совсем не было похоже, что вчера так лило. Но насморк я заработал.
И вот поэтому-то я так смешно врал Лене. Что вообще-то я не курю, но сейчас, поскольку у меня насморк, я позволяю себе одну-две сигаретки.
Конечно, всё выяснилось буквально через неделю. Потому что насморк у меня прошел, курил я по пачке в день и совершенно не занимался спортом. Но Лена не задавала мне никаких обидных вопросов. Мой умный друг Андрюша был прав: мы любим не «за», а «вопреки». Я нравился Лене не потому, что умел красиво болтать, а несмотря на это.
Дождь, как я уже сказал, ночью кончился.
Солнечным утром мы шли по улице. Оля Савельева, Люся и Сева провожали меня до электрички. Оля почему-то держала меня за пуговицу на рукаве плаща и как будто бы вела меня за собой. Мне это нравилось. Хотя это ровно ничего не значило.
Сева и Люся уже давно умерли. А Оля Савельева жива-здорова, слава богу. Живет недалеко. Работает вообще в двух шагах от моего дома – на филфаке МГУ. Мы иногда перезваниваемся, но видимся редко.
Леша, Регина и Тонечка
Был один хороший мальчик. Его звали Леша Мельников. Он тоже умер. Довольно давно, то есть сравнительно молодым человеком. А тогда он был очень даже жив и тоже приезжал на Рижское взморье. Мы учились вместе на одном курсе. Проучились вместе целый год, а потом он уехал учиться по обмену в Германию – в ГДР, разумеется. Он жил с мамой в коммунальной квартире на улице Олений Вал в Сокольниках. Это был деревянный двухэтажный дом. Совсем старый, наверно, начала XX века, а может быть, еще старше. Сейчас там стоят новые дома. Помню, как я рассказывал ему, что приходил к одному своему знакомому пожилому сценаристу на улицу Олений вал, и Леша неожиданно злобно, хотя был хороший и добрый мальчик, сказал: «В моем доме живет, сволочь». Ему было страшно обидно, что их домик снесли, и такие же домики, которые стояли там, обнесенные высокими стройными деревьями, снесли тоже, еще в середине семидесятых, и выстроили целый квартал многоэтажных многоквартирных домов – «А для нас с мамой там не нашлось квартирки», – сказал Леша Мельников. Их выселили куда-то очень далеко, на Алтуфьевское шоссе. Метро там еще не было. Строилось всё очень по-советски – сначала дом, потом дорога к нему. Поэтому эти большие и, в общем-то, красивые бело-синие дома стояли посреди полного разора и разрухи, среди вывороченных комьев глины и гор неубранных бетонных обломков. Но и это было счастьем для всех, кроме моего друга Леши Мельникова. И не только потому, что его выселили из любимых Сокольников, а потому, что им с мамой дали однокомнатную квартиру. Квартира была, кстати говоря, довольно хорошая. С очень большой кухней, где плита была к тому же не газовая, а электрическая. Так что мой бедный Леша жил на кухне. А когда он привел домой жену, то на кухню переехала мама.
Вот.
Он приехал в Дубулты с мамой. Они снимали комнату, кстати говоря, в том же самом Асари, но это было в другой раз, это было еще одно лето, третье, не то, где была Варя, и не то, где была Лена, а совсем другое. Или даже четвертое.
Только это было уже как будто не мое лето, а какого-то другого человека, с которым происходило то же самое, что происходило со мной. Не «точно такое же», а именно «то же самое» – но это был уже не совсем я.
Лешина мама работала участковым врачом-терапевтом, и первое, что она сказала моей маме, когда они познакомились: «Ой, как вы плохо выглядите! Я как врач говорю. Вам надо срочно обследоваться». Моя мама решила отшутиться и сказала: «Но хоть отпуск-то я могу закончить?» «Можете, – совершенно серьезно сказала та. – Сколько у вас осталось? Недели две? Две недели даже при раке ничего не меняют. Но как приедете в Москву – срочно на обследование». Мама потом повторяла это мне несколько раз. Сначала со смехом, потом с удивлением, а потом – даже с некоторым ужасом. «А вдруг она меня сглазит? – говорила мама. – Нет, я обязательно пойду обследоваться. Нет, я, конечно, не верю в сглаз». «Да она простой участковый, – говорил я. – Ты что? Тоже мне, профессор». «Наоборот, – восклицала мама. – Именно что участковый! Участковый врач каждый день видит десять, двадцать больных, а многих наблюдает годами, десятилетиями, поэтому участковый может увидеть то, что никакой профессор не заметит».
В общем, моя мама всерьез решила, что ей уже поставили страшный диагноз. Но она прожила еще тридцать пять, а может быть, даже тридцать семь лет после того разговора. Еще одну жизнь. Мало, говорите? Вот Пушкину хватило. Не говоря уже о Писареве.
А вот Лешина мама умерла от какой-то непонятной болезни через три года. За несколько месяцев она буквально сгорела, и так никто толком и не мог сказать, что же это на самом деле было. Какой-то, как говорили врачи, галопирующий процесс в центральной нервной системе.
У Алеши была девушка в Риге. Кажется, ее звали Регина. Одни раз я видел ее. Такая светловолосая, светлоглазая, стройная и, наверно, даже красивая латышка. Всё время улыбалась, всё время говорила: «Да, да, конечно». «Пойдемте в кафе? – Да, да, конечно. – Пойдемте купаться? – Да, да, конечно. – А может, просто лучше погуляем? – Да, да, конечно». Если бы она не была почти что невестой моего друга, я бы непременно задал ей более серьезный вопрос, раз уж она на всё отвечает: «Да, да, конечно». Но в таких случаях остается только развести руками. Кстати говоря, я не знаю, считала ли она себя Алешиной невестой и что об этом думал он сам, но вот мама его так считала точно. Она всё время говорила и мне, и нашим общим друзьям в Москве, и здесь моей маме, что Алеша обязательно женится на Региночке (она ее так называла) и они будут жить в Риге. Я бы на Лешином месте обязательно бы женился на Региночке. Во-первых, красивая, во-вторых, на всё говорит: «Да, да, конечно», а в-третьих, почти иностранка. Европейская женщина. В дальней перспективе я оказался прав, но две вещи мешали мне праздновать свою правоту. Во-первых, Леша не женился на Региночке, а во-вторых, он умер до того, как Латвия стала независимым государством.
И уж, конечно, задолго до всякого шенгена.
Почему Леша не хотел жениться на Региночке – для меня загадка. Но еще более загадочная загадка, почему он не захотел жениться на Тонечке, которая была, во-первых, очень мила, во-вторых, много лет была влюблена в него сильно и преданно, а в-третьих, была дочкой чрезвычайно могущественного человека, сначала заведующего отделом ЦК КПСС, а потом министра. И добро бы, если бы родители Тонечки намекали бедному Леше на такой мезальянс. Ничего подобного! Тогда, в семидесятые годы, жизнь была проще, и влюбленная Тонечка – дочка очень важного человека – ездила с Алешей в стройотряд и жила, как он, в палатке. Но самое главное, однажды мне случилось побывать в доме этого министра (или тогда он еще был завотделом ЦК) вместе с Лешей. К Леше там относились как к родному, просто обожали. И сам министр, он же завотделом, и его жена. Как в русских сказках говорится – «Не знали, куда усадить, чем угостить». Но вот поди ж ты, какой-то внутренний тормоз, какой-то барьер был у Алеши.
– Не могу, понимаешь, – говорил он мне. – Хорошая она девчонка, и вроде люблю я ее, и отец у нее хороший мужик, а вот не могу. Что-то вот здесь мешает. – Он показывал себе на грудь и морщился, изображая то ли тошноту, то ли смертельную боль при инфаркте. – Не могу, ты уж прости.
– А я тут при чем? – спрашивал я, пожимая плечами.
– Но ты же меня так уговаривал, советовал, – говорил он, вздыхая. – Наверное, я идиот.
– Наверно, – говорил я. – Но раз тошнит, то не надо.
– Спасибо, – говорил он, и мы с ним выпивали еще по рюмке.
Обычно все эти разговоры проходили у нас за выпивкой. Потом входила моя жена, и мы переходили на другую тему. Другой темой – а это было уже после окончания университета – был наш родной филфак. Воспоминания, истории, хохмы. Шутки. Жена говорила мне: «И вам не надоело всё время про одно и то же рассказывать?» «Мне, может, и надоело, – говорил я. – Вмешайся, прерви, скажи: хватит. Взрослые уже мужики, хватит хохмить про студенческие года». «Вот когда увижу, что пошли на второй круг, – обязательно прерву». Но до второго круга мы не дошли. Еще от первого оставалась, наверное, половина, а мы стали встречаться всё реже и реже, а потом и вовсе перестали.
Я был поразительно нелюбопытный человек. Вернее, так. Меня интересовало только то, что мне было интересно сию минуту. А всё другое я пропускал мимо ушей и мимо глаз. Поэтому я совершенно не понимал, вернее, не задумывался, почему бедный Леша не хочет жениться ни на Региночке, ни на Тонечке. Хотя заметить это можно было. Он очень страдал от того, что – ну, не то чтобы хуже других, но какой-то не такой, не из того инкубатора, из отряда № 8 или как еще вам объяснить – он действительно считал себя хуже других и пытался бороться с этим по-своему. Способ борьбы был такой – не иметь никаких серьезных дел с теми, кому живется лучше, чем ему. Социальный барьер для него был очень глубоким, очень внутренним, очень выстраданным и затверженным препятствием.
Хотя, казалось бы, он безо всякого блата поступил на наш очень престижный факультет. Его отправили учиться за границу. В него была влюблена, как сказали бы в старину, девушка из высшего света – и он, ну просто как князь Степан Касатский еще до того, как стал отцом Сергием, вполне мог строить такие планы – войти в высший свет, женившись на аристократке. Но отец Сергий, то есть Степан Касатский, был все-таки князь, хоть и небогатый и непридворный, а Леша был мальчиком из коммуналки в деревянном доме на Оленьем Валу, сыном матери-одиночки, и это, наверное, по его собственному мнению, должно было определять всю его дальнейшую жизнь. Может быть, когда-то в школе, например, он получал обидные щелчки по носу. Может быть, его не один раз ставили на место. Может быть, его приманивали, дразнили, а потом отталкивали – не знаю, но что-то наверняка было. Потому что, когда дочь министра Тонечка, получив от него отказ – нет, вы только подумайте! не она ему отказала, а он ей! – так вот, когда Тонечка, погоревав, завела роман с целью замужества с каким-то аспирантом, приезжим из дальней российской провинции, с какой-то смешной фамилией вроде Глухобабин или Худотелкин, и с каким-то несуразным именем, то ли Поликарп, то ли вовсе Полиевкт, – завела этот роман и предложение приняла как будто бы нарочно, как будто чтобы доказать, – о боже, как мой бедный Леша это обсуждал! Сколько хохота, сколько сарказма, сколько презрения было вылито на головы ничего не подозревающих Тонечки и ее счастливого жениха Поликарпа Глухобабина, он же Полиевкт Худотелкин! Ах, как смешно Алеша изображал свадьбу с гармошкой, знакомство Тонечки и ее высокопоставленного папы с дремучими родственниками! Как хохотал, говоря, что она свою звучную и знаменитую в Москве фамилию сменит на Глухобабину-Худотелкину. А дети у них будут Поликарповичи и Поликарповны. Ехидству, иронии и просто здоровому смеху не было конца.
Я, конечно, должен был сказать ему: «Милый, что ж ты наделал? Ведь ты просто завидуешь Глухобабину. Ведь он занимает твое место в Тонечкином сердце, в Тонечкиной семье, в Тонечкиной койке. И ты это чувствуешь, и поэтому так бесишься и исходишь желчью. Давай-ка быстренько звони, вот прямо сейчас. Звони своей Тоньке, проси прощенья. А если она трубку бросит, езжай к ней домой, дежурь у нее под дверью, на колени бросайся, а Худотелкина я беру на себя. Мы с ребятами его поймаем, самовар начистим, а для верности яйца вырвем». Но я этого не сказал своему дорогому другу, да и кто я такой, чтоб подавать такие советы? Да и он бы не послушался, конечно. А может быть, даже обиделся бы вдобавок не только на Тонечку и судьбу, но еще и на меня.
А может быть, наоборот.
Никогда не знаешь, что лучше: сказать или промолчать, шагнуть вперед или отойти в сторону, крикнуть: «Заткнись» или прошептать: «Говори, говори».
Опять эти проклятые пять секунд дугового градуса. Опять этот чертов миллиметр, на который сдвигается прицел, из-за чего снаряд может попасть вместо цели в чисто поле, а поезд может приехать вместо Таллина в Ригу, а то и в Вильнюс.
Но иногда очень хочется проверить.
Если бы у меня была возможность прожить еще одну, а лучше две, а еще лучше – пять жизней, я бы ни в коем случае не становился другим человеком. Не стал бы офицером или священником, как я мечтал в молодости, не женился бы на девушке, в которую был влюблен в седьмом классе, не уехал навсегда за границу, что мне не раз предлагалось, а в какие-то минуты хотелось, – нет. Я прожил бы ту же самую жизнь, а еще лучше – несколько тех же самых жизней, но с крохотными, буквально микрометрическими поправочками, чтобы посмотреть, что получится. Например, я бы обязательно уговорил своего друга Лешу помириться с Тонечкой, выпросить у нее прощения за оскорбительный отказ жениться, и посмотрел бы, как развернется его жизнь. Хотя не знаю, может быть, мне пришлось бы в этом раскаяться. Может быть, помирившись с Тонечкой, он бы отправился к ней и ее родителям на праздничный обед делать официальное предложение, в костюме и с букетом алых роз, и, подходя к ее дому, попал бы под машину. И получилось бы, что я во всём этом виноват. Так что не надо жить две жизни, а если у кого-нибудь вдруг такое выпадет, то мой совет: попробуй прожить совсем другую жизнь. И не экспериментируй с этими самыми секундами дугового градуса.
Мы с Лешей ходили пить пиво, пропивать его неудачную любовь. В баре, в типичном околопляжном баре, с большими деревянными столами и тяжелыми скамейками, над стойкой из дерева была вырезана морда какого-то крупного представителя семейства кошачьих, но точно не льва. И сверху латинскими буквами было написано Bars. И я сказал Леше: «Этот бар называется „Барс?“» – и показал на эту рожу – то ли леопарда, то ли в самом деле барса. Да и какая между ними разница? «Этот bars называется „Leopards“ или „Tigeris“, – сказал Леша. – Ты что, совсем мозги пропил? Забыл, что в латышском языке существительное мужского рода в именительном падеже всегда кончается на „с“? Поэтому „бар“ по-латышски будет „bars“», – сказал он. Мне стало стыдно, потому что если этого я и не знал, то все равно знать был обязан, потому что уже получил свою четверку за введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков. «Меня эта рожа смутила», – сказал я, показав на деревянного барса, то есть тигра. «Будем учить тебя латышскому языку», – сказал Леша. Сам он латышского языка не знал, только несколько фразочек, но познакомил меня с каким-то парнем, который писал на картонках – на изнанках сигаретных пачек – разные полезные слова и выражения, типа: «что это такое?», «как вас зовут?», «спасибо-пожалуйста» и, разумеется, самый главный вопрос: «пиво есть?». С одной такой картонкой вышла замечательная история.
Этот парень написал вот такую очень полезную фразу: «Es mīlu resnas un rudmatainas sievietas». Что означает: «Я люблю толстых и рыжих женщин». Я случайно оставил эту картонку на столе в комнате – а жил я, как всегда, в деревянном корпусе Дома творчества писателей, вместе с мамой. Вдруг вижу – на картонке написано неизвестной рукой: «Vat ta ir taisniba?» Я не понял, что это значит. Побежал к тому приятелю, и он перевел: «Это правда?»
Путаясь в предположениях и фантазиях, я написал: «Jā!» И оставил картонку лежать где была.
На следующий день прихожу в номер после завтрака, а навстречу мне с ведром и шваброй из двери выходит уборщица Ильза, чернявая и жилистая, как хворостина.
А на картонке написано: «Loti žel!» Что в переводе значит: «Очень жаль!»
Вей, ветерок!
– Однажды Дима и Лиза, – сказал дяденька, – пришли в ресторан, который назывался и сейчас называется «Pūt, vējiņi!», что в переводе значит «Вей, ветерок!». В тот год они с дочкой опять отдыхали в Юрмале, на этот раз в каком-то обыкновенном доме отдыха. Пансионат энергетиков. Ребро ГЭС и вышка ЛЭП на вывеске. Станция Майори. Они поехали в Ригу на электричке.
Ресторанчик был закрыт на обед: советские времена. Перед дверью уже стояла небольшая компания. Они тоже ждали открытия, двое мужчин и две женщины – очень красивые и гладкие. Одна, как показалось Диме, была похожа на некую не очень хорошо знакомую актрису. То есть знакомую, но так, шапочно. Они с Димой всё время косились друг на друга. Дима, конечно, мог сказать ей: «Здрасьте! Я ничего не путаю – вы такая-то? А я такой-то». Можно было. Но он промолчал. Она тоже отвернулась – ей надоело ждать, пока с ней поздоровается этот смутно знакомый человек.
Итак, Дима, Лиза и их дочь Маша десяти лет молча стояли за этой компанией. Получилась небольшая, но вполне доброкачественная очередь. Прошло еще несколько минут. Ресторан открылся, и все поднялись на второй этаж. Потому что на первом был только бар и он, судя по опрокинутым стульям, которые торчали кверху ногами на столах, еще не поставленные на место после уборки, – он был еще закрыт.
Дяденька замолчал. Посмотрел на меня, потом на мальчика.
– Давай дальше, не робей! – сказал мальчик.
– Правильное слово, – сказал дяденька. – Я был очень робкий тогда. Вот, – засмеялся он, – один раз мы с женой и дочкой поехали в ресторан «Лайва» – «лодка» в переводе, и там к стенам дома были прислонены старые лодки, – поесть копченой курицы.
Ах, копченая курица! В восьмидесятые, когда с продуктами становилось всё кислее и кислее, буквально месяц за месяцем, – тогда странные вещи вдруг становились деликатесами. Копченая курица – казалось бы, что может быть глупее. И однако. Один новый знакомец на пляже говорил, что это немыслимо вкусно, сочно, необычно – и совсем рядом. На автобусе.
Поехали. Автобус отходил от станции «Лиелупе» – там был пансионат, где мы в тот раз жили, адрес: улица Викингу, 3. Автобус ехал очень долго, петлями и кругами, я чувствовал, что мы топчемся на одном месте, – но потом понял, что он старается объехать все улочки, прокатить всех желающих – в Москве есть такие маршрутки между двумя станциями метро на разных ветках – идут не по прямой, а объезжая весь квартал.
Но вот приехали, поели эту замечательную копченую курицу – было в самом деле вкусно, – но допустили одну смешную ошибку, заказали три порции – и нам принесли эту самую курицу на большом блюде, куски свежего, пахнущего дымом куриного мяса – коптили тут же, печку было видно, – да, принесли целое блюдо курицы, украшенной огурцами, петрушкой, редисом и прочими овощами, плюс блюдечки с кетчупом… – но мне вдруг показалось, что самой курицы было маловато.
Потому что за соседним столом сидел приятный, даже красивый мужчина, сидел один, и ему принесли одну порцию, я слышал точно, как он заказывал: «Курочку копченую», – и не говорил ничего похожего на «двойную порцию мне» – но ему принесли даже на глаз здорово больше, чем одна треть того, что лежало на нашем блюде.
Ах, какой я жлоб! Мало того, что я заглядываю в чужие тарелки в ресторане, – я еще обсуждаю размер порции.
Ну и что?
Подумаешь, я и сейчас в ресторане всегда гляжу в чужие тарелки. Ну, не тогда, когда кто-то уже начал есть, а когда их несут. Мне почему-то всегда кажется, что другие люди заказывают какие-то особо красивые блюда, а мне это не удается, и я чувствовал, что это зависит не от цены. Вот что ни закажу, хоть за самую дорогую цену в меню – мне обязательно принесут тарелку с куском мяса или рыбы с гарниром, и всё. А тем временем мимо меня официанты носят что-то поразительное, необычайное, с башенками и букетами и чуть ли не с флажками и огнями.
Так что вот. Ни чуточки не стыжусь сказанного.
Назавтра я поделился своими наблюдениями с соседом по пляжу, с тем, который навел нас на этих копченых кур и на этот ресторан, и он завопил: «Ну конечно! Ну как же я мог вас не предупредить! Конечно, так и есть. Заказывать надо по одной порции. Вот так и требовать: принесите нам три порции отдельно! Ему, ей и мне! Или еще смешнее можно, вот я, например, так делаю. Приходим мы с друзьями и говорим: „Дайте нам то-то, то-то, то-то, выпить-закусить… Да! И копченую курицу. Одну. Vienu porciju!“ А потом, когда принесут: „Нет, одной маловато! Дайте-ка еще“. И как принесут – снова еще. Вот тогда нормально можно пожрать. А если три порции на одном блюде – тогда спасибо, если будет с трудом две! По весу, в смысле».
Кажется, мы туда пришли еще раз и сделали, как он советовал. Мне почему-то показалось стыдно – нет, не разыгрывать комедию «одну, а вот теперь еще одну», – мне показалось стыдно именно что требовать три отдельные порции. Чего же я боялся? Обидеть официанта подозрением, вот!
Поэтому делали именно так. Одну, потом еще одну и еще одну. Официант, кажется, обиделся еще сильнее. Скрипел зубами, бедняга. Но некуда ему было деваться.
Вот. А когда мы – в первый раз – вышли из этого заведения под названием «Лайва», я вдруг увидел, что на нем – табличка с адресом: Викингу, 19!
«Какая прелесть!» – подумал я. Ведь гостиница, где мы жили, была по адресу Викингу, 3. Значит, решил я, этот автобус так петлял по всему району, а потом привез нас сюда – в это место, которое всего в семи! – всего в семи домах от нашей гостиницы (поскольку по одной стороне улицы четные, а по другой нечетные номера, то всё ясно – 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5). Я объяснил это жене, мы очень обрадовались и пошли по улице. Действительно, следующий дом был номер 17, потом 15, потом 13. Но потом пошел лес… Который мы, конечно же, приняли за парк, за пока еще не застроенный участок земли, да не знаю я, за что мы его приняли! Мы думали: «Сейчас, вот сейчас, вот за тем кустом вновь покажется забор с номером 11, ну и мы скоро будем дома». Но забор всё не показывался, а лес становился всё гуще. Потом мы заметили, что тротуаров нет, и мы идем просто по асфальтовому шоссе. Мимо ехали редкие машины, и все грузовики – о том, чтобы поймать такси, не было и речи. Шоссе стало петлять. Мы с некоторой опаской начали срезать углы – то есть шли через кусты, по коричневой земле по тропинкам, едва проложенным в траве. Тем временем темнело. В общем, шли километра три, и только потом, в сумраке вечернем, из-за деревьев забрезжила красно-кирпичная башня нашего дома отдыха. И сразу дома 11, 9, 7 и 5. И, наконец, дом 3. Пришли. Фу, какое счастье.
– Что тут интересного? – спросил мальчик.
– Ровным счетом ничего! – с удовольствием сказал дяденька. – Бессмысленный рассказ о глупом случае из бестолковой жизни.
Но дальше, про ресторан «Вей, ветерок!».
Итак, все поднялись на второй этаж по довольно узкой лестнице. Две компании: какие-то красивые гладкие мужчины и женщины, одна из которых в синей косыночке была похожа на знакомую Диме артистку, – и Дима с Лизой и дочкой Машей. Наверху было несколько столов под скошенной крышей – наскоро оборудованный уют под старину, для туристов. Стулья с резными спинками, какие-то тарелки и картинки на стенах, косые прорезанные в крыше окна, но на столах – старые советские скатерти неопределенно белого цвета, который случается после двухсотой стирки. Первая компания быстро и весело устремилась в угол и заняла большой стол. Лиза на секунду остановилась, увидела дверной проем с лестницей, ведущей еще выше.
Она спросила высокую белую даму, которая встречала гостей: «А там наверху что?»
Возможно, она на самом деле подумала, что там наверху есть что-то вроде веранды на крыше, тем более что день был жаркий, лестница была вполне приглядна, и такое можно было предположить.
Хотя, может быть, всё обстояло не совсем так. Воспитанная советским дефицитом, Лиза думала – наверное, даже не думала, а просто знала, – что всё самое лучшее, самое интересное, редкостное, модное – всё это находится за какой-то тайной дверцей. Вот и сейчас она решила, что самые лучшие столики – не в этом зале, а в другом, наверху.
– Он ее ненавидит? – вдруг спросил мальчик.
– Кто? – дяденька не понял.
– Этот Дима эту Лизу?
– С ума сошел! Он ее обожает, – сказал дяденька. – Боготворит. Живет ради нее. Всё делает, чтобы только ей было хорошо, чтобы ей понравилось.
– Странно. Ты так злобно рассказываешь.
– При чем тут я?
– Ты же автор! Это же твой рассказ.
– Ерунда какая. Я как автор к ней прекрасно отношусь.
Мальчик засмеялся:
– Я к ней пре-екрасно отношусь. У меня пре-е-красное настроение! Я пре-екрасно себя чувствую! Слыхали, слыхали!
– Я могу продолжать? – спросил дяденька.
– Вперед, – сказал мальчик.
Большая белая дама – официантка, как выяснилось, – просто-таки взбеленилась. Вся еще сильнее побелела – вот такая рифма к слову «белена». У нее губы побелели и даже глаза, и она, оставаясь, конечно же, в рамках вежливости, издевательски произнесла: «Там наверху – раздевалки и душевые для персонала. Желаете принять душ? Прошу вас!» – и показала рукой, приглашая. «Не хамите, голубушка», – сказала Лиза. «Вы спросили – я ответила, – приторно улыбнулась белая дама. – А душевые действительно свободны, и вы никому не помешаете, пожалуйста, прошу вас!» Ярость кипела в ее белых глазах. Наверное, Дима и Лиза для нее были воспоминанием об оккупантах, о чем-то, может быть, пережитом в раннем детстве. Она была значительно старше, так что в сороковом году ей вполне могло быть пять, семь, а то и десять лет. Или это были мамины или бабушкины рассказы, но всё равно – был какой-то ужасный образ: чужие грубые люди поднимаются наверх, на второй этаж родного дома, тычут во все двери пальцами, а может быть, и стволами автоматов, и спрашивают: «А там у вас что? А там?» Именно так решил Дима, вечером вспоминая эту историю. Может быть, он преувеличивал. Может быть, он фантазировал. Но уж больно много отчаянной злости было в ее лице, в ее искривленных губах и сладком голосе.
«Всё, всё, всё», – сказал Дима, потянув Лизу за рукав блузки, и они втроем – вместе с дочерью – уселись за стол. Огляделись. Эта же самая дама, как ни в чем не бывало дежурно улыбаясь, подала меню. В те времена подавали одну книжечку меню на весь стол. Сложенная пополам картонка, в которую был вложен двойной листок бумаги с напечатанным на машинке столбиком закусок, супов, горячих блюд и напитков. Было немного дороговато, не как в простом кафе. Но блюд дороже трех рублей тоже не было, так что ничего. «Как дорого!» – сказала Лиза. «Ничего», – сказал Дима. «Ты уверен»? – спросила она. «Ну не знаю», – засомневался он. Самое ужасное, что у Димы было с собой всего двадцать рублей.
В этот приезд у них с собой было мало денег. Не так, чтобы совсем мало, но надо было рассчитывать. Поэтому Дима положил в бумажник два червонца. Для 1986 года это была вполне приличная сумма. Чтобы съездить из юрмальского пансионата в Ригу и там пообедать – нормально, и даже более того.
Все остальные деньги он оставил в номере в кошельке, который спрятал в чемодан, а чемодан засунул в шкаф. Случаев воровства из номеров не было, поэтому Дима не беспокоился. Но вот с собой он почему-то взял не пятьдесят, не тридцать, а именно двадцать рублей из-за какой-то странной экономности, из нелепой робкой экономности, которая в те годы была ему очень свойственна и не раз его подводила. Как и в этот раз. Конечно, двадцати рублей вполне бы хватило, чтобы пообедать втроем в этом ресторанчике, но Дима стал считать в уме, и у него получилось, что денег хватает, но совсем впритирку. Рублей семнадцать или даже восемнадцать. Хотя, как понял Дима через много лет, давно пора была оставить эту плебейскую привычку, придя в ресторан, заказывать полный обед или дорогое блюдо. Вполне можно было съесть по окрошке и по салату. И влезть в червонец.
…Прости меня, дорогой мой друг-читатель, что дяденька никак не может спрыгнуть с этой смешной темы – по окрошке и по салатику или по салатику и по горячему и как можно было влезть в червонец. Но так почему-то считалось в те годы: если пришел в ресторан, а тем более жену и ребенка привел, то нужно по полной: обед из трех блюд, десерт, кофе и сладкая водичка…
Официантке надоело стоять у них над душой, и она ушла к другой компании, откуда заслышались веселые и бодрые голоса. Что-то вроде: «А шашлык у вас долго готовится, а киевская у вас свежая, а вина будем брать три бутылки или двух хватит?»
Дима тем временем сидел и стыдился собственной бедности. Он думал: «Ну, закажу я впритык, допустим. А кто их знает, этих официантов? Они же всегда норовят обсчитать, и очень возможно, что счет принесут на 21 руб. 30 коп., например. А у меня в кармане только двадцатка, вот ведь я дурак и жмот. И я совершенно не знаю, сколько денег у жены. Но я предчувствую, как она пожмет плечами и поднимет брови, когда узнает, что у меня пошлейшим манером не хватает денег. А представляете себе, если у нее с собой вообще денег нет? Кажется, она мне что-то говорила. Что-то вроде: „Давай я не буду брать с собой кошелька – у меня очень маленькая сумочка“. Я, кажется, сказал: „Конечно, конечно“»…
Так что Диме предстояло получить порцию недовольства. В любом случае. Почему в любом? А потому что, если бы у него было с собой, к примеру, полсотни, если бы он заплатил за обед, скажем, двадцать пять, да еще рубль на чай бы дал, Лиза бы сказала: «Ты сумасшедший? Ты почему так раскидываешься деньгами? Ты что, NN?» – и она назвала бы фамилию какого-нибудь богатого и успешного человека из общих знакомых. Чтобы Диме было еще обиднее.
Посмотрев на Диму очень внимательно и, наверное, поняв, о чем он думает, она повторила свой вопрос:
– Ты уверен, что нам нужно здесь обедать?
Дима сказал:
– Раз уж мы пришли, давай уж пообедаем.
– Ах, раз уж пришли, – засмеялась Лиза. – Тебе опять неудобно перед официанткой? А мне удобно. Но так и быть. Раз уж мы пришли, давай просто выпьем кофе с пирожными.
Она взмахнула рукой и позвала белую даму:
– Будьте любезны!
Белая дама подошла, улыбаясь и на ходу раскрывая блокнотик.
– Слушаю вас.
Но Лиза дала слабину. Надо было сказать «Три кофе, три пирожных» – ну и «бутылку минеральной воды», к примеру. А она спросила:
– Скажите, пожалуйста, у вас есть кофе?
Это была явная ошибка.
Лиза сама когда-то учила Диму: «Не надо спрашивать, а надо требовать». Когда требуешь, человеку неудобно отказать. Потому что отказом в ответ на требование он ставит себя в подчиненное положение, признает свою малость и никчемность. «Принесите кофе!» – «Ой, извините, а кофе у нас нет, к сожалению». Даже если без «извините» и «к сожалению», всё равно отрицательный ответ на законное требование унижает того, кто говорит «нет». А вот когда у человека спрашивают, когда его просят – тут он на коне, он главный, он дарит или отнимает. Сказать «нет» в случае просьбы – это, наоборот, почувствовать себя хозяином положения. Вы меня просили, а я вам отказал.
Именно так и получилось. На вопрос «У вас есть кофе?» белая дама поджала губы и с едва-едва заметной, а может быть, воображаемой насмешкой сказала:
– Кофе обычно пьют после обеда.
О, какая разница с нынешним временем! Когда кофе тебе норовят подать сразу, перед всеми блюдами. Есть в Москве такие кафе, где, заказывая кофе, нужно специально говорить: «А кофе принесите нам, пожалуйста, после всего», а лучше вообще не заказывать кофе одновременно с горячим. Заказать потом, потому что, несмотря на все твои просьбы, тебе его могут притащить в первую очередь, а в самых хороших местах тебя специально спрашивают: «Кофе сразу или потом?»
Но тогда еще царила старинная мода, когда попросить чай или кофе перед обедом казалось полной дикостью, примерно как сейчас вывалить горячее в суп и потребовать чайную ложечку.
– Кофе обычно пьют после обеда, – повторила белая дама.
Тут уже взбеленился Дима.
– У вас есть такой указ? Президиума Верховного Совета Латвийской ССР? – сказал он.
– Нет, – сказала она. – Я не сказала «обязательно». Я сказала «обычно».
– Ну а вот мы такие необычные клиенты, – сказал Дима. – Есть такое европейское правило – «клиент всегда прав». Мы ведь с вами находимся в Европе?
Это был сильный удар, но белая дама его выдержала.
– Конечно, конечно, в Европе! – сказала она. – Но у нас кофе еще не готов.
– Что за чепуха! – сказала Лиза. – Как кофе может быть не готов? Или готов? Я не знаю, что у вас там – кофемашина или турка, но кофе варят по заказу клиентов.
– Да, конечно, – сказал белая дама. – Я неправильно выразилась. Бармен еще не готов. Он еще не пришел. Он придет через полчаса, потому что кофе обычно пьют после обеда. Вы можете подождать.
Она улыбнулась так, что с искусственного цветка, стоявшего на столе в вазочке, упал лепесток и звонко свалился в хрустальную пепельницу. Дима вспомнил про Артемиду, которая могла взглядом засушивать травы, кусты, а иногда и целые деревья.
– Ну нет, – сказала Лиза. – Полчаса мы ждать, разумеется, не будем.
– Как угодно, – сказала белая дама, глядя, как они выбираются из-за стола. – Я вам советую: на углу Домской площади есть миленькая кофейня.
Называется «Тринадцать стульев». Там всегда есть кофе и прекрасные булочки.
Дима, Лиза и их дочь Маша уже начали спускаться по лестнице, и белая дама не удержалась от пули в затылок:
– Там недорого!
Один – ноль.
Ну или три – два, но всё равно она выиграла.
– Сходили в рестора-ан, – протяжно сказала Лиза.
Они шли, очень обидевшись друг на друга и сами на себя. Дочка Маша молчала. В кофейне «Тринадцать стульев» не оказалось свободных мест, но кофе они всё равно где-то выпили, мрачно, не разговаривая друг с другом. Но потом дочка захотела поесть мороженого, попросила денег и разрешения сбегать на соседнюю улицу, там киоск. Дима и Лиза сели на лавочку возле какого-то то ли фонтанчика, то ли памятника. Их десятилетняя девочка, сжимая в руке матерчатый кошелек с тремя двугривенными, побежала куда-то налево, потом направо. Мелькнула ее косичка. Прошло пятнадцать минут, потом двадцать, потом полчаса.
Как тогда люди жили без мобильных телефонов? Жили же, однако. Наверно, чуть посмелее были. Могли отпустить ребенка за мороженым в чужом городе. Но не на полчаса все-таки! Дима и Лиза по очереди ходили искать Машу. Вернее, бегали. По очереди – чтобы кто-то остался на той самой лавочке. Они уж не знали, что и подумать, но через сорок минут, хотя на самом деле, конечно, не через сорок, а через тридцать шесть, примчалось дитя с тремя вафельными стаканчиками. Потому что, оказывается, киоск был закрыт, а какая-то тетя сказала, что мороженое продают в торговом центре, а до торгового центра было далеко бежать, да еще там надо было подняться на четвертый этаж. Но за эти тридцать шесть минут Дима и Лиза натерпелись страху, и этот страх как будто бы выбил из них это отвратительное чувство унижения перед официанткой – чувство бедности, никчемности, малости и чужести, которое, как они вспоминали потом, охватило их обоих.
Конечно, это смешно и, может быть, даже мелко. Но лучше говорить себе правду о своих чувствах, даже таких мелких и, по большому счету, недостойных.
Эх, показал бы мне кто-нибудь этот «большой счет»!
А если серьезно, весь этот «большой счет» копится из мелких циферок повседневных недовольств, нехваток, отказов, унижений и обид. И я не верю, что есть на свете человек, который жил только «большим счетом», задумывал и осуществлял только большие планы, на мелочи не разменивался, дружба у него была всегда крепкая, любовь – верная, и так далее, и всё такое прочее. Впрочем, может быть, таких античных героев до сих пор носит наша земля, но мне они, слава богу, не встречались.
Мелко, мелко, мелко. Ну и пусть.
– В этот же приезд, – сказал дяденька, – Дима с Лизой и Машей ходили в знаменитый ресторан в Юрмале, а именно в Булдури. Он назывался «Jūras pērle», то есть «Жемчужина моря».
– Ага! – вспомнил я. – В этом ресторане за много-много лет до того были мы с моей мамой и рижской девочкой Асей. Ели миноги, поливая их выжатым лимонным соком. Это было поразительно вкусно. Кстати, с тех пор, мне кажется, настоящих миног я так и не ел… А потом шли по заснеженному пляжу, по протоптанной в снегу тропинке, и снег, кажется, хрустел и скрипел почти так же, как на даче под Москвой. Я курил трубку, и у меня, как мне потом сказала мама, была очень довольная рожа.
Но об этом я уже рассказывал.
– Так вот, – продолжал дяденька, – ресторан именно что «назывался», потому что его больше нет. Сгорел. И, кажется, на том месте так ничего и не построили.
Так вот, Дима с Лизой и Машей пошли в «Юрас Перле». Там тоже был наглый официант, но на этот раз дружелюбно наглый, если можно так выразиться. Они с утра зашли туда, чтобы заказать столик на вечер, и, зная манеры и повадки официантов и метрдотелей советского времени, очень боялись, что вот они вечером придут, а их к кому-нибудь «подсадят». Или за их стол усадят каких-нибудь незнакомых людей, потому что столы там были сплошь большими, на шесть-восемь персон. А в советское время «подсадить» – милое дело. Помните, как выглядел зал советского ресторана?
На половине столиков стоят пластмассовые таблички с надписью «стол не обслуживается». Не «зарезервирован», а именно «не обслуживается». В этом был особый смысл: не вами – клиентами – зарезервирован, а нами – официантами – не обслуживается. Чтоб было понятно, кто здесь главный.
Итак, обыкновенно в ресторане половина столов была пуста, потому что они загадочным образом «не обслуживались», а вторая половина была плотно засажена, иной раз незнакомыми друг другу людьми. Поэтому Дима и Лиза настырно спрашивали официанта, у которого заказывали столик в «Юрас Перле»: «Вы нам точно дадите столик на троих? Мы точно не окажемся за большим столом с незнакомыми людьми?» Официант презрительно говорил: «Точно, точно. Здесь не избирательный участок. Здесь не обманывают». А вечером Дима и Лиза вспомнили, что в этой самой «Юрас Перле» когда-то давно подавали взбитые сливки. Бог мой родимый, такая чепуха, как взбитые сливки, считалась каким-то особым балтийским деликатесом. «Взбитых сливок нет», – сказал официант. «Как же так?» «Ничего, – сказал он. – Надо подождать. Вот перестроечка кончится, и сливочки появятся». Дело было в 1986 году. «Ну нет! – закричали Дима и Лиза. – Пусть лучше без сливочек». В этот же раз – ведь тогда уже была «перестроечка» – они увидели на пляже странную группу молодых парней. У одного из них в руках был бело-красный латвийский флаг на коротком древке. Был ветер, флаг хлопал и трещал. Парень стоял молча, безо всяких лозунгов, а вокруг стояли еще человек пять таких же, как он, парней лет шестнадцати или чуть постарше. Наверно, что-то вроде охраны. Но никто на них не набрасывался, флага у них не отнимал. Впрочем, никто и не подходил постоять рядом.
Помню такие группы ребят.
Надо было бы подойти и сказать «Lai dzīvo brīva Latvija!»
Aгa. Негромко так. Или даже прошептать.
Но я не подошел, не сказал и не прошептал.
А жаль.
Перестройка, конечно, наступила, но далеко не окончательно. Особенно в головах. Когда Дима с Лизой и Машей, поужинав в этом замечательном ресторане, возвращались в свой пансионат энергетиков, они, разумеется, опоздали. Пансионат по советской старинке запирался в одиннадцать вечера. Было еще светло – видно, из-за этих фокусов с летним временем. Кажется, в те годы Рига жила по московскому времени, а в Москве время было летнее, и поэтому в Риге солнце закатывалось ближе к полуночи. То есть на самом деле было девять, начало десятого, но на часах – одиннадцать, начало двенадцатого, и огромное, почему-то продолговатое, как пламя свечи, солнце, желтея, краснея и лиловея, медленно, мучительно медленно сползало к горизонту и пряталось за его линией. Люди ходили по пляжу какие-то смурные. В самом деле, не может солнце закатываться в половине двенадцатого ночи.
Дима и Лиза вместе с Машей пришли к дверям пансионата и увидели человек пять или даже десять таких же, как они, запоздалых ночных гуляк. Люди хихикали, некоторые были немножко выпивши, и все громко обсуждали, что же делать. Но никто не стучал в дверь. «Ну что ж, сами виноваты, опоздали, – смеялись тетки. – Придется на скамеечке ночевать». Дима послушал их разговоры и понял, что эти взрослые люди, многие здорово старше него, – что-то вроде нашкодивших, но совестливых детей. Они на самом деле, по-настоящему, взаправду робеют постучать в дверь. Они ждут, когда строгая тетенька, привратница-кастелянша или как она там, администратор, в общем, – то есть начальство! – сама снизойдет до них, откроет дверь, сжалится и впустит. Но Дима очень хотел спать. Лиза и Маша тоже. Поэтому Дима сделал самое простое – нажал на кнопку звонка. И дверь, представьте себе, открылась тут же. Показалась суровая тетка в синем халате. Наверное, она ждала за дверью, смотрела в глазок на робких сорокалетних детишек. «Опаздываете! В одиннадцать корпус закрывается, сказано!» – закричала она, стоя в дверях. Потом отодвинулась, пропуская. И когда все зашли, крикнула вслед: «Завтра к директору пойдете!»
Тоже, кстати говоря, пуля в затылок. Но советская социалистическая пуля. В отличие от европейской, буржуазной пули с предложением пойти пообедать туда, где дешевле.
Но продолжим о мелочности.
Уже в начале двухтысячных Дима и Лиза снова оказались в Риге и, гуляя по центру около Домской площади, увидели тот самый замечательный ресторанчик, с той же самой вывеской «Pūt, vējiņi!», то есть «Вей, ветерок!». На железной прорезной шильде был всё тот же кораблик под парусами.
– Зайдем? – сказал Дима.
– Ты уверен? – спросила Лиза.
– Абсолютно, – сказал он.
Они не стали подниматься на второй этаж, а сели на открытой террасе. Жизнь была уже совершенно другая, деньги уже были не рубли, а латы. Официанты были вежливы и ласковы. Это были совершенно другие люди. Белой дамы след простыл. Наверно, она уже давно была на пенсии. Да и вообще, какая разница, что с ней стряслось. Вокруг Димы и Лизы бегали молоденькие услужливые мальчики, подавали меню, раскрывая его на нужной странице, рекомендовали блюда, молниеносно меняли пепельницу – а Дима был страшно недоволен. Он капризничал. Он говорил, что хлеб черств, и ему приносили свежий. Он говорил, что суп еле теплый, и его забирали подогреть. И так далее и тому подобное. Он всех на уши поставил. Метрдотель даже повара вызвал – договориться насчет прожарки мяса.
Диме было стыдно, что он такой мелочный и, наверное, мелкий человек. Стыдно, что захотелось выкобениться этаким барином в том же самом ресторане, где лет пятнадцать назад ему объясняли, что дешевый кофе – через дорогу. А когда стыдно, полезно рассказать об этом вслух.
– Кому? – спросил мальчик. – Кому рассказать?
– Мне, – сказал дяденька. – Разве непонятно?
Vecrīga
Полутемная комната с тяжелой, массивной, но не старинной мебелью. Тридцатые годы, наверное. Низкая люстра: круглый белый пузырь и латунные украшения – выдавленные цветы. Нечто среднее между недорогим модерном и совсем дешевым ар-деко. Ар-деко ведь на самом деле фабричный стиль, массовый. Смешно, что есть люди, которые его коллекционируют, разыскивают, реставрируют и гордятся им как мебелью Жакоба или Буля. А с другой стороны, ничего смешного. Я недавно сообразил, что родился в первой половине прошлого века: 15 декабря 1950 года. Через тридцать лет винтаж, через шестьдесят – антик. Как-то не очень хочется самому быть антиком. А может, и ничего…
Вот такая тяжелая тусклая люстра висела над круглым столом с бархатной скатертью. А еще на столе стояла продолговатая металлическая вазочка-корзинка. В ней лежал шоколад, наломанный толстыми кусками. Как будто бы плитка, которую ломали, была каких-то неприличных размеров. Я понял, что это называется шоколадный лом, – я раньше такого не видел, только читал.
В Москве в конце 1990-х появился развесной ломовой шоколад, кажется, израильский. Он был, наверное, качественный, но не очень вкусный. Потому что слишком крепкий, плотный. Когда я колол его ножом, он раскалывался на какие-то странные пластинки. Как будто это был не шоколад, а кремень. Но в таком колотом виде его было легче жевать. Невкусный шоколад эпохи продовольственной помощи, эпохи тех дельцов, которые торгуют с голодной страной залежалой, непортящейся жратвой, а иногда даже «стратегическими запасами». Я помню, как в Москве в девяностые годы вдруг появился очень странный немецкий хлеб: черный, крупного помола, наверное, очень питательный, но поразительно невкусный. Этот хлеб продавался в круглых жестяных консервных банках. Да, да, в консервных банках, которые надо было открывать консервным ножом. Это был знаменитый западно-берлинский хлеб. Когда в самом конце сороковых случился берлинский кризис, проще говоря, когда советские войска блокировали Западный Берлин – что на самом деле означало военную агрессию, просто-таки начало войны – о, долготерпение, осторожность и мягкость Запада! Вместо решительных действий американцы стали забрасывать в Западный Берлин по воздуху продовольствие, в том числе и вот эти банки с хлебом. Не удивлюсь, если и в Америке тоже был какой-то стратегический запас, заготовленный вообще незнамо когда, может быть, в разгар Второй мировой войны… В общем, он провалялся на берлинских складах лет сорок и потом приехал к нам. Я помню булочную на Большой Грузинской улице, где продавался этот хлеб. Хотя, наверное, его должны были раздавать даром. Или выдавать по карточкам. Но всё же продавали. А напротив была продуктовая «Березка». Даже стыдно объяснять, что это такое. Вот возьму и не буду объяснять. Русский литератор не обязан объяснять, что такое крепостной мужик или комсомольское собрание. Пусть продуктовая «Березка» останется в этом ряду – усладой эрудитов или смысловой закорючкой, мимо которой глаз проскальзывает, не останавливаясь.
Хотя, конечно, трудно забыть красивые светлые автомобили неизвестных марок – или марок, известных мальчишкам, бескорыстным любителям иностранной автомобильной роскоши, – машины, которые подъезжали, останавливались у магазина. Из них выходили иностранцы. Иностранец в Москве был сразу виден по одежде, и по походке, и по какой-то самоуверенной свободе жестов, по чуть-чуть отставленной назад голове, по широкому развороту груди. Казалось, что он каждую минуту ощущает в своем кармане большой красивый бумажник, в котором лежит темно-синий паспорт с не нашим гербом и много-много свободно конвертируемой валюты. Потом иностранцы выходили из магазина, толкая перед собой тележку, груженную красивыми – через дорогу видно – упаковками и пакетами, открывали багажник и перебрасывали всё это неимоверное количество вкусностей и деликатесов в свою машину. Коляску потом утаскивал служащий. Когда в эту булочную были очереди – вот за этим самым немецким хлебом, – то отдельные иностранцы, бывало, через дорогу фотографировали людей, стоящих толпой у дверей хлебной лавки. Особенно раздражало, прямо-таки в ярость приводило, что большинство этих иностранцев были негры. Наверное, сотрудники африканских посольств. В очереди обязательно раздавалось что-нибудь про обезьян и про то, что мы их кормим. Кто-то поправлял: «Когда-то кормили». «Ну, кормили, – соглашался первый. – Всё равно сволочи. Выкормили на свою голову!» Не скажу о советских людях вообще, но москвичи в большинстве своем были страшными расистами. При том что они выходили на демонстрации с лозунгами «Свободу Африке!», при том что в детских театрах шли спектакли про какого-нибудь негритенка, который вырвался из-под колониального гнета и приехал в Москву, и его сразу окружили добрые и заботливые пионеры. При том что советские дети плакали, читая «Хижину дяди Тома», – при всём при том они искренне считали негров мартышками. Одно другому не мешало.
Шоколад.
Да, в серебряной вазочке-корзинке лежал наломанный большими кусками шоколад, а мама со своей подругой Тасей разговаривала с этой самой рижской дамой, к которой мы пришли в гости. Пришли мы, конечно, не в гости, а по делу. Что-то, связанное со шмотками. У этой дамы что-то продавалось, и Тася зазвала маму посмотреть. Разговор шел о кофточках, о джерси, но дама была очень надутая, томная и говорила с едва заметным акцентом, хотя, кажется, была не латышка, а русская. От всей квартиры было ощущение чего-то иностранного, совершенно не нашего, хотя, казалось бы, люстра над столом, бархатная скатерть, тяжелые кресла с большими круглыми валиками – этого я и в Москве насмотрелся. Аромат заграничности вился от самой хозяйки и, наверно, от маминой подруги Таси.
Тася была женой папиного старого друга Юры Феоктистова, главного художника одного из рижских театров – по-моему, в «Русской драме».
Когда мы с мамой ходили в гости к Феоктистовым, Тася мне тайком от мамы подливала в маленькую рюмку крепкую рижскую настойку под названием «Lasite». «Лясите» – это значит «капелька»; было очень вкусно и очень запретно. Тем более что мне было лет пятнадцать. Мама спросила: «А ты что пьешь?» Я сказал: «Кажется, какой-то сок». Но Тасин сын Митя – ему было лет десять – меня выдал, и мама отобрала у меня рюмку. Митя был очень талантливый юный художник. Рисовал цветными фломастерами поразительно красивые вещи. Не знаю, что с ним дальше случилось, но по всему из него должен был выйти отличный книжный график. Этими фломастерами он мог изобразить всё что угодно – и тонкий штрих, и что-то похожее на густую масляную живопись, тесно перештриховывая разные цвета. До сих пор помню картинку, где на блюде лежали две копченых рыбины. Было сделано с какой-то странной для десятилетнего мальчика мастеровитостью. Еще марширующий «Плохой солдат» – фашист, наверное, который шагал прямо на зрителя. Подметка его сапога, тяжелая, как и положено, с коваными гвоздями, целилась прямо в лицо зрителя. При этом перспектива была соблюдена безупречно, хотя весь стиль в общем-то карикатурный.
Один раз мы проходили по улице, и Тася показала нам на красивое здание с торжественной лестницей, с колоннами, лепниной с украшениями и сказала: «Это Дом офицеров, а раньше здесь была „Русская драма“». Тася была русская рижанка, из старой русской рижской семьи. Они жили в Риге еще «до катастрофы». Кстати говоря, это были ее слова. То есть Тася ненавязчиво объяснила нам, что «до катастрофы» в независимом латвийском государстве русскую культуру уважали гораздо сильнее, чем сейчас. Тася водила нас с мамой в знаменитое кафе «Vecrīga», то есть «Старая Рига». Сейчас этого кафе уже нет. Вернее, кафе с таким названием есть, и даже не одно, но не там. Старая «Старая Рига» была в здании гостиницы «Рига» (сейчас она называется «Рим», как в старину), как бы сзади, на улице Вальню. Фасадом гостиница «Рига» выходила на бульвар и на оперный театр, а вот как раз сзади и было это замечательное кафе. Там было только кофе и булочки с пирожными. Но меня это кафе поразило до глубины души. Не само кафе, а то, что сказала Тася.
– В это кафе, – сказала Тася, – рижские дамы забегают перед работой выпить чашечку кофе и поболтать с подругой.
Другая жизнь коснулась меня.
«Как это так? – думал я. – В кафе, перед работой, поболтать с подругой?» Поход в кафе в Москве был особым, праздничным мероприятием. Придя в кафе, обязательно надо было «что-нибудь хорошее заказать», то есть дорогое, а не чашечку кофе. В кафе водили девушек – помню, как один мой школьный друг (дело было в десятом классе) одолжил у меня пять рублей, объяснив, что он собрался с девушкой в кафе и что у него на это дело припасено то ли двенадцать рублей, то ли пятнадцать. «На эти деньги можно втроем в шашлычной нажраться, – сказал я. – Еще и коньяку взять. Ты что?» «Знаю, – сказал он. – Но мне надо с запасом, на всякий случай. Понимаешь? Мало ли что, вдруг. Сам не знаю. Я хочу быть спокоен». Конечно же, назавтра он отдал мне эту пятерку. Вот именно ту самую, которую я ему одалживал. Синенькую, с отъеденным уголком и с каким-то росчерком на поле. Наверно, это была пятерка из большой пачки. Кассир или инкассатор делал на ней свои пометки. Короче говоря, данная конкретная пятерка вернулась снова ко мне, а друг сказал мне, что ему хватило шести рублей с копейками. И то девушка не доела мороженое. Мороженое было явно лишнее.
Это я к тому, что в Москве поход в кафе – это было особое мероприятие, сродни походу в театр. И уж, конечно, не сравнить с походом в кино, куда бегали три раза в неделю. Более-менее постоянно, регулярно, так сказать, в кафе ходили – а вернее, не в кафе, а в некое подобие бара, где подавали кофе и напитки, – ходили члены творческих союзов, писатели, композиторы, архитекторы, ну и те отдельные счастливцы, которых по блату пропускали в Дом литератора, в Дом архитектора, в Дом кино и так далее. Это было еще одним знаком избранности.
А тут вдруг рижские служащие дамы – Тася подчеркнула слово «служащие» – перед работой забегают выпить чашечку кофе и поболтать.
Я представил себе наших московских служащих дам, которые утром мчатся на работу в свои «учреждения»: вместо слова «офис» говорили «учреждение», а вместо «офисная дама» – «учрежденческая дамочка». Я представил себе, как они, бедные, бегут из дома на автобус, автобусом до метро, а от метро еще либо две остановки, либо десять минут пешком. Если они куда и забегают перед работой, то забросить ребенка в детский сад или заскочить в магазин, купить что-нибудь к ужину, для дома, для семьи. Потому что вечером в магазине уже ничего не будет.
А там они, значит, забегают перед работой в кафе. Другая планета, я же говорю.
В самом кафе тоже было очень интересно. Официантки ничего не записывали, хотя все кругом заказывали разное. Слава богу, кофе было только два сорта – melna и balta, кофе черный и кофе белый, то есть со сливками. Но, кажется, можно было взять маленькую чашку или большую. Зато всякой выпечки было двадцать сортов. И вот эти немолодые официантки выслушивали «два больших черных, один большой белый и один маленький, эклер с заварным кремом, эклер с белым кремом, корзиночка и картошка» и столь же разнообразный заказ с другого стола, и с третьего, и убегали на кухню и через две минуты возвращались с подносами, и раздавали кофе и пирожные в точном соответствии с заказами. Потрясающе.
Эффект незавершенного действия, вот как это называется.
Наверное, в таком же кафе, но не в Риге, а в Берлине, в 1924 году сидела студентка Блюма Зейгарник вместе со своим научным руководителем Куртом Левином. Она удивилась, как точно официанты запоминают заказы. Решила проверить: неужели у них такая уникальная память? Может быть, в эту кофейню только таких и берут? Спросила официанта о прошлых заказах – он ничего не помнил. Как только с ним расплачивались – тут же забывал. А пока не расплатились – крепко держал в голове. Не нарочно держал, каким-то там невероятным усилием памяти, а так, само помнилось. Студентка Блюма Зейгарник провела специальные эксперименты и доказала, что незавершенное действие запоминается почти в два раза (если точно, то в 1,9 раза) лучше, чем завершенное. Эффект Зейгарник. Классика психологии.
У меня есть книга, подаренная Блюмой Вульфовной. Но не учебник «Основы патопсихологии», а сборник стихов Рильке на немецком.
Сейчас новое кафе «Старая Рига» переехало на улицу Вагнера – это недалеко. Там уже многое не так. Например, кофе десяти сортов, как положено в любом сетевом «Кофе-хаузе», а в старое время было только два, я говорил… Официанток в новой «Старой Риге» тоже нет. Кофе и пирожные надо брать у стойки, так что нет никакой возможности полюбоваться восхитительной памятью рижских подавальщиц. Но одно осталось неизменно – это кафе для дам среднего и выше среднего возраста.
Мама и Тася взяли меня в кафе, потому что я был еще маленький мальчик. А когда я уже сейчас рассказал своему рижскому приятелю, что вот, мол, мы с Олей были в кафе «Старая Рига», он спросил: «А ты-то что там делал? Это же дамское кафе». Я вспомнил: действительно, там кроме меня не было ни одного мужчины. Но и ни одной молодой женщины тоже, ни одной девушки. Молодежь ходит в совершенно другие места. А посетительницы «Старой Риги», мне кажется, чуть-чуть законсервированы, похожи на тех дамочек, которых я видел там полвека назад.
Но, может быть, мне это только показалось.
А вот знаменитого, воспетого поэтами кафе «Луна» в Риге больше нет. Ну, может быть, есть, но где-то в другом месте, далеко, и это уже не та «Луна». Та «Луна» была через другую улицу от гостиницы «Рига». Это было чудесное двухэтажное кафе. Днем приходили семьи пообедать, а вечерами собиралась артистическая, в широком смысле слова, молодежь – бородатые парни в вязаных свитерах и девушки в таких же вязаных платьях. Я там не был вечером – мал был еще. И знаю об этом со слов своих старших приятелей.
Сейчас там «Макдоналдс».
Дочь писателя
Один раз, когда мы с Олей ехали в Ригу из Юрмалы, с нами рядом на соседней скамейке ехала – а до этого вместе с нами покупала билет на 12:07 – молодая женщина с чемоданом на колесиках. Наверно, у нее кончился срок отдыха.
Одинокую женщину на отдыхе жальче, чем одинокого мужчину. Хотя, конечно, бывает по-разному. Но всё равно жальче. Я вспомнил дочку писателя Полубаринова. Это была странная история. Вернее, совсем не странная и даже не история, а просто кусочек курортной жизни.
Давным-давно, кажется, в лето имени Вари Бессарабовой, то есть году в семидесятом, мы с ребятами сидели на крыльце одного из деревянных корпусов, курили и болтали о том о сем. Слышно было, как подъехала электричка, постояла, а потом отошла. Было поздно, одиннадцать часов с минутами; может быть, это была последняя электричка или предпоследняя – не важно. Она уехала, стало тихо. Машин тогда было мало, а ночью их не было, можно сказать, вовсе. Поэтому стало совсем тихо. И в этой тишине мы услышали приближающийся звук каблучков по асфальту. Кто-то дошел до калитки нашего Дома творчества, открыл ее с тихим дачным скрипом. Легкое цоканье каблуков тут же сменилось шуршанием гравия, им была засыпана широкая подъездная дорога, по которой фургончики привозили еду в столовую. Шаги остановились. Мы затихли тоже. Потом кто-то что-то сказал, не относящееся к этим шагам. И вот тут снова раздалось цоканье каблуков, потому что гравийная дорога сменилась асфальтовой тропинкой, и буквально через три секунды мы увидели девушку, ну, то есть, в смысле, молодую женщину лет двадцати пяти или около того, с чемоданом в руке, коротко стриженную, большеглазую, рыжевато-блондинистую. Она подошла к крыльцу. Мы замолчали. Она смотрела на нас, мы на нее. Я был самый старший в компании, поэтому именно я сказал: – Добрый вечер. А вы, простите, кто?
Она сказала:
– Здравствуйте. Я дочь писателя Полубаринова.
Она понимала, наверное, что мы первый раз слышим о таком писателе.
О многих писателях мы слышали в первый раз. У нас даже была такая забава – играть в писателей. Дело в том, что почти в каждом писательском доме был справочник Союза писателей. Десять тысяч человек писателей было в СССР, страшное дело.
Этот справочник переиздавался почти каждый год, и поэтому у разных людей были справочники разных лет. Игра же состояла вот в чем: мы ставили на кон деньги, например, по копейке или по две, и дальше кто-то говорил (или волчок вертели, или на пальцах выкидывали), и получалось, например, 145 и 6. Это значило: 145-я страница, 6-й писатель сверху. Как правило, выигрывал тот, кто мог сказать: «Да, я знаю этого писателя». Везло тому, кто случайно наталкивался на писателя, действительно всем известного. Тут уж никто не сомневался, что этого писателя человек знает, потому что его знали все. Если же попадался писатель неизвестный, которого человек знает, вернее, утверждает, что знает, то это надо было доказать. Например, назвать одну-две книги. Врать не всегда получалось. Потому что попадется тебе какой-нибудь Иван Козлов, ты скажешь: «Конечно, знаю». Ведущий спросит: «Ну и что же ты этого Ивана Козлова читал?» Ты соврешь и скажешь: роман «Мать партизана» и повесть «На границе». Придумаешь такое типичное советское название, а тебе закричат: «Врешь, врешь, врешь!!!» И торжествующе прочтут: «Козлов Иван Петрович, поэт, переводчик с армянского». Поэтому добраться до известного писателя было довольно трудно. Ставки по копейке всё время повторялись, и победитель, бывало, уносил с собой рубль, а то и полтора.
В это же лето я разговорился с парнем лет на десять старше меня, очень худым и смуглым, с восточным лицом. Он отдыхал вместе с пузатым папашей, который выходил на пляж в кремовом летнем костюме и начинал раздеваться, демонстрируя сатиновые трусы до колена и лиловатую майку-фуфайку. Насколько представителен и джентльменист он был в костюме, настолько же нелеп и затрапезен в этих синих сатиновых трусах и линялой майке.
– Отец? – спросил я у парня.
– Ага, – сказал он и, отвечая на мой незаданный вопрос, добавил: – Классик.
– В смысле? – не понял я.
– Классик нашей литературы, – сказал он, – которая наследует великим творениям Востока, – у него подрагивали губы, он, наверное, старался не рассмеяться, – но расцвела новым цветом в лучах Октября.
– А что он пишет? – спросил я.
– В смысле? – теперь он повторил мой вопрос.
– Ну, поэт, прозаик, драматург?
– Кака разныца? – сказал парень, нарочно изображая среднеазиатский акцент. – Что хочет, то и пишет. Думаешь, я читаю? Сказано – классик, и все дела.
Спрыгнул со скамейки и помчался к воде. И долго бежал, поднимая брызги, потому что до глубины надо было идти метров сто, я же говорил. А классик живым монументом в сатиновых трусах стоял на берегу. Он вообще, мне кажется, никогда не садился.
Так вот, дочка писателя Полубаринова прекрасно понимала, что мало кто знает писателя Полубаринова, и поэтому добавила:
– Писателя Полубаринова из Читы.
– Вы из Читы? – спросили мы все хором.
– Да, – сказала она. – Вот, приехала отдыхать по путевке. А как здесь заселяться?
Мы всей гурьбой проводили дочку писателя Полубаринова до администрации, которая располагалась – не помню, говорил я об этом или нет, – в первом и единственном этаже недостроенного главного корпуса. Совершенно не помню, как ее зовут. Мы все с ней как-то не сдружились. Но не потому, что не нашли общего языка или, упаси боже, поссорились или не понравились друг другу. Всё проще: мы для нее были слишком молодыми. Нам было по восемнадцать лет, а некоторым и вовсе по четырнадцать, как уже упомянутой Варе. Вообще у нас было довольно много малышни. Наша компания была сфокусирована на этом прекрасном возрасте абитуриентов и старшеклассников. Даже я в свои двадцать сам себе казался для этой компании староват. Случай с Варей – прекрасное тому подтверждение. А дочке писателя Полубаринова было самое маленькое двадцать пять. А в этом возрасте каждый год весит гораздо тяжелее, чем в сорок или пятьдесят, сами понимаете. Поэтому в нашу компанию дочка писателя Полубаринова не вошла, а ко взрослой компании, там, где были люди от сорока и старше, тоже как-то не прибилась. Так и ходила она одна по аллейкам, ездила на экскурсии, лежала на пляже. Миленькая, беленькая, хорошенькая, с перламутровым лаком на пальцах рук и ног – совсем одна. Так и уехала.
Но, может быть, я вообще ничего не понимаю ни в жизни, ни в людях.
Может быть, она приехала в Ригу из Читы не за тем, чтобы развлекаться в шумной компании, или завести роман, или подцепить себе какого-нибудь писателя. Вовсе нет. Может быть, она приезжала отдохнуть, просто отдохнуть, в самом прямом и непосредственном смысле слова. Я, кстати, так и не спросил, кем она работает у себя в Чите. Может быть, она была школьной учительницей и до отчаяния устала от орущего класса, от бесконечного школьного галдежа, беготни по переменам, от классных собраний, дежурств и педсоветов. Может быть, она лежала на пляже, закрыв глаза, и думала: «Боже мой, какое счастье! Тишина, никто не пристает!»
Но, может быть, я просто был невнимателен, неприметлив, в общем, не разбирался в людях, в чем меня однажды упрекнул отцовский приятель, старый актер и театральный педагог Семен Гушанский. Я вспомнил одного нашего знакомого, тоже папиного товарища, и Семен сказал:
– Жуткий потаскун, страшный бабник.
Я сказал:
– Да-а-а??? – не просто из вежливости сказал, а в самом деле не мог и предположить, что этот папин друг, такой тонкий, хрупкий, седой и даже отчасти застенчивый, говорящий тихим голосом, мягкий, уступчивый, интеллигентный и всё такое, – что он, оказывается, страшный потаскун, бабник и вообще жеребец, как сказал Семен.
– Не может быть, – сказал я. – Так вроде и не скажешь.
– Эх ты, драматург! – сказал Семен.
Я как раз пришел к Семену, чтобы передать ему свою пьесу, которую он обещал передать своему старому приятелю Плятту.
Плятт пьесу прочитал, позвонил мне по телефону, выражал свои восторги, просил разрешения передать пьесу в дирекцию, вот прямо такими словами, с ума сойти. Потом мне звонил директор. Уже распределили роли, но в последний момент, разумеется, всё сорвалось. Но это так, к слову.
– Эх ты, драматург, – сказал Семен. Взял папку с моей пьесой и слегка стукнул меня по лбу. – Да какой же ты, к чертовой матери, драматург, если ты в людях совершенно не разбираешься? Да на нем же просто написано, какой он кобель!
Может быть, в моей пьесе и в самом деле недоставало знания людей, и вот поэтому ее все-таки не поставили. Хотя поначалу она всех поразила. Мне с годами начинает казаться, что в 99% случаев пьесу не ставят – правильно, справедливо.
Впрочем, потом эту пьесу все-таки поставили. В Болгарии. Но прошла она всего раз десять или пятнадцать, не больше. Один сезон. Так что всё правильно.
Так что, может быть, дочка писателя Полубаринова завела себе потрясающий головокружительный роман в нашем Доме творчества, может быть, она сломала судьбу какому-нибудь пожилому поэту или прозаику. Или жена какого-нибудь поэта или прозаика сломала о башку своего мужа пишущую машинку «Колибри» – были такие машинки-малютки, игравшие роль нынешних ноутбуков.
Но этого я не знаю. Всё это – мои домыслы, всё это – фантазии не слишком наблюдательного человека.
– Театр, театр! – сказал дяденька. – Вот мы тут жили в гостинице «Юрмала». В Риге в эти дни были гастроли театра «Ленком». Актеры жили в этой же гостинице. Это был то ли восемьдесят второй, то ли восемьдесят четвертый год. Завтраков, как теперь, типа «пти дежене», включено в стоимость тогда не было. Надо было ходить в буфет. Буфеты были в торце здания на каждом этаже. Может быть, даже в обоих торцах. То есть буфетов было много. Надо было ходить в буфет и там брать какой-то завтрак. Творог со сметаной, вареные яйца и что-то в этом роде. Приятно было стоять в очереди прямо за Инной Чуриковой. Какой я был тактичный тогда! Нет бы познакомиться или просто выразить свой восторг. Фильмы «Начало», «Прошу слова», не говоря уже о «В огне брода нет», были, как сейчас говорят, культовыми.
И, конечно, был Янковский, невозможной красоты и обаяния. Каждое утро в течение двух недель я наблюдал такую картину: Янковский с цветной простынкой и полотенцем выходил на пляж, расстилал простынку, ложился на нее, надев темные очки, и загорал, то ли читая книгу, то ли просто подремывая. И немедленно рядом с ним, со всех четырех сторон, то есть справа, слева, в голове и ногах – крестом, а вернее, свастикой – укладывались четыре девушки. Обворожительные, в модных очках, с идеальными фигурами, с ухоженными личиками, в доведенных до минимума, почти что несуществующих купальниках. Они молча лежали вокруг и чего-то ждали. Потом Янковский, назагоравшись, поднимался, складывал свою простынку и уходил, перешагивая через одну из этих девиц. Девицы сквозь темные очки смотрели ему вслед, а потом меняли расположение. И вот так две недели подряд. Янковского давно уже нет. Есть ли эти девицы? Во что они превратились? Они были чуть моложе меня. Мне тогда уже было лет тридцать с маленьким хвостиком, а им лет по двадцать пять, но никак не меньше. Значит, они сейчас пенсионерки, бабушки. Очень бы хотелось на них посмотреть. Не растолстели ли они, не одрябли? Не покрылись ли морщинами, не появились ли венозные узлы и подагрические шишки на их чудесных стройно-бархатистых, отпедикюренных ножках? Иногда мне кажется, что я вижу их на сегодняшнем Юрмальском пляже: три крепких жилистых старухи, а четвертой уже нет. Или нет, пусть живет. А четвертая жирная, такая жирная, что ходит с двумя костылями-канадками. Фу! Фу, какая я сволочь! Пусть четвертая тоже будет подтянутая, жилистая и даже не старуха, а женщина, которая прекрасно выглядит.
В то лето было очень много ос и много странного мороженого. Двухсотграммовое эскимо, но зато без шоколада. Мы с дочкой почему-то объедались этим мороженым. Мороженое капало на голые колени. Осы слетались. Мы соскакивали со скамейки, бежали в другое место. Осы летели следом – или это были уже другие осы, осы из другого места. Вся Юрмала была в эти полосатых зудящих тварях. А мы через две недели переехали в другой пансионат, вернее, в другую гостиницу: из Майори, из гостиницы «Юрмала» – в Лиелупе, в гостиницу «Zinātnes noms», что в переводе значит «Дом науки». Как вы поняли, это был пансионат Академии наук. От этой гостиницы до моря было далековато, зато рядом была речка Лиелупе. Мы катались на лодках. Я уже рассказывал, как это было, – как нас чуть не утопила «Ракета», как нас чуть не утопил буксирный катер в камышовых островах. Это было ничем не замечательное место. Настолько ничем не замечательное, что даже удивительно, как в такой скукоте и вялой тишине могут отдыхать люди. Впрочем, нам там было неплохо. Ос, во всяком случае, было меньше. А десять минут пешком до моря даже приятны. Дорога шла по аллеям дачного поселка, в котором чуть ли не с тридцатых годов жили высокопоставленные персоны. И потом, в советское время, тоже.
– Мы гуляли по этому поселку, – вздохнул дяденька, – и кто-то нам показал бывшую дачу Балодиса, министра обороны в правительстве Ульманиса. Говорят, он был картежник, гуляка, пьяница и милейший человек.
«Белая сова»
Гостиница называлась «Balta рūсе», что значит «Белая сова», – небольшой двухэтажный дом в Майори, почти на углу улиц Юрас и Пилсоню. На первом этаже были холл и несколько столиков, где накрывали завтрак. Номера были на втором этаже. Вдоль лестницы на изогнутых приступочках стояли книги – целая библиотека советской прозы шестидесятых годов. Я спросил администратора, откуда это у них. Он сказал, что по соседству какой-то человек продал свою дачу, новые хозяева не захотели брать эти книги, а выкидывать было жалко, и поэтому он предложил их гостинице. «И вот мы их тут расставили. По-моему, неплохо», – сказал администратор, молодой, довольно приятный человек, который, как выяснилось, был одним из совладельцев этой гостиницы. «Ну и как, читают?» – спросил я. «По-моему, да», – ответил он. Потом, то есть через несколько дней, я тоже стал брать эти книжки и, сидя в кресле на верхней террасе, куда выходило окно нашего номера, читал наивные и трогательные, но по-своему искусные и, в общем-то, хорошо написанные рассказы совсем забытых ныне Владимира Лидина и даже Матильды Юфит. Была такая писательница – между прочим, жена Павла Нилина, автора знаменитого романа про чекистов «Жестокость», а также чудесного рассказа про какого-то шебутного парня. Рассказ назывался «Дурь». От «Жестокости» до «Дури» – такой вот диапазон. Вообще же Павел Нилин был личностью уважаемой и даже светлой. Так, во всяком разе, о нем отзывались. А жена его писала обстоятельные рассказы про одиноких женщин и не слишком счастливых мужчин, которые всё никак не могли как следует подружиться, сойтись и устроить себе нормальную семейную жизнь. Злое время досталось этим людям, и от всей этой замечательной книги пахло гарью, бесприютностью, холодным сырым ветром, промокшими сапогами и заплесневелым хлебом. Люди эти несчастны были не из-за собственных капризов или психологических травм раннего детства, не потому что маму с чужим дядькой застукали или кузен в тринадцать лет лишил невинности и ай-ай-ай, вся жизнь наперекосяк, – а по причинам куда более грубым и внешним: война, беженство, раскулачивание, аресты, голод. Тихие рассказы о несчастных Иване Петровиче и Майе Кузьминичне совершенно неожиданно, ненатужно и неспециально превращались в устрашающий эпос о национальной катастрофе. Я не думаю, что автор – писательница то есть – ставила такую задачу, но получилось именно так.
Вообще я с недавних пор полюбил вот такие тихие и простодушные книжки. Вроде бы ни про что, а волосы дыбом. Актриса Рина Зеленая говорила мне (ну, мне – это сильно сказано: говорила в доме моих родителей за столом, где в том числе сидел и я), – говорила, что не может читать Зощенко без слез и ужаса, потому что ничего смешного в рассказе про баню, про аристократку, про племянника Серегу, про блошиный порошок и всё такое – ничего смешного в этих рассказах нет, а есть один только ужас нищей и мрачной жизни.
Рассказы Владимира Лидина были поискусней, помастеровитей, чем у простодушной Матильды Юфит, – и от этого они сделались тощее, преснее в смысле «отражения момента действительности», как сказал бы Зощенко. Трагизм существования людей у Лидина сводился, извините за выражение, к сплошной эротике, но «извините за выражение» – не в том смысле. Почти все его рассказы – об одиноких мужчинах и одиноких женщинах, которым не позволяет сойтись, полюбить друг друга и жить нормальной семьей какой-то неясный – может быть, даже неясный самому автору, – внутренний стопор, который, конечно, рисовался в виде стопора внешнего, но уж слишком безобидного и очень благородного: то ли привязанность к старушке-матери, то ли преданность малышке-дочери, которая испугалась того, что мама встречается с чужим незнакомым дядей, ну и всё в таком роде. И получается смешно. Владимир Лидин гораздо психологичней, то есть он вроде бы более современный, более европейский писатель. А Матильда Юфит – простодушно социальная, то есть совсем советская. Но в результате ее читать интересно, а его – скучновато. Как-то слишком спокойно, как будто пьешь прохладный не слишком крепкий сладкий чай.
Но все эти книги и мысли были потом.
А пока мы въехали в этот номер, раскидали наши вещи и пошли гулять. Сбегали к морю, попробовали ногами этот поразительный юрмальский пляж, этот твердый, как асфальтовая дорога, но вместе с тем слегка упругий песок. Прогулялись немного туда-сюда, а там настал вечер. Кажется, мы зашли в номер переодеться и пошли ужинать не помню, в какой ресторанчик на улице Йомас – на юрмальском Бродвее, так сказать. Не помню, что заказала Оля, а я взял гуляш, настоящий венгерский гуляш, как положено, в эмалированной мисочке, очень крепкий и наваристый, и большой бокал пива.
Потом я думал – может быть, в этом сочетании всё дело – крепчайший бульон и пиво. Какие-то электролиты, наверное. Неправильные электролиты. Но это всё чепуха, конечно. Хотя кто знает…
Вернувшись в номер, я увидел на столике около зеркала ворох туристических проспектов: карта Риги, карта окрестностей, поездка в Цесис и среди прочего листовка, приглашающая в велосипедный тур по озерам в окрестностях Тукумса. Крупными буквами там было написано: «Приключение гарантировано!» Я показал это Оле, и мы посмеялись некоторой двусмысленности такой рекламы.
Засыпая, я еще раз вспомнил: приключение гарантировано. И засмеялся, и заснул.
Мне приснился сон. Как будто я редактор, и мне принесли статью про петушиные бои и разведение бойцовых петухов. Читаю очень внимательно. Там даже картинки есть, изображены петушиные бои. Но статья плохо написана, к тому же по тематике никак не подходит нашему журналу. Я говорю автору, что печатать не буду. Но автор настаивает, уговаривает, напирает. Мне даже нехорошо как-то сделалось от его напора. Я говорю: «Уйдите!» Он не уходит и продолжает доказывать, что статья хорошая, актуальная, оригинальная. Сует мне под нос текст с подчеркнутыми фразами. Мне от этого совсем худо, голова заболела, в груди теснит, я чуть ли не кричу: «Уйдите! Уйдите! Уйдите!»
Оля потом говорила, что я во сне кричал: «Уйдите!»
Я во сне кричал так громко, что Оля, кажется, проснулась, но я сказал ей: «Ш-ш-ш…» – и постарался заснуть снова. У меня кружилась голова и вдруг стало страшно тошнить. Я вспомнил про гуляш с пивом и решил распорядиться им по старинке. Пошел в сортир и попытался вырвать, но ничего не получалось. Голова болела всё сильнее и сильнее. Кружило и шатало. Сильно тошнило, но совсем не рвало. Я громко кашлял, пытаясь все-таки извергнуть из себя этот проклятый гуляш. Оля вскочила с постели, сказала: «Может быть, вызвать врача?» Я терпеть не мог вызывать врача по всякому поводу, но тут сказал: «Давай!» Она побежала вниз, а я потерял сознание и упал на спину, что, как оказалось, было очень хорошо. Упал бы я головой на раковину или на унитаз, и зацепился бы подбородком, и остался бы в таком сидячем положении – мозг остался бы без крови, пускай совсем ненадолго. Тридцати секунд достаточно – и вообще неизвестно, чем дело бы кончилось. Оля потом рассказывала, что, когда она бежала по лестнице вниз в рецепцию просить, чтоб вызвали скорую, она услышала, как я упал и стукнулся головой, и ей захотелось побежать ко мне туда наверх, увидеть и понять, что со мной, но благоразумие взяло верх, и она побежала будить администратора. Скорая приехала очень быстро. Я всё еще лежал на полу. Кажется, в диспетчерской сказали: «Не трогайте его. Пусть лежит как лежал». Приехала скорая. Я уже очнулся, но пошевелиться не мог – так страшно болела и кружилась голова. Померили давление, пульс – всё было вроде бы нормально. Я сказал: «Порядок?» «Нет, – сказал врач. – Едем в Страдыня». Это большая-пребольшая больница имени Пауля Страдыня, ну, типа как у нас Склифосовского. Перед этим они всё-таки спросили у меня имя и фамилию и адрес по прописке. И пока они спускались вниз за носилками, я продиктовал Оле пароль от моего ЖЖ и сказал: «В случае чего обеспечь явку». На клеенчатых носилках, которые на самом деле были не носилки, а что-то вроде мешка или коврика, меня стащили вниз. Им было ужасно тяжело. И мы с сиреной помчались в больницу, которая, слава богу, была недалеко, на полпути от Юрмалы до центра. Я едва помню, как меня переложили на каталку и повезли в реанимацию.
Когда меня ввезли в эту комнату, в этот зал, положили под лампу, пристегнули ко мне электроды и стали рассматривать – не меня, а экран кардиографа, – у меня перед глазами появилась золотисто-апельсиновая мгла, которая постепенно густела. Я увидел, что из этой мглы, из этого золотого тумана ко мне протягиваются руки. Людей не было видно, только руки, мужские и женские, все пальцы в перстнях и кольцах. Мужские в перстнях, женские тоже. И вот они берут меня за руки, за одежду, и тянут к себе, и что-то шепчут, что-то вроде: «Сюда, сюда, к нам, к нам, к нам!», и оранжево-золотистая мгла становится всё гуще и гуще, пока не сгущается совсем. Потом снова свет в глаза и голос:
– Асистолия.
Я понял, что такое асистолия. Это отсутствие сердечных сокращений, остановка сердца, проще говоря.
– Я что, совсем отрубился? – спросил я у врача, худощавого мужчины с седым ежиком.
– Совсем, – кивнул он.
– Прямо вот так совсем? – не поверил я. – Как в кино – тык-тык-тык… тш-ш-ш-ш? – и я, приподняв руку, попытался пальцами показать, как кривая на осциллографе сначала движется вверх-вниз, а потом превращается в прямую линию.
– Да. Точно. Как в кино, – сказал он и тоже показал пальцем прямую линию.
– И что теперь? – спросил я, потому что немножко растерялся. Потому что на все мои недуги, хворости и жалобы врачи всегда отвечали: «Ерунда, чепуха. Это всё от нервов. Ты здоров как бык. Выпей валерьянки, и делу конец. Не обращай внимания. Беги давай!»
– И что теперь? – спросил я.
Врач с седым ежиком говорит:
– Нужно ставить кардиостимулятор.
Я говорю:
– Простите, как вас зовут?
– Доктор Ансабергс. Янис Ансабергс. А вас?
Я представился и сказал:
– Хорошо. Я, в принципе, согласен. Но я должен позвонить, посоветоваться со своим кардиологом. С профессором Груздевым. Может быть, слышали? Заведующий кардиореаниматологией Центральной клинической больницы Управления делами Президента.
То есть, на столе лежа, я не упустил похвастаться.
– Как же, как же, – говорит доктор Ансабергс. – Конечно, слышал! Известное имя! Но только вам главное – успеть.
– В каком смысле? – говорю.
– В обыкновенном, в прямом, – отвечает доктор Ансабергс.
И тут руки в перстнях снова потянулись ко мне из апельсинового тумана, и снова я услышал тихое лопотание: «Иди к нам, иди к нам!» Снова золотисто-оранжевый туман начал сгущаться – и вдруг я увидел себя как будто откуда-то сверху, нет, не совсем сверху, не из-под потолка, но всё равно сверху. Как будто бы я сижу на той каталке и смотрю на свои ноги. Но я же не сидел, я лежал пластом – но всё равно, вот так будто бы сверху я увидел, как к моим бокам приставляют бежевые утюжки электрошока, и доктор командует: «Отойти! Разряд!», и мое тело подпрыгивает, как лягушка, которую мучают электричеством на уроке биологии. Это было довольно больно. Я чувствовал эту боль, хотя, повторяю, смотрел на это как будто со стороны.
– Пошел, – сказал доктор. – Пошел, пошел!
Я открыл глаза, и он закричал:
– На меня смотреть! На меня смотреть! Глаза не уводить! На меня смотреть внимательно! На мою руку смотреть! Глаза не уводить! Кто я? Кто я?
– Врач, – сказал я.
– Как меня зовут?
Я вспомнил, что после первой асистолии, когда я спрашивал, правда ли я отрубился, мы познакомились. Я сказал ему свою имя и фамилию, и он тоже представился: Янис Ансабергс.
– Кто я? Как меня зовут? – кричал он мне.
Я вспомнил и сказал:
– Доктор Янис Ансабергс.
– Labi, – сказал он.
То есть по-латышски – «хорошо».
Мне надели на нос кислородную маску и повезли в какую-то другую комнату. Через несколько минут доктор снова ко мне пришел, сел на стул около каталки и вытащил из кармана какую-то штучку, похожую на старинный серебряный рубль, но не совсем круглую. «Вот это, – сказал он, – я вам вставлю в грудь. Это называется кардиостимулятор. Это будет как кучер для вашего сердца. Если оно вдруг снова начнет биться очень медленно или остановится совсем, он, как кучер лошадь, тихонечко хлыстиком щелк, и оно заработает снова. Подержите его в руках, возьмите».
Оля потом рассказывала, что она спросила доктора Ансабергса, обязательно ли делать операцию. Можно ли обойтись без нее? Он сказал:
– Ну, во-первых, это не настоящая операция. То есть, конечно, операция, но маленькая. Мы же не будем залезать под ребра в грудную клетку. Это я сделаю меньше чем за час. Может быть, даже за полчаса. А насколько обязательно? Ну конечно, он сейчас отдышится, и я могу его выписать. Прямо через час или два. Никто не знает, когда будет следующий раз. Может быть, никогда не будет. Может быть, через десять лет. А может быть, я вас выпишу, вы выйдете на улицу, дойдете до такси – и всё. И не успеете, врач не успеет добежать. – Тут он засмеялся и сказал: – Ну и что, вы знаете, что люди скажут? Вы вообще-то представляете себе, что скажут люди?
– Что скажут люди? – спросила Оля.
Она-то, конечно, ожидала, что он скажет: вот, мол, люди вас осудят за то, что вы отговорили мужа ставить стимулятор.
Но нет. Доктор Ансабергс имел в виду нечто совсем другое.
– Вы знаете, что скажут люди? – в третий, наверное, раз повторил он. – «Ну что, ну умер. Ну да, не восемьдесят пять лет, но ведь и не молодой. Совсем не молодой. Почти шестьдесят! Ну что же, пожил, пожил», – сказал он с ударением на «и». – «Ну пожил, ну нормально. Ну пожил, ну достаточно. Ну пожил человек, ну и умер» – вот что скажут люди, вы понимаете?
– Понимаю, – сказала Оля. – Будем ставить.
– Тогда готовимся к операции, – весело сказал доктор Ансабергс.
Операция действительно была очень быстрая, и мне было совсем не больно. Мне было жалко только, что между моим подбородком и грудью поставили небольшой валик из простыни, так что я, как ни вывертывал глаза, не мог разглядеть, что там выделывает доктор Ансабергс у меня под ключицей. А попросить снять эту ширмочку я не решился. Подумал, что меня сочтут храбрящимся пижоном, которому зачем-то непременно надо глядеть, как доктор в нем ковыряется. Правда, в никелированной раме большой лампы всё отражалось, но очень выпукло и кривозеркально, так что я ничего толком не разглядел. А доктор Ансабергс, взрезая мне кожу под ключицей, сказал: «А сейчас мы будем с вами разговаривать!» – и очень подробно расспрашивал меня о московской жизни, об улицах, театрах, ценах и прочей ерунде. Очень было забавно, как он прикручивал к кардиостимулятору кабели, которые через полую вену шли к самому сердцу и слегка его касались. Он взял маленький динамометрический ключ, то есть ключ, который указывает необходимые усилия закручивания гайки, чтоб прикрутить этот кабель как надо, не недокрутить и не перекрутить. Динамометрический ключ слегка трещал, как и положено такому ключу. Потом ранку заклеили пластырем и сверху положили тяжелый ледяной пресс. Вставили в локти капельницы, по-моему, две, точно не помню, и вывезли из операционной. Снаружи меня встречала Оля. Она помогла мне вместе с санитарами уже в палате перебраться с каталки на кровать.
С кровати я встал уже вечером. Ходил в туалет, катя за собой капельницу и чуть-чуть прикручивая ее кран, чтобы кровь из вены не полилась обратно. Так меня научил сосед.
Сосед у меня старик лет семидесяти. Он пришел на смену кардиостимулятора, поскольку эта машинка рассчитана примерно на десять лет. Потом садится батарейка, и надо всё по новой. Это был совершенно простецкий старик, по виду – рабочий или моряк, широкоплечий, с тяжелым складчатым затылком. Неразговорчивый, как и положено латышам во мнении русских.
Но иногда он по-русски бормотал что-то вроде «старость – не радость» и размышлял вслух, доведется ли ему еще раз стимулятор менять, или это уже последний раз, и что надо к сыну съездить – ну, в общем, какая-то ерунда, мелочь. Палата была трехместная. Мы там были вдвоем, но через день появился еще один человек. Ради той же процедуры. Высокий, красивый, совсем не старый силач, мускулистый и загорелый. Он заговорил со стариком по-латышски, а мне просто сказал «labdien», что значит «здрасьте». Они довольно много разговаривали с тем стариком, иногда спорили, иногда хохотали, а на меня совершенно не обращали внимания. Как будто меня не было. Я думал: вот черт, выпишут старика (а его должны были выписать буквально завтра), и как я с этим голубчиком буду общаться? Может быть, он по-русски вообще не понимает?
Но зря я беспокоился. Как только старик собрал свою сумку и вышел из палаты, красавца-силача как будто переключили. Он тут же заговорил со мной на очень чистом русском языке и вообще оказался компанейским парнем. Рассказывал, как был мотористом на рыбацком судне, как играл в волейбол за какую-то сборную, как однажды выбил себе большой палец, принимая какую-то пушечную подачу, а поскольку заменить его было некем, ему прямо в руку, в самую кисть вкололи какое-то мощное обезболивающее и снова вытолкнули на площадку. «Вот тут я понял, что такое нравы советского спорта!» – сказал он мне.
А я понял, что умирать не страшно.
Это просто сон, яркий сон без сюжета, мелькание лиц, фигур, рук. Руки мужские и женские, в перстнях и кольцах, люди бегут вдаль и тянут меня с собою, и я бегу вместе с ними, и всё уходит в сильный оранжевый, чуть зернистый, очень красивый свет-туман, который густеет, темнеет и превращается в тугую искрящуюся тьму.
Наверное, страшно, когда тебе сообщают смертельный диагноз. Когда в тебя целятся из пистолета. Меня два раза грабили на ночной улице – в Нью-Йорке и в Москве. Было страшно – а вдруг ножом ударят?
А так, уходить в оранжевый дым – нет, не страшно.
– Ну да, конечно, конечно! – закричал дяденька. – Теперь я всё понимаю! Со мной было ровно то же самое. Пятнадцать лет назад. Когда я брился и неожиданно шмякнулся вот точно так же, как ты, в ванной затылком об пол. Одна только разница, что перед этим не тошнило. Точно так же, какое-то помрачение снова наступило, когда я лежал в постели, и уже скорая приехала, и врач скорой делал мне массаж сердца, руками давил на грудь, а я ничего этого не помню. И он точно так же кричал мне: «Не уводи глаза! Смотри на меня! Смотри на меня! Кто я? – и показывал на жену и говорил: – А кто она? А как ее зовут?» Тут, наверно, у них какой-то секрет.
– Надо повысить уровень бодрствования, – сказал мальчик.
Но мы не обратили на него внимания. То есть мы поняли, что он сказал, и поняли, что он всё правильно говорит, но нам не хотелось с ним разговаривать.
– Вот, – продолжал дядя, – а мне говорили «динамическое нарушение мозгового кровообращения». И отвезли по скорой в неврологию. А там я уже вечером бегал курить на лестницу. Ну разве человек с нарушением мозгового кровообращения побежит, да еще курить? Ведь это такой спазм мозговых сосудов!
– Абсолютно точно, – сказал мальчик. – Что вы курили-то?
– Самокрутки, представь себе, – сказал дяденька.
– Козьи ножки? – спросил мальчик.
– Ты чего дурака валяешь? Какие козьи ножки, к чертям собачьим? Специальные самокрутки из табака под названием «Драм». И листочки специальной папиросной бумаги, и машинка специально для скручивания. Недешевое удовольствие, кстати, – продолжал дяденька. – Дороже, чем сигареты в киоске. Только это не мои самокрутки были. Мне-то, конечно, жена с собой сигарет не дала. Какие сигареты, когда нарушение мозгового кровообращения, без пяти минут инсульт, ты что? Это сосед меня угощал. Приятный паренек, кстати говоря, сын того самого хирурга, который Ельцину шунты ставил.
– Непростая, видать, больница была? – спросил я дядю. – Раз там такие ребята лечились?
– А то! – сказал дядя. – Вот он мне, значит, свернет такую аккуратненькую самокруточку. Он меня учил, но у меня так ловко, как у него, не выходило. Так что он мне всегда скручивал. Свернет он мне, значит, самокруточку, и мы с ним – на лестницу. Табак, кстати, классный. Крепкий, душистый. Как бы это тебе объяснить? – обратился он к мальчику. – Полновкусный. Ну а потом мне жена стала сигареты из дома носить.
Хорошее было время. В больнице курить не запрещали.
– И правильно, – сказал мальчик и заговорил как по писаному: – В отдельных клинических случаях запрет на курение может стать фатальным или как минимум вызвать более сильные расстройства, чем курение само по себе.
– Ты что, доктор? – спросил его дядя. Мальчик молчал. Дядя снова повернулся ко мне. – Так что вот, говорю я тебе, – сказал он. – Никакое это было не нарушение мозгового кровообращения. То есть нарушение, конечно, было. Кровь из мозгов ушла, но не по мозговой причине, а по сердечной. То есть сердце, сердце вдруг остановилось – вот что было. Надо мне на самом деле такую же хрень поставить, как у тебя. Да непонятно, как это я так приду и скажу: «Доктор, поставьте стимулятор». А может, не надо. Пятнадцать лет назад все-таки. Может, больше и не будет. А если и будет, то пусть уж будет как будет. Или все-таки приду. А почему я должен что-то объяснять? Мои деньги – ваша работа. Это, кстати, дорого? – спросил он у меня.
– Не очень, – сказал я, потому что не хотел вдаваться в подробности и рассказывать, как я безуспешно пытался вытрясти из страховой компании хоть малейшую компенсацию.
– Вам очень повезло, – сказал доктор Ансабергс, – потому что это очень опасно. Это называется ишемический инсульт. Опасно даже не умереть. Умереть совсем не опасно, – сказал он.
Не только не опасно, но главное, совсем не страшно, понял я. Может быть, даже приятно. Особенно когда умираешь от остановки сердца в хорошо оборудованной реанимации в небольшой европейской стране, где вдобавок все кругом говорят по-русски. Подумаешь, красивые мужские и женские руки в перстнях и кольцах ласково утаскивают тебя в густой золотистый туман.
– Умереть – ерунда, – продолжал доктор Ансабергс. – Нарядят тебя в деревянный бушлат, и никаких проблем. А если ты жить останешься после хорошего инсульта и будешь как безногая собака и ходить не можешь, и сказать не можешь, но всё понимаешь – это же хуже не придумаешь.
Он на минуточку задумался.
Разговор происходил во время окончательной отладки стимулятора. Я лежал на кушетке, а на сердце у меня лежал большой круглый магнит. Доктор смотрел на экран компьютера и выставлял режимы, предупреждая меня, что сейчас будет чуточку неприятно. Не больно, а именно чуточку неприятно. И сердце как будто помимо воли организма начинало биться то очень медленно, то очень быстро, то опять медленно, то легко и невесомо, а то тяжело и как-то гулко. А доктор Ансабергс вел со мной разговоры о музыке. Спросил меня, какие оперные певцы мне нравятся больше всего и правильно ли, по моему мнению, что оперное пение становится эстрадной забавой. Он привел в пример знаменитые выступления трех теноров, а также слух о том, что Анна Нетребко выступает вместе с Филиппом Киркоровым. Я честно сказал, что в оперном пении не очень-то разбираюсь, хотя иногда люблю послушать хорошего певца на YouTube. Впрочем, для доктора Ансабергса, мне так показалось, это тоже была скорее светская беседа. Поэтому я спросил его: «А скажите, как мне себя вести? Ну, в смысле, какие ограничения? Доктор Ансабергс посмотрел на меня внимательно и сказал: „Никаких. Хоть на лесоповал“».
Потом мы с Олей сидели на лавочках, смотрели на кошек, которых там было полным-полно, смотрели на детей, которые, сняв сандалики, подставляли свои ножки под струи маленького фонтана. Фонтан был недалеко от родильного отделения. И там всё время крутились дети с папами. Это было так мило – смотреть, как папа с пятилетним и двухлетним ребенком приходит к родильному отделению, где жена рожает ему третьего – братика или сестричку этой чудной белобрысой малышне.
Дети здесь немножко другие. Не ревут, не рыдают отчаянно и безнадежно, с воем и тоской, со злобой и яростью. Они веселые и прыгучие. Может быть, оттого, что их меньше дергают. Вот девочка играет у фонтана. Рядом папа с коляской, в которой младший братик. Кажется, они пришли проведать маму. Девочка ладошкой зажимает тонкую, бьющую вверх струю. Вода брызжет в разные стороны. Представляю себе, как я бы заорал на свою дочь: «Ноги промочишь! Платье намочишь!
Тетю забрызгаешь! Вот тетя, наверное, подумала: какая невоспитанная девочка!»
А тут папа спокоен. Он поит из бутылочки ребенка, лежащего в коляске.
Вот их мама вышла, спустилась с крыльца, медленно и осторожно ступая. Девочка бежит к ней, обнимает, осторожно гладит ее беременный живот.
Рядом – обрывок разговора: Мужчина жалуется: «Здоровый был, совсем здоровый. И вдруг раз – тромбы в сосудах и вообще всё куда-то не туда. Наверно, я бога прогневил. Ну не то чтобы прогневил, а как-то так. Помню, давным-давно я просил: Боже, дай мне дожить до 2010 года, чтобы на камушке могильном было красиво: 1940–2010. И вот, видать, бог вспомнил». Он пригорюнился, и все стали сразу его утешать и приободрять.
Старик семидесяти пяти лет (он так и сказал: «Мне семьдесят пять», но выглядел он очень молодо) стал рассказывать про своего прадеда, который умер в сто три года, и про прабабку, которая умерла в сто пять. И как прадед выращивал табак в Резекне, и как отец рассказчика, то есть внук этого прадеда, табак полол. И что дед рассказчика гнал самогон из ржаной муки.
Его поправили, сказали, что самогон бывает из пророщенного зерна, а не из муки. Старик возмутился, сказал, что сам гонит до сих пор и именно из ржаной муки, и стал долго объяснять, как это делается: два бидона, змеевик и что-то в этом роде. Получается мутноватый и крепкий, настоящий ржаной самогон. Все согласились. Тогда он продолжал рассказывать уже о дедушке. Что дедушка был настоящий глава рода. Всем распоряжался, справедливо и точно, и все его уважали. Отец – отец рассказчика, то есть сын дедушки – полол табак, кто-то его отбивал, кто-то раскладывал, а сам дедушка возил на базар продавать. Так вот, всё это шло к вопросу о долголетии. Дедушка выпивал стопку крепчайшего самогона с утра за завтраком и еще одну стопку – за обедом. И всё. «Главное, – сказал рассказчик, – не пить много, но и не прекращать».
В общем, как говорил нарком Микоян, «алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве». В мемуарах Микояна написано о его отце – рабочем, который каждое утро перед уходом на работу вместо завтрака выпивал рюмку водки. Мой приятель Сережа Хангулов рассказывал про своего дедушку. Про дедушкин дом. На столе на толстой скатерти всегда стоял графин с водкой и несколько рюмок. Перед обедом кто хотел, тот и выпивал. Так, для аппетита.
Оля приезжала ко мне каждый день. Проводила у меня по многу часов. Мы гуляли по больничному парку. Больница была очень большая, построена в начале двадцатого века, в чуть-чуть старомодном, «историческом» стиле. Красивые серые корпуса со стрельчатыми окнами. Красные крыши. Кругом аллейки, скамейки, фонтанчики и целых два кафе. Большое, где можно было взять обед из трех блюд, и маленькое, где были по большей части кофе и сладости, но сэндвич или кусок пиццы тоже можно было купить. Мы сидели в этих кафе, сидели на лавочках, и мне было очень хорошо, потому что я – если говорить без затей – пару дней назад спасся от смерти. И это Оля меня спасла.
Было прекрасно сидеть рядом с ней на лавочке, жмуриться под августовским солнцем и держать ее за руку, чувствуя легкое ответное пожатие.
Иван Тихонович
Старик, с которым я оказался в одной палате, был похож на портного Ивана Тихоновича. Такое же крупное суровое лицо, густые брови, совсем лысый – и, главное, затылок. Тяжелый складчатый затылок. В старину было специальное выражение – «апоплексический затылок». Считалось, что приземистые люди с короткой шеей склонны к апоплексическому удару. Проще говоря, к инсульту. Кстати говоря, считали так не зря. Действительно, люди приземистые, широкоплечие, короткошеие и раньше, и теперь страдали и страдают гипертонией, от чего бывают инсульты. Это люди, которые всё время куда-то стремятся. Напористо, танком, бульдозером, полоумным медведем – вперед. А когда перед ними вырастает стена, которую они никак не могут, не в силах преодолеть – не потому, что сил мало, а потому, что стена нечеловечески прочна и крута, – вот тогда ярость переполняет их, кровь густеет в сосудах, и они умирают от инсультов или инфарктов.
Наверное, таким человеком был мой отец. Небольшого роста, физически мощный, с короткой сильной шеей. Наверно, ему чего-то очень сильно хотелось, но достичь этого он не смог. Поэтому – наверно, поэтому, мне иногда так кажется – так рано и так быстро умер.
Но я не про отца, а про Ивана Тихоновича.
Этот старик-латыш был на него очень похож.
Я, когда его увидел, сразу Ивана Тихоновича вспомнил. Я даже не думал, что, оказывается, помню этого портного. А вот смотри ты!
Иван Тихонович был портным в ателье УПДК – «Управления по обслуживанию дипломатического корпуса». Кажется, мою маму какая-то подруга привела в это ателье с черного хода – как всегда делалось в таких случаях: наша семья не принадлежала к «контингенту», поэтому официально, с парадного, так сказать, входа нам в это ателье был путь закрыт. Но портные, да и приемщица тоже, были не прочь подзаработать. Поэтому в ателье УПДК шили себе костюмы и платья отнюдь не только иностранные дипломаты и их жены. Так было везде. Мой тесть, инженер-строитель, человек со связями, шил себе костюмы в ателье Академии наук, а отец моей подруги Тани К., академик, шил костюмы в ателье Литературного фонда у известного портного Барабанова – то есть приходил с черного хода в то ателье, в которое я имел полное законное право прийти с парадного. Ну ясно, конечно, что черный или парадный ход – это для красного словца сказано, чистая метафора. С настоящего черного хода ходили в магазин к знакомому мяснику, для того чтобы не раздражать очередь, – сами понимаете, не мог же мясник поверх костей и ошметков и поверх голов людей, которые в этих костях и ошметках жил и жира пытаются отыскать хоть что-то более или менее пристойное, выслушивая издевательские покрикивания продавца, вроде: «Ну, мамаша, ну где ты видала корову без костей?» или «А что, обрезки я к себе домой понесу?» – не мог же мясник поверх этого кошмара протягивать мне брусок аккуратно вырубленной, чуть подмороженной розовой мякоти, а то и вообще длинную ленту вырезки. Поэтому к мяснику ходили с черного хода в прямом и буквальном смысле слова, со двора, мимо деревянных и картонных ящиков, пустых и полных молочных фляг и уже совсем забытых металлических корзин, в которых перевозили бумажные полулитровые пакеты молока, сделанные в виде правильных четырехгранных пирамид, правильных тетраэдров.
Кстати, о геометрических телах.
Однажды я пришел в наш, то есть рядом с домом расположенный магазин, и в совершенно пустом мясном отделе – даже костей и ошметков не было на эмалированных подносах, стоявших в стеклянной витрине, они были чисто отмыты и безнадежно пусты, – я увидел мясника, который согнулся над листом газеты, лежащей на мраморном прилавке. Он мусолил карандаш над кроссвордом. Я остановился, робея спросить, привезут ли сегодня мясо. Мы встретились глазами, и он задумчиво спросил меня: «Правильный двенадцатигранник – это что?» Я ответил: «Додекаэдр». «О, – сказал он, вписав слово в клеточки. – Подходит. Спасибо, брат. – И вполголоса: – Мякоть нужна? Но по три рубля». И года на два наступило для нашей семьи полное счастье.
– Господи, как странно об этом вспоминать! – сказал мальчик.
Но дяденька возразил:
– Почему? Что тут странного? Почему воспоминания о том, как я однажды в консерватории сидел через кресло от Шостаковича или разговаривал с Михаилом Светловым, – это хорошие, достойные, возвышенные и интересные? А о том, как я помог мяснику разгадать кроссворд, и за это он с небольшой, вполне божеской приплатой снабжал мою семью отличным мясом в годы костей и ошметков – об этом, значит, вспоминать стыдно и неинтересно? По-моему, как раз наоборот. Никакой моей заслуги в том, что я совершенно случайно встречался с массой знаменитых людей, конечно же, нет. А вот в том, что я мясца добыл, – тут уж моя заслуга и гордость. Я вовсе не стал умнее или эмоционально тоньше, не стал лучше понимать музыку, например, от того, что сидел в консерватории почти совсем рядом с Шостаковичем, и, уж конечно, не стал лучше понимать стихи оттого, что не раз видел живьем целую кучу знаменитых поэтов. А вот тут – с мясом-то – определенно новая ступень человеческого, а значит, и чувственного, и интеллектуального, и вообще какого хотите опыта. Плюс картинка времени. Ведь это же в любой стране побывав, можно рассказать: «Я видел Хемингуэя, я был на лекции Сартра, я, представьте себе, три минуты или три часа говорил с Феллини». Ну и что? Мне куда занятней было бы услышать, как ты с тремя копейками в кармане раздобыл себе обед. Но, впрочем, тут нельзя говорить, что интереснее, что важнее, что главнее. Каждый кусочек опыта драгоценен, потому что это кусочек моей жизни. И другого точно такого же кусочка у меня не будет, не говоря уже о том, что другой точно такой же жизни не будет вообще ни у кого.
– Спасибо, – сказал я. – Всё верно.
Так что в стеклянные двери ведомственного ателье заходили и те, кому это было положено, и те, которые шли по знакомству.
Я-то, конечно, робел, но это уже мои проблемы, потому что я робел всегда и по любому поводу. Хлебом не корми – дай немножко поробеть, постесняться, посмущаться, позаливаться потным румянцем, входя в неположенные двери. И как удивительно мне было, что встречали меня хорошо, приветливо и даже очень радостно, потому что я платил не по квитанции, а в карман, то есть был просто-таки источником благосостояния этих ведомственных портных, директоров магазинов, администраторов гостиниц и прочей советской братии, распределявшей блага.
Приемщицы в ателье тоже были ласковы – понятно почему. Потому что портной Иван Тихонович наверняка делился с ними своими неплановыми доходами, отстегивал, как говорится. Причем, я уверен, не просто так от щедрот своих, а строго оговоренный процент, а может быть, даже фиксированную сумму. Точно так же, как и мясник – а вот это я знаю совершенно точно – в конце дня приносил всю свою выручку директору, все приносили – и директор делил выручку: что-то отсылал начальству, что-то брал себе и прочему магазинному руководству, а что-то выделял кассирам, уборщикам, грузчикам – всем тем людям, которые не имели никакой возможности заработать деньги, подобно мяснику или вообще продавцу, но которые могли стукнуть, донести, написать заявление в УБХСС, поэтому деньги им выделялись не просто из сострадания или командного духа, а чтоб помалкивали.
Я всё это прекрасно понимал.
Умом понимал, но душа, очевидно, не принимала. Душа загоняла меня на узенький и скромненький шесток, там, где стоят в очереди, там, где пьесу отдают не режиссеру, а завлиту, а рукопись повести посылают в журнал по почте, в «потоке самотека».
– Да, да! Конечно! – сказал дяденька. – Доходило до смешного, а честнее говоря, до кошмарного.
Когда-то, давным-давно, Дима написал пьесу и совершенно не представлял себе, что делать дальше. Одна его знакомая – хороший театральный критик, тоже человек потрясающей, но хорошо замаскированной робости, – сказала, что нужно непременно показать актеру такому-то, потому что ей кажется, что эта роль как раз для него. Она была знакома с этим актером, она даже как раз писала о нем книжку, для чего встречалась с ним два раза в неделю, но почему-то попросить его прочитать пьесу молодого автора ей казалось совершенно недопустимым, нескромным, невежливым и вообще чем-то, нарушающим ту тонкую интеллектуальную связь, которая между ними в процессе написания книги установилась. «Ну сами посудите, – говорила она Диме (они были на „вы“), – как это я вдруг, вот так, с бухты-барахты, вдруг скажу ему: „Прочитайте пьесу моего знакомого“? Вы понимаете, в какое неловкое положение я его поставлю? Может быть, он занят, может быть, у него нет никакого настроения читать пьесы, может быть, вообще он их читает только по ходу работы, то есть вот пригласил его режиссер играть в новой пьесе и дал ее прочитать. А читать пьесу просто так? Он же не завлит театра, не главный режиссер, не чиновник Министерства культуры». Дима робко кивал, соглашаясь со всеми ее доводами, краснея от стыда за свою дерзость на грани какого-то площадного, слободского хамства: попросить знакомого критика, чтобы он передал его пьесу артисту, о котором он (критик то есть, то есть она, критикесса) в данное время пишет книгу.
Но она продолжала объяснять Диме его ошибку, продолжала щедрыми аршинами измерять всю бездну его неправоты. «И потом, – говорила она, – представим себе, что я все-таки попрошу его прочитать вашу пьесу. В этом будет что-то от шантажа. Как бы ни был он знаменит, велик и прекрасен (а актер такой-то был действительно знаменит, велик и прекрасен – так считал не только Дима, но и все ценители театра и кино), ему всё равно нужна моя книга, просто необходима. Для него это момент признания, момент престижа, если хотите. И он может подумать, что я выставляю ему условие. Раз я пишу о нем книгу, значит, он должен выполнять мои просьбы. Он будет вынужден согласиться, а эта вынужденность, несомненно, нарушит наши с ним отношения, которые мне важны не сами по себе (она говорила как по писаному, как будто цитировала пассажи из учебника – тогда как раз в моде были такие учебники – „Как устанавливать взаимоотношения“, „Как влиять на людей“, „Как добиваться своего“ и тому подобное) – да, не сами по себе, а как условие нашей продуктивной совместной работы над книгой. Но отбросим и это. – Она подняла палец. – Вынесем это за скобки. Представим себе, что я все-таки передала ему вашу пьесу. (Диме уже не хотелось ничего. Диме хотелось только, чтобы она замолчала и прекратила эти поучения.) Ну вот, я ему передала вашу пьесу, и что же? Я не говорю о себе, забудем обо мне. Я поставлю в ужасное, ужасное, ложное положение и его, и вас. Он же не сможет оценить эту пьесу объективно. Он подумает: „Этот автор, очевидно, ее друг. Это человек, который ей близок. Значит, эта пьеса ей нравится, значит, я не имею морального права прямо сказать ей, что мне это не нравится. Я буду вынужден придумывать какие-то необидные обтекаемые формулы“. Вы понимаете, что это прежде всего повредит вам!» – говорила она Диме. В общем, она убедила Диму в полной, абсолютной, принципиальной невозможности передать его пьесу великому актеру такому-то.
– Выход нашла Лиза, Димина жена, – продолжал дяденька.
Она придумала сложную многоходовую комбинацию. В те годы актеры, в том числе и самые что ни на есть великие, сильно нуждались в деньгах. Поэтому они выступали в разных, как тогда говорилось, трудовых коллективах, в основном в НИИ, которых в Москве было несчетное количество и где работали интеллигентные люди, которые были бы счастливы после работы пойти в актовый зал своего учреждения и насладиться чтецким концертом какого-нибудь, без шуток, выдающегося актера.
Лиза пришла в профком своего НИИ и сказала, что вот, мол, не худо бы организовать (кажется, в честь Нового года) концерт выдающегося актера такого-то, прибавив, что она готова взять на себя организацию – то есть переговоры с актером, доставку его в НИИ и обратно. Гонорар же для актера собирался так. Сначала выясняли, какую сумму актер запросит, потом та сумма делилась на количество мест в актовом зале, точнее говоря, на количество билетов, которые реально было продать в этом НИИ. Эти билеты печатались на машинке. Там было написано «Творческая встреча» и дата, число, месяц и час – и еще печать. При этом печать нарочно ставилась чуточку смазанная. На всякий случай. С одной стороны, нельзя подделать, с другой стороны, трудно уличить.
В назначенный день Лиза поехала на такси, чтобы забрать и привезти в свой НИИ великого артиста такого-то. И по дороге она очень вежливо сказала, что вот, мол, есть один молодой драматург, который написал пьесу, и несколько человек, в том числе и критики, говорят, что эта главная роль просто специально для вас. Да и он, честно говоря, писал эту роль, рассчитывая на вас. «Эк вы меня поймали, – сказал великий актер. – И ведь не выпрыгнешь на полном ходу. Ну давайте. Ваш муж или друг, что ли?» – догадался он. «Да», – сказала она. Он вздохнул и протянул руку назад, потому что сидел рядом с шофером, а она – на заднем сиденье. Лиза вытащила из сумки папку-скоросшиватель. Он взял ее, открыл и вдруг спросил – прочитав, наверное, Димино имя и фамилию: «Простите, это что, сын Максима?» – и назвал фамилию покойного Диминого отца. «Да», – сказала она. Он повернулся к ней так резко, что у него пуговица на дубленке оторвалась, отлетела и щелкнула обо что-то в кабине. «Он, что, идиот?! – закричал великий актер. – Он, что, сумасшедший?! Зачем все эти фокусы? Зачем было устраивать-подстраивать? Он же мог сам позвонить мне! В любое время дня и ночи! Он мог мне прямо в дверь позвонить! И сказать: „Я сын Максима!“ И всё! Я был бы счастлив!» «Извините», – сказала Лиза. Великий актер запихнул пьесу в портфель и весь остаток пути пожимал плечами и бурчал: «Странные люди, непонятные люди, удивительные люди!»
Но через две недели он позвонил Диме сам и попросту сказал: «Простите, мой дорогой! Всё это очень мило и, наверное, даже неплохо, но мне не подходит».
С тех пор Дима стал чуточку посмелее. Следующую свою пьесу он передал другому великому актеру-режиссеру, тоже отцовскому знакомому, теперь уже напрямую. Впрочем, и это не помогло. Но виной тому была уже не Димина робость, а, очевидно, сама пьеса. Тут уж обижаться не на кого. Даже на себя здесь обижаться не надо. Он-то ведь сочинял во всю меру отпущенного. Ну не понравилось – и бог с ним.
– Можно продолжать? – спросил я дяденьку.
– Вперед.
– Итак, вернемся в ателье УПДК. Сначала Иван Тихонович сшил мне пальто. Зимнее. Совершенно ужасающее. Хотя мама долго подбирала материал и цигейку на воротник. Пальто было в тусклую некрупную клетку, как сейчас иногда бывают пиджаки. Но ткань была не пиджачная, а вполне пальтовая, толстая. Не такая уж дешевая, хотя омерзительного серо-зеленого с бежевыми полосками и коричневыми нитками, какого-то жухло-травяного цвета. Опять же сама по себе она была вовсе не плоха. Может быть, из этой ткани получилось бы неплохое, во французском стиле осеннее пальтишко. Но делать из этого тяжелое зимнее пальто было как-то глупо. Однако его сшили именно таким. Я проносил его несколько лет, стыдясь его. Ну не то чтобы стыдясь, нет – я никогда не был модником и тряпичником, но всё равно предпочел бы что-то потемнее, попроще, без зелено-бежевых клеточек.
Наверное, это пальто было мне дано в наказание.
Вот за что. Когда мне было лет шесть, моя мама привезла с гастролей из Египта чудесную маленькую дубленочку. Лет через тридцать за такую детскую шубку богатенькие мамы просто бы удавились, но тогда, в 1956 году, впечатление было совершенно другое. Когда я вышел в этой дубленочке во двор, меня окружили ребята (мои ровесники и чуть постарше), стали тыкать в меня пальцами, хохотать, приплясывать и кричать: «Колхозник, колхозник! Деревня, деревня! Откуда тулуп?» Они так меня задразнили, что в дело вмешалась чья-то мама с верхних этажей. Мы жили в подвале. Мы были «простые люди», а на верхних этажах жили министры, и маршалы, и секретари ЦК КПСС. И вот эта мама с верхнего этажа (я даже вспомнил, кто она была такая. Она была дочь маршала Голикова. Ее сын, то есть внук маршала, мой ровесник, был в компании насмешников) – она подбежала к нам, решив, очевидно, что это богатые ребята бессовестно и, главное, совершенно не по-советски дразнят бедного мальчика из подвальной квартиры, где жили шоферы и уборщицы. О да, в смысле о нет. Это было бы совсем не по-советски, не по-коммунистически. И она прибежала навести порядок и восстановить справедливость. Она крикнула: «А ну-ка хватит! Вы что? А ну-ка брысь отсюда!» – и топнула ногой. Все разбежались. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «А ты правда, как будто мужичок с ноготок, – сказала она. – В больших сапогах, в полушубке овчинном… Какой забавный у тебя армячок». «Это не армячок, – сказал я. – Это заграничное зимнее пальто. Мама привезла из командировки из Египта».
Она улыбнулась, пожала плечами и ушла. А мне захотелось, чтобы у меня было пальто как у всех. Как у маршальских и министерских внуков – драповое, с кургузым цигейковым воротничком. Как у всех, вы поняли?! Я даже маме сказал, намекнул, что дескать, нельзя ли мне какое пальтишко попроще? Но мама расхохоталась и сказала: «Еще чего, не выдумывай!» А я вздыхал и мечтал, как однажды ясным зимним днем выйду во двор в нормальном пальто – в драповом, повторяю, с цигейковым, повторяю, воротником.
Вот, наверно, за эту мою неблагодарность и глупое мечтание и было мне выдано кошмарное зимнее пальто кисти Ивана Тихоновича. Очень тяжелое, потому что на ватине. Я смотрел на Ивана Тихоновича, как он кусочком мыла рисует линии на этой кошмарной ткани, как он обкалывает меня булавками, прикрепляя ко мне спину, полы и воротник, и думал что-то совсем уже китайское или индийское. Что наша жизнь – это колесо перевоплощений, это поток без начала и конца.
И хоть зажмурься, хоть смотри во все глаза, хоть греби руками, хоть вытяни их вдоль туловища – разницы никакой.
Брюки, сшитые Иваном Тихоновичем, были еще хуже. Мама сказала: «Тебе надо сшить брюки. Я уже договорилась с Иваном Тихоновичем. Он придет к нам домой. Он снимет с тебя мерку на дому». Очевидно, я должен был быть счастлив, что сам Иван Тихонович придет ко мне, как к фон-барону и будет на дому снимать мерки. «Что, – сказал я, – у них там, небось, ОБХСС свирепствует?» «Ты ничего не понимаешь, – сказала мама. – Иван Тихонович делает нам любезность. Приходит домой, а ты не ценишь!»
Но ателье, в котором работал Иван Тихонович, было в двух кварталах, буквально, говорю вам, в двух кварталах. Мы жили на углу Каретного и Садовой. Если идти по направлению к Самотечной площади, надо было перейти Лихов переулок и еще маленький переулочек под тогдашним названием «улица Ермоловой». И вот там, на углу Садовой и улицы Ермоловой, в первом этаже большого дома, где жили иностранцы, разные собкоры и торговые советники, – там и было это самое ателье УПДК. Так что Ивану Тихоновичу, наверно, было удобно зайти к нам по дороге к метро «Маяковская», а принимать у себя в ателье он по какой-то причине не мог. Возможно, по причине каких-то новых строгостей. Так что, наверно, я был прав. «Он плохой портной, – сказал я маме. – Он мне очень плохо сшил пальто». «У тебя пре-екрасное пальто, – сказала мама с ударением и растяжкой. – Пре-е-е-е-екрасное». Тут уж я точно понял, что пальто очень так себе. Потому что мама всегда так говорила: «Пре-екрасный обед, пре-екрасная комната, пре-екрасный фильм», – когда не было супа, или номер в пансионате был темный, маленький и с разбитой раковиной, или когда речь шла о какой-то бездарной картине, снятой знакомым режиссером, который позвал на просмотр. В общем, если мама понимала, что это полная дрянь и барахло, это тут же становилось «пре-е-е-екрасным» с растянутым «е». «Плохой портной, плохой портной», – сказал я. «Он работает в ателье УПДК, – сказала мама, подняв палец. – Он шьет для дипломатов, для иностранцев!»
Тоже типичное мамино возражение – чуточку мимо вопроса. «Она дура» – «Она жена знаменитого писателя». «Он странный и неприятный человек» – «Он замминистра». «Некрасивый, аляповатый сервиз» – «Этот сервиз стоит пятьсот рублей». Внушительные возражения, но как-то не по существу. Я же не говорю, что она жена дворника, он мелкий чиновник, а сервиз стоит тридцатку.
В общем, я сразу понял, что мама со мной согласна. И пальто некрасивое, и Иван Тихонович шьет так себе. Но вот он пришел, разделся в прихожей и вошел в комнату в своем портновском облачении, то есть в жилетке без пиджака – пиджак он ловко снял вместе с пальто, как двойную скорлупу, – и в «портновском браслете», то есть на левой руке, повыше часов, была надета шелковая подушечка, утыканная булавками; и еще сантиметровая лента на шее. Иван Тихонович обмерил сначала меня, записал всё на бумажке, а потом стал размечать ткань, которую припасла мама для моих брюк. Она вытащила из шкафа маленький сверток, приговаривая, что это замечательный, очень редкий и очень качественный импортный материал. Материал был непонятного цвета, одновременно песочный и бордовый, с лиловым оттенком. Если пойдете на пляж, захватите с собой баночку негодного, забродившего варенья, вылейте его в песок и размешайте ногой – выйдет как раз такой дрянной цвет. Но мало того! Материла не хватало по длине, о чем Иван Тихонович сообщил прямо, прибавив с некоторым ехидством, что отрезик-то, наверно, покупали, когда Дениске двенадцать лет было или четырнадцать. А сейчас вон какой вымахал. И он, отчасти даже сочувственно, потрепал меня по плечу, и подмигнул, и улыбнулся своим тяжелым неподвижным лицом. Но мама пропустила это замечание мимо ушей и тут же сказала: «Кажется, я придумала. Давайте сделаем брюки с обшлагами». Иван Тихонович почтительно объяснил, что на брюки с обшлагами, как раз наоборот, требуется еще больше материи, чем на брюки без оных. «А мы сделаем вот как, – весело сказала мама. – Там ведь будут какие-то обрезки материи. И мы из этих обрезков соорудим, ну как бы это выразиться (она не хотела произносить это слово, но ей пришлось, потому что иначе никак не скажешь)… соорудим фальшивые обшлага». Тут уж Иван Тихонович не понял, в чем дело. А я вообще махнул рукой и пошел на кухню, где у меня стояла чашка недопитого чая и лежала моя любимая газета «Неделя». Когда я допил чай, Иван Тихонович уже одевался и поглядывал на меня с состраданием. Портной, который шьет на бедных, надставляет и перелицовывает, всегда, наверное, глядит на своих клиентов с состраданием. Когда он совсем уже уходил, я посмотрел ему вслед и еще раз подивился его тяжелому складчатому затылку.
– Иван Тихонович сошьет тебе чудесные брюки, прекрасные брюки, – сказала мама. – Брюки из замечательной импортной ткани. Брюки, сшитые в ателье УПДК. Что тебе еще надо? – спросила она.
Кажется, я не говорил, что мне что-то надо.
Меня вообще держали в скромности, а одевали скромнее некуда. Папа однажды сказал мне, весело и простодушно: «Как хорошо, что ты не девчонка. Девчонку надо наряжать, а мальчишке что нужно? Куртка, ковбойка, штаны из чертовой кожи, кеды – и вперед, на штурм вершин мироздания!» Он ласково погладил меня по голове и улыбнулся. Я, в общем-то, считал, что так и надо. Я был очень скромный. Но вот с брюками от Ивана Тихоновича моя мама в смысле скромности явно хватила лишку. Когда Иван Тихонович принес их – сдать работу и получить деньги, – я сначала даже не понял, в чем дело. Ну брюки с обшлагами, ну противный цвет, ну ладно, ничего. Но зато когда я их рассмотрел, – вот это да! Эти так называемые обшлага оказались просто полосками, пришитыми снизу. Так что за обшлага она могли сойти только метров с пятнадцати. Еще лучше, если на фото общим планом. Где-нибудь во втором ряду третий сбоку. А самое смешное, что обрезки были, наверное, разной длины, поэтому швы на брюках и швы на этих так называемых фальшивых обшлагах не совпадали. То есть сразу, с первого взгляда было видно, что это просто надставленные брюки. Как будто бы я их носил много-много лет, потом вырос, и вот добрый портной по старой дружбе или за два рубля их надставил какими-то обрезками. Правда, такие брюки должны быть сильно ношеными, до блеска потертыми на заднице, с выбитыми коленками, а эти как новенькие. Вернее, почему «как»? Они новенькие и были. То есть вид совершенно идиотский. Я до сих пор никак не могу понять, зачем мама это всё затеяла. Ведь новые брюки, нормальные новые брюки стоили, самое дорогое, тридцать пять рублей, а в среднем – от двадцати до тридцати. И ведь Иван Тихонович тоже не бесплатно работал. Уж, наверное, рублей десять ему заплатить было надо, а то и все пятнадцать. Получается, что мама сэкономила не больше десятки на этом предприятии. Зачем? До сих пор не понимаю.
– А моя мама, – вдруг вспомнил дяденька, – а вот меня моя мама когда-то за полсотни продала. Ну нет, не в буквальном смысле, конечно. Но похоже.
Или даже хуже. Тут такая история: мама всё время ныла, что ей не хватает денег платить за дачу. Коммунальные услуги, налоги, что-то по хозяйству и все дела. В то лето речь зашла о ста пятидесяти рублях. Убей бог, не помню, из чего эта сумма складывалась. Добрые люди, конечно, меня спросят: а почему ты не мог помочь матери с этими платежами, ты ведь жил на даче? Жил, конечно жил. Летом. Со своей женой и маленьким ребенком. Я предлагал ей деньги. Но у мамы странная какая-то мысль была, постоянная и настойчивая: она здесь хозяйка, только она, а мы, дети, – мы у нее живем как будто бы в гостях. Она вполне давала себе отчет в этих мыслях, никаких тайных неосознанных чувств, всё ясно и понятно. А если я буду платить, то – она считала – я буду чувствовать себя хозяином, а вот это ей было нестерпимо. Я ей предложил. Нет, она не взяла. Сказала, что лучше сдаст одну комнату. Но почему? «Потому что тогда ты, и особенно твоя жена, – вы будете ходить нос задрав!» «Мама, мы же интеллигентные люди!» «Вот и я сдам комнату одной очень интеллигентной пожилой даме». В общем, получилось так: у меня было сто пятьдесят рублей, чтоб заплатить все летние дачные платежи. С пожилой интеллигентной дамы мама взяла двести. Огромная прибыль!
Мы поссорились. Я не пришел к ней на день рождения.
– Неужели я потеряла сына?! – патетически воскликнула она.
– Зато выгадала пятьдесят рублей, – сказал я.
Она заплакала.
– Ладно, давай дальше про портного, – сказал дяденька.
Даю, даю.
Кроме того, эти брюки плохо сидели. Ну не то чтобы плохо, но уж слишком плотно, «по фигуре». Я любил более просторную одежду, поэтому те самые штаны из чертовой кожи, о которых говорил папа, то есть черные рабочие штаны, что-то вроде джинсов в исконной советской редакции, – вот такие штаны мне нравились больше всего. И когда я покупал костюм – а в моей жизни до женитьбы это случалось, по-моему, три раза, а может быть, и вовсе два, если не считать костюм на свадьбу, – я всегда старался взять чуть-чуть попросторнее, хотя был удивительно худ, даже можно сказать, тощ. А вот портные тогда любили шить «по фигуре». Я помню, как меня мама (я уже был студентом) отправила шить костюм в ателье Литфонда к знаменитому портному Барабанову. Тому самому, у которого шил костюмы академик К., отец моей подруги Татьяны.
К Барабанову надо было целую очередь выстоять. Меня мама к нему чуть ли не за полгода записала. Он сшил мне замечательный костюм, очень красивый, двубортный, из отличной ткани, темно-синего цвета с красной ниточкой. Английский стиль. Не костюм, а чудо. С одним лишь маленьким изъяном (а недостатки – это ведь оборотная сторона достоинств). Так вот, костюм был сшит настолько идеально по фигуре, что его просто невозможно было носить. Он теснил во всех проймах. Борта были сделаны таким образом, что съеденная тарелка картошки с квашеной капустой превращалась в катастрофу. Пиджак просто-напросто не сходился, а еще через три часа переставали сходиться и брюки – вернее, начинали нестерпимо врезаться в живот ниже пупа. Не говоря уже о том, что ради такого костюма надо было принимать душ два раза на дню, брить подмышки и держать в боковом кармане тюбик дезодоранта. Иначе новый костюм пропотел бы через три дня до полной непригодности. Что, собственно говоря, и произошло. Правда, не через три дня, а все-таки к концу лета: недаром я извел столько мыла и одеколона.
Когда я был еще совсем маленький, то есть не совсем, а когда мне было лет десять-двенадцать, то есть в самом начале шестидесятых, к нам во двор на Каретном Ряду, в наш огромный глубокий одиннадцатиэтажный двор-полуколодец приходили старьевщики и негромкими, но зычными голосами кричали свое знаменитое «Старье берем». Слово «старье» они проглатывали, и поэтому со дна двора, отраженное в высоченных кирпичных стенах, гулко доносилось: «Берёммм, берёммм», или даже так: «Бироооммм, бироооммм». И вот я выложил на ковер свой замечательный синий в тончайший красный рубчик костюм – произведение великого мастера Барабанова, оглядел его прощальным взглядом, вышел на балкон – но старьевщиков не было и уже не предвиделось. Я долго думал, что же с ним делать. Мне было совестно выбрасывать его в мусоропровод. Но я совершенно не знал, где у нас в округе помойка. Поэтому я вынес его на лестницу, запихнув в драную авоську, чтоб было видно, что это костюм. Я подгадал к началу уборки, когда женщина с ведром и тряпкой, намотанной на швабру, пришла на нашу лестничную клетку. Она начинала сверху, с одиннадцатого этажа, где мы жили. Я услышал, как она грохочет и лязгает на лестнице, потому что как раз на лестницу выходила стена моей комнаты. Выглянув и убедившись, что она там, седая тетка в сером платке и синем халате, в галошах на босу ногу, я вышел из квартиры, спустился на лифте на седьмой этаж, положил авоську с костюмом в уголке лестничной клетки под окном (был ясный осенний день) и поднялся на лифте наверх. А брюки с фальшивыми обшлагами работы Ивана Тихоновича я, как ни странно, носил довольно долго. Они как-то разносились. Наверно, ткань была такая, как нынче бы сказали – «стретч», и, несмотря на явно надставленные штанины, меня в этих брюках привечали друзья и любили девушки, в том числе красивые девушки из очень богатых и высокопоставленных семей.
Однажды я рассказал эту историю женщине, которая меня любила, и которую любил я, и с которой мы уже долго были вместе. Она неожиданно недобро рассмеялась и сказала: «Это говорит только об одном. О том, что твоя мать тебя не уважала. Не уважала, – чеканно повторила она. – Это настоящий знак неуважения. Да и за что ей было тебя уважать? Ты же на всё всегда соглашался. Ты всегда был такой робкий и послушный».
О, да, конечно, я понимаю! Она сказала это как раз тогда, когда мы с ней сильно ссорились. Ужасно, обидно ссорились. Потому что треугольник «я, мама и она» стал тогда особенно жестким. И вообще она была, наверное, права про мою робость.
Я всё понимал, но мне всё равно стало обидно.
Не за маму, разумеется, а за себя.
Мертвый младенец
Два страшных сна мне приснилось. О смерти. Почти подряд, с перерывом в одну ночь. Вообще-то сны про смерть мне довольно часто снились. Иногда такие, что просыпался буквально в холодном поту и сердце билось. Полчаса не мог успокоиться и заснуть. Кладбище. Ночь. Луна. Покойники вылезают из раскрытых могил. И помню совсем кошмарный сон: женщина рожает, сидя на корточках над раскрытой могилой, а ее за руки держит какой-то вполне приличного вида старик. И почему-то я знаю, что это ей не муж, а именно отец. А муж, наверно, в могиле лежит – и она рожает туда.
Давно был еще один сон, тоже страшный. Как будто бы происходит эксгумация. Раскапывают большую братскую могилу экскаватором. На краю могилы на большой горе свежеотрытой глины стоит экскаватор и аккуратно, просто ювелирно снимает слой за слоем землю, повернув ковш немножко набок, одним зубчиком, широким очень отточенным зубцом ковша, который светится чистой сталью и к которому не пристает грязь – всякий, кто видел, как работает экскаватор, должен был заметить, что ковш весь в земле и глине, а самые зубцы сияют. Но это и понятно почему: поковыряйтесь ножом в земле – сами увидите. Всё в грязи, а лезвие, самое жало лезвия – чисто… Так вот, этим чистым зубцом ковша экскаваторщик осторожно и аккуратно достает покойников, откладывает их в сторону внутри этой огромной ямы – затем, чтобы откапывать дальнейших. У него это очень ловко получается. Я, кстати, давным-давно на стройке, в самом начале семидесятых, видел такого вот экскаваторщика-ювелира, старика. Он ковшом подбирал часы с земли и протягивал их мне, передавал в мою протянутую руку. И вот этот экскаваторщик – не тот, который ювелир с подмосковной стройки, а этот, из сна, – этот экскаваторщик вдруг достает труп женщины, стройной, беловолосой, в истлевших, пропитанных землей лохмотьях, и мне кажется, что я ее знаю. Но у нее лицо закрыто. Она сама себе левой рукой закрывает лицо. Экскаваторщик, словно бы зная, чего я жду, осторожно-осторожно, медленно-медленно – а экскаватор тем временем ужасно ревет. Даже странно – чем нежнее экскаваторщик манипулирует, тем громче и мощнее ревет экскаватор. Как будто бы вся мощь тысячесильного дизеля уходит в эти движения, мелкие и аккуратные, как хирургические стежки. И вот он, изогнув хобот своего экскаватора и выворотив ковш, стальным зубцом отводит ее руку от мертвого лица, но я не успеваю рассмотреть, потому что рука тут же соскальзывает и становится на место, ладонью к лицу. И так раза три, пока я не проснулся, весь в страхе и сердечной дрожи.
Но это, конечно, всё чепуха. Такие сны бывают в кино. Так что на самом деле ничего страшного, конечно. А вот тут, на Рижском взморье, мне приснилось что-то пострашнее.
Итак, мне приснилось кладбище, которое на самом деле не кладбище, а барак с очень длинным коридором – конца не видно.
Я знаю, что такое барак. Я бывал в бараках несколько раз, хотя не жил ни разу, слава Богу. Длинный. Длинный одноэтажный дом, посередине коридор, и двери направо-налево, направо-налево, и в самом конце – кухня. Часто не с газовой плитой, а с дровяной печкой. Удобства, разумеется, во дворе. Я был в таких бараках в раннем детстве, когда мы с приятелем, оказавшись у его бабушки в пригороде, заходили к каким-то местным мальчишкам, чтобы позвать их играть. Еще раз я видел барак уже во вполне юном, то есть почти взрослом возрасте – было мне лет двадцать, а барак этот стоял, кажется, там, где сейчас стоит памятник покорителям космоса у метро «ВДНХ». Или где гостиница «Космос», неважно. От метро буквально две минуты пешком. Туда мы забегали захватить подругу одной нашей знакомой девушки. В коридоре висели тусклые лампочки, а по дощатому полу катался мальчик на трехколесном велосипеде. Мальчик был в пионерском галстуке, хотя ему было года четыре. «Такой маленький, а уже пионер?» – спросил я. «Братик дал», – сказал он.
Ужасная штука – барак, хотя его обитатели выглядели нормальными бодрыми людьми. Думаю, что пили и убивали друг друга в бараках не больше, чем в обыкновенных коммуналках. Даже частушка была «Oпa! Oпa! Жареные раки! Приходи ко мне домой, я живу в бараке». То есть ничего стыдного. В бараке так в бараке.
Но этот приснившийся мне кладбищенский барак был совсем другой. Во-первых, он был очень чистый и весь отделанный деревянными рейками, так называемой вагонкой. Стены и потолок – всё в вагонке. Очень хороший светлый дощатый пол. Мы идем по этому бараку – то есть по этому кладбищу – с мамой и моей сестрой. Перед нами на тележке (тележка размером в ту, которая бывает в супермаркетах, но другого предназначения, ну, скажем так, – столик на колесах) стоит детский гроб, совсем маленький – метр длиной, может, того меньше. И вот мы открываем одну из дверей. Я прекрасно помню, что эта дверь справа по ходу движения. Мы попадаем в комнату с земляным полом и очень широким окном, за которым виден красивый и спокойный осенний лес. Эта комната, как я понимаю, вернее, во сне я не понимаю, а просто знаю об этом заранее, – эта комната и есть могила. Точнее, участок, который приобретает семья для похоронной надобности. Там уже отрыта небольшая, по размерам гроба яма. Мама мне объясняет, что этот детский гробик пустой, что там никого нет. «А зачем тогда всё это?» – говорю я.
«Сейчас распродают места, – говорит мама. – Надо занять место и надо кого-то похоронить. Ну, кого-то или что-то, без разницы. Главное, чтобы там что-то лежало. А потом, – говорит мама, – когда нам по-настоящему понадобится – хоп! – и у нас уже есть прекрасное место. И хоронить можно быстро, потому что, если бы мы по-настоящему кого-нибудь хоронили, то по правилам нужно чуть ли не пятнадцать лет ждать, пока он там совсем разойдется, – она говорит именно это слово – „разойдется“ в смысле „разложится, станет землей“. – А так там же ничего нет, и всё». Она говорит торопливо, как будто стараясь меня убедить в том, что всё происходит правильно. Хотя мне на самом деле всё равно, только немного страшновато. А моя сестра стоит молча, со скорбным видом. Ее смуглый профиль сильно выделяется на этой серо-белой стене, которая тоже отделана вагонкой, как и весь этот барак. Разговаривая со мной, мама раскрывает детский гробик и показывает мне, что там на самом деле никого нет, что он пустой. Он действительно пустой, хотя там есть всё, что нужно: подушка, какой-то набитый стружками матрасик – я щупаю его рукой и чувствую: да, там стружки; какие-то оборки, шелковое покрывальце. Но он совершенно пустой, это правда. Я на всякий случай поднимаю шелковое покрывало, белого в синеву цвета, и даже заглядываю под матрас, стучу пальцами по доскам – ничего нет. Пристраиваю матрас на место, запахиваю покрывальце, беру крышку. «Ну что ты, закрывай!» – говорит мама. Я пытаюсь закрыть и не могу – мне что-то мешает, что-то изнутри упирается в крышку. Я поднимаю крышку и вижу что из гробика торчат детские ножки, похожие на кукольные. Совсем маленькие – такие могут быть у годовалого, а может даже, у трехмесячного ребенка. Ноги в белых шелковых чулках, в белых в синеву, с блеском. Мне на секунду кажется, что это действительно кукольные ножки – уж больно они маленькие. Я пытаюсь их запихнуть на место, берусь за них и вдруг чувствую, что они настоящие, не кукольные точно. Мягковатые, но при этом ледяные. Я протягиваю руку дальше и вижу, что эти ножки как будто теряются в этих покрывалах и кружевах, т. е. тело ребенка я нащупать не могу – его как будто нет. Но ножки – вот они. Я их вижу и чувствую руками. Они страшно холодные, ледяные, обжигающе ледяные, так что я просыпаюсь от этой морозной боли в ладонях.
Мне становится гораздо страшнее, чем когда я видел все эти кинематографические ужасы про кладбище и экскаватор.
А через два дня – тоже тут же, в Юрмале – еще один сон. Как будто бы мы с женой – с моей прежней женой – идем по какому-то музею, по какому-то храму или монастырю, который наполовину музей, но наполовину – действующее святилище. Мы идем по бесконечной галерее вдоль стены, у которой расположен бесконечный ряд гробниц. Гробницы старые, вытесанные из известняка, а сверху каждой лежит каменная плита, на которой изображен лик покоящегося там святого угодника и древнерусской вязью вырезано, кто это, когда скончался, за что прославлен. Все эти саркофаги заключены в стеклянные футляры из тяжелого, наверное, небьющегося стекла в толстой бронзовой окантовке. А по наружной стороне протянут тяжелый двойной – я это точно помню, что двойной – латунный поручень. Потому что верующие, которых там довольно много, которые пришли поклониться святым угодникам, встают на цыпочки, держась за этот поручень, и прикладываются к верхней плите. Вернее, конечно, не к самой плите, а к стеклянной крышке. Я немного склоняю голову, и прищуриваюсь, и вижу, что эти стекла все захватаны, зацелованы следами губ. Или лбов, потому что вижу я, что многие верующие не целуют стекло губами, а чмокают в воздухе, но зато крепко прикладываются к нему лбом. И вот мы подходим к очередной гробнице, и жена вдруг говорит мне: «Ты должен приложиться». Мне это странно, потому что она никогда не была верующей. И вдруг ни с того ни с сего, да еще и такими словами: «Ты должен приложиться».
Но я привык слушаться жену. Я останавливаюсь, берусь руками за поручень, взбираюсь чуть повыше (там какая-то приступочка для ног, ступенька), наклоняюсь и вдруг вижу, что каменной плиты нет, что там под стеклом лежит, сложив руки на груди, какая-то женщина. Через секунду я понимаю, что это моя мама. И в этот самый момент с мягким лязгом съезжает верхняя стеклянная крышка. Я ощущаю церковный запах, который идет из раскрытого гроба, – запах ладана, и горячего свечного воска, и того странного холодка, который исходит от каменного пола и от оштукатуренных стен церкви. Волны, слои душисто-горячего и мертвенно-холодного. Мама лежит в гробу красивая, не такая, как лежала в гробу, когда мы ее по-настоящему хоронили, – тогда она была изможденная старуха. Нет, она очень гладкая, совсем не старая, со слабым восковым румянцем на щеках, с синеватыми веками и пшенично-золотыми волосами, убранными в две косицы, которые полукружьями спускаются на уши. Вот такой она, наверно, выходила на сцену объявлять танцевальные номера, когда работала ведущей программы ансамбля «Березка». И вся одежда ее такая – в театрально-русском стиле. Я гляжу на нее и не могу оторваться. «Приложись», – шепчет мне сзади жена, но я не могу нагнуться и поцеловать покойницу. Вдруг я вижу, как она открывает глаза. Я вздрагиваю. Она садится в гробу, выпрастывает руки из-под шелковых кружевных покровов и сильно обнимает меня за плечи. И говорит: «Я очень на тебя сердилась. Ты знаешь почему?» Я молчу. «Ты знаешь почему! Ты всё знаешь. Я на тебя сердилась потому, что ты очень долго ко мне не приходил. Но вот наконец ты ко мне вернулся».
Да, да! «Не приходил» – в смысле не навестил могилу. Кстати говоря, это неправда. Я регулярно хожу на могилу, как положено. День рождения, день смерти, Пасха. В день рождения, в день смерти отца, потому что они похоронены в одной могиле… Нет, не «приходил», а именно «вернулся».
У нее теплые руки – это чувствуется сквозь одежду.
– Погоди, – шепчу я своей жене. – Так что же, я уже умер?
– Конечно, – смеется она. – А ты что, разве не понял?
– Ну подумай, подумай хорошенько, что это всё значит, – сказал мальчик. – Откуда взялся мертвый ребенок? Откуда в тебе вина за убийство?
– За убийство?
– Ну да, ну конечно, не за убийство в прямом смысле слова, ножом в горло, – сказал дяденька. Помолчал и прибавил: – Но ты всё равно чувствуешь, что виноват в смерти какого-то ребенка и вообще в чьей-то смерти.
– Ну здрасьте, очень оригинально! – возразил я. – Каждый человек виноват в чьей-то смерти. Я тоже могу настроить кучу таких обвинений. Да, я огорчал своих родителей. Очень огорчал. Я, если хочешь знать, в день смерти своего отца очень сильно с ним поссорился, просто до крика. Я помню его растерянное лицо, когда я на него орал. Я очень хорошо помню его испуганный слабый взгляд. А потом я хлопнул дверью и ушел. Сидел у своего приятеля, а потом мать позвонила и сказала, что у отца инфаркт. Я сорвался с места, схватил такси, помчался домой, но не успел. И что же получается, я виноват в смерти отца?
Дело не в том, что ты кого-то убил или в чьей-то смерти виноват. В этом действительно невозможно разобраться. Правда. Вина не в этом. Вина в том, что кому-то желаешь смерти или радуешься, что вот, мол, умер, и легче стало жить.
Да, и в этом я виноват. И в этом тоже. Вот когда я мчался на такси в страхе, что не успею, что не застану, что увижу отца уже мертвым – я же не только об этом думал. Отец уже дряхлый был, у него уже не первый такой приступ был. Я почти точно знал, почти уверен был, что он умрет, а может быть, уже умер. Вот пока я еду – умрет. А может быть, когда мне мать позвонила, он уже умер. Это она меня так «приготавливала». Что вот, мол, дескать, у папы тяжелый инфаркт, скорая выехала, и всё такое. Чтоб постепенно. Я почти точно уверен был, что если он уже не умер, то умрет через полчаса или через сутки, самое большее. И что у меня, да у всей нашей семьи, а у меня в первую голову, потому что человек всегда о себе думает в первую голову, – у меня начнется совсем другая жизнь. И вот что самое подлое, из-за чего у нас ссора была, из-за чего я так на него орал – но и он на меня тоже, конечно.
Из-за моей молодой жены.
Я месяца за два до того женился на женщине, которую я обожал, готов был ползком за ней ползти на край света. Если бы она сказала мне: «Укради, родину предай, родителей брось, человека убей», – сделал бы, то есть обожал ее безоглядно и покорно, а она меня мучала и издевалась надо мной. Во всю мощь своего сильного и тяжелого характера мучала, а я только слезы глотал и прощения просил.
Может, конечно, тут я сам тоже был виноват. Может, ей другая любовь нужна была. Без вот этой покорности, без вот этого желания сделать всё, что она прикажет, без бесконечных прощений всех ее выходок, и жестокостей, и неблагодарностей, и несправедливостей, и просто злобного настроения минуты. Может, ей нужен был «настоящий мужчина» – но я никогда не был «настоящим мужчиной». Я обожал женщин, и преклонялся перед ними, и хотел служить им и получать в ответ такую же нежную преданную любовь. А не так, чтоб я ей – пинок по жопе и матюгами, а она мне – щец и в койку.
Но эта другая, совсем другая история. И вообще каждый виноват во всём.
Так вот, мы с отцом поссорились из-за нее. Он опять принялся меня утешать, говорить, что у меня в жизни всё наладится, чтоб я не вешал нос. А я огрызнулся и сказал, что у меня всё прекрасно, на пять с плюсом. А он возразил, и слово за слово, и в который раз спросил меня: зачем я на такой негодяйке женился? А я принялся ее защищать, причем как положено «настоящему мужчине». То есть не доводами разума, а криками: «Не смей! Не трогай! А еще раз про нее такое скажешь – не посмотрю, что отец!» – и топал ногами, и стучал кулаком по столу.
И вот тогда, едучи в такси, я думал, что я ночью позвоню ей – мы были в вечной ссоре с первых недель после свадьбы и жили на разных квартирах, встречаясь изредка, – позвоню ей и скажу: «Только что папа умер!», – и она приедет ко мне, обнимет, поцелует, пожалеет, приласкает, и всё у нас будет хорошо. То есть получается, что я радовался смерти отца, да? Получается, что смерть отца была для меня всего лишь маленьким инструментиком, всего лишь поводом для того, чтобы меня поцеловали и приласкали?
– Ну нет, нет, нет, – дяденька принялся меня утешать. – Ты же сам сказал: «Каждый виноват во всём». Не надо преувеличивать, не надо так уж буквально… Но мертвый-то ребенок откуда взялся? Мертвый ребенок был или не был?
– Да, конечно был, – сказал я.
– Аборты, что ли? – спросил мальчик.
– При чем тут аборты? Не было никаких абортов. То есть, может быть, были, но я про это ничего не знаю.
Но мертвый ребенок был. Мама моя собралась рожать в возрасте, для тех лет – дело было в начале шестидесятых – весьма немолодом. К сорока. Она носила очень тяжело, сердцебиение ребенка прослушивалось слабо. К нам приходил какой-то знаменитый акушер-гинеколог, который, как нынче выражаются, вел беременность. Высокий статный старик с орлиным носом, частный доктор. Говорил, что сердцебиение слабое, уходил, а мама в голос рыдала. Почему-то они с папой хотели еще ребенка. Вырастив меня, дорастив меня до подросткового возраста, они, уже совсем немолодые люди (маме – почти сорок, а папе – почти пятьдесят), решили, наверное, снова испытать молодое счастье отцовства-материнства – но в тот раз окончилось это печально. Потом, года через два, родилась моя сестра Ксения, но это уже другая, счастливая история.
А я тут – про несчастье.
Вечером маму увезли рожать. Папа поехал вместе с ней. То есть он ее повез на машине. Утром я проснулся; в квартире было пусто. Я понял, что папа ждет в роддоме. Кажется, было воскресенье, потому что я не был в школе. Потом, часов в одиннадцать, кажется, дверь раскрылась. Вошел папа и, не дав мне задать вопрос (а я-то, естественно, хотел спросить: «Мальчик или девочка?»), он меня обнял и сказал: «Ну вот, не будет у тебя маленького братика». Я чуть не заплакал. Пошел в свою комнату, долго там сидел, потом долго стоял на балконе. В голове у меня было совсем пусто. Потом пришел папа и, не выходя на балкон, из комнаты спросил: «Ты правда огорчаешься, что у тебя не будет братика?» «Конечно правда», – сказал я.
Огорчался ли я на самом деле – не знаю.
Зато, когда маму привезли из роддома (мы вместе с папой за ней ехали, на бело-серой «Волге», папа за рулем), – вот тут я начал огорчаться, потому что мама рыдала целыми днями. «Просто выла, как деревенская бабка», – злобно думал я. Папа ее утешал. На ее рыдания «Чем я бога прогневила?» он отвечал, что это просто несчастная случайность, катастрофа, кирпич, упавший на голову, снаряд, который попал именно в этот блиндаж, а не в тот. «Ну вот и представляешь себе, – в отчаянии говорил он, пытаясь пробиться сквозь мамин вой, заглушить его доводами разума, – ну вот фронт. Ну вот затишье, и вдруг один-единственный немецкий снаряд летит, и падает, и взрывается, и убивает солдата. Ну разве можно сказать, что этот солдат бедный чем-то бога прогневил? Несчастный случай, я же тебе говорю!»
«Но ведь и в самом деле, – думал я, – всё это очень грустно и тяжело. Но ведь же в самом деле несчастный случай. Сколько можно выть?»
Хотя, конечно, маме было тяжело вот в каком смысле: у нее были десятки подруг, и каждой надо было сказать эту горестную фразу в ответ на телефонный звонок с радостным вопросом: «Кто?» – «Леночка (Галочка, Ларочка, Наташенька и т. д.), у меня родился мертвый», – и рыдания.
Вообще, конечно, ужасная история. Я потом узнал, что несчастный младенец, мой несостоявшийся брат, задохнулся в родовых путях.
А уже сильно потом, когда я прочитал много книжек и наобщался с докторами, я понял, какое это было свинство и скотство, какая, другого слова не найдешь, подлость – заставлять почти сорокалетнюю женщину, да еще с плодом, у которого слабое сердцебиение, заставлять рожать, а не сделать кесарево. Так и видел перед собой гнусную рожу какой-нибудь докторицы, которая в ответ на предложение своей младшей коллеги складывает губки бантиком и говорит: «Показаний для кесарева нет». Или: «Роды – это физиологично, а кесарево – нефизиологично» или, пуще того: «Ничего, здоровая тетка, разродится». Так бы и дал по этой роже тяжелым предметом, тупым орудием, как пишут в полицейских протоколах. А мог бы и острым.
В общем, я стал жалеть маму сильно позже. А тогда я только думал: «Ну сколько же можно выть?»
Как ни копайся в себе, трудно найти вот этот самый момент, когда я обрадовался, что ребенок оказался мертвый. Наверно, именно такого и не было, но какие-то мысли вокруг, безжалостные и неприязненные, все-таки были. Достаточно ли этого, хватит ли этого для того, чтобы было такое чувство вины, – не знаю, не знаю, не знаю…
Хотя, если подумать хорошенько, мертвый младенец всё время был где-то рядом.
Вот, к примеру, была у меня одна девочка из далекого города. Какая-то знакомая нашей дальней родственницы или родственница нашей знакомой – сегодня уже не помню. Ну и вышло так, что она пару раз оставалась у нас ночевать, когда родителей дома не было. Со всеми вытекающими последствиями. Она в Москву приезжала на время. Потом она исчезла, а я так особенно ее не разыскивал. Она, впрочем, тоже. В конце концов, она же знала мой адрес и телефон. И мы с ней вовсе не ссорились насмерть. Мы не кричали друг другу на прощанье: «Не хочу тебя больше знать! Иди к черту!» Так что, если бы она была заинтересована в продолжении отношений – ух, какая ужасная, какая-то адвокатская фраза! – давайте проще: если бы она хотела со мной увидеться, то вот мой телефон, вот мой адрес. Всегда можно позвонить или написать, а если забыла адрес и телефон, то вот эта самая родственница (она же знакомая). Ну ладно, уехала, пропала, забыла, и бог с ней. И вдруг с почты приходит квитанция. Вам посылка из того самого города. Мне лично посылка. Я стал считать, когда мы с этой девочкой расстались, и почему-то страшно испугался. Нет, честное слово, я не вру: страшно испугался, что она прислала мне мертвого младенца. Конечно, сейчас это смешно. А мне всю ночь снились какие-то ужасы-кошмары, мальчики кровавые в глазах.
В посылке, разумеется, оказались варенье, мед и еще какие-то гостинцы. И посылка, конечно же, была не от этой девочки, а от той тетеньки, нашей то ли дальней родственницы, то ли просто знакомой. Но я натерпелся страха, особенно когда дома открывал кулинарным топориком этот деревянный ящичек.
Мне всегда казалось, что я виноват перед девочками, девушками, женщинами. Виноват в том, что не женился. Не остался навсегда вместе. Иногда мне хотелось жениться на них на всех. Да, да, на всех сразу. Но не одновременно, разумеется… то есть, конечно, одновременно, но в другом смысле. Не в один день жениться на всех сразу, устроить свадьбу на сто двадцать невест, а жениться на них, как говорится, по мере поступления. Но при этом, разумеется, ни в коем случае не разводиться с предыдущими. И, конечно же, оставаться любящим и почтительным сыном своей матери, то есть с мамой чтобы тоже никогда не расставаться.
Мы с мамой очень сильно дружили. Я писал ей письма, в которых говорил, что она мой самый лучший друг на всю жизнь. Потом, когда мы ссорились, она трясла этими письмами у меня перед носом и показывала отчеркнутые ее синим карандашом вот эти самые строки. Мне очень тяжело было с ней расставаться. Но пришлось. Не может же молодой человек, молодой мужчина всю жизнь быть сыночком при мамочке или, еще хуже, быть «почтительным сыном», а родная жена чтобы была в прислугах у мамаши, она же свекровь. Потому что иначе не получается. Вот и в Писании сказано: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене». У меня это очень трудно выходило. Мне был огорчителен этот выбор. Поэтому я фантазировал о каком-то невозможном мире, о мире, где жена и мать любят меня одинаково, не ревнуют меня друг к другу, и главное, каждая позволяет мне свободно и горячо любить другую.
Почему же я все-таки хотел жениться на каждой, ну практически на каждой девушке, на каждой женщине, с которой у меня хоть что-то было? А также на тех, с которыми у меня, если говорить уж совсем честно, на самом-то деле ничего не было. Ну прошлись под ручку, несколько длинных разговоров по телефону, ну поцеловались пару раз. Но ведь и всё! А ведь поди ж ты! И перед ними я тоже чувствовал какую-то вину. Какую же? Мне казалось, что я наносил им какую-то тяжелейшую рану. Мне казалось, что до встречи со мной у них была совершенно другая жизнь: спокойная, милая, размеренная. А вот потом – сначала краткие минуты счастья (это когда мы были вместе), и полный мрак, тоска и катастрофа, когда мы расставались. Мне казалось, что я просто обязан залечить эту рану. Но как? Да проще некуда – жить с ней, холить и лелеять ее, да и просто… вернуть ей эти дни полного счастья, сделать так, чтобы они никогда более не прекращались.
Боже мой! Каким потрясающе самовлюбленным человеком я был! Самовлюбленным индюком, идиотом – и это не кокетство. Действительно, только последний идиот может фантазировать о таком своем величии. Этот бред величия почище классического, мне иногда кажется. Одно дело, когда сумасшедший кричит: «Я – Наполеон! Я – Юлий Цезарь!» – или убеждает всех, что он завскладом, хотя на самом деле просто грузчик на этом самом складе. Обычное дело, я же говорю, описанное в тысячах учебников. Но вот когда вроде бы разумный и вроде бы психически здоровый человек, имеющий семью и работу, знающий иностранные языки, умеющий складно излагать свои мысли на бумаге, имеющий много друзей и знакомых и репутацию компанейского человека, хорошего друга и надежного товарища – то есть нормальный человек по всем параметрам, – когда этот человек вдруг считает себя таким фатальным мужчиной, который краткой своей симпатией, не говоря уже о маленьком романе, поражает любую женщину в самое сердце и наносит ей такой удар, от которого излечить может только замужество, только супружество с этим же человеком, иначе – тоска и одиночество до конца дней…
Безумие! Настоящее безумие, достойное войти в учебники и в международную классификацию болезней, травм и причин смерти. Безумие очень прочное. Честное слово, в ранней молодости, да и в не очень ранней тоже, я, бывало, узнав, что какая-то девушка, которая сто лет назад была «моей девушкой», вышла замуж, родила двоих детей и вообще прекрасно себя чувствует, я был, не побоюсь этого слова, слегка возмущен. Мне – всего на секунду, правда, – это казалось оскорбительной и циничной неверностью. Правда, всего на секунду – уже слава богу.
И при всем при том я, конечно же, понимал – к вопросу о том фатальном миллиметре! – что нельзя было жениться вот прямо на первой, а также второй, третьей и пятнадцатой девушке. Что жизнь моя могла бы пойти совсем иначе. И вообще, я бы был не я, а какой-то совсем другой человек. Может быть, загнанный жизнью обыватель. Может быть, спившийся бездарный художник. А может быть, вообще эмигрант, живу в другой стране, уже по-русски говорю с акцентом. Вот таким манером: «наслайси мне чизу и завесь полпаунда кукисов». В общем, не паркуй кар на корнере. Ну или я вообще не знаю, что – но непременно что-то ужасное. Поэтому выход из этой безвыходности только один – жениться на всех сразу и жить доброй семейной жизнью с каждой одновременно. Убивая двух зайцев. С одной стороны, залечили все душевные раны, ни одна не чувствует себя брошенной, ненужной, оскорбленной, а, наоборот, чувствует себя любимой, обласканной, женой не кого-нибудь, а самого меня, ого-го! Но при этом, с другой стороны, я совершенно не обязан идти жизненным путем каждой из этих женщин, то есть становиться задерганным обывателем, пьяным художником или эмигрантом, почти забывшим русский, но так толком и не выучившим английский.
Иногда казалось, что это должен быть какой-то дом. Многоквартирный. Все квартиры одинаковые… Но потом казалось, что это полный бред. Лучше пускай они живут в разных домах и даже в разных городах. А как же я? Езди к ним по графику? А нет же! Просто даже удивительно, насколько вы все ничего не понимаете. А я с ними одновременно. «Как это – одновременно? Разве так бывает?» Да конечно же не бывает. Я же говорю – фантазия. Но фантазия, которая постоянно, неутихающим мотивом звучала в моей бедной голове и раскрашивала жизнь вот в такие дурацкие, честно говоря, краски.
Этот посылочный ящик, из которого я доставал варенье и мед, боясь, что оттуда на меня выскочит запеленутый в проспиртованную простынку мертвый младенчик из далекого города, – и вот этот детский гроб из страшного сна про барак, наверно, как-то между собой связаны.
– Точно связаны, – сказал мальчик. – Но как именно? Вот где бы покопать!
– Да так ли это важно? – ответил я. – Мы тут, слава богу, не психоанализом занимаемся. Да и ты никакой не психоаналитик. Во всяком разе, для меня. Просто так, поговорили. А то, что каждый человек, ах, извините, каждый мужчина любит свою маму и безумно к ней привязан, а каждая девочка еще и папу вдобавок – это, мой дорогой, нам всем давно известно. Читали, читали!
Никчемное описание
Улица Турайдас была поперек длинных улиц, которые шли вдоль моря. Поперек улицы Лиенес, улицы Йомас – этого нашего главного Бродвея, Невского и Тверской – и поперек следующей улицы, улицы Юрас, которая шла уже практически вдоль берега, отделенная от пляжа небольшой лесной полосой, чаще чуть-чуть всхолмленной, и там тоже были дома, но уже самые-самые, рассамые-пресамые – как говорится, первая линия. Правда, среди этих самых-пресамых домов еще встречались совершенные развалюхи «со следами былой красоты» (кажется, эту пошлейшую фразу впервые сказал, то есть написал, Александр Дюма в «Графе Монте-Кристо», описывая арлезианок за тридцать). Да, когда-то это были дорогие красивые особнячки. Некоторые – с колоннами, с легкими потугами на ампир. Другие – более в духе времени и места, то есть поздний северный модерн с вкраплениями какой-то вроде как бы даже готики. Деревянные дома с башенками, флюгерами, просторными верандами, с окнами в мелкий переплет, прекрасного линяло-салатового цвета. Но уже совсем обветшавшие, с худыми крышами, через которые, наверно, осенью лился бесконечный балтийский дождик и проедал перекрытия, стены и полы. Проходя мимо такого домика, я как бы въяве ощущал тяжелый теплый и мокрый запах плесени и непроветренных отсыревших комнат. С годами, однако, таких домиков становилось всё меньше и меньше: на их местах вырастали точно такие же, копирующие разрушенную благодать псевдоампирные и «модерные» особнячки. И украшены они были табличками «сдается» или «продается».
На другой стороне улицы Юрас, плоской, без лесных пригорков, всё обстояло куда более благополучно, ухоженно, а в некоторых случаях даже шикарно. Видно было, что домики, без дураков, дорогие. Но что особенно приятно, что резко и радикально отличало юрмальские роскошества от подмосковных, – это заборы. Заборы были не выше, чем в человеческий рост, а чаще всего и того ниже – метр или метр двадцать. Наверно, там недалеко была какая-то заборная фабрика, на которой изготовлялись стандартные металлические заборные пролеты, две жерди снизу и сверху и редкие – такие, что кошка свободно пролезет, и йоркширский терьер тоже, но вот Лабрадор уже вряд ли, – редкие металлические палки с шариками наверху, а также серые бетонные столбики, невысокие, стройные, со скромным тисненым узором в виде очень упрощенного орнамента в стиле модерн. Например, две или три линии с меандрическим загибом. И сквозь эти заборы было видно абсолютно всё: стриженые газоны, гравийные или мощенные плиткой дорожки, кресло-качели под навесом, брошенный мячик, стоящий посреди газона горшок с летним цветком, который на зиму, очевидно, забирали и ставили на веранду.
А еще раньше эти заборы были деревянные и тоже редкие. Открывавшие весь двор, и дом, и окна, в которых по старинной северной привычке то ли вовсе не было занавесок, то ли занавески почти никогда не задергивались.
Говорят, что эта манера – не задергивать занавески – появилась чуть ли не во времена испанского владычества в Голландии. Якобы герцог Альба, опасаясь мятежей и заговоров, запретил голландцам иметь занавески, чтобы патруль, проходящий по улицам, всегда мог лично убедиться, что во всех домах всё благополучно, никто не точит ножи и не чистит шомполом ружья с целью свержения испанской короны. Параноик, конечно, был этот Альба, но приказ приходилось выполнять. А дальше как обычно: всякая гадость и неудобство, укоренившись, становится частью национального быта и даже своего рода ценностью и гордостью. «Честному человеку нечего скрывать», – говорили гордые северяне, сначала голландцы, затем скандинавы, а вслед за ними, возможно, и жители восточного берега Балтийского моря. А может быть, это я всё выдумываю, фантазирую на ходу, и речь шла всего лишь о стиле, о стиле с большой буквы, о пуританской искренности, откровенности и нестеснительности, потому что стесняться в этом скромном и дисциплинированном быту было и в самом деле нечего.
Итак, улица Турайдас шла от улицы Лиенес, пересекая Йомас и Юрас, и выходила прямо к морю. Надобно сказать, что улицы Йомас и Юрас утыкались в Турайдас. Если идти от станции к морю, то они были слева, а справа был узенький выход на проспект Дзинтару. Вообще же улица Йомас упиралась в какой-то выставочный зал, где в разное время был то музей автомобилей, то просто чем-то торговали. А перед ним стоял огромный, диаметром, наверно, метра два медный глобус, который можно было даже вертеть. А дальше, после незаметного поворота на проспект Дзинтару, была главная достопримечательность Юрмалы – концертный зал, очень большой, открытый, но с широким деревянным потолком, так что слушать музыку можно было в любую погоду. А еще дальше, к морю, была маленькая ротонда, кафе, где в свое время был просто бар и можно было взять бокал вина или рюмку коньяка и, пожалуй, больше ничего существенного. А сейчас там очередная пиццерия. И напротив – тоже ресторан. Популярность Юрмалы, наверно, дала много новых рабочих мест, много прибыли, но сильно ее испортила в смысле уюта и романтики: на каждом шагу рестораны и кафе. Хорошо, когда их много, но когда их слишком много, становится тоскливо. А еще тоскливее – от идиотских аттракционов, от этих дешевых плюшевых мишек и тигров, которых дают в награду за меткое попадание то ли стрелой в мишень, то ли мячиком в дырку, то ли камешком в консервную банку. И беда еще в том, что в каждом таком киоске играет музыка. Играет веселая музыка, а на табурете сидит парень или девушка с унынием на лице, потому что к ним никто не подходит и никому не хочется тратить три евро на метание мячика в дырку, для того чтобы в случае удачи получить кособокого плюшевого тигренка стоимостью в лучшем случае один евро. Дураков нет. Но хозяева этих ларьков и аттракционов все-таки пребывают в святой уверенности, что дураки есть. Причем не просто отдельные идиоты, а дураки в количестве, достаточном для получения прибыли от этих дурацких затей.
Кажется, впрочем, что в последнее время этих киосков становится все-таки всё меньше и меньше. Хотя, возможно, что в дело тут вступила не невидимая рука рынка, а административное, а может, даже силовое давление, потому что на улице Турайдас эти шумные киоски располагались как раз против стройки, где на месте полуразрушенных деревянных дач тридцатых годов возводилось нечто по-настоящему солидное, и вполне возможно, что хозяева или, скорее, продавцы этих вилл рассудили: ну кто же это купит? Кто захочет поселиться в доме, напротив которого с полудня до полуночи творится вот такое вот цветное плюшевое безобразие с громкой музыкой, а иногда даже с хлопками, потому что некоторые аттракционы состояли в кидании коротких оперенных стрел в надутые воздушные шарики. Плати три евро – получай три стрелы «Паф! Паф! Третий мимо! Попробуйте еще!», а рядом стоит младенец, который орет: «Еще! Еще!», и нет такого родителя или учителя, который смог бы ему объяснить, убедить его, что за эти три евро можно купить двух тигров, мишек или котиков.
Ясное дело, что нуворишам такое соседство ни к чему. Оно как-то не укладывалось в их представление о благородной сдержанности прибалтийского комфорта, поэтому эти ларечки – во всяком случае, на улице Турайдас – почти совсем исчезли. Хотя, наверно, какие-то упорные души остались до сих пор.
Но оставим эту битву титанов и посмотрим вперед, на море. Еще десяток шагов, и мы подходим к главному спуску, к главному выходу на пляж. Нигде, впрочем, не было написано или обозначено, что этот выход главный. Но как-то так получилось, что он был самым солидным, каменным, двукрылым, с каменными скамейками, где так удобно было присесть, чтобы отряхнуть песок с пяток, обстучать туфли или вообще надеть носки, после того как полчаса шлепал по кромке залива, заходя босыми ногами в холодное море, и с небольшой, но тоже очень монументальной смотровой площадкой. В какой-то год на этой площадке поставили бар в виде высокого остроконечного шатра, прозрачного (вместо стекол была пленка), а с внутренней стороны каменной ограды смотровой площадки поставили столики. Это было ужасно. Визуальная катастрофа. Раньше, когда шел по Турайдас к морю, видел только каменный парапет спуска и несколько флагштоков, а дальше небо и залив, и это было прекрасно. И вдруг какая-то пошлая башенка не башенка, домик не домик, в общем, точка общепита, которая заслоняла небо и море. Слава богу, через год ее сняли.
Капитализм, конечно, дерьмо. Я хоть и не левак, но говорю это с полной убежденностью. Да, капитализм – дерьмо, но он всё же иногда, при благоприятных обстоятельствах, способен совершенствоваться. Например, снести это безобразие.
Но я как-то сильно отвлекся.
Я-то говорил о том, что было лет тридцать, а может, даже больше, тому назад, когда все эти полуразрушенные домики еще были как будто бы в полном порядке, и в них располагались корпуса вполне советских санаториев и домов отдыха, названных именами местных комиссаров. Санаторий имени Фабрициуса, например. Других не запомнил. Или Дом отдыха ДКБФ. Знаете, что такое ДКБФ? Ни за что не догадаетесь. Так и быть – дважды краснознаменный Балтийский флот. Смешное выражение «дважды краснознаменный». Я раньше думал, что «краснознаменный» – это значит просто красивое прилагательное, вроде «золотопогонный», «беззаветный», «отважный», «благородный». Нельзя же быть дважды благородным или трижды отважным. Но нет, «дважды краснознаменный» – это всего лишь дважды награжденный орденом Красного Знамени. Сейчас на месте одного корпуса санатория ДКБФ находится самый дорогой отель «Балтик Бич». Он эдаким кораблем смотрит на залив. Позднесоветский авангард, семидесятые годы. Разумеется, всё внутри перестроено и отделано под пять звезд. Другие корпуса до сих пор пусты. Вполне солидные каменные здания стоят вдоль берега в некотором отдалении и ждут своего часа.
Так вот, в те времена, когда в этих деревянных домиках еще была советская санаторно-пансионатская жизнь, если идти от станции Майори по Лиенес и свернуть на Турайдас, то справа, не доходя до глобуса, о котором я уже говорил, – глобуса, в который упиралась улица Йомас, так вот, не доходя до глобуса, был Дом творчества художников. Это было довольно большое здание, четырехэтажное. Солидный гостинично-пансионатский корпус, с балкончиками и со столовой внизу. А рядом, метрах в ста, было совсем другое здание, с огромными окнами. Там были мастерские художников. Потому что, ясное дело, писателю для творчества нужен только письменный стол, а Дом творчества кинематографистов (я и в таких бывал) – это вообще смешно. Это просто дом отдыха. Потому что не станешь же там устраивать съемочные площадки, павильоны и монтажные цеха! Так что кинематографисты в своих Домах творчества творили, что называется, в уме, вынашивали планы и набрасывали их в блокнотах. Ну а также предавались творческому общению. Видите, какой я благородный и сдержанный. Я не пишу: пьянствовали и трахались. Тем более что мнение о разврате и алкоголизме среди творческой интеллигенции чрезвычайно преувеличено, ну просто раздуто до невозможности. На самом деле художники, писатели и кинематографисты, вместе взятые, по части пьянства и разврата никогда не угонятся за обыкновенным бараком в фабричном предместье. Это я вам говорю совершенно ответственно как человек, проводивший не только социологические опросы, но и многолетние полевые исследования в предместьях и бараках. Шутка. Хотя на самом деле чистая правда.
– Зачем нужно это длинное, совершенно никчемное описание? – спросил мальчик.
– Совершенно незачем, – сказал я. – Незачем!
Мальчик, мне показалось, обиделся.
– Ага! – сказал дядя. – Дом художников! Как же, как же!
Однажды Лиза с Машей поехали в Дом художников, а Дима остался в Москве, но потом все-таки поехал к ним на неделю. Ах, какие тогда были длинные сроки отпусков и отдыхов! Двадцать четыре дня – это же с ума сойти! На неделю – это казалось очень мало. Буквально на чуть-чуть. А вот теперь люди за границу ездят на шесть дней, пять ночей, и им кажется, что так и надо. Впрочем, может быть, действительно так и надо. Вот в Америке, например, ровно так и есть, и поэтому они чемпионы по валовому внутреннему продукту, инновациям и ударной мощи вооруженных сил. Но всё равно тяжело.
Я помню, как одна моя американская подруга плакала, да, да, по-настоящему плакала – слезы градом, потому что из-за какого-то фатального обстоятельства – кажется, ее сын поступал в университет, но с чем-то там ошибся, то ли не рассчитал, то ли не посмотрел примечание в расписании, – в общем, в результате она, чтобы везти его на экзамен, вынуждена была истратить один день из своего законного годичного оплаченного отпуска. А этих дней всего было семь, и она горько плакала, потому что вместо семи дней на берегу в шезлонге, с закрытыми глазами, забыв про всё и ото всего отключившись, ей оставалось только шесть, и она громко плакала. Я чуть не заплакал вместе с ней. И сказал: «Да брось ты всю эту байду! Хватай своего мужа и едем в Россию! Работа будет и отпуск уж по крайней мере не семь дней. А если я тебя в университет устрою, а я могу, и у тебя же вон какая специальность (у нее действительно специальность была редкая и востребованная), то вообще оплаченный отпуск – два месяца. Соображаешь? Два месяца оплаченный отпуск! Плюс на время зимней сессии, фактически весь январь без аудиторных часов. Так, показаться пару раз на кафедре, отчеты заполнить, экзамены принять». У нее сразу высохли слезы, и она зло засмеялась и сказала: «Нет уж, спасибо! Мы уж как-нибудь». Мне даже стало немножко обидно за свое многострадальное отечество, которое щедро позволяет своим гражданам бездельничать и перебиваться с хлеба на квас, считаясь при этом интеллигентами, интеллектуалами, а порой даже культовыми фигурами. Дает возможность работать на пяти работах одновременно, брать работу на дом и вообще жить. Просто, понимаешь ты, жить! Ни в чем себе не отказывая. А вот люди этого не ценят. И выдумывают какие-то странные причины, вроде свободы слова, конституции, уровня ВВП и прочих, как мне тогда казалось, абстракций.
– Итак, – продолжал дяденька, – Дима остался в Москве. Что-то он там делал, но потом не мог вспомнить что. Это были странные годы, когда он сам не мог точно сказать, чем он, собственно говоря, занимался. Что-то писал, но что, кому и за какие деньги – у него начисто вылетело из головы, хотя иногда он пытался припомнить. Но всякий раз останавливался. Потому что «припомнить» – это отдельное предприятие. Лезть в шкаф, доставать оттуда чемодан, где сложены ежедневники прошлых лет, найти ежедневник за нужный год, предварительно вспомнив, какой это год был, и дальше из записей о звонках и встречах попытаться составить себе хоть какое-то представление о том, чем же он, собственно, в этом году занимался, «что он делал для житья», как говорят англичане: what did he do for a living. Вернее, «для прожитья».
Но это было бы слишком долго и хлопотно. Бог с ним.
Итак, Дима болтался в Москве. Жил с мамой на даче, ездил в Москву с кем-то встречаться – забыл, с кем и зачем, – но потом поехал к своим.
Билет на поезд Диме доставал один знаменитый актер, друг покойного папы. Он позвонил в воинскую кассу Рижского вокзала, и там Дима, выстояв сравнительно небольшую (всего каких-то десять человек) очередь, получил свой билет. Интересно, что поездов тогда было столько же, сколько сейчас, во всяком случае, на рижском направлении. И билеты соотносительно с зарплатой стоили не так уж сильно дешевле, и однако тогда покупка билетов была отдельным приключением.
Касса была воинская, и купе тоже было воинское. Там ехал полковник со своим сыном-лейтенантом, который только что окончил училище и ехал в Ригу к месту службы. И еще юная бело-розовая девица, так примерно восьмиклассница, офицерская дочь. Полковник угощал всех портвейном и докторской колбасой. У него были странные значки в петлицах. Дима спросил, что это такое. Полковник ответил: «Трубопроводные войска». Дима первый раз услышал, первый раз узнал, что такие бывают. Полковник рассказал, что у трубопроводных войск две задачи. Первая – быстренько проложить трубопровод, а вторая – охранять существующие трубопроводы от возможных диверсий. Дима очень уважительно подумал о нашем Генштабе, потому что сам бы ни за что не догадался учредить трубопроводные войска. Хотя после объяснений полковника понял, что они в наше время абсолютно необходимы.
Полковник спросил Диму, к каким войскам он имеет отношение. Дима честно ответил, что получил в воинской кассе билет по блату. «Ну и хорошо, – развеселился полковник. – Это правильно».
Лиза и Маша встретили Диму очень ласково, они стали гулять, болтать и вообще всячески развлекаться. Ходили на рынок, покупали у армян большие сочные персики, и дочь рассказала, что один армянин-торговец угостил ее персиком. Дело было так. Они гуляли по рынку, дочка попросила персик, а Лиза сказала… – уж не знаю, правду она сказала или просто хотела приучить ребенка к скромности, беря пример с Димы, который по части спартанского воспитания своей дочери был просто зверь? – так вот, она сказала дочери: «Нет, нет. У нас денег нет». И тут торговец поманил Машу пальцем (она была очень хорошенькая, с золотыми волосами, светлоглазая) и вручил персик: «Кушай, девочка!» Кажется, Лиза сказала, что вот, мол, у нас сейчас денег нет, а приедет папа и привезет. Потому что на следующий день Маша очень осторожно намекнула, обтекаемо спросила, привез ли папа – то есть Дима – с собой денег. Дима сказал: «Да, а что?» «Тогда давай пойдем на рынок за персиками», – сказала дочь. Вот тут Лиза рассказала Диме всю эту чепуховую историю про дареный персик, и Диме почему-то вдруг очень жаль стало свою девочку. Вдруг в его расчетливом сердце проснулось простое желание сделать своему ребенку приятное – купить чего-нибудь вкусного, подарочек подарить и всё такое.
– Очень похоже, – сказал я. – Я тоже был зверь по части спартанского воспитания дочери. Никогда ничего не покупал ей на улице или в магазине, никогда не водил в буфет в театре или на выставке, и всякий раз строго говорил: «Мы пришли смотреть спектакль, а не толкаться в очереди и обляпываться пирожными! Мы пришли на выставку, а не жрать!» Наверно, это мое «спартанство» тоже было каким-то комплексом, тоже было ответом на ту несколько даже нарочитую скромность, которую мне прививали мои родители, ответом на уродливое пальто и коротковатые брюки. А на самом деле где-то под всем этим жило простое такое, детское желание, чтоб было красиво и вкусно. Но денег нет. Значит, надо крепиться.
Но я не жалею, что так жестко воспитывал свою дочь. Мне кажется, это сделало ее умнее, крепче, приспособленнее к жизни. Во всяком случае, она никогда не делала и теперь не делает трагедии из мелких жизненных неудач, из недополученных денег или внезапно разорвавшейся кофты, из-за потерянного мобильника и некупленных духов.
Хотя кто знает… Кто знает, что должно быть в жизни человека, чтобы получившаяся в результате жизнь нравилась ему самому? Чтобы она понравилась ему самому в те годы, когда он поймет, что переделывать уже поздно?
– Там, в Доме художников, была Валя Андреева такая, – сказал дяденька. – Они с Лизой познакомились, наверно, на второй день после приезда: Дима еще был в Москве. Валя Андреева долго глядела на Лизино кольцо (то ли они в кино сидели рядом, то ли обедали за соседними столиками), долго-долго глядела на кольцо, а потом спросила: «Слувис?» «Слувис», – ответила Лиза. Слувис был известный ювелир и камнерез, и он сделал ту камею, которую заметила Валя Андреева. Камея была очень хорошая, качественная, классичная, но, честно сказать, обыкновенная – собственно говоря, как все камеи.
– Верно, – сказал я. – Есть вещи, которые хороши, потому что стандартны. Например, водка или классическая курительная трубка. Не надо выпендриваться. Спирт и вода, вереск и эбонит, пропорции известные, сто раз зафиксированные и апробированные. Так же и камея.
Слувис, кстати, рассказывал мне, что какой-то камнерез к юбилею Брежнева вырезал – раздобыл для этого совершенно уникальную многослойную и многоцветную раковину – изображение Леонида Ильича с каким-то красным томиком в руке. Кажется, на томике даже было написано «Ленин». Оправил эту камею в золото, поместил в деревянный ларец с бархатным нутром и послал в ЦК партии. А может, не в ЦК, а какой-то выставочный комитет. Но, увы, эта камея не попала на выставку, и уж, конечно, этот умник не получил за нее ни гонорара, ни тем более звания заслуженного художника, на что он, очевидно, надеялся. «И правильно, – хохотал Слувис. – Так ему и надо! И не потому, что подлый жополиз, а потому, что жанра не чувствует». «Интересно, – спросил я, – а куда эта камея потом девалась? С Брежневым-то? Вернули художнику? Или какая-нибудь партийная дама носит в виде брошки на груди?» «Насчет брошки вряд ли», – совершенно серьезно сказал Слувис, немного подумав, – очевидно, прикинул в уме, как такая брошка могла бы выглядеть. «Ну или какой-нибудь партийный хрен впаял себе в портсигар?» «Вот это может быть, – так же серьезно ответил Слувис. – Но этого мы никогда не узнаем».
Так вот, о жанре. Жанр камеи – это античная головка, белая на темном фоне. Режется из двуслойной раковины породы «мурекс». Вот, собственно, и всё. Девяносто процентов камей именно такие. Хотя, конечно, бывают разные сценки, тоже античные. Например, Психея с колчаном стрел – колчан, как вы понимаете, принадлежит Эроту, но Эрота на камее нет. Или – я видел такую камею у Слувиса – лежащая нимфа, а у ее ног – сатир, играющий на двойной дудочке. Сатир вполне себе козлоногий, а нимфа очень хорошенькая. Но это уже экзерсис, упражнение в виртуозности камнереза, потому что кольцо получится слишком большое. Да и на брошке ни к чему жанровые сцены. Но в те годы никто, кроме Слувиса, не делал такие вот классические камеи. Их часто путали со старинными.
– Но по оправе было видно, – возразил дяденька, – что штучка современная. Поэтому Валя Андреева и спросила, Слувис ли это. Они разговорились, познакомились. Валя отдыхала там со своим сыном и его дочерью, то есть со своей внучкой. Сын был приятного вида, высокий и крепкий, светлоглазый блондин, но абсолютно неразговорчивый.
Однажды они пошли гулять вшестером: Лиза с Валей Андреевой, две девочки (Лизина-Димина дочь и Валина внучка), Дима и Валин сын. Девочки гонялись друг за другом, бежали вперед. Завидев очередную детскую площадку то есть качели, горки, коромысла и карусели, начинали на них прыгать и скакать, радостно визжа. Взрослые доходили до этого места, шли дальше – Юрмальский пляж тянется километров на двадцать. Девчонки спохватывались, что старшие ушли вперед, бегом догоняли их, недолго шли рядом, переводя дыхание, потом вдали видели еще одну детскую площадку и снова убегали вперед к качелям-каруселям. Лиза о чем-то разговаривала с Валей. Наверно, Валя рассказывала ей подробности личной жизни Слувиса, а также своей собственной и прочих членов Союза художников.
Итак, две разновозрастные дамы, две маленькие девочки и двое сравнительно молодых мужчин. Валин сын был моложе Димы лет на пять, но какая разница. Но этот голубоглазый красавец – тоже, кажется, художник – за всю прогулку не проронил ни слова. Буквально ни слова, а также ни междометия, ни вздоха, ни хмыканья, ни даже адресованного Диме кивка, хотя Дима честно пытался начать разговор об искусстве, о погоде и о политике. Но в ответ на любой Димин вопрос этот парень бил ногой по мячу. Он был босиком. Он взял с собой футбольный мяч и всю дорогу, все эти пять, наверное, километров неспешной прогулки, все эти два, наверное, часа времени он играл сам с собой в футбол. Пинал мяч, мяч улетал то в море, то в кусты, то под скамейку. Он трусцой бежал за ним, слегка изображая нападающего на поле, выковыривал его ловким движением ноги из-под скамьи или из кустов, как будто из-под ног защитников команды-соперника, и пинал дальше. И вот так два часа, а может быть, и с лишним.
Потом Дима спросил Лизу:
– Какой-то он, честное слово, странноватый, тебе не кажется?
Слово «странноватый» Дима произнес с иронично-сочувственной интонацией, показывая, что не хочет сказать «чокнутый». Даже в разговоре с женой Дима старался придерживаться правил вежливости, которые потом назвали политкорректностью.
– Какой-то ну совсем странный, – повторил он.
На что Лиза столь же политкорректно – ах, да! тогда не было такого слова! – столь же корректно, без приставки «полит-», ответила цитатой из Грибоедова:
– Не странен кто ж?
Но Дима воспринял это как намек, укол, упрек и даже оскорбление, как явное желание обидеть.
Дима в этом прочитал вот какой подтекст: «Ты, голубчик, так радостно и весело обсуждаешь и, честно говоря, осуждаешь какого-то замкнутого и неразговорчивого молодого человека. Ну да, человек с легким шизоидным радикалом. Он слегка аутистичен – не в клиническом смысле, а скорее в бытовом. Но ты же про него ничего не знаешь. Он художник. Может быть, работает напряженно, тяжело. Кажется, какой-то монументалист, расписывает стены, и ему надо отдохнуть, отвлечься от всего. Но даже не в том дело. Он моложе тебя на пять лет, он еще имеет право побыть странным; у него всё впереди. А кто ты? Вот ты говоришь: „он странный“. То есть ты хотел сказать „шизанутый“, что играет сам с собой в футбол и ни с кем не разговаривает. А ты? О, да! Ты со всеми разговариваешь. Всеобщий любимец. Лучший в мире рассказчик анекдотов – а дальше что? Что ты представляешь собой? В социальном смысле? Кто ты? Тебе уже за тридцать лет. Что ты сделал? Что ты создал? Ровным счетом ничего. Ты сам не можешь ответить на вопрос, кто ты такой. Ну скажи, ты кто? Я не о паспортных данных говорю – ты меня прекрасно понял. Чем ты занимаешься? В жизни вообще и в этот год, в это лето, в этот месяц в частности. Что ты делаешь „для прожитья“, what do you do for a living, I wonder? Вот что ты, например, делал те две с половиной недели, пока мы были здесь, а ты оставался в Москве? Ну скажи честно! Играл в преферанс с Сашей и Андрюшей? Болтал о философии с другим Андрюшей? Или сидел за пишущей машинкой? Курил одну за одной и притворялся, что пишешь пьесу? Или просто честно и непритворно сидел на кухне, пил крепкий сладкий чай, по лени своей заваривая его прямо в чашку, чайная ложка заварки и кипяток сверху, ел хлеб с маслом и в пятый раз читал рассказы Чехова или, пуще того, «Фрегат „Палладу“» Гончарова? А потом ехал на дачу, спал до десяти утра, а потом часа два с половиной завтракал со своей мамочкой, слушая ее бесконечные идиотские рассказы об академических женах, о том, во что была одета Катя Куперман и что сказала Аня Трофимова-Чередниченко, жена покойного Юлия Вениаминовича, дочери покойного, Ане Трофимовой-Давтян, и что та ей возразила, и обсуждаешь всю эту словесную шелуху, производя этой шелухи всё новые и новые порции, а потом ложишься на диван, придвигаешь к себе телефон и начинаешь звонить в Москву в поисках компании, куда тебя пригласят, нальют тебе водки, а ты будешь рассказывать анекдоты и далее смотри с самого начала. Так кто же здесь, с позволения сказать, странный? Этот молчаливый парень с футбольным мячом или ты, мой дорогой муж, отец моего ребенка?»
Вот так Дима услышал это корректное «Не странен кто ж?».
Впрочем, мы всегда слышим сами себя, а значит, Дима всё услышал правильно и поэтому не стал выяснять отношения, указывать Лизе на некие подводные камни, на интонации. Ах! Что может быть ужаснее в ссорах, когда тебе говорят: «А что я, собственно говоря, такого сказала?», а ты отвечаешь: «Не важно что. Важно – как, каким тоном. Тон делает музыку!»
– Какой ты пошляк!
Это не Лиза сказала Диме. Это он сам себе сказал.
С Валей Андреевой они попытались повидаться в Москве, продолжить знакомство. Но, кажется, ничего из этого не вышло.
Еще там был пожилой друг Вали Андреевой. Даже не пожилой, а совсем уж престарелый. Какой-то мэтр декоративно-прикладного искусства из Ленинграда. Изящный, высокий, седой и очень аккуратный старик. Если бы Диме сказали, что это директор Института высокочастотной электроники или начальник главка какого-нибудь экономического министерства, Дима бы поверил скорее. Когда Дима и Лиза с ним познакомились, он дал им визитную карточку. Там было написано: такой-то, заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств, и дальше от руки приписано – лауреат Государственной премии СССР.
– Смешно! – сказал мальчик.
– Ни чуточки, – сказал я.
Юля и Мышка
Это было не в то лето, когда я был в Дубултах с Леной.
Господи, конечно, я был не с Леной, а одновременно с Леной. Люди довольно часто так невинно, так походя, так «языково» врут: я был на Рижском взморье с Леной. И слушатель этого рассказа, какой-нибудь приятель лет через пять может вообразить себе неизвестно что. То есть известно что: именно то, на что ты эдак невзначай намекаешь. Хотя на самом деле врешь. Но уже сам через год, два, три начинаешь верить, что не ты приехал с мамой в дом отдыха, а потом туда к своим родителям приехала девушка по имени, скажем, Лена, а что вот этак: «Мы с Леной были на Рижском взморье».
Жулики, которые устраивают разным богатым и высокопоставленным людям защиты диссертаций – то есть пишут диссертацию и самое церемонию защиты устраивают иногда за дополнительные деньги без участия виновника, так сказать, торжества – то есть, конечно, не церемонию устраивают, а подготавливают все документы так, чтобы по документам казалось, что такого-то числа в таком-то зале в присутствии таких-то профессоров и докторов наук состоялась защита кандидатской диссертации господина Пупкина, – так вот, эти жулики рассказывают, что данный господин Пупкин примерно через год начинает свято верить, что он эту диссертацию сам написал и что он ее сам защищал. Вот как раз в зале номер такой-то на таком-то этаже. И рассказывает друзьям и знакомым, как он выступал, что говорили оппоненты и рецензенты и как он ловко срезал какого-то нахала, который задал глупый вопрос.
Так вот, если человек всего через год после события, которого вообще не было, совсем не происходило, начинает верить, что оно да, происходило, и рассказывать о нем с сочными жизненными подробностями – что уж говорить про меня, грешного.
Если и Дубулты были, и я был, и Лена была, и вообще всё на девяносто процентов было – спросите кого хотите. А про десять процентов – так это просто они забыли или, говоря по-умному, современному, по-фрейдистски, вытеснили. Ну не хочется вспоминать. По тысяче причин. А мне – хочется, тоже по тысяче причин, главных среди которых две. Во-первых, я не вижу здесь ничего худого, дурного или стыдного, что надо было бы вытеснять, подвергать цензуре своего Супер-эго.
А во-вторых – и вот это-то самое главное – мне надо найти тот самый миллиметр, о котором я уже столько раз говорил, что уже самому надоело. То самое незаметное крохотное отклонение, которое потом приводит нас в совершенно другой, ежели говорить красиво, город нашей судьбы.
И не только о своих миллиметрах я начал думать.
О чужих тоже.
Мне вдруг стало невероятно, просто неописуемо интересно, как сложилась жизнь у той девочки, которая зимней Москвой говорила, что хочет зайти ко мне в гости посмотреть мои картинки, а я ответил ей какой-то глупой, напыщенной, вычитанной где-то фразой: «Извини, пожалуйста, сегодня, к сожалению, я не смогу тебя у себя принять».
Нет, конечно, я не могу сказать – да это неправдой бы было, – что я вот так вот днем и ночью только об этом и думал.
Конечно, нет. Но все-таки думал.
Итак, не в то лето, когда Варя, не в то лето, когда Лена, а в какое-то третье или даже пятое лето в Дубултах была еще одна славная компания. Брат и сестра Строевы, она постарше, он помоложе, дети знаменитой театральной критикессы. Кирилл Арбузов, сын великого советского драматурга. Очаровательная девочка Марина Эдлис, но совсем маленькая, лет двенадцати. Веселый и добрый Сережа Устинов. Смотрите, как интересно, сплошные дети драматургов. Нет, не только. Была Галя Ваншенкина, дочь поэта, у нее была своя манера шутить, приставляя к любым твоим словам какой-нибудь штампованный эпитет.
Например, скажешь про кого-то, кто проходит по аллейке: «Знакомое лицо» – а она серьезно спросит: «До боли?» «Он умный» – «Как змий?»; «Это ясно» – «Как день?» – ну и так далее. Еще была очень смешная дочь какого-то очередного восточного классика, которая на вопрос моей мамы: «Кем ты хочешь быть?» – отвечала с очаровательным, томным, каким-то даже гаремным акцентом – тягуче-нежно отвечала: «Журналистом-международником», – растягивая гласные и прижмуривая глаза. При этом, разумеется, она не читала газет и не припадала к телевизору, когда там шла «Международная панорама» или «Девятая студия». Но я уверен, что все ее мечты прекраснейшим образом сбылись.
Еще были две девочки – Юля и Люся по прозвищу Мышка. Юля отдыхала без родителей, под присмотром Мышкиных папы с мамой. Мышкина мама была известный врач, а папа – архитектор, веселый и умный мужик с милым круглым русским лицом. Сероглазый, светловолосый, нос картошкой, широкие плечи. Очарователен в беседе, рассказывал разные интересные вещи про архитектуру, и по всему видно было, что затравлен своей женой, которая жучила его как еврейская мама из анекдота. «Надень свитер, вытащи воротничок рубахи, чтобы шейку не натерло. Второй уголок не вытащил. Что у тебя на ногах? Переоденься, мы идем к морю», – и вот так целый день. Но пара была счастливая. Им обоим это нравилось.
Мышка была маленькая, худенькая, стройненькая, с аккуратно выстриженной челкой, лицом похожа скорее на папу, но с маминой цепкостью во взгляде. В дальнейшем она стала главной героиней мощной семейной драмы, о которой надо писать отдельную книгу страниц на восемьсот. Но пока это была просто приятная девочка. Странное дело, ни с Юлей и ни с Мышкой, ни с кем вообще у меня в те дни ничего не было. Не только в смысле какого-нибудь романа, но даже в смысле хоть каких-каких-то отношений мальчиков и девочек. Помню, как однажды вечером мы сидели на берегу, и старик Арбузов вдруг захотел искупаться – мы сидели на нескольких скамейках, всей большой компанией, взрослые и дети – и старик Арбузов довольно строго велел своему сыну принести из корпуса полотенце. «Короткое полотенце, – сказал он. – Короткое, понял?» Кирилл вскочил и помчался с пляжа к лестнице, а вслед за ним почему-то побежала Юля. Там ходу было полминуты, самое большое. Они вернулись минут через десять. Старик Арбузов уже купался, плескался где-то вдали, потому что дойти до глубины, как я уже говорил, была долгая история. Кирилл положил полотенце на тот кусок скамейки, где только что сидел его папа. Они с Юлей присели на соседнюю лавочку. Я посмотрел на них и представил себе: они вбежали в комнату, не зажигая света – там с улицы, наверное, фонарь светил в окно, – и принялись быстро целоваться и обниматься. Просто целоваться, но уж как следует, изо всех сил, пока никто не видит, а потом схватили полотенце и побежали назад. Юля была довольно красивая девочка. Ну конечно, в шестнадцать лет или сколько ей там было, кажется, она уже студентка была, хорошо; в восемнадцать все девушки красивые, кроме отдельных уродин. Но она как раз не была уродина. Она была как раз очень хорошенькая. Кроме того, очень модная. И вот я смотрел на нее и представлял себе, как красивый Кирилл тискает и целует ее в темной комнате, и мне было совершенно всё равно. Ну абсолютно без разницы.
Какой-то странный период был тогда в моей жизни, когда мне вдруг разонравились девчонки. Ах, ах, дорогой читатель! Совсем не в том смысле, о котором ты, может быть, подумал. Какая-то возникла пауза примерно на полгода. У меня была девушка, но девушка в совершенно невинном смысле слова. Девушка, с которой мы встречались, гуляли, целовались-обнимались – в отдельные моменты весьма раскованно, – но я совершенно ни на чем не настаивал, не стремился дойти до конца, «получить», как мы говорили тогда, – и как-то проморгал ее предложение провести каникулы вместе, ну хотя бы месяц. В конце концов она поехала в турпоход со своими друзьями, а я, как всегда, с мамой в Дубулты.
Девушка писала мне письма, а я их читал вслух маме. В письмах не было ничего любовного, никаких нежных слов. Зато были такие замечательные новости: «Вторую неделю живем на берегу реки, оскотинились совершенно, спим впятером в одной палатке, зубов не чистим, ходим голышом на четвереньках». Потом я долго убеждал и уговаривал маму, что это была шутка, что они, конечно, чистят зубы и вовсе даже не оскотинились. Но мама всё равно качала головой и цокала языком, хотя ей такие ханжеские жесты были в общем-то несвойственны. Она скорее, наоборот одобряла всякие рискованные приключения. Во всяком случае, на словах.
Потом эта девушка, можете себе представить, заехала ко мне в Дубулты, потому что они со своей компанией путешествовали по всей стране, а жизнь тогда была сами понимаете какая – рюкзак, общий вагон и «без Россий, без Латвий». Она написала, что будет такого-то числа под Ригой и заедет ко мне. И в один прекрасный день она и вправду пришла. Я как раз был один в комнате. Она поднялась наверх (ей, наверное, сказали, где мы живем), открыла дверь без стука. Она была в брезентовом так называемом «стройотрядовском» костюме: серые брюки, серая куртка и, кажется, тельняшка под ней. Она прямо с ходу, делая шаг, протянула ко мне руки. Мы обнялись, быстро поцеловались. Стояли, целуясь, рядом с кроватью, застеленной пансионатским рыжим одеялом – китайским одеялом с лебедями, – в шаге, в полушаге от кровати, а потом вплотную, просто прикасаясь коленками к кроватной раме, но я, совершенно непонятно почему, сказал ей:
– Ну а теперь давай пойдем погуляем. А хочешь, зайдем в кафе или в наш буфет? У нас тут столовая есть и при ней буфет.
Она долго смотрела на меня сквозь очки. У нее были светло-голубые глаза. Потом она сняла очки и посмотрела на меня, отступив на полшага. Это было немножко театрально. Она как будто прощалась со мной.
– Ну что молчишь? – сказал я. – Пойдем в кафе или в буфет! А хочешь – к морю.
– Нет, спасибо, – сказала она. – И вообще мне пора. Меня ребята ждут.
– Где? – спросил я.
– Там, внизу, – она мотнула головой.
Потом первого сентября мы встретились в университете в большом холле первого этажа, но разве что кивнули друг другу.
Мы разве что кивнули друг другу уже по другой – во всяком случае, с моей стороны – причине. Дело в том, что в конце августа на каком-то комсомольском сборище нашего факультета я встретился с Кирой, и всё в моей жизни на пару лет пошло кувырком.
Один раз, уже в Москве, ко мне приехали Мышка и Юля. Мы пили чай, курили, болтали, и они спрашивали меня, почему я такой мрачный. А мрачный я был из-за Киры. Я, кстати, говорил с ней по телефону, когда они у меня сидели. Я что-то пытался ей втолковать, называя ее по имени. Юля и Мышка почему-то решили, что ее зовут Ира. Очевидно, не расслышали.
И странное дело.
И странное дело – может быть, пройдет еще сколько-то времени, и от всей этой истории, от этих страшных двух лет, от жестоких игр, страданий, унижений, обид и надежд – дальше, о любезный читатель, можешь писать сам… У меня есть большой соблазн оставить пару страничек белыми, чистыми, чтобы ты мог сам заполнить их нужными словами, своими словами, которые, однако, у всех почти одинаковые, – так вот, от двух лет этого кошмара, редко прослоенного счастьем, останется эта бессмысленная, в сущности, история, как мои знакомые девушки перепутали имя и, прощаясь у лифта, сказали мне:
– Ну ты не горюй! Всё будет хорошо, и желаем тебе помириться с твоей Ирой.
– С какой Ирой?
– Ну ты же только что звонил какой-то Ире или она тебе. Ты же всё говорил: «Ира, Ира!»
Они сели в лифт. Лифт был старый с железной решетчатой дверью, которую нужно было закрыть самому. Она очень громко стукала и щелкала. Юля и Мышка поехали вниз, а я гладил ручку лифтовой двери и смеялся. Я пытался себе представить, что было бы, если бы Киру звали Ирой. Наверное, в этом случае она была бы совсем другим человеком. И может быть, у нас всё было бы хорошо, а может быть, я вовсе не сумел бы ее полюбить. Она бы мне не понравилась.
Ну да не проверишь.
– Вот скажите мне, мой дорогой, – вдруг неожиданно громко и отчасти неприязненно сказал мальчик, – вот почему вы ни о чем другом рассказать не можете? Вас послушать, так вся ваша жизнь состояла из сплошных любовных приключений и как будто бы более не из чего. А как насчет работы?
Ведь смысл жизни, кажется, именно в работе, в созидании, а?
Но ладно уж, не будем забираться так высоко. Не всем дано созидать. Как насчет работы в смысле службы? Неужели у вас ничего не происходило на работе? Ну и вообще, на улице – как говорится, в большом мире? Вы что, никогда не думали, где достать деньги до зарплаты, никогда не одалживались у богатых друзей, или у вас никогда не просили в долг? У вас что, никогда не было никаких серьезных нехваток – в любом смысле слова: денег не хватает, жилья своего нету, костюма приличного нет, у рубашки воротник порвался, портфель истрепался, на ребенка тысячу вещей нужно, а взять их неоткуда, потому что денег нет? У вас что не случалось никогда неудач в работе, что вот вы что-то делаете, делаете, делаете – неважно что: прибор конструируете, статью пишете, квартальный отчет готовите, повесть сочиняете, – а не получается, не выходит. Удача отвернулась, сил нет или мозгов не хватает?
Неужели такого не было?
А разве вас никогда не предавали? Только не в любовном смысле, а в другом. В дружеском, например, или в служебном. Разве не бывало так, что любимый друг, с которым вы вроде бы вдвоем пуд соли съели, вдруг бросал вас в беде или, пуще того, подножку ставил? Разве не бывало так, что у вас что-то воровали на работе, я имею в виду ваш труд, или ваше открытие, или вашу идею. Вас никогда не унижало начальство или, если вам таки удалось взобраться на ступенечку-другую-третью, неужели вас никогда не подводили подчиненные? Неужели вы никогда не приходили в отчаяние, глядя на это сборище бездельников, идиотов, жуликов и интриганов, которыми вы должны худо-бедно руководить и добиваться от них хоть какой-то работы? И ведь их еще надо жалеть, потому что среди этих бездельников, идиотов и жуликов – через одного студенты-заочники, беременные женщины и благородные труженики, содержащие шестерых детей покойного дяди и его больную жену, тетю то есть.
Ну а просто сплетен, грязной клеветы, чудовищных каких-нибудь оговоров разве не было?
Вы никогда-никогда не обращали внимания на царящую в мире несправедливость? Боль, горе, нищету, рабское бесправие слабых и наглое самодовольство сильных? Неужели у вас об этом никогда не болела душа? А политическая ложь? Пропаганда, лицемерие, цензура, железный занавес, насилие во всех его формах?
Нет, я не говорю что-нибудь сделать, но хоть в душе возмутиться. Хотя бы задуматься о том, почему это так и кончится ли это когда-нибудь? И где границы зла? В пространстве, в силе и во времени?
И неужели вы никогда не были участником или жертвой какой-нибудь почти детективной истории? Что-нибудь про подлог завещания, например. Или таинственное исчезновение главной семейной драгоценности. Вот представьте себе – у вас в квартире, доставшаяся от прабабушки, висит на стене картина. Скажем, подлинный Брюллов. Неприкосновенный запас и всегдашний ликвидный актив в полмиллиона долларов на любом самом захудалом аукционе. Конечно, вы не хотите ее продавать, вы гордитесь ею – наследство, связь времен, – но при этом вы знаете: случись что, у вас всегда есть в запасе солидная сумма, воплощенная в портрете красивой итальянки на фоне Неаполитанского залива. И вдруг однажды вечером вы приходите в квартиру, а картины нет. И никаких следов взлома, никаких вывороченных шкафов, сброшенных с полок книг и выпотрошенных ящиков письменного стола. Всё в полнейшем порядке и уюте. Даже кот бежит вам навстречу, радостно мяукая. Кот ничем не напуган. Ах, если бы кот мог рассказать! Вы садитесь на диван перед этим темным прямоугольником на обоях, как всегда бывает, когда снимешь картину, которая долго висела на одном месте. Любые обои чуть-чуть выцветают. Вот вы смотрите на этот прямоугольник и крепкий запыленный гвоздь, и судорожно думаете: кто? Конечно, кто-то свой, но кто? У кого ключ? Жена? Взрослый сын? Сестра жены или подруга сына?
Ну хорошо, хорошо. Нет у вас фамильных драгоценностей. Но неужели у вас хотя бы колеса не прокалывали вашей машине, не говоря уже о стукнули или угнали?
Или развернем дело немножечко по-другому. Не хотите быть жертвой? Побудьте немножечко злодеем. Вам никогда не случалось обманывать, наказывать, срывать злобу? Вам никогда не случалось воровать чужие идеи, чужой труд, да просто чужие вещи, наконец?
Ну, это уже совсем какая-то достоевщина пошла. Давайте проще.
Вот я вас спрашивал раньше: неужели вы никогда не чувствовали то, что чувствует человек бедный и слабый, сталкиваясь с богатыми и сильными, – унижение, одолжение, поиск денег или связей, отчаянное желание быть на уровне? Давайте наоборот. Богатые ведь тоже плачут! Вам никогда не приходилось размышлять: давать деньги в долг или нет? Вы знаете, есть такая поговорка: «Давать в долг можно только ту сумму, с которой ты готов навсегда расстаться». Но, как говорил мне один богатый старый тбилисец: «Я очень много лет на свете прожил. Я очень много разных дел переделал и в разных местах побывал. Но мамой клянусь, ни разу не видел, чтоб сто рублей вот так на дороге валялись. Вот ты идешь, а стольник валяется. Нагнулся, поднял. Как хорошо! Положил в карман и дальше пошел. Но что-то я почему-то никогда такого не встречал!» И он хохотал, сверкая фарфоровыми зубами и бриллиантовым перстнем, наливая в хрустальный бокал дорогой коньяк. Так что богатому человеку тоже трудно вот так взять и рискнуть своими деньгами. Даже миллионеру, наверное. Потому что, если бы миллионер разбрасывался сотенными, он бы никогда не стал миллионером.
Разве вам никогда не приходилось думать о своем бедном родственнике: «Да, это мой племянник. Да, у него родились дети. Да, ему страшно не везет.
Но вот я сегодня ему помогу, завтра помогу а потом он привыкнет и вообще ни хрена делать не станет. Так и задремлет на моей пенсии. Но это когда еще будет! А сейчас у него дети, им надо в школу, им надо кушать, извините за выражение, и неужели я такая скотина, что из чисто воспитательных целей оставлю своих внучатых племянников без молока и хлеба, без портфеля и тетрадки? А если не оставлю, как сделать так, чтоб вся эта семейка на шею мне не села и ножки бы не свесила?»
Я, наверное, слегка увлекся, – сказал мальчик. – Но вы, наверное, поняли, о чем я. Неужели ничего похожего в вашей жизни не было? А если было, то всё время шло мимо вас, не интересовало, не занимало вашей души. Как странно…
А пейзажи? А путешествия? А художественные впечатления? Вы же взрослый, образованный человек. Вы же прочитали кучу книг и умеете думать про умное. Как говорят философы «проблематизировать ситуацию». Так почему же всё время «влюбился – разлюбил», «дала – не дала», почему сплошные девчонки и мальчишки с какими-то совершенно невзрослыми проблемами?
Почему?
– А не знаю, – вместо меня сказал дядя.
– И я не знаю, – сказал я. – Но мне иногда кажется, что никаких других проблем просто нет. В моей жизни, я хочу сказать. Моя жизнь сложилась безупречно счастливо. Ловко, удачно и красиво. Мне всегда удавалось настроить свой компас или как он там называется на корабле, – в общем, эта штука, по которой курс прокладывают, – настроить его с изумительной точностью. Не то что до миллиметра – до одной тысячной миллиметра, до какой-то микрометрической доли дуговой секунды, и пройти, не задев ничего, о чем вы, дружочек мой, так подробно и красиво мне говорили.
Но что значит «не задев»? Всё, чем вы меня попрекали, было в моей жизни в огромных количествах, и куда более остро и жестко, поверьте на слово. Я не стану вам рассказывать, как я одалживал деньги на еду своему ребенку, как я работал на шефа, а шеф вытирал об меня ноги, как меня пинали, выпихивали, оскорбляли и грабили в переносном, а пару раз даже в самом прямом смысле, приставив нож к животу, да, да, представьте себе. Это очень неприятно.
Верьте мне, всё это было. Ежели желаете – могу привести свидетелей.
Но поверьте мне также, что всё это страшно скучно, всё это до зевоты неинтересно.
Бессмысленно об этом говорить, потому что это у всех одинаково. В слове «одинаково» нет никакого презренья, поверьте мне. Чувство униженности, обездоленности, ограбленности, и наоборот, чувство торжества, могущества, богатства, уверенного в себе благополучия – эти чувства у всех людей одинаковы. Настолько одинаковы, что описывать их в стотысячный раз не имеет ни малейшего смысла. Даже смерть одинакова, вы уж извините меня. Я три раза погружался в апельсиново-золотистый мрак, три раза сильные незнакомые руки тащили меня в туманную бездну и все три раза это было одно и то же.
А первое прикосновение пальцев, а особенно мечта о нем – это всегда другое, всегда ново и всегда интересно.
Впрочем, разумеется, это всего лишь мое мнение. Это всего лишь мне так кажется, причем, не премину подчеркнуть, сейчас так кажется. А может быть, через пару недель, а то и вовсе послезавтра, я воскликну, прямо как Чернышевский: «Бог с ними, с эротическими вопросами, не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных улучшениях и, конечно же, об освобождении крестьян». Гы-гы-гы!
А вот сейчас мне кажется именно так, как я говорю, мое «сейчас» для меня и есть мое «всегда». Всегда сейчас, сейчас всегда. Понятно? Устраивает?
Дяденька засмеялся, довольный.
Но мальчик насчет прикосновения пальцев со мной не согласился. Он ехидно на меня посмотрел и сказал:
– Видите ли, конечно, насчет пальчиков – это всё очень интересно и мило, но мне кажется, это бывает после того, когда уже ничего другого сделать не можешь. Это, тысячу раз прошу прощения, бессилие своего рода. Социальное бессилие, которое, ежели по вам судить, переживается куда тяжелее, чем ранняя импотенция. Но не может человек ничего сделать ни с собой самим, ни со своей жизнью, а с окружающим миром – тем паче.
Я не про революцию, боже упаси. Не надо мне приписывать. Не надо на меня вешать одиннадцатый тезис о Фейербахе.
Что он несет? Никто на него не вешал никаких тезисов. А тем более Маркса о Фейербахе. Я усмехнулся в ответ, но он продолжал:
– О простых вещах речь идет, мой дорогой. О самых простых и пошлых. Машину купить, квартиру себе устроить, разменять-обменять-съехаться-оплатить, чтоб приличное было жилье к сорока годам. Должность какую-никакую занять, настоящую, понятную должность. Нет, не как сейчас, начиная с девяностых, когда любой кандидат наук обязательно директор Института глобальных процессов или председатель правления Фонда за улучшение добра. Нет, нормальную должность в нормальном (он даже стукнул кулаком по столу) учреждении, и зарплата чтобы нормальная, не стыдная. И понятная в смысле источников. Не сколько ты вообще зашибаешь в месяц, а какой у тебя оклад жалованья. Чувствуешь разницу?
Я чувствовал, что я слышал эти слова. Много раз. Но совершенно от другого человека. От женщины, а не от этого сопляка.
А сопляк продолжал:
– Вот так и получается, когда ничего не получается. Начинаешь утешаться черт знает чем. Эта ваша, мой дорогой, эротика, этот ваш культ переживаний, сложнейших отношений, тончайших ощущений – это же на самом-то деле ничем не отличается от этой самой смешной «духовности», которой пробавляются профессиональные патриоты и почвенники. Ничего, дескать, страшного, что у нас экономика в обвале, промышленность в завале, образование в заднице, всё барахло китайское, вся жратва европейская – зато мы самые духовные! Вот хоть стой, хоть падай. Духовные. А что такое «духовные»? – засмеялся мальчик. – Ну, ответ, пожалуй, один. Если ты, дурак, не понимаешь, что такое «духовность», значит, ты сам бездуховный. Какой-то в этом есть гнусненький интеллектуальный фокус. Но бог с ними, с фокусами. Фокусничают платные пропагандисты, а тысячи, а может даже, миллионы людей охмурены, отравлены вот этой компенсацией. Мы ничего не умеем, но мы всё равно лучшие, потому что «духовнее». Вам не кажется, что у вас что-то похожее нарисовалось? – И, не дожидаясь моего ответа, продолжал: – Когда у человека что-то реально не получается, он начинает чем-то воздушным утешаться. Ведь это же элементарно.
Он, наверно, еще бы говорил полчаса, но мне это надоело.
– А ты просто сопляк, – сказал я. – Сопливые рассуждения мальчика, у которого один-единственный раз был случай с одноклассницей, но ничего не вышло, потому что он очень хотел, но был очень пьяный. Она засмеялась и выскочила из-под пледа. Было стыдно, мокро и противно. И вот поэтому соплячок решил, что надо штурмовать мироздание.
– Нет, нет, мироздание-то, конечно, надо штурмовать, – вдруг вмешался дяденька. – Но не надо заменять одно другим. Мироздание-то и без нас возьмут штурмом. Как-то так выходит, что не обязательно железную дорогу строить и на железной дороге работать, чтоб на поезде ездить. Как-то каждый вносит свой посильный вклад, и мироздание постепенно меняется. Уж не знаю, к лучшему ли, но тем не менее. Мироздание – дело общественное, – сказал дяденька. – А любовь – частное. Что это значит?
– Это значит, – подхватил я, – что с мирозданием справляются все вместе, а вот с любовью – каждый в отдельности.
Я вспомнил знаменитую фразу Хаксли: «По арене смерти мученики идут рука об руку. Но умирает каждый в одиночку». То же и про любовь. На войну, на бунт или просто на завод или в офис мы идем все вместе, а потом расходимся по своим квартиркам. Изменяем жизнь, строим дома, рушим царства и возводим вместо них республики мы рука об руку, все вместе, кучей, толпой, нацией, а в иных случаях – всем прогрессивным человечеством. Но любит каждый в одиночку. В смысле, попарно. Даже, представьте себе, если это групповой секс.
Но я не стал это говорить мальчику, а сказал просто:
– Ты еще очень молод, дитя мое. Ты просто маленький мальчик. Ты еще не дожил, не дорос до любви.
Мальчик вдруг налился злым румянцем. Наверно, я попал ему в какое-то больное место.
Он покраснел, развернул плечи, посмотрел на меня и сказал:
– Значит, я сопляк?
– Сопляк, – сказал я, не отводя глаз. – Сопляк, птенец желторотый, щенок, козленок. Дальше продолжать?
– А в морду хочешь? – вдруг сказал он.
– Давай, – сказал я.
В этот миг я действительно захотел получить от него по морде. Я уже чувствовал сильный удар в скулу или ниже, в челюсть. Я уже чувствовал эту анестезию от первого удара, кислоту во рту, муть в глазах и потом – как будто бы ощущая то, что случится через сутки-двое, – и потом желвак за щекой и саднящую рану на щеке, на подбородке. Всё это я подумал за полсекунды, глядя в ненавистно расширенные глаза мальчика: «Ты украл мои рассказы, ты взял себе мою жизнь, моих папу с мамой, моих девочек, всё твое – на самом деле мое!» – говорили его глаза, – и я чувствовал, я понимал, что он прав два раза, а я не прав ни разу. И что я должен получить и что это будет честно.
Мальчик замахнулся, и я даже не закрылся рукой от его кулака, как вдруг дяденька, не вставая с места, резко отодвинулся назад, от чего железные ножки стула противно проскребли по кафельному полу, и с чертовской ловкостью пихнул ногой стол на мальчика. Мальчик шатнулся, дернулся сначала назад, а потом вперед, как бы переломленный этим столом, а дяденька, быстро, но плавно поднявшись со стула, со всей сладостью ударил мальчика кулаком по лицу. Голова мальчика мотнулась вправо, потому что дяденька бил с левой, и попала на правый дяденькин кулак, который угодил ему прямо в зубы. То есть в губы. Хлынула кровь. Я своими глазами увидел, как в этих кровавых слюнях на пол упал белый осколок зуба. Но дяденька не унимался. Он схватил мальчика за шиворот и коленом ударил его в живот, предварительно выволокши из-за стола. Мальчик рухнул на пол. Он лежал скрючившись, а дяденька, глядя на меня, объяснял:
– Если ты вырубил клиента, и клиент упал – не уходи! Не поленись, двинь ему по надкостнице, а то вдруг у него финарь в кармане. Ты уйдешь, такой гордый, не оборачиваясь, а он вскочит, прыжком догонит и финарь тебе в бок. Хорошо будет? Так что не поленись.
И дяденька своими башмаками два раза стукнул мальчика по ногам ниже колена. Мальчик два раза дернулся, и взвизгнул тоже два раза, и потом заскулил, сворачиваясь клубочком у стены.
– Теперь нормально, – сказал дяденька, отодвинул стул, уселся, щелкнул пальцами и крикнул буфетчице: – Еще три пива, пожалуйста! – И для понятности показал три пальца. И добавил по-латышски: – Lūdzu, lūdzu, trīs alus!
Мальчик завозился на полу, стоная и выплевывая кровь вперемешку с передними зубами. – Вставай, – сказал дяденька. – Сейчас пиво принесут. Вставай и не бойся. Мы тебя прощаем. Мы больше на тебя не сердимся. Ты его прощаешь? – обратился он ко мне.
Я во все глаза смотрел на дяденьку. Вот уж бы никогда не сказал, что он такой костолом. Я смотрел на его скромную фигуру очки, толстый нос – и ничего не понимал.
– Прощаешь? – спросил дяденька даже как-то чуточку угрожающе, показалось мне.
– Прощаю, прощаю, – сказал я.
– Эх, годы молодые, – сказал дяденька, вытирая носовым платком мальчикову кровь с кулака.
Мальчик тем временем встал и вежливо попросил разрешения пойти в туалет умыться. Дяденька разрешил.
– Эх, годы молодые, – повторил он. – Думал, уж все забыл, а руки помнят. Я, видишь ли, когда студентом был, занимался всякой такой штукой. Карате не карате, бокс не бокс, а так, на всякий случай, для уличных ситуаций. Даже не помню, как тренера нашего звали. А ты помнишь? – спросил он меня.
– Помню, – сказал я. – Помню, конечно.
Мальчик вернулся вполне умытый, только слегка прихрамывал. Ссадина на челюсти была заклеена туалетной бумагой. Губы сильно распухли, но это даже к лучшему. Не было видно, что у него выбиты передние зубы.
На столе уже стояли три больших пластиковых бокала с пивом. Пена оседала хлопьями, оставляя желтые мраморные узоры на стенках.
– Чин-чин, – сказал дяденька.
Мы сдвинули стаканы. Мальчик пил, наклонившись, почти положив голову на бокал, не беря его в руки. Наверно, руки у него еще дрожали.
– Главное, – сказал мне дяденька, – не требуй от него дальнейшего раскаяния. Тогда вы, может быть, подружитесь.
– Зачем он мне? – я пожал плечами.
– Ну нет так нет, – сказал дяденька, повертел головой, потом встал и пошел к буфету, объяснив, что сейчас принесет какую-нибудь закуску.
Отель «Европа»
Когда у меня случилась та история с гарантированным приключением – остановка сердца, доктор Ансабергс и всё такое, – мы решили остаться еще на недельку и заказали номер в гостинице «Европа».
Мне не особенно приятно было снова останавливаться в «Европе», потому что я там жил, когда приезжал в Юрмалу с прежней женой.
– Ага, – сказал дяденька. – Правильно, правильно.
– Конечно правильно. Ну а что поделаешь?
– То есть удобства дороже морали? – спросил дяденька.
– А какая здесь вообще мораль? – возразил я. – Ну какая тут мораль? Ну при чем здесь вообще какая-то мораль? Ты что?
– Я ничего, – сказал дяденька.
– То-то же, дядя, – сказал я.
– Хамишь? – он поднял брови.
Я теперь знал, что он сильный и ловкий в драке, а главное, какой-то необузданный. Может на ровном месте устроить мордобой.
Но мне тоже не хотелось отступать. Я сказал миролюбиво, но твердо:
– Ни в коем случае! Я ни капли тебе не хамлю, и ты это знаешь. Я просто хочу сказать, что никакой тут морали нет, всё нормально и естественно.
– Всё нормально и естественно! – вдруг засмеялся дяденька. – А скажи, пожалуйста, тебя никогда не тошнит от этого? Вот именно от того, что так нормально и столь естественно? Что вот, мол, оно нормально и естественно, а все-таки – бэээ!
– Бывает, – сказал я. – А как же.
– Вот, собственно, это я и хотел уточнить, – сказал дядя. – Нормально, естественно, но слегка тошнит. Так и живем. Потом от этого бывают неврозы. Но ничего! – он уже как будто бы разговаривал сам с собой. – Девяносто процентов людей – невротики. А остальные десять – олигофрены.
– А как же шизофреники? – вдруг спросил мальчик.
У него уже зажила ссадина под глазом, и каким-то невероятным манером он уже успел вставить себе передние зубы.
– Какие шизофреники? – недовольно переспросил дяденька.
Мальчик, вспомнив недавнюю зуботычину, чуть-чуть отодвинулся от него, но возразил вполне независимо:
– Шизофреники? Да самые обыкновенные. Описанные Евгением Блейлером в одна тысяча девятьсот одиннадцатом году. В книге «Dementia praecox, oder Gruppe der Schizophrenien». В общем, шизики. Параноики. Острые психотики. Почто их-то забыли, дядя?
– Дурак, – сказал дядя. – Шизофреники – это те же невротики, только потяжелее. Среди олигофренов тоже бывают, но крайне редко. Казуистика.
– Мудро, – сказал я. – А у меня вот сердце отказало до того, как я переехал из «Белой совы» в «Европу», – сказал я, посмотрев на дяденьку. – Я был спокоен и счастлив. А первый раз у меня такой случай был вообще за десять лет до того. Тогда у меня вообще всё было о'кей.
– Да ничего у тебя не было о'кей, – сказал дяденька. – Не притворяйся. И не ври. Себе, главное, не ври.
Если бы на столе стояла тяжелая хрустальная пепельница, то я бы, конечно, молниеносно вскочил со стула, схватил бы эту пепельницу и раскроил бы дяденьке голову, как турок в прекрасном немецком фильме «Об стенку лбом». Там он это просто роскошно делает в ответ на издевательство своего приятеля: они сидят в баре, и он терпит-терпит, а потом вдруг прямо со свистом хватает со стола пепельницу, его рука описывает в воздухе полукруг – и прямо в висок этому парню.
Но пепельницы не было.
И потом, этот парень действительно оскорблял турка. Он впрямую говорил, что трахал его жену и даже, подлец, рассказывал как. «По-гречески».
То есть, безо всякого сомнения, заработал смерть. Там потом эту тетку чуть было не убили братья, потому что в суде выяснилось, за что, по какой именно причине этот турок убил приятеля. Как говорил товарищ Сталин, «давайте расчленим вопрос». Убить соблазнителя жены – это благородно и прекрасно. Но жена, которую соблазнили, – грязная изменница, осрамила семью, свою семью, своих отца с матерью, своих братьев. И поэтому ее тоже надо зарезать. Один адюльтер, а сколько кровищи! Плюс тюремное заключение за убийство в состоянии аффекта.
– У нас такое тоже случается, – вдруг сказал мальчик, как будто бы слыша мои мысли. – В России, например, от одного прыща погибло два композитора. Скрябин брился, срезал прыщик, заработал заражение крови и умер. А на похороны к нему пришел Танеев, простудился и тоже умер…
Но я же ничего не говорил вслух!
Но всё равно возразил мальчику. Сказал раздраженно:
– Идиотская манера – все эти истории к слову. Ты что, Швейк? Аналогичный случай был в шестом стрелковом полку, когда писарь Вондрачек по ошибке выпил гуталин? И потом полковой сортир сверкал, как сапоги господина майора? Ха-ха-ха!
– Но ты же сам рассказал историю к слову, – прошептал мальчик, – про турка и его жену.
Я отмахнулся. Вот так, буквально – отмахнулся от него рукой.
Хотя да, конечно, так оно и было. Я рассказал. Но сам не заметил.
Да, но, во-первых, на столе не было тяжелой хрустальной пепельницы. По-моему, дяденька и мальчик стряхивали пепел в пластмассовый стаканчик. Но самое главное, что же этот дядя такого сказал, что мне захотелось дать ему по башке, если можно, то насмерть?
Всего лишь про мой переезд из «Белой совы» в «Европу». Потому что – и дяденька на это подло намекал – в «Европе» я жил в другой, прежней своей жизни. Ну и ладно. Утешимся тем, что здание долговечней, чем жизнь одного человека. Тем более не вся жизнь, а жизнь номер один, номер два, номер пять и так далее.
Роман – это книга. Но бывает, что прямо на титульном листе написано: роман в пяти книгах. Хотя книга, в смысле страниц в обложке, несомненно, одна. А книг внутри – пять. Обычное дело. Так же и в жизни.
Вопрос к какому-нибудь логику: сколько жизней можно напихать в одну жизнь? Логик скажет: «Если жизнь – это счетное множество, то в него можно напихать сколько угодно подмножеств». Но в жизни так не получается. Все-таки она состоит из конечного числа элементов. Хотя кто знает? Может быть, каждый элемент – то есть каждый случай, каждую ситуацию, каждую встречу, каждую мысль и каждое слово – можно раздробить на бесчисленное количество черточек, подробностей, воспоминаний и значений. Их будет больше, чем чисел в натуральном ряду и чем атомов в видимой и невидимой Вселенной. Поэтому внутри каждой жизни, получается, может находиться бесконечное количество жизней, так сказать, с индексами и штрихами.
Но нет на самом деле. Границы перепутаются. Так что, когда жизней слишком много, на самом деле она всего одна. Только очень суматошная, невнятная и вообще не пойми какая. «И вспомнить жизнь, что не было ее», как написал один наш замечательный поэт.
Поэтому больше трех-пяти жизней я не рекомендую. Ну в крайнем случае шесть. Для гениев жизни – семь.
Но не восемь!
Но для того, чтобы остаться еще на недельку, надо было продлевать визу, и наш рижский друг Боря привел нас сначала на улицу Элизабетес, в консульский отдел МИДа. Но там нам объяснили, что «погорельцам» визы продлевают в другом месте под названием Чекуркалнс. А погорельцами нас назвали потому, что в Москве как раз в те дни был страшный дым от лесных и торфяных пожаров, и многие москвичи, приехавшие в Ригу, хотели остаться там подольше на свежем морском воздухе. Хотели дождаться, когда наконец в Москве схлынет жара, и пойдут дожди, и можно будет дышать. Визу нам, конечно, тут же дали. С самыми благожелательными улыбками, всё время приговаривая про пожары и духоту в Москве. Одна досада, что в этот самый Чекуркалнс пришлось ездить два раза. Сначала подать документы, а потом получить паспорта. В общем, порядок есть порядок.
Когда мы переезжали из «Белой совы» в «Европу», парень – служащий и, кажется, совладелец – донес чемодан от «Совы» до «Европы» и даже не взял деньги, несмотря на мои настойчивые попытки дать ему несколько латов. Хороший мальчик. Спрашивал, как я себя чувствую, всё время говорил: «Только осторожно. Поднимайтесь медленнее». Да какое «медленнее», какое «осторожно». Доктор Ансабергс сказал: «Хоть на лесоповал»!
В «Европе» всё было хорошо, кроме кондиционеров, которые висели на задней стене соседнего корпуса. Эта стена выходила во двор. Двор был очень хорошенький – именно так, именно это слово. Дорожки, столики, зонтики и искусственные пальмы, которые по вечерам загорались цветными лампочками. А по забору было натянуто плотное полотнище, на котором были изображены ракушки, рыбки, морские звезды и прочее тропическое подводное царство. Отель назывался «Европа», а внутренний двор был оформлен как остров в Тихом океане.
Так вот, эти кондиционеры, вернее, охлаждающие коробки с вентиляторами, висящие на торцевой стене другого корпуса, всё время подвывали. Не очень сильно, но заметно. Вернее, наоборот – когда они работали, их как-то не замечали. Они звучали негромким фоном, который благожелательное ухо могло спутать с шумом ветра в соснах или даже с прибоем такого близкого моря. Но вот когда они выключались – а это случалось примерно раз в два часа, – вот тут наступала неожиданная тишина и короткий период благодати. И ясно становилось, что ветер в соснах гудит совершенно не так, не говоря уже о тихом звуке прибоя, который вообще в тех краях редкое дело.
С балкона второго этажа был виден дом, в котором жила большая семья. Дом старый, давно не ремонтированный, но при этом крепкий, окладистый и присадистый. Крепкие столбики у террасы, вылинявший под дождем, но очень крепкий забор, круглые толстые клумбы – всё такое солидное, и издалека казалось, на ощупь крепкое или упругое.
Семейство два раза в день садилось за стол. Их головы были срезаны верхом террасы. Я видел их, начиная с плеч и ниже, как они рассаживались, человек пять – кто-то разливал суп, кто-то раздавал хлеб. Спокойная, размеренная жизнь. Не было видно, что эти люди работают, ходят на службу. Может быть, это были богатые люди, которые проводили время на даче, а может быть, это были дачники – не знаю. Они жили очень неторопливо, спокойно, но и не было видно, чтобы они как-то особенно отдыхали или развлекались. Никто не сидел часами в шезлонге (хотя шезлонг был), никто не кидал мячик в баскетбольную корзину (хотя и корзина такая тоже была), не говоря уже о вечеринках, попойках, танцах под музыку.
Зато каждое утро выходила женщина в белоснежном халате, с огромной рыжей шевелюрой, если не до пояса, то уж до лопаток самое маленькое. Она наклонялась, перегибалась через бортик террасы и начинала расчесывать волосы. Однажды я заметил время – она расчесывала их двадцать пять минут.
Когда-то я расчесывал тоненькие рыжие волосы своей сестре Ксюше после мытья головы. Ей было три года, а мне восемнадцать. Мама мыла ей голову и, уж не знаю почему – то ли волосы были слишком тонкие и длинные при этом, то ли мама как-то неправильно голову ей терла, – но потом, сполоснувши, обнаруживала, что там сплошной рыжий колтун. Мы пытались расчесать это щеткой. Сестра орала и плакала. Тогда мы распутывали их вручную. Почему-то я это очень хорошо запомнил. Клетчатый диван. Рядом со мной на махровой простынке сидит трехлетняя девчонка, и я, восемнадцатилетний мужик, ласково и терпеливо распутываю ее тоненькие темно-рыжие волосы.
Сейчас ей почти пятьдесят. Я уже устал этому удивляться. Скорее я удивляюсь, когда встречаю слишком молодого человека. «Тебе еще сорок? – спрашиваю я младшего товарища, с которым последний раз виделся год назад. – Всё еще сорок?» «Да нет, уже сорок один». «Фу, чепуха-то какая. А почему не пятьдесят шесть?» Младший товарищ удивляется. Я удивляюсь тоже, потому что сам я совершенно не заметил, как это вдруг получилось: вот мне тридцать восемь, а потом – хоп! И вдруг пятьдесят шесть. А сейчас уже вовсе шестьдесят четыре.
Женщина в белоснежном халате долго расчесывала свои рыжие волосы, а потом закидывала их за спину, еще раз поправляла щеткой, и уходила в дом. И вся она была очень рыжая, с бледно-веснушчатым лицом и такими же руками, с красными губами и ногтями. А потом выходила другая – брюнетка в цветном халате – и тоже начинала расчесываться. Расчесывалась быстрее – брюнеткины волосы были тоже длинные, до лопаток, но очень гладкие. Издалека видно – скользкие, шелковистые и, наверно, толстые. Поэтому она справлялась минуты за три. А потом из дома появлялись девочки – одна толстенькая, а другая худенькая. Их усаживали на стулья и тоже начинали причесывать. И это казалось первой главой какой-то длинной скучной сказки. Но я не мог оторваться и смотрел, поставив локти на металлическую балконную решетку, отчего на локтях появлялись красные, долго не проходящие вмятины.
Как прекрасно ничего не делать и просто смотреть по сторонам.
В трамвае парень громко орал в мобильник: «Я заплатил за тебя два лата, потом еще два, потом один лат! Сколько можно? Что тебе еще надо?» – и почему-то называл своего собеседника так: «Юра, то есть, извини, Рома». Тогда еще были латы, и один лат стоил пятьдесят пять рублей. То есть всего скандала было на триста рублей примерно. Туго живут ребята.
Когда мы вышли из трамвая на улице Меркеля, увидели: на мостике через парковую протоку стоял парнишка, который играл на аккордеоне. Играл очень плохо и монотонно, хотя довольно громко. Мы подошли ближе. У аккордеона не было нижней части клавиатуры для правой руки. Она была просто выломана. А в ушах у парня был плеер. То есть он слушал какую-то свою музыку и одновременно тарабанил по остаткам клавиш и бездумно раздвигал и сдвигал меха. У его ног стоял раскрытый футляр аккордеона. Смешно, но кто-то ему бросал монетки. А я не стал.
В кафе пришли два итальянца – толстый и тонкий. С чемоданами на колесиках – наверное, после гостиницы, но перед такси в аэропорт. Долго усаживались, потом пересаживались. Очень придирчиво осматривали место, чтоб был и стул удобный, и вид хороший, и от входа далеко. Уселись, потом долго советовались, что заказать. Звонили по мобильнику, бегали в бар этого кафе, снова возвращались. В итоге решили заказать по одному эспрессо. Кричали: «Espresso! Pronto, presto, forte, prego, grazie, una volta!» Им вынесли по крошечной чашечке и воду в стаканах, и они начали наслаждаться – раскаленным кофе, ледяной водой, красивым городом вокруг.
Пошли в парк. Там был мостик с замочками вечной любви, как в Москве на Лужковом мосту. Правда, в Риге тут не железные деревья, как в Москве, а просто пристегивают замки к перилам мостика. Наверно, у меня какой-то по-особому повернутый взор. Поэтому я тут же увидел замочек «Марина и Виктория», а также «София и Сара». Но, слава богу, «Денис и Оля» там тоже были.
Оля сказала: «Писать мемуары – это может оказаться очень важно и полезно и для тебя самого, и для читателей. Но тут есть одно „но“: если тебе уже за пятьдесят, а тем более за шестьдесят, то ты пишешь серьезные мемуары уже вместо чего-то другого».
Впрочем, в этом возрасте ты всё делаешь вместо чего-то другого. Это в двадцать, в тридцать и даже, наверно, в сорок лет (у меня, во всяком случае, в сорок лет точно так и было) думал: всё успею, всё сумею. А сейчас думай – не думай, а всё равно понятно: время твое ограничено.
Но не это самое главное. Важнее другое. Когда пишешь о прошлом, а особенно о детстве, ты оказываешься привязан к детскому опыту. Тебе кажется, что ты от него избавляешься, что ты в процессе писания его переживаешь, а значит, изживаешь. И это, конечно, правильно. Это так и есть… но! Но ты в процессе переживаний и изживаний оказываешься еще сильнее связан со своим прошлым. Получается какая-то совсем уже неразрешимая задача. И мне сейчас показалось, что это касается не только отдельного человека, но, наверное, и народа в целом, и общества. Если мы стараемся забыть свое прошлое, вытеснить его куда-то на дно памяти, на задворки сознания, то это значит – и об этом весь психоанализ – что оно, это твое прошлое, будет всё время тебе мешать, будет всё время на тебя влиять, будет всё время протягивать свои цепкие руки со дна памяти, будет лаять с задворок сознания, как лает привязанная злая собака, которую посадили на цепь на время, пока в доме гости. Вот гости сидят на веранде, а она лает так, что они просто не могут разговаривать. Поэтому забывать и вытеснять не надо. Не надо – в смысле без толку. Себе дороже. Но если вспоминать и обсуждать, обдумывать и пытаться пережить и изжить, то тогда получается, что оно как бы занимает место настоящего.
Получается, что прошлое становится настоящим, единственным настоящим настоящим. А то настоящее, которое происходит здесь и сейчас, неощутимо опускается на дно памяти, привязывается, как злая собака, на задворках сознания, то есть становится прошлым, не успев толком побыть настоящим, не успев почувствоваться, а так, быстро пролетая мимо. А в настоящем тем временем варится прошлое.
Что это значит? Значит ли это, что настоящее должно немного побыть прошлым, отстояться в подвалах памяти, как вино, чтобы потом – может быть, через много лет, а может быть, завтра – чтобы потом стать настоящим? Может быть.
А может быть, это значит совсем другое. Может быть, это значит, что есть на свете счастливые люди, счастливые сердца, которые умеют жить настоящим. Не в каком-нибудь дурном смысле слова, не гедонисты, срывающие цветы удовольствий, а просто люди, живущие здесь и сейчас, погруженные в жизнь, растворяющие ее в себе и преобразующие ее в слова и поступки. Я очень завидую таким людям, если они на самом деле есть. Я очень надеюсь на то, что они все-таки живут на свете. В метро надо будет внимательно вглядеться в людей, которые подымаются по эскалатору навстречу, и попытаться найти тех, которым открыта тайна настоящего.
Но это будет в Москве.
А сейчас надо напоследок зайти на станцию здешней электрички, поглядеть на рельсы и на редких пассажиров.
На скамейке сидела совсем юная женщина, почти девочка. Вернее, уже не молодая. Точнее сказать – пожилая. В общем, как я. Это была Ася Черновицкая.
Я сел рядом.
Она посмотрела на меня.
– Sveiks, – сказал я.
– Sveiks, – ответила она, совсем не удивившись.
– Vai tu mani pazīsti? – спросил я на всякий случай.
– Jā, protams, – кивнула она.
– Es gribētu tev pavaicāt… – я слегка растерялся.
– Jā, lūdzu, es klausos, – она улыбнулась.
– Es gribētu tev pajautāt, – сказал я, – kas tev bija dzīve?
– Manā dzīve nav bijis nekas, – сказала она. – Izņemot dzīvi[1].
Правильно.
У меня тоже.
Примечания
1
– Привет.
– Привет.
– Ты меня узнаешь?
– Да, конечно.
– Я хотел тебя спросить…
– Да, пожалуйста, я слушаю.
– Я хотел тебя спросить – что у тебя было в жизни?
– У меня в жизни не было ничего. Кроме жизни.
(обратно)


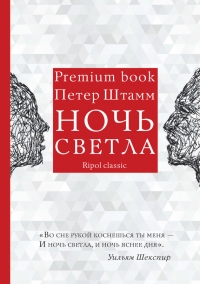
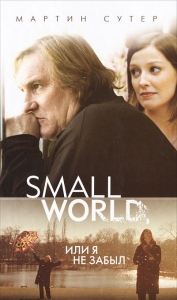

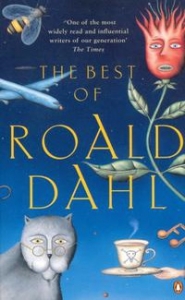



Комментарии к книге «Мальчик, дяденька и я», Денис Викторович Драгунский
Всего 0 комментариев