Мордехай Рихлер Всадник с улицы Сент-Урбан
Флоренс и другим моим редакторам — Бобу Готтлибу и Тони Годвину
Мир беззащитно сжался — вот так ночка, — Отброшен вспять и помрачен рассудком; Трассируют кругом тире и точки, Проблескивая, словно злая шутка В жестокой пикировке Правых Сих С Неправыми. Но я один из них: Живя лишь эросом и прочим прахом, Сумею ли — в отчаянье, без сил, Неверием разбит и болен страхом — Кого-то верой озарить во тьме, И позволительно ли это мне? У.Х. ОденКнига первая
1
Вот интересно, порой пытался представить себе Джейк, как Herr Doktor, в его теперь уже преклонном возрасте почивает: дрыхнет, безвольно раззявив рот, или — что ему, наверное, более свойственно, — даже пребывая в забытьи, всегда держит челюсти крепко сжатыми? Впрочем, не важно. В любом случае придет Всадник и сдернет золотую коронку с треугольного пенька на месте одного из его верхних передних зубов. Щипцами. Нет, плоскогубцами! Ме-е-едленно.
Еще додумывая эту мысль, Джейк осознал, что вдруг проснулся весь в поту.
— Придет, ох, придет! — вырвалось у него вслух.
Лежащая рядом Нэнси пошевелилась.
— Ничего, это я так, — тихо сказал Джейк. — Опять тот сон. Спи, спи.
По слухам, Herr Doktor окружил себя вооруженными телохранителями, их у него на вилле, наверное, даже несколько — может, четверо. Да и сам, скорей всего, держит оружие под рукой. Какой-нибудь армейский револьвер, засунутый под подушку, или автомат, прислоненный к стене в углу комнаты с решетками на окнах, глядящих на еле заметную тропу в джунглях — быть может, от Пуэрто-сан-Винсенте к пограничному форту «Карлос Антонио Лопес» на реке Паране.
Но и это ему не поможет, продолжал фантазировать Джейк. Всадник с улицы Сент-Урбан застигнет его врасплох и шанса улизнуть не даст.
Вновь погрузиться в сон не получалось. Поэтому осторожно, чтобы не разбудить Нэнси, он выскользнул из постели, накинул халат и, втянув живот, протиснулся между кроватью и колыбелькой.
Поднявшись в свое чердачное укрывище, Джейк машинально глянул на стенные часы, показывающие время Парагвая — время Хера Доктора. Ага: стало быть, в Асунсьоне без четверти одиннадцать, поздний вечер.
Еще вчерашнего дня, между прочим.
Джейк отступил и стал обозревать свой стол с царящим на нем кажущимся беспорядком, который, на его взгляд — взгляд истинно посвященного, — представлял собой тщательно выстроенную систему ловушек. К примеру, второй сверху правый ящик, казалось бы оставленный беззаботно открытым, на самом деле выдвинут в точности на дюйм и три четверти. Конверт авиапочты, якобы небрежно брошенный на перекидной календарь, на самом деле положен не абы как, а под углом в тридцать градусов к подставке настольной лампы. Или под шестьдесят градусов? Черт побери, с этими тайными зацепками, столь хитроумно расставленными с вечера для уловления матери, проблема в том, что точные величины углов и размерений наутро не можешь вспомнить, а все записывать — да ну! — лень, конечно. Исследуя положение второго сверху правого ящика, Джейк вдруг усомнился, он ли оставил его вчера выдвинутым на два и три четверти дюйма. Или так он оставлял его позавчера?
Четыре утра. Туда-сюда послонявшись, Джейк сошел вниз, в кухню, где смешал себе джин-тоник, взял сигару — «Ромео и Джульетту», как всегда, — и прикурил. Попался в настенное зеркало… Покрепче натянул воображаемую бейсболку. В ответ на условный знак кетчера отрицательно мотнул головой, весь собрался, дернул вверх левой ногой, толкнулся и метнул. Н-нате вам! — абсолютный ноу-хиттер в стиле Герша Лайонса, мяч типа оторви да выбрось! Неподражаемый, неотбиваемый. Великий Уилли Мэйс битой все же взмахивает, но мажет, и судья-ампайр возглашает: «Страйк третий!» Гут гезукт[1], — хмыкает Джейк. Вот тебе, Ред Смит[2], знай наших. Смотри не пожалей, что не включил меня в команду!
До того как принесут утреннюю почту, еще часа три, соображал Джейк. Можно, конечно, сесть за руль, смотаться на Флит-стрит… Да ну, к черту.
Со вчерашней «Ивнинг стэндард» в руках Джейк угнездился в отделанной дубовыми панелями гостиной и, притворившись, будто понятия не имеет, чем чревата ее последняя страница, стал подбираться к ней исподволь, методично перемалывая и «Дневник лондонца», и… так, что там у нас дальше? «Человеческое измерение»? Ну-ка, ну-ка…
Выше голову! Девушка, разбитая полиомиелитом, сама готовит
В течение пятнадцати лет Бетти Уорд лелеяла надежду сама приготовить еду. Лежа в барокамере, читала поваренные книги в надежде, что когда-нибудь ее мечта осуществится.
Теперь при помощи новейшей техники, специально для таких больных разработанной и установленной у нее дома в Эшере (графство Суррей), она может готовить! В ее барокамеру встроен пульт управления плитой и электрочайником. Она отдает распоряжения матери, что и в каких пропорциях смешивать, а потом управляет процессом термообработки, подбородком нажимая на кнопку пульта.
— Лучше всего, — говорит Бетти, — у меня получаются блинчики и отбивные.
Ту статью с его фотографией, что была на последней странице, Нэнси, оказывается, выдрала. Чтобы не попалась на глаза детям. Так… «Капитал Юнитс» снизились еще на пенни. «Эм энд Джи» тоже. Красотка Модести Блейз[3] опять попала в переделку, но голых сисек что-то не видать. С такими еще сосочками, выписанными тушью. Помимо воли Джейк ощутил шевеление в чреслах. Разбудить, что ли, Нэнси? Нет, ребенок и так лишает ее всякой возможности выспаться. Джейк начал было озирать полки в поисках чего-нибудь эрогенного — какой-нибудь книжонки, походя купленной в аэропорту или на вокзале, — но тотчас вспомнил: все, что не успел стащить Гарри, выставлено теперь на всеобщее обозрение в судебном зале № 1. Например, его посиневшие плавки с ширинкой.
В кармане халата Джейк нашел монетку, подбросил, легла орлом. Два раза из трех. Потом три из пяти. Вернулся на кухню, налил себе еще выпить. Пятнадцать минут пятого. В Торонто четверть двенадцатого. Будь он сейчас там, играл бы в кругу закадычных друзей на бильярде или пил в баре на крыше отеля «Парк Плаза», к тому же был бы при этом дома, что и само ведь по себе не лишено приятности. Как в Канаде уютно! Все-таки родина, пусть он и отряс со своих ног ее прах с решительностью неимоверной. Двенадцать лет назад! Тогда она ему представлялась в виде раскинувшейся на тысячи миль хлебной нивы — дыра дырой, деревня, жалкое захолустье и ничего больше.
Джейк вспомнил, как они с Люком стояли на палубе судна у релинга, в голове шумело шампанское, распирала радость, в дымке таял Квебек-Сити, а они уплывали все дальше по реке Святого Лаврентия в океан.
— Нет, ты меня, меня послушай! — захлебывался смехом Джейк. — Вот ты скажи, что сейчас происходит в Торонто?
— В Торонто? О, ну как же! Город с каждым днем становится все краше.
— А в Монреале?
— Ну, и Монреаль тоже — он неустанно движется вперед!
Как была страна с большим будущим, так с большим будущим и остается. И все же… все же, как его туда тянет! Причем все сильней и сильней, особенно в начале осени, когда в Лаврентийских горах бархатный сезон. В последний раз, когда он плыл по гладким водам реки Святого Лаврентия навстречу океанской зыби, им, по правде говоря, владело чувство потери, можно даже сказать утраты, и он с грустью наблюдал, как за корму уходят поселки, притулившиеся к береговым скалам. Ни в одном из которых он не бывал никогда.
Всё на круги своя, подумал он. Все по кругу.
Когда жили на Сент-Урбан, он, уличный мальчишка, — хотоси![4] — стыдился еврейского акцента родителей. Теперь, в добропорядочном лондонском Хэмпстеде, его сын Сэмми — а скоро к нему присоединятся и Молли с Беном — вовсю хихикает над папиной иммигрантской гнусавостью. За что боролся, на то и напоролся, подумал Джейк, добавил к неоконченной Сэмми настольной головоломке пару затейливо извилистых по краям кусочков, отыскал карты и принялся раскладывать пасьянс. Если сойдется, решил он, оправдают. Если нет — черт, ведь посадят же!
Дрожа от страха (вот, КРУПНЫЙ ПЛАН: трясущиеся руки — действительно трясущиеся, буквально, а не так, как иногда может потребовать режиссер; теперь он даже слова такого не потерпит ни в одном сценарии!), Джейк вспоминал, как вчера в зале номер один Олд-Бейли[5] начал свою речь осанистый, с повадкой снисходительного папаши мистер Паунд, представляющий сторону обвинения.
НАЕЗД: зал № 1, на СРЕДНЕМ ПЛАНЕ мистер Паунд.
— Милорд, вот тут письмо и несколько страниц киносценария, на которые я вынужден буду сослаться во вступлении к своей речи. Если позволите, я вам их сразу передам, чтобы в нужный момент не терять времени на их освидетельствование, хорошо?
— Да, мистер Паунд.
— С разрешения вашей милости и уважаемых присяжных, — начал он и, поглядывая поверх бифокальных «франклиновских» очков, принялся невозмутимо излагать версию государственного обвинения, согласно которой выходило, что… вышеупомянутый мистер Херш, человек, как вы можете убедиться, по любым меркам обеспеченный и искушенный вплоть до развратности (в его богатой библиотеке есть даже маркиз де Сад), это настоящий «свингер», как такие адепты промискуитета нынче называются, причем его разностороннюю натуру, ко всему прочему, характеризует еще и нездоровая тяга к оружию. Успешный кинорежиссер, он свой в мире гламура, премьер и пышных презентаций, где ресторанные столы то и дело сменяются игровыми. При этом стены его чердачного кабинета увешаны фотографиями нацистских вождей времен войны — преимущественно тех из них, кто выжил. Имеется там и нарочито издевательский портрет фельдмаршала Монтгомери[6]. Сам верховой ездой не занимаясь, господин Херш хранит в шкафу седло и хлыст. Но это я забегаю вперед. Об этих его вещицах мы поговорим чуть позже. В данный момент я предложил бы обратить внимание на письмо и страницы сценария, копии которых секретарь суда всем раздал. Вот текст письма:
Мой дорогой штурмбанфюрер!
Я высоко ценю, как ценит и доктор Геббельс, Вашу писательскую честность, поскольку и сам не хочу, чтобы наше славное прошлое представало в искаженном виде. Хотя победители обязаны проявлять великодушие, мы в министерстве все согласны в том, что вероломный Альбион все же не следует слишком обелять. С другой стороны, как Вы прекрасно знаете, мы никогда не были врагами британского народа, но только лишь его преступного правительства. С Вашей стороны чрезвычайно несправедливо полагать, будто мы желали бы смягчить картину прошлого в связи с озабоченностью объемами продажи билетов на освобожденных территориях. Поэтому я прошу Вас, еще раз хорошенько подумав, все же включить в сценарий, над которым Вы работаете, нижеследующие сцены и эпизоды.
Хайль Гитлер!
Джейкоб фон Херш— В сценах, наметки которых я вам сейчас прочитаю, принимается как данность, что наши острова, приютившие на своих берегах в том числе и господина Херша, в ходе Второй мировой войны оказались завоеваны Германией, то есть нацистами, которые в итоге победили. Всё это сцены из фильма под названием «Храбрые бритты», который в настоящий момент у него в работе. Читаю:
КРУПН. ПЛАНОМ: ГЕНЕРАЛ РОММЕЛЬ подносит к глазам бинокль.
С ТЧК. ЗРЕН. РОММЕЛЯ (через бинокль): Песок, камни, беспорядочно отступающая Восьмая британская армия тянется по барханам.
РОММЕЛЬ, ВНЕШН. РАКУРС: Бедные балбесы! Они сражаются как львы — правда, ведомые ослами.
ПАНОРАМА: Вечереет. Пушечный выстрел; дальний перелет.
Пустыня. Колонна отступающих «храбрых бриттов», извиваясь, тянется до самого горизонта.
ТАМ ЖЕ. ПУСТЫНЯ. ВНЕШНИЙ РАКУРС. ПОЛЕВАЯ ПОЗИЦИЯ БРИТАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ.
Британские и американские кино- и фоторепортеры толпятся и, отталкивая друг друга, снимают ГЕНЕРАЛА МОНТГОМЕРИ; гримеры мажут его щеки сажей, в то время как другие позади него с размаху поддают песок сапогами, имитируя взрывы.
ПРОТИВОПОЛОЖИ. РАКУРС: Горькие усмешки измотанных боями храбрых бриттов.
ПАВИЛЬОН: ШТАБ МОНТГОМЕРИ. Камера любуется красивой женщиной. Она ослепительна, хотя и явная садистка. Это МАЙОР МЕРИ ПОППИНС, якобы из женской вспомогательной службы ВМФ.
С ТЧК. ЗРЕН. МАЙОРА ПОППИНС: МОНТИ, с плюшевым мишкой в объятиях, качается в кресле, сосет большой палец.
МАЙОР ПОППИНС: Ты должен остановить их здесь, Монти!
Они не пройдут! Их нельзя пускать дальше!
На что МОНТИ, совершенно сломленный, пожимает плечами.
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, ВЗГЛЯДУ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВОЕ ГРОМИЛ ИЗ МИ-5. Вытягиваются по стойке «смирно». Оба бородатые и в ермолках.
МАЙОР ПОППИНС: Жду в «детской» в 14–00.
НАПЛЫВ.
ПАВИЛЬОН: БЛИНДАЖ, В КОТОРОМ ВОССОЗДАНА ОБСТАНОВКА ДЕТСКОЙ. МОНТИ на коленях, по пояс голый. Сжимается от страха и вожделения при виде МАЙОРА ПОППИНС, которая входит, одетая в шапочку медсестры, бюстгальтер и пояс с чулками; на ногах высокие ботинки на пуговках.
МОНТИ (подлизываясь): Берни был фу какой — плохой, плохой мальчик!
МАЙОР ПОППИНС с ходу принимается стегать его. Хрясь!
МОНТИ: Да! Да! Я заслужил это, тетенька… Аа-аяй!.. Хватит! Пожалуйста, тетенька… Ууууюй!.. Я буду хорошим… Скомандую солдатам окопаться. Ну тетенька, ну пожалуйста!
Но та уже вошла в сексуальный раж, ей не остановиться.
ПАВИЛЬОН: СПАЛЬНЯ.
МАЙОР ПОППИНС, все еще в сексуально-палаческой униформе, снимает трубку телефона.
МАЙОР ПОППИНС (в трубку): Соедините меня с Москвой, дайте штаб КГБ[7]. Товарища Берию, пожалуйста. (Пауза.) Шалом, Лейбуш! Это Малка на проводе. Скажи своему Жук-Тараканычу, пусть уже мне тут кипятком не сурляет! Роммеля здесь еще подержат.
(Повесив трубку, эротично облизывает мокрые еврейские губы…)
ОТЪЕЗД КАМЕРЫ ОБНАРУЖИВАЕТ… шеренгу измотанных боями МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ (которые при этом все как один выпускники Кембриджа), выстроенных вдоль стены. Стоят в распахнутых гимнастерках под охраной тех же двух громил из МИ-5.
МАЙОР ПОППИНС (ее грудь вздымается): Мммммм…
КАМЕРА ПАНОРАМИРУЕТ, перебирая ОФИЦЕРОВ одного за другим, и наконец останавливается на воине с самой арийской внешностью.
МАЙОР ПОППИНС: Вот этого мне хорошенько вымойте, да не забудьте натереть куриным жиром.
Мужественный боец возмущен, хочет протестовать, но к нему подходит один из громил с автоматом.
ГРОМИЛА ИЗ МИ-5: Ой, таки я вас узнал, лорд Тоттенхэм! Ваша жена такая цыпа! Я вас с ней много раз встречал в Белгрейвии, у Вестминстера. Или она там поблизости с дэточкой так и живет?
КРУПЫ. ПЛАН, ЛОРД ТОТТЕНХЭМ: Ну, б-бл-л!.. Кругом обложили!
2
Школьный портфельчик Сэмми висел на ручке двери. В нем Джейк нашел дневник, сморщенное яблоко, два пенни, значок клуба детской книги «Буревестник» и шпионское фоторужье агента «Объединенного Подпольного Штаба Службы Насаждения Законности» (влияние соответствующего телесериала). Смотри у меня! — подумал Джейк. До бар-мицвы[8] чтоб никаких авторучек! А уж на бар-мицву я не то что авторучку — я тебе коробочек ганджубаса подарю. «С сегодняшнего дня ты мужчина, бубеле![9] Балдей на славу». Или, может, тогда уже сразу шприц?
Джейк положил на стол чистый лист бумаги, стал писать.
АГЕНТУ S (он же Сэмми) СРОЧНЫЙ ПРИКАЗ! НЕМЕДЛЕННО, НЕ ВЫПОЛНЯЯ ПРОШЛОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПРИСТУПИТЬ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ИКС-ЭЙЧ-5!
КОМАНДУЮЩИЙ
P.S. Агенты Штаба любят своих пап и слушаются их.
Вложил листок в дневник Сэмми и, вдруг на себя разозлившись, вновь резко выдернул. Оставь парня в покое, придурок, не лезь к нему. Смял листок в плотный мячик, ловким финтом обвел Уилта Чамберлейна[10] и, прорвавшись к кольцу, броском из-за спины послал в мусорное ведро.
Вроде как бы в корзину. Опять уселся в гостиной, но вид книжных полок наводил тоску. Вот книжки, купленные в Монреале. А эти из Торонто. Вот лондонские. Дорогущие альбомы по искусству, которые он дарил Нэнси, когда за ней ухаживал; никто их так с тех пор ни разу и не открыл.
«Семья это гнилой буржуазный пережиток. От него смердит. Я современный человек, ты ж понимаешь! Но у нас с тобой, Нэнси, все по-другому. Не брак будет — скала!»
Книги переезжали из страны в страну, из квартиры в квартиру, пересекали океан, упаковывались в коробки, опять распаковывались, вот только читать их по большей части не успевали. У Нэнси на столе письмо из Милл-Хилла, школы, где учится Сэмми. В следующем полугодии ему потребуется форма для занятий крикетом. Всего три поколения, и ты уже не пархатый, а так и порхающий по всяческим крикетам и охотам на лис. Что дальше-то? Лорд Херш, граф Сент-Урбан.
Вновь повернувшись к полкам, Джейк взял самоучитель испанского, затрепанную и замызганную книжицу, и сразу вспомнил виллу на Ибице. А вспомнив, аж похолодел: ведь десять лет прошло, кошмар! То было десять лет назад, когда время не текло сквозь пальцы, все достижения были еще в проекте, и как-то раз, уже заполночь, Гильермо вытащил его из бара «Бристоль». «Vamonos»[11], — скомандовал он.
Девиц высвистали из борделя Роситы, зазвали еще каких-то то ли рыбаков, то ли водолазов и засели в квартире Гильермо, на верхнем этаже самого высокого здания на всей набережной. Пока остальные их там ждали, Гильермо на машине смотался с Джейком в свою клинику, где они, на цыпочках прокравшись мимо спящих пациентов, вскрыли ящик шампанского и, нагруженные бутылками, возвратились в квартиру. Народ к тому времени в большинстве своем уже подразделся. На столе выплясывал голый гитарист в надетом на голову как чепчик заношенном розовом лифчике. На полу совокуплялась парочка. Джейк опасливо посмотрел на Гильермо, но того это нимало не смутило, он тут же принялся срывать с себя рубаху, да так, что только пуговицы по сторонам брызнули.
Потом все как-то сразу оказались на полу. Заползали друг по другу, задергались. Сплошное извивающееся пахучее и влажное мельтешение ног, рук, грудей и языков. Девицы стонут, вскрикивают — ай, яй, я-яй, — поминают мамочку; мужики гогочут, звонко шлепают ладонями по попам и выкрикивают скабрезности. Джейка от выпитого подташнивало, в башке были гул и пустота. Обуяло какое-то стыдное упоение. Вдруг он осознал, что как раз это и называется оргией, он в ней участвует — о! — и его дух воспарил. Чтоб нам так жить, Янкель! Свобода, непокорство и мятеж, пусть непонятно, против чего — вот настоящая жизнь! Он разделся и только это попытался (не слишком решительно — так, на пробу) облапить оказавшееся рядом туловище, как вдруг в щеку ткнулась чья-то мокрая вонючая нога. Сперва одна, потом другая, обхватили шею. Тут подоспели руки — тянут его за голову к хлюпающей вагине, мохнатой и мокро поблескивающей. Подавляя тошноту, Джейк высвободился, натянул штаны и взгромоздился на табурет у бара. Сидел и помаленьку пил, чувствуя, как на виске бьется пульс, тогда как внизу по всему полу продолжалось ползанье, какие-то удары, корчи. Целуются, хлюпают, чавкают, чуть не кулдыкают по-индюшачьи.
Мне-то это зачем, думал Джейк. Что я тут забыл? Если бы увидел это в фильме про то, как пуста жизнь богачей, или, допустим, вычитал в книжке, где раскрывается подноготная элитного поселка, я бы сгорал от зависти, а сейчас, когда это происходит со мной… Джейк сгреб за горлышко бутылку шампанского и вышел на балкон полюбоваться восходом солнца. Солнца Средиземноморья. Солнца Испании. Пыхтя, втягиваются в гавань грязные рыболовецкие суденышки. Над ними алчно носятся чайки или поплавками скачут вверх-вниз на отблескивающих зеленью мелких волнах поодаль. Запомни это, велел себе Джейк, храни и радуйся; при этом чувство было такое, будто он только что вырвался из гетто и вместе с тем он этакий Хемингуэй: тот, поди, так же поднимал к губам бутылку, пил до дна и вышвыривал в море. Еще через секунду его стошнило.
Послушайте, судья, — черт! — ваша милость! Все то, что говорится в этом зале, — это же шиворот-навыворот! Джейкоб Херш не сексуальный маньяк! Я уважаю общественные институты. Да и вообще я со всех сторон приличный парень. Конечно, на словах много чего могу себе позволить, но рисковать… Даже в Париже я оставался канадцем. Гашиш? — ну да, курил. Но ведь не в затяжку же! Не в затяжку!
Ага, дождешься, послушает. Судья Бийл — типичный старый мудак. Скажет, да, мистер Херш. Конечно. Понимаю.
Полшестого. Джейк развалился в кресле, зарывшись в кипу журналов. Вот старый номер журнала «Тайм».
Медицина
Как не умереть от рака
С тех пор как Уильям Пауэлл[12] создавал экранные образы, благодаря обаянию которых публика буквально носила его на руках, сменилось не одно поколение. Так что сегодняшние кинозрители его вряд ли помнят. Но куда удивительнее угасания его славы реальная история спасения известного актера. На прошлой неделе Пауэлл справил в городке Палм-Спрингс (Калифорния) двадцатипятилетие операции по удалению рака прямой кишки. И с той же изысканной непосредственностью, которая когда-то сделала его звездой экрана, Пауэлл прямо и честно рассказывал про свою болезнь и лечение, которое многим пациентам и их родственникам обсуждать было бы неловко.
— Кровотечения из заднего прохода у меня начались в марте 1938 года, — рассказывает он. — Врачи обнаружили рачок — небольшой, размером меньше коготка, на углублении что-нибудь трех-четырех дюймов от ануса. Мне порекомендовали удаление сфинктера. Затем пришлось бы пойти на колостомию, то есть проделать в животе отверстие и всю жизнь потом извергать каловые массы через него в мешочек. К такому я не чувствовал в себе готовности. Но доктор сказал, что в моем конкретном случае возможна альтернатива — временная колостомия и лечение радиацией. Это мне подошло.
Хирурги сделали в животе Пауэлла разрез, вывели через него часть толстой кишки наружу и рассекли ее вдоль. «Некоторое время после этого, — говорит Пауэлл, — фекалии выводились в особый карман пониже пояса».
Не дыша, Джейк перескочил глазами в конец страницы.
Лишь в немногих случаях рак прямой кишки удается диагностировать достаточно рано, чтобы лечить его методом, примененным к Пауэллу. Пауэлл резюмирует просто: «Оказалось, что я счастливчик».
Сук-кин сын! Когда Джейк посетил доктора О’Брайена по поводу собственных ректальных кровотечений, тот сказал: не волнуйся, мол, старина, это всего лишь геморрой. Ну, «старина» — это еще бог с ним, ладно, но, пока Джейк в промозглой процедурной палате застегивал штаны, доктор О’Брайен небось уже вовсю делился впечатлениями с медсестрой: «Как вам наш милый мистер Херш?»
«Это кто? Тот парень с одним недоопустившимся куда надо яичком?»
«Ну да, ну да, он самый. Имею основания надеяться, что застрахован он по полной программе. Поэтому вскрывать его смысла нет. Пусть поживет еще».
И вот Джейк стоит теперь голый, повернувшись к зеркалу задом, широко расставив ноги и согнувшись так, что голова болтается между колен, щупает дырку ануса в поисках рачьего когтя. Нет, все вроде ничего — никаких таких первых признаков; во всяком случае, глазом не видно. И тотчас вспомнил, как Гас Бергер (земля ему пухом) однажды утром поднял руку побриться, а чуть выше локтя оказалась маленькая лишняя шишечка. И — с приветом! Джейк осмотрел все укромные местечки тела, все прощупал, прощипал, прошлепал, проверяя, нет ли каких бугорочков, шишечек или утолщений, но нигде ничего не нашел. Ну, на первый взгляд вроде нормально. Не чувствуя, однако, облегчения, скорее обеспокоенный еще больше, он вышел в кухню выпить снова, однако решил воздержаться, навыжимал себе апельсинового сока и трижды вприпрыжку обежал вокруг стола.
Вновь настенное зеркало уловило Джейка, но на сей раз он ворвался в гостиную якобы с клюшкой, изобразил, будто отводит шайбу, готовясь к плоскому броску, чем выманил Джонни Бауэра[13] из ворот, и вдруг тихонько передвинул шайбу, поставив ее вновь напротив сетки, чтобы парень бросился на нее. Тот бросился; естественно, промазал; Джейк вышел на прорыв с обходом и на отскоке щелкнул гол. Тут можно на скамейку не смотреть, и так понятно: Той[14] улыбается — о нет, не напоказ, отнюдь: он улыбается внутренне, всем своим видом как бы говоря: «Вот сукин сын! Вы говорите „старый“, а ведь может! может!»
А не рак легких, так самолет грохнется…
НАПЛЫВ.
КРУПН. ПЛАН: ОТОРВАННАЯ ГОЛОВА КУКЛЫ, ЛЕЖАЩАЯ СРЕДИ ИСКОРЕЖЕННОГО МЕТАЛЛА И ВСЕ ЕЩЕ ДЫМЯЩИХСЯ КАМНЕЙ.
ОТЪЕЗД КАМЕРЫ.
НАТУРА. ДЕНЬ. ГОРА. ЛАБРАДОР.
Солнце, небо, облака. Горные вершины… Птички поют…
ПАНОРАМОЙ: Изломанные крылья. В стороне разбитый двигатель и хвостовой стабилизатор. Тела под брезентами. Там и сям вдруг вырывающееся пламя, его тушат. ПОЛИЦЕЙСКИЕ роются в обломках.
КРУПН. ПЛАН: Глаза ДЖЕЙКА.
ЕЩЕ БЛИЖЕ.
Как много они повидали. И вот теперь они невидящие, мертвые.
ВО ВЕСЬ КАДР ОДИН ГЛАЗ.
МУЗЫКА: ТЕМА ОРГИИ.
КРУПН. ПЛАН: НЭНСИ трудится, стягивает нижнюю юбку с видом нетерпеливого предвкушения.
ОТЪЕЗД КАМЕРЫ.
ПАВИЛЬОН. ДЕНЬ. СУПРУЖЕСКАЯ СПАЛЬНЯ ХЕРШЕЙ.
НЭНСИ кувыркается в кровати с лучшим другом ДЖЕЙКА. Оба голые.
ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЖЕЙКА (ЛЮК, подымая бокал с шампанским): Что ж, выпьем за него. Чтобы этот чмошник не заскучал в Канаде.
ВО ВЕСЬ КАДР ТЕЛЕФОН. Звонит угрожающе.
МУЗЫКА: Тема ДЖЕЙКА. Чистая, возвышенная мелодия.
НЭНСИ высвобождает груди из рук ЛУЧШЕГО ДРУГА ДЖЕЙКА.
ТРАНСФОКАТОР: Жадные, цепкие пальцы. С грязными антисемитскими ногтями.
КРУПН. ПЛАН: НЭНСИ. Снимает трубку. Горе. Невыразимое страдание. Она понимает — слишком поздно, — что никогда с ней рядом не будет такого, как он (то есть ДЖЕЙК).
Или откажет моя сморщенная печенка. Или ограбят и убьют. А еще бывает отравление ДДТ, может, уже и есть. Или остеохондроз — потому что и так уже поясница иногда побаливает. Или сердце. Схватив себя за запястье, обнаружил, что пульс учащенный, так и молотит, тахикардия или — упаси меня Господи — «солдатское сердце»: перебои в сердечной деятельности, эктопическая гиперестезия (возникает под воздействием стресса и ощущается как трепет в груди, нехватка воздуха, быстрая утомляемость, подавленность и раздражительность). Черт бы побрал! Ведь так естественно, когда это с другими — жаль, но бывает, все люди смертны, — но когда с тобой… Нет, я все-таки не понимаю, возмутился Джейк, я-то им зачем там понадобился!
Десять минут седьмого. Пройдясь по гостиной, Джейк отворил остекленную дверь, вышел на террасу и с нее в сад. Сквозь проволочную изгородь с южной стороны сада виднелась новая грядка рододендронов соседки, которую Джейк про себя именовал Старуха Сохлая Пиздень. Занавески в спальне соседки задернуты. Прекрасно, чудненько. Джейк набрал ведро воды, отнес его к теплице, намешал туда извести и вылил раствор в емкость со шлангом и пульверизатором. Затем, делая вид, будто поливает георгины на своей стороне загородки, направил струю убийственной известковой суспензии сквозь сетку на рододендроны врагини. Надеясь, что, даже если она подсматривает из-за портьеры, с ее точки зрения, его манипуляции должны выглядеть так, будто он обрабатывает жидким удобрением свою собственную грядку. Британская сука. Я покажу тебе, как подсовывать снобистские записочки с жалобами на то, что мои нахальные американские дети будто бы шумно ведут себя в саду.
Вновь оказавшись в доме, Джейк намешал себе чашку растворимого кофе. Полседьмого. Время подводить итоги.
А ведь как хорошо все начиналось! Почти что, можно сказать, кошерно! Нашел тут себе замечательную жену. Завел троих деток. Купаешься теперь в любви и счастье. Вместе с тем сохраняешь вид этакой особой еврейской отчужденной независимости. На рожу неказист, но это нынче в моде. Однако к тридцати семи начал в себе разочаровываться, ощущать некий изъян, что-то такое… такое… Но все пытаешься избежать непоправимого поворота, вцепляешься в руль… Нет, поздно. Хотя, если смотреть на вещи объективно, следует признать, что есть на свете мужчины и более талантливые… ну, то есть те, о которых говорят, что они более талантливы, выше ростом или лучше него в постели, — но это, конечно, надо быть полным придурком, чтобы впустить такого в свою жизнь. Только ведь шоры на жену не наденешь. Куда деваться, например, от ее любимых очерков в «Обзервере», где что ни день, то очередной золотой мальчик, а она читает с интересом, сидит такая — нога на ногу, юбка выше колен… А еще есть прирожденные лидеры, вроде Люка, который, куда ни сунься, везде свой и вечно в центре внимания. И вот она уже, как зачарованная, — вся удивление, вся восторг, в одном из этих ее любимых обнажающих груди по самое некуда творений Мери Квант[15], — окутавшись облаком благоухания, замирает перед телеящиком. Но когда на нее прямо оттуда, с той стороны экрана начинает откровенно пялиться «Глазастик»[16], Джейк принимается шипеть, причем довольно злобно: «Что ты ведешься, он же голубой! У меня на них глаз наметан». Или взять пресловутое открытие последнего телесезона. Уж как он там всех лажает! — всех этих звезд, самоуверенно восседающих на всевозможных телеговорильнях…А еще есть люди, которые могут эссе, например, как блины печь, могут даже постоянную юморную колонку раз в неделю вести! Или, с ходу лихо формулируя, высказывать свои, пусть спорные, но оригинальные суждения обо всем на свете. А она в шикарном пеньюаре сидит перед ящиком, с экрана которого ослепительный этот победитель строит глазки всему миру и лично ей, то есть жене Джейка Херша, но тут Джейк не выдерживает и начинает прыгать перед телевизором в кресле вверх-вниз: «Ну он же явную несет херню!»
Есть, впрочем, новость и похуже (куда ж тут денешься). Люк нынче стал какой-то прямо завсегдатай на шоу Фроста[17].
Это надо же, Толстый Котяра и кролик Багз Банни нашли друг друга!
— Скучна ли жизнь в Канаде? Дай-ка по-иному скажу. Кто-то — да, находит Канаду скучной. Мой приятель, например, Джейкоб Херш. Не знаете такого?.. — и разъясняет в скобках: есть-де такой теле- и кинорежиссер, так вот он…
Фрост, которому имя «Херш» явно ничего не говорит, кивает в предвкушении.
— …любит рассказывать историю о том, как один нью-йоркский критик от души позабавился, составив список книг для некоего нового издательства, которое хотел обанкротить. Первым номером в этот список он забил книжку под названием «Наш добрый северный сосед Канада».
После чего Люк вызовет у аудитории очередной приступ хохота, зачитав им сцену из «Храбрых бриттов».
Да пошел ты! Старый друг, называется. Под воспоминания Джейк смешал себе еще джина с тоником. Как все сложно, да и вообще жизнь не балует, думал он. Предают прямо все кому не лень.
Оказавшись снова в кабинете, Джейк осторожно лег спиной на пол — вот: опять поясница! Вы бы лучше меня послушали, ваша милость! Давайте выставим из зала всех этих дорогостоящих законников — и обвинителей, и защитников. И присяжных домой отпустим. Мы живенько все это дело разберем, обсудим как мужчина с мужчиной.
Я понимаю вас, мистер Херш. Я очень хорошо вас понимаю.
Да ни черта ты не понимаешь! Никто не понимает. Даже Нэнси. Конечно, Джейка все это измучило: сознание вины, наплывы страха. Но временами все отступало, и он чувствовал какое-то воодушевление, даже восторг, и пугали его уже не два… — ну, все-таки не два ведь, скорей уж год тюрьмы, — а то, что его могут опозорить и отпустить. А посадят — что ж… Семью в его отсутствие поддержат друзья — уж это они будут только рады! Постепенно, мало-помалу, фонды, в которых он участвует, будут накапливать гонорары и проценты в соответствии с собственными дразнящими рекламными посулами. А когда он наконец выйдет на волю, честные люди будут ему сочувствовать, а он опять такой стройный, с висками, тронутыми сединой, — потому что пострадал от несправедливости! Этакий Сакко[18] сексуальной революции. Соблазнительные девицы на вечеринках будут падать к его ногам штабелями. Но он останется недосягаем.
— Нет, милая. Не в этом дело. Ты действительно очень красивая. Молодая. Упругая. Можно сказать, просто цимес. Но я не из тех, кто готов рисковать с таким трудом завоеванным счастьем, ставить под удар жену, детей, дом ради минутного удовольствия. Лучше отойду вот… да спущу по-тихому где-нибудь в уголочке.
Кроме того, вполне можно рассчитывать, что его дневником тюремной жизни кто-нибудь да заинтересуется. Съемка с руки, прыгающий монтаж. Старые каторжники, предусмотрительно скрывая лица в тени, говорят откровенно, называя вещи своими именами. «При чем тут непристойность? Без непристойности можно только марки собирать. Вот лично я люблю ширинки щупать. И пробовать на язык, что там внутри. Такая уж во мне бродит любовь, из-за которой я гнию тут в камере двадцать лет уже. Знаете, что непристойно? Генерал Уэстморленд![19] ЦРУ! Птицефабрики! Мясокомбинаты!» Получится глубоко, вдумчиво, интеллектуально. Trus напористо, очень cinéma vérité[20].
Фильм назову «Взгляд изнутри».
НАПЛЫВ.
СЛОВА «ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» накладываются на кадр, где грязная вода льется в тюремную канализацию.
И СРАЗУ СЛЕДОМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕШЕТКИ СТОКА.
ХЕРШ (голос, наложение): Я сам писал сценарий, сам продюсировал, режиссировал и монтировал этот фильм. Для этого фильма я написал и исполнил баллады протеста и читал текст за кадром. Меня зовут… (пауза; затем этак скромненько)… Джейкоб Херш.
Может быть, те, кто сейчас сбросил его со счетов, тогда опять начнут как ни в чем не бывало приглашать в гости. «Ах, знали бы вы, каков наш Херш был раньше! Болтал без умолку, весельчак, удалец, а теперь… Но уж откроет рот, так жди афоризма».
Зато, если его оправдают, те же люди будут говорить: «Ну кто бы сомневался, что этот пройдоха вывернется! Конечно, кого сделать козлом отпущения, как не Гарри Штейна!»
Нет уж.
3
Двенадцать лет назад приехав в Лондон, Джейк к жителям этой страны относился с колониальным преклонением, да и вроде как вину за собой чувствовал: они-то ведь пострадали — война, бомбежки, — и всех, бывало, спрашивал о временах блица[21].
«Сколько вам, наверное, пришлось пережить!..» Но годы войны все вспоминали ностальгически: «Как тепло тогда все друг к другу относились!»
Один только его подельник Гарри о времени Битвы за Англию отзывался злобно.
При слове «эвакуация» в канадской голове Джейка сразу рисовался образ беззащитной Маргарет О’Брайен[22], с замызганной, драной куклой в объятиях, сжавшейся в комочек в углу незнакомой железнодорожной платформы, насквозь английской; бедную девочку спасают Роберт Янг с Дороти Макгуайр[23] — вот ведь, бывают же у людей родители! Не то что у Джейка: такой отец небось за столом не рыгает, а его жена не изводит детей бесконечными придирками.
Эх, был бы я там с ними под бомбежками! — мечтал в те годы Джейк. Стал бы сиротой, и меня взяли бы на воспитание в «Метро-Голдвин-Майер». Впрочем, ершистому Гарри Штейну все это виделось иначе. Еще до того как начались налеты Люфтваффе, десятилетнего Гарри, встрепанного и с ячменем на глазу, выдернули из муниципальной школы, затерянной в рабочих кварталах Степни, снабдили биркой с именем, выдали противогаз и запихнули в поезд, битком набитый орущими младенцами и их рыдающими мамашами, такими же, как он, мальчишками и девчонками из трущоб (кое-кто в гноящихся язвах, еще больше завшивленных) и их обезумевшими учителями. Еды в поезде не было, туалетов на всех не хватало, в каждом на полу лужа по щиколотку, скользотень; в конце концов, всех высадили в отдаленных сельских дебрях Букингемшира, где злобные местные земледельцы, придя в ужас от появления в их краях такой городской заразы, тем не менее объединились и организовали отбор.
— Из перрона сделали какой-то жуткий сортировочный помост, как в лагере, — любил рассказывать Гарри, — только заместо поганца Эйхмана нас отбирали владельцы ферм и магазинов — тыкали пальцами, щупали, выбирая поздоровей, на кого побольше работы взвалить получится. Какие-то кошмарные бабки набежали — выхватывать девчонок, чтоб сделать из них бесплатных горничных.
Злой и обдрипанный Гарри, естественно, оказался среди пацанов, которых отвергли; и со второй попытки тоже — стоял, дрожа от холода, пока раздосадованный квартирмейстер не всучил его насильно какой-то опоздавшей семье.
— Они так на меня смотрели, будто я приехал специально, чтобы украсть их столовое серебро и обосрать ковры.
Первым делом Гарри окунули в ванну, после чего водворили в неотапливаемую чердачную клетушку, хотя в доме пустовали помещения, где условия были куда более приемлемы. Но он им отомстил: прокрался в библиотеку и выдрал множество страниц из редких книг: старый реакционер и мерзавец собирал первые издания. А в довершение — знай наших! — стал мстительно мочиться в постель.
— А ты думал, что война — хаханьки, веселая игра, да? Когда лондонцы с шуточками лезут после налета изо всех щелей… а по битым кирпичам гуляет Черчилль и ко всем пристает с вопросом: «Ну как? Вас это удручает?» На что рабочие, кланяясь в пояс, гаркают: «Никак нет, сэр!»
Однажды Джейк на свою беду попытался вышибить Гарри из наезженной злопыхательской колеи.
— Ну тебя, Гершл, — сказал он, назвав Гарри его исконным еврейским именем. — Нет, ну ей-богу, как ты меня разочаровываешь! Можно подумать, тебя всю войну мучили в графстве Кент, в школе францисканцев, тридцать лет назад придуманной Чарльзом Гамильтоном для книжонок, которыми он заваливал страну до самой войны, пока бумага не кончилась. А ты там, хоть тебе и надоели все эти его Гарри Уортоны и Билли Бантеры, все равно неукоснительно стоял за пролов и черножопых. Ты б рассказал еще, как ты доказывал силу характера Фишеру Т. Фишу и прочим вымышленным обормотам, втайне гордясь древними серыми стенами заведения…
Но нет, не всю войну. Пребывание Гарри в Букингемшире оказалось недолгим: вместе со многими другими пацанами из Ист-Энда Гарри (что характерно — как раз вовремя, к самым бомбежкам) вернули в Степни, где его отец, который не очень-то обожал Черчилля, зато состоял активным членом клуба Левой книги, принялся изо всех сил тыкать сына носом во все антисемитские пакости — от краской на стене намалеванного лозунга «ЭТО ЕВРЕЙСКАЯ ВОЙНА» до вполне благоугодного плаката
ТВОЯ ХРАБРОСТЬ
ТВОЯ БОДРОСТЬ
ТВОЯ РЕШИМОСТЬ
ПРИНЕСЕТ
НАМ ПОБЕДУ,
на котором местные фашисты, последователи Освальда Мосли[24], закрасили последние слова, написав вместо них ЖИДАМ ПОБЕДУ.
Покуда Джейк в Монреале по картинкам, вложенным в пачки жевательных резинок, учился распознавать силуэт бомбардировщика «штука»[25] и напряженно слушал радио, следя за возвращением к власти Черчилля (какой был восторг, когда тот вновь занял пост первого лорда Адмиралтейства! — на флотах с корабля на корабль даже передавали прожекторным телеграфом «Уинстон снова с нами»), Гарри, оказавшийся опять в Степни, глянув на небо, осветившееся заревом пожаров, вместе с толпой кидался к громыхающим воротам станции метро «Ливерпуль-стрит», где ему приходилось коротать чуть не каждую ночь «блица».
Вместе с отцом и матерью, тетушками и дядьями, сгрудившимися возле приемника, слушал Джейк слова великого человека: «Поэтому давайте напряжем все силы и так возьмемся, чтобы, просуществуй Британская империя и ее Содружество даже тысячу лет, все и тогда говорили бы: „То был наш звездный час!“», а в это время Гарри, этакая ищейка, охочая до всего нового, освоив «Микиз шелтер», переместился в зловонный «Тилбери»[26], где за первым темным поворотом туннеля уже расстегивали ширинку, чтобы отлить на стену, а то и присаживались облегчиться по-большому. При неблагоприятной тяге все помещение наполняла оглушительная вонь. Изобиловали комары, во множестве скакали блохи. И в это же самое время, как объяснял Гарри его отец, в вакхических погребах отелей «Савой» и «Дорчестер» богатые ублажали себя копченой лососиной и марочными винами, танцевали и развлекались с девицами.
«Никогда еще на полях военных действий, — сквозь хрипы эфира доносился до Джейка по Би-би-си голос великого человека, — не бывали столь многие в таком неоплатном долгу перед горсткой избранных», — однако у Гарри было что порассказать и на сей предмет.
— А знаешь ли ты, что среди «бриолиновых мальчиков» — летчиков королевских ВВС, той самой горстки избранных — классовые различия были более чем заметны?
— Нет, Гершл, этого я не знал. Очень рассчитываю, что ты просветишь меня.
— Если летчику-офицеру и летчику-сержанту, воевавшим на одинаковых «спитфайрах», случалось отличиться в бою, первый получал орден Пилотский крест, а второй только Пилотскую медаль.
— Ну да, ну да, это мы проходили: паны дерутся, у холопов чубы трещат, богатый грабит, бедного сажают…
— Строевой офицер ВВС имел право на проезд по железной дороге первым классом (бесплатный, разумеется), тогда как пилот-сержант должен был отлеживать бока в третьем классе.
Если до введения карточек богатые лишь изредка наведывались в Степни (по большей части для того, чтобы загрузить свои «бентли» дешевым сахаром), то теперь Ист-Энд стал для них аттракционом: специально ездили смотреть, как люди страдают от бомбежек, и особенно популярным местом экскурсий стало бомбоубежище «Тилбери шелтер».
Покуда Джейк в Монреале упивался радиосериалом про «Веселый оркестрик», а Гарри в Лондоне радовался свежим выпускам сатирической программы Би-би-си «Этот опять шалит», всю страну снабжавшей свежими анекдотами про Гитлера, самым лучшим анекдотом времен войны, по мнению того же Гарри, стал день Красной армии, когда лорд-мэр в королевском Альберт-холле произнес речь, восхваляющую Сталина. Тотчас же Гарри Полит[27] поклялся Черчиллю в вечной любви, а «Меч Сталинграда»[28] выставили в Вестминстерском аббатстве.
— Это островное племя оказалось удачной породы, да и в одиночестве не оставалось — ни в сороковом году, ни когда-либо еще, — любил повторять Гарри. — Ну, и мы тоже выстояли: как бы проехались у империи на закорках, если ты понимаешь, о чем я.
— Да, Гарри. Думаю, что понимаю.
— А ты знаешь, что в тысяча девятьсот тридцать девятом году пенни в час — это была нормальная зарплата заводского рабочего в Индии, а доход на душу населения у них был что-то около семи фунтов в год?
— С твоей цифирью, Гершл, спорить не берусь.
4
Истошный вопль проголодавшегося ребенка разбудил Нэнси, жестоко разбудил, вырвал ее из сна неимоверной глубины, оборвал сладостные видения.
— Джейк, покачай, пожалуйста, ребенка — я хоть пописаю схожу и…
Вот не надо бы. Но Нэнси заколебалась лишь на миг, выбирая между колыбелькой и сортиром (своей нуждой и младенца), прежде чем приложить его к набухшей груди. Не то хуже будет: его крики разбудят Сэмми!
И Молли.
И миссис Херш.
Едва мать успела приехать, в первое же утро Джейк зловеще сладким голосом проговорил:
— Ну что, придется нам, наверное, смириться с тем, что через двадцать один день[29] ты улетаешь. Ведь у тебя уже есть обратный билет, не правда ли?
— Да ладно тебе, кецеле![30] Я тут останусь до тех пор, пока нужна вам!
Миссис Херш прилетела за неделю до суда, чтобы быть с ними вместе во время — как она называла это — «выпавшей на долю Джейка тяжкой годины», и на плечи Нэнси навалилась — будто мало ей было своих забот — необходимость удерживать мать и сына от отвратительных ссор, для чего приходилось заполнять внезапные напряженные паузы в разговоре щебетаньем о детях и скучными сравнениями канадской и британской жизни; едва она эту болтовню затевала, Джейк освобожденно срывался и — вот ведь эгоист неблагодарный! — выбегал из комнаты. Джейк вел себя ужасно, хотя пытался это сглаживать. Его так и бросало от ледяной жестокости по отношению к матери к потугам на сыновнюю уважительность, которой она совершенно оправданно от него ждала.
Нэнси успела уже привыкнуть к тому, что часа в три утра он внезапно просыпается.
— А мать не говорила, — бывало, спрашивал он, — она не собирается с утра в Вест-Энд за покупками?
— Говорила.
Тогда он, не попадая в рукава, напяливал халат и пулей выскакивал из спальни — проверить, нет ли на ее пути потенциально опасных самокатов, велосипедов и прочих неожиданных препятствий.
— Представляете, — сказала однажды невестке миссис Херш, — он так старательно переводил меня нынче утром через улицу к автобусной остановке! Я таки имею тут хорошего сына!
— Такие, как он, один на миллион, миссис Херш!
А вечером в постели, прикуривая одну сигариллу от другой и подливая себе коньячку, Джейк сокрушался:
— Ты ей позволила лечь спать, не вспомнив про лекарство! Ну, ты молодец, умница! Дождешься от тебя помощи. У женщин ее возраста инсульт случается на ровном месте. Бабах! Да и сердце в нашей семье тоже на обе ноги хромает.
— Но она же твоя мама. Хоть она и говорит частенько, будто бы…
— Ты должна следить за ней выпуклым глазом. Зорким взглядом орла, ты меня слышишь? Потому что мне от нее только и нужно, чтобы она жила и жила у нас годами… Прикованная к постели.
Да вот хотя бы вчера вечером: по возвращении домой из Олд-Бейли первый вопрос, который он задал, был «Как мама?». Но, едва получив заверения, что она в добром здравии, тут же завел и растянул на весь вечер лекцию по истории уголовного права, мучительную в первую очередь опять-таки для нее же.
— Теперь-то уж попроще, мам. В том смысле, что в наши дни и впрямь стало возможно отстоять свою невиновность.
И принялся потчевать ее, наслаждаясь каждым «ой» и веселея от тяжких вздохов, рассказами о действовавшей когда-то в подвале суда пресс-камере, где принуждали к даче признательных показаний по методу «Peine forte et Dure»[31]: обвиняемого клали спиной на каменный пол, растягивали руки и ноги в стороны, а сверху наваливали тяжелые грузы, увеличивая вес, пока не ломались ребра или пока испытуемый не соглашался с обвинением.
— Но ты не думай, — все больше подбавлял он чернухи. — Даже и тут оставалось место милосердию. Некоторым позволяли установить под спину деревянный колышек — чтобы скорей все кончилось. Но далеко не всем. Например, некий майор Стренджвейз, который в тысяча шестьсот пятьдесят восьмом году никак не желал признаваться в убийстве мужа сестры, оказался так силен, что все взваленные ему на грудь каменные и железные тяжести выдержал. К счастью, Стренджвейза Господь благословил хорошими друзьями, которые при сем присутствовали; страж был так добр, что разрешил им взгромоздиться на него поверх груза, что и ускорило смерть. Вот, стало быть, мам, как иногда друзья могут помочь в беде. А мой приятель Люк — пришел? помог мне? Что, Нэнси, разве я неправ?
Миссис Херш, просыпавшаяся рано, с утра обычно ждала у себя в комнате, пока в коридоре не послышатся детские голоса; грустно поводя блеклыми карими глазами, сидела на краешке кровати, как старая седая курица на насесте. Подобным образом и в это утро, едва Нэнси с младенцем на руках двинулась вниз по лестнице, на которую вслед за ней ступила Молли, а за нею Сэмми, миссис Херш тут же открыла дверь и к ним присоединилась. На миссис Херш была розовая в цветочек пижама и тапочки с голубенькими помпонами. Оправу ее очков, на манер раскинутых крылышек приподнятую к вискам, украшали серебристые блестки.
— Доброе утро, мои драгоценные! — сказала она.
— А подарок мне подаришь? — спросил Сэмми.
— Бесенок! Ну какой бесенок!
— А мне? А мне? Так нечестно! — заволновалась Молли.
— Нет, вы послушайте! «Так нечестно»! Вы слышите, как на меня нападают? Слышите? Вот прямо сразу. А я вас съем. Съем обоих!
Джейка Нэнси обнаружила спящим на полу гостиной, он похрапывал и стонал.
— Боже! — Округлившиеся от удивления глаза миссис Херш переходили от сына к пустому стакану, стоящему рядом с ним на полу. Ее ладонь в ужасе взметнулась к губам. — О Господи! Срочно надо куда-то убрать детей!
— Он просто спит, — ровным голосом проговорила Нэнси. — Спит, больше ничего. — И она тихо прикрыла за собой дверь гостиной.
Из глубин сна на поверхность Джейка выцарапали каркающие возгласы матери на кухне. Опять небось тетешкает у себя на коленях Молли, подумал он.
— Ми-илочка! Др-рагоценненькая моя! Кр-расоточка! Ну какое личико! Нет, вы когда-нибудь видали такую пр-релестную р-рожицу? Скажи, любишь бабушку? Нет, говор-ри, говор-ри!
Молчание.
— Скажи: я люблю тебя. Я-ЛЮБЛЮ-ТЕБЯ.
— Яблублублу.
— Нет, вы слышите? Она меня любит! Она любит меня, моя кр-расавица!
— Кофе будете пить, миссис Херш?
— Только если вы все равно варите.
— Но я каждое утро варю кофе, миссис Херш.
— А р-разве я говорю, что нет?
Молли начинает хныкать.
— Я думаю, ей так неудобно. И пеленка грязная. Может быть, стоит разбудить Джейка?
— Джейк никого не пеленал ни разу в жизни. Давайте пока его трогать не будем. И пожалуйста, миссис Херш, вы уж не обижайтесь, но…
— Да что вы, что вы, милочка. С чего это я буду обижаться?
— …но когда придет Джейк, пожалуйста, не смотрите на него долгим печальным взглядом. Будто это его последний день на белом свете. Не обращайте на него внимания. Дайте ему спокойно почитать газеты.
— Ах, ну конечно, милочка, — соглашается миссис Херш и вздыхает.
Сидя с ними вместе за кухонным столом, Джейк прочитал:
Хромой юноша хочет быть полезным родине
Девятнадцатилетний хромой юноша хочет своим трудом приносить пользу Британии, но, несмотря на то что каждый четверг он ходит на местную биржу труда и просится на работу, никакого занятия ему подобрать не могут. И никому нет дела до того, что Джорджу от его дома на Иден-стрит (Кингстон, Суррей) пройти туда полмили — это величайший труд, потому, что при его болезни каждый шаг стоит неимоверных усилий. Помимо трудностей с опорно-двигательным аппаратом у него проблема со зрением. Он давно уже числится слепым. А недавно он…
Звонок в дверь.
— Джейк!
Ах, как жаль его отвлекать! Так приятно было смотреть, как он смеется.
Джейк неохотно опускает газету.
— Я открою, — вскакивает с места миссис Херш. — Пусть себе читает.
— Он сам откроет.
Обычно к двери подходит Пилар. Но ей как раз сейчас понадобилось съездить навестить семью в Малаге, так что домработницы у них не будет еще неделю.
Оказывается, пришел почтальон.
— Чудесный день, не правда ли?
— Н-да.
— Вы, наверное, рады, что здесь такая погода?
Это песня с заезженной пластинки, которую они заводили чуть ли не при каждой встрече. В ответ Джейку полагалось сказать: «Да уж, дома в Канаде у нас и в сентябре бывает снег и пурга!», на что почтальон должен был долго трясти тупой башкой, выражая удивление и благодарность судьбе, что родился в цивилизованной стране с благоустроенным климатом.
Да хрен с ним. Нынче утром Джейк не говорит ничего. Но и почтальон стоит пень пнем и почту не отдает.
— Что нового в газетах? — спрашивает Джейк. — Вы их уже просмотрели?
— Нет.
— Не пойму, вам-то они должны бы первому на глаза попасться!
Кроме всего прочего, с почтой пришел знакомый, хотя от этого не менее зловещий бурый конверт с печатями Службы ее королевского величества. Опять налоговая.
— Я-то уверен, что девчонка врет, — со значением проговорил почтальон. И тут же все испортил, добавив: — Вы все ж таки приличный человек, с положением… — причем этак еще неуверенно, с полувопросом.
— Джон Кристи[32] тоже был с положением и приличный, — сказал Джейк, закрывая за ним дверь.
Голос Молли:
— Я уже весь обед съела.
— Сейчас не обед, а завтрак, клопица, — отозвался Джейк, взъерошив ее светленькие кудряшки.
Молли всего четыре, а вот Сэмми семь, и от него приходится газеты прятать. Отступив в гостиную, Джейк не успел еще толком вскрыть длинный бурый конверт, как тут же несмело приотворилась дверь.
— Что там? Плохие новости?
— Я еще конверт не открыл, мам.
— Хорошо, что я приехала пожить с вами! Ты ведь доволен? Я помогаю, правда?
— Да, мам.
— И мне хорошо. И дети меня любят, какие пр-релестные!
Недовскрытый конверт Джейк вмял в карман халата.
— Я здесь уже неделю, а ты ни разу не сказал, как я, на твой взгляд, выгляжу. Но ты согласен, что я неплохо сохранилась? Ведь правда же я выгляжу моложе своих лет?
— Да, да!
— Вот, все так говорят. Доктор Беркович, например… он меня обожает, а когда я ходила к нему по поводу того уплотнения в груди… ну, вот здесь которое… он был просто поражен. Был в полном изумлении. «Вам действительно шестьдесят два? — спрашивает. — Нет, не верю. Такая грудь!» А ведь он доктор, сам понимаешь! У меня бывают приливы, ну да, но это и все! Природа творит изумительную красоту, но может и подкузьмить. Слушай, а ведь адвокаты тебе, наверное, недешево обойдутся?
Из кухни доносится голос Нэнси:
— Джейк, дорогой, ты кофе будешь?
— Иду-иду.
Пригубив кофе, Джейк притворился, что всецело поглощен газетой «Гардиан», а сам тихонько шарил под столом ногой; наконец нащупал ногу Нэнси. Ему очень не нравилось, что Нэнси кормит младенца грудью за кухонным столом в присутствии свекрови. Жаркий оценивающий взгляд матери, направленный на грудь Нэнси, приводил Джейка в бешенство. Вдруг Нэнси вскрикнула:
— О, Джейк тоже был кусака, такой кусака! У меня вся грудь была возле сосков в следах укусов. Он-то, конечно, не помнит, правда, кецеле?
— Не возражаете, — привстал с чашкой в руке Джейк, — если я допью кофе в гостиной?
Но ее карканье и туда проникало.
— Джейк говорит, что для своего возр-раста я очень хорошо сохранилась! На его взгляд, я выгляжу молодо. Но может быть, — добавляет миссис Херш вопросительно, — может быть, он это нарочно?
На этот раз Нэнси отвечать не спешила.
— Щека вот здесь немножечко запала, но, слушайте, зато-таки не будут говорить, что у меня зубы вставные! Кое-кто лезет из кожи вон, ставит такие белые, что стыдно смотреть! А мне вот это как раз все равно. Или я буду делать напоказ? Слушайте, я ведь не совсем дура. Самообманом не занимаюсь и подсинивать волосы еще не начала. Но вообще-то старость не радость.
— Но надо же сохранять достоинство, — помимо воли вырвалось у Нэнси.
— Да, это верно. Но мне полегче: писаной красавицей я не была никогда. — И, стрельнув в Нэнси яростным разящим взглядом, добавила: — Красивой женщине хуже: вот уж такой, должно быть, старость сущий ад!
Пока Нэнси перекладывала младенца от одной груди к другой, он коротко вякнул.
— Смотрите осторожней, милочка. Молоко, бывает, так растягивает кожу — это ужас какой-то! Вы-то небось хотите сохраниться?
Ах, Нэнси, подумал Джейк. Нэнси, любимая, дорогая, — и начал всхлипывать. Неудержимо. Не сохраняя никакого достоинства. Но ему все же хватило соображения выскользнуть из гостиной и запереться в сортире. На радиаторе обнаружив часть субботнего выпуска газеты «Монреаль стар» вверх тем листом, на котором во всю полосу красовалась реклама канадской сети универмагов «Итонс». Одежда и товары для спорта.
Джейк сразу и припомнил: да, было дело… и как раз суббота, утро, тот самый «Итонс». В тот раз его затащил туда Додик, Додик Кравиц, и они, на сей раз не пытаясь ничего стащить в отделе игрушек, сразу направились в секцию женского белья; улучив момент, когда никто не видел, нырнули в зал с примерочными кабинками. Додик распахнул дверь в кабинку, и как раз вовремя: удалось поглазеть на потрясную девицу, которая растерянно застыла, не успев спрятать груди в кружевной черный лифчик. Толстая продавщица подняла крик.
— Да я просто тетю ищу! Тетю Этти, — сразу захныкал Додик, пытаясь ретироваться.
Но продавщица сцапала Додика за локоть:
— Сейчас позову начальника, и тебя на всю жизнь упекут в исправительную школу. Хулиган, мерзавец!
— Тетя Этти! — завопил Додик.
— Ах, да отпустите вы его, — вступилась девица.
Додик изо всех сил хряснул продавщицу каблуком по ноге, и они помчались, виляя между покупателями и чуть не кубарем слетев с эскалатора. Оказавшись на свободе, Додик сказал:
— Ну что, жопа с ручкой, видал буфера? Во! Есть за что подержаться!
— И что тебе с них проку?
— Ну, ты шмек![33] Ты че, не понял, что ли, куда она смотрела, когда сказала «отпустите его»? Так и уставилась на мой болт! Еще минута, я бы ее там же и отдрючил стояком у стенки!
Потом они насобирали хабариков, закурили и пошли в парк «Маунт Ройяль» искать в кустах парочки. Шагая, Додик во всю глотку распевал:
Мне просто ди-ико-о ба-абы надоели, Я их, ей-бо-огу-у, всех видал в гробу; Пусть девка манит голая в постели, Ее я трахну чайником по лбу!В тот раз он рассказал Джейку (кстати, о чайниках), что однажды нашел парочку, склещенную вместе — ну, типа, как у собак бывает, — и пришлось ему бежать в больницу Святого Иоанна, вызывать санитара с чайником, чтобы тот разнимал их, поливая горячей водичкой. Джейк ему не поверил. Что делать, ваша милость, таковы были мои первые шаги в сексуальной жизни! То есть вот так бедного Херша в детстве страшно совращали, подумал он, и от этого стало лучше, даже гораздо лучше.
Сунул руку в карман халата за сигариллой, а вытащился конверт из утренней почты. Самый важный: письмо от налогового инспектора. Великому Инквизитору (благослови его, Господи) настоятельно требовалась встреча с Джейком и его консультантом для дальнейшего их воспитания.
Ах, если бы он послушался Люка!
— Я знаю минимум троих клиентов Хоффмана, кому устроили полную, тотальную проверку. На твоем месте, Джейк, я бы из этой фирмы делал ноги.
— Да боязно как-то. Слишком он обо мне много знает.
Имелся в виду премудрый Оскар Хоффман, первый, кто зарегистрировал его предприятие с капиталом в сто фунтов и тремя директорами. Джейк тогда пришел к нему с коробкой перепутанных счетов, чеков и деклараций своего агента, в которых Хоффман, костлявый маленький мужичонка, этакий недомерок в очках со стальными дужками, разобрался запросто, пока Джейк лишь подобострастно моргал, собираясь выйти из его кабинета так же тихо и скромно, как вошел. Тут Хоффман и объявил Джейку, что с сегодняшнего дня и впредь находится у предприятия Джейка на окладе в пять тысяч фунтов с выплатой по получении дохода за вычетом налога государству. Еще десять тысяч фунтов можно оставить на счете его фирмы (на издержки, если можно так выразиться), и тогда не надо будет изобретать больше никаких хитростей, во всяком случае до тех пор, пока у Джейка не вырастут доходы, а они всенепременно, — просияв, заверил его Хоффман, — всенепременно вырастут!
Но в конце первого года бурной деятельности предприятия «Джейкоб Херш Продакшнз» Хоффман поразмыслил над балансовой ведомостью и остался недоволен.
— Да что же это такое! Пять тысяч фунтов в минусе!
— Да. Боюсь, что так оно и есть.
— Да ведь вы, наверное, что-то вложили в сценарии? — Тут он помолчал, внимательно глядя Джейку в глаза. — И платили наличными, не иначе.
— Да. Конечно, естественно.
Этим ответом Джейк заслужил благосклонную улыбку.
— А целью февральской поездки в Канаду у вас, надо полагать, было нанять писателя. А там одно, другое… Да и секретарша у вас есть, и ей вы тоже платите налом.
— Черт возьми, конечно!
— А вот тут, вижу, вы в Париж летали… Отель «Георг Пятый», с двенадцатого апреля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года по пятнадцатое…
Нэнси в голубеньком пеньюаре от Живанши с белыми кружевными обшлагами и высоким воротом, завязанным на бант, сидит за туалетным столиком и, наклонив голову, расчесывает длинные черные волосы.
— …Ведь вы же с производственной целью ездили? Может, с продюсером встречаться? Потому что, если так, то можно сделать налоговый вычет.
Конечно, с производственной! С целью производства первенца.
— Ну, в принципе да.
— Хорошо. Очень хорошо, мистер Херш. Вот, заберите эти счета опять домой и попытайтесь вспомнить другие командировки, купленные сценарии и прочие траты наличными. Короче, думайте, думайте!
Забравшись в свое чердачное укрывище, Джейк открыл шкафчик, где хранились вещи Всадника, и вынул досье. Заголовок на первой странице: «Всадник, настоящее имя Джозеф Херш. Родился в горняцкой лачуге в Йеллоунайфе, Территория Юкон. Зимой. Точная дата неизвестна». Следом перечень вымышленных имен и кличек Джо. Перелистнув страницы, Джейк перешел к другому разделу, печальному своей незавершенностью.
Евреи и кони
Исаак Бабель. «Закат» (пьеса)
ЛЁВКА (хохочет. В грубом его голосе движутся громы): На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту… Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за Турецкую войну.
АРЬЕ-ЛЕЙБ: Это со всеми так делают или только с евреями?
ЛЁВКА: Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. При чем тут евреи?
А вот цитата из Френсиса Скотта Фицджеральда, «Последний магнат». Монро Стар «догадался, что страсть к лошадям, обуявшая евреев, глубоко символична: многие годы казаки были конные, а евреи пешие. Но вот и у евреев появились лошади…».
Так, еще запись, на сей раз карандашная. Еле разбираю:
Надо бы прочесть: Альберто Герщунофф[34], «Еврейские гаучо в пампасах». А что, тоже всадники. Не Ротшильда, так де Хирша[35]. Агентурная сеть, можно сказать!
Всадник. Он и сейчас, подумал Джейк, может быть, где-то скачет. Как раз в эту самую минуту. По оливково-зеленым горам Верхней Галилеи, а то, может, снова в Мексике. Или в какой-нибудь Каталонии. Но верней всего в Парагвае.
— Ну, ты вообще! — вскипев, сказал тогда дядя Эйб. — То, что ты вбил себе в башку это… ч-черт побери… Насколько я знаю твоего двоюродного братца, если он действительно ищет Менгеле[36](чего лично я не допускаю ни на секунду), но если он этого нациста все же ищет и найдет, — дядя Эйб теперь уже орал, стуча кулаком по столу, — он не убьет его, он его будет шантажировать!
Нет, думал Джейк, глуша в себе неотвязно звучащий голос, со стороны дяди Эйба это было всего лишь попыткой оправдать собственную мелкость — нет! нет! — и Джейк продолжил воображать, как Всадник мщения находит виллу с решетками на окнах, глядящих на еле заметную тропу в джунглях — где-нибудь между Пуэрто-сан-Винсенте и пограничным фортом «Карлос Антонио Лопес» на реке Паране.
Эх, Джо, Джо!
В воображении Джейка рисовалось, как Джо неспешным аллюром скачет на великолепном плевенском скакуне. Бросает коня в галоп, слышится гром копыт. А в голове роятся планы новых кампаний, новых все более дерзких подвигов.
5
— А я им говорю, — продолжила она, — вы там, уважаемые, что о себе думаете? Я что, по-вашему, никогда на самолетах не летала, не знаю, как поставлено дело в других компаниях? Перед вами настоящая путешественница, для меня купить билет на самолет все равно как если на трамвай какой! А он молчит, не улыбнется даже, бывают же некоторые… Когда у тебя самолет «Эйр-Канады», то пусть тебе хоть на два часа взлет задержали — обязательно будут и сэндвичи, и каждый завернут отдельно! У нас, во всяком случае, давно для этого есть целлофановая пленка, не знаю уж, известна ли она тут у вас — я вам пришлю моточек, как же без нее-то! Правда-правда, милочка, просто удивительно, до чего теперь все просто: кто нынче будет целыми днями корячиться над плитой, как я когда-то? Будь это «Эйр-Канада», я ему сказала, нас бы не держали тут за скотину, нам подали бы чай! Но вы бы видели, как он подпрыгнул! «Да, мадам, разумеется, мадам!» Ну, молодцо-ом! — сказала моя соседка-индианка, когда я снова села. Это надо же, кто бы знал, что она, оказывается, понимает по-человечески: а мы ведь битый час уже сидели рядом, каково? А я говорю, ничего, если я спрошу: зачем у вас там людям рисуют точки на лбу? Вы уж мене простите, я не к тому, чтобы совать свой нос во все дырки, но, если не спрашивать, так и не узнаешь никогда, верно я говорю? Я говорю, это что — какой-то христианский символ? Нет, говорит, в Индии индуисты. Ну, понятно: это как «Битлы» теперь. А точка означает, что она замужем. Ой, говорю, как интересно! Вот, тоже ведь — узнала что-то новое. Ну, мы разговорились, и она рассказала мне, что в Индии, понимаете ли, культ матери. Вот как они там мать уважают! А ее мать вдова, говорит, и они все живут в одном доме — ее семья, ее брата семья, ее младшей сестры семья, все в одном доме и ее мать тут же, причем мать глава семьи и все ее уважают, потому что это освященная временем индийская традиция. Ведь правда же интересно?
Когда миссис Херш с Нэнси дошли до верхней площадки лестницы, Джейк юркнул в спальню — как он надеялся, незаметно.
О-хо-хо.
Дверь спальни приоткрылась. Господи, нет! — подумал Джейк. Но то была Нэнси.
— А, кецеле! — пропела она. — Сперва сисю маме искусал, а теперь вон где скрываешься!
Джейк хихикнул.
— Можно я сегодня на суд приду?
— Ни в коем случае.
— Джейк, — вновь начала она нерешительно, — я кое о чем хотела спросить тебя…
— Про «Харродс»?[37] — скривившись, сразу догадался он.
— Да.
Сразу представились шикарные, сплошь дуб и мрамор, туалеты рядом с мужским парикмахерским салоном.
— Да не станут они с этим париться. К обвинению тут ничего не пристегнешь, уточка моя.
— А как насчет твоего приятеля сержанта Хоура?
— Знаешь, я тут подумал и решил: того, что в этом участвует Хоур, не надо бояться. Он вообще-то удивительно симпатичный малый — нет, правда-правда! — и зла на меня не держит совершенно.
— Откуда ты знаешь?
— Да мы с ним уже и шутили по этому поводу…
— Ой, Джейк, ну до чего же ты наивный!
Потом, в тот самый миг, когда он хотел было ее обнять, рядом вдруг возникла миссис Херш. Джейк сразу напрягся.
— Удачи тебе в суде сегодня.
— Удача сегодня понадобится не мне, а Гарри.
— Вот уж кому бы в аду гореть!
— Мам, он все-таки мой приятель. Кроме того, мы там как бы заодно… Подельники. К тому же — как посмотреть — мы, может быть, по нынешним временам еще и мученики, тайные святые. Вроде ламед-вавников[38]. Или наподобие Жана Жене. Ну, про него тебе все Нэнси объяснит.
С тем хлопнул дверью и был таков.
Миссис Херш опустилась на кровать.
— Вы не представляете, как тяжело быть матерью. Какая это боль…
— У меня тоже есть дети, миссис Херш. А если он окажется в заключении…
— Как вы можете такое даже думать!
— Но я должна об этом думать.
— Ну, я тогда и вовсе домой не поеду. Буду все время здесь, бок о бок с вами, пока нужна вам. Останусь, и не сомневайтесь! С замужеством вы влились в еврейскую семью, милочка, где все друг дружку всегда поддерживают. В несчастье мы всегда вместе! — Опустив глаза, миссис Херш расправила пижаму. — Это замечали многие выдающиеся социологи.
Нэнси подняла с полу коричневый кашемировый жакет Джейка и отвела в сторону скользящую на роликах раздвижную дверцу его встроенного шкафа. И слишком поздно заметила, что сзади тихо подошла миссис Херш и заглядывает через ее плечо.
— Что это? — с придыханием произнесла миссис Херш.
— Ничего, — сразу вся вспыхнув, пробормотала Нэнси.
— Ничего? Ничего себе ничего!
В углу красовалось военное снаряжение, в том числе винтовка с оптическим прицелом. Это помимо причиндалов для бодибилдинга.
— Ах, это… — Нэнси изобразила смешок. — Это не Джейка. Его приятеля… да. Он актер… вот, оставил тут…
— А как же тогда эта лживая сучонка? Нет, я понимаю, что она шлюшка, но вчера на суде ее адвокат разве не сказал, что…
— Я же говорю, это одного актера.
— Ах, актера! То есть, стало быть, для спектакля?
— Да, — сказала Нэнси. И с таким еще наж-жимом. А выглянув в окно, обратила внимание, что Джейк осторожно подбирается к террасе, на которой ничего не подозревающий младенец сучит ножками в колясочке.
С улыбкой глядя на пятимесячного кроху, Джейк исподтишка протянул к нему руку и щелкнул пальцами. Никакой реакции. Черт, подумал он, похоже на локомоторную атаксию — она же tabes dorsalis или спинная сухотка (болезнь нервной системы, проявляется в беспорядочных движениях конечностей при ходьбе). Среди прочих симптомов нарушение слуха и зрения.
Озадаченный, Джейк поднес руку ближе, снова щелкнул пальцами. Со страшным треском щелкнул. Младенец, который до тех пор счастливо гулюкал, замолк и нахмурился. Он нахмурился — это Нэнси различила даже из окна — и стал суров как Джейк, от чего ее глаза помимо воли наполнились слезами.
— Джейк, пожалуйста, перестань мучить ребенка! — крикнула она в окно.
— Я играю со своим сыном!
— Я все вижу. Отстань от него, Джейк.
Едва успев захлопнуть окно, Нэнси чуть не столкнулась с миссис Херш, оказавшейся прямо за ее спиной. Ладонь к щеке, в глазах ужас, с дрожью в голосе спрашивает:
— Он что, бывает жесток с ребенком?
— Да ну, что за ерунда, миссис Херш.
Сэмми, еще в пижамке, чуть не упав, влетел в спальню, зажимая под мышкой книжку комиксов про обезьянку Микки. Оказывается, ему не терпелось спросить:
— Чем кончается лето и начинается осень?
— Вы слышите? — уважительно округляет глаза миссис Херш. — Это в его-то возрасте!
— Да ну тебя, Сэмми, перестань. Тебе пора одеваться. В школу опоздаешь.
— Тут хитрость есть, — не унимается Сэмми.
— Слышите: хитрость!
— Чем кончается лето и начинается осень?
— Не знаю.
— Мама не знает, золотце. И я не знаю.
— Сдаетесь?
— Сдаемся, сдаемся, деточка.
— Буквой «о»!
— Буквой «о»! — Миссис Херш всплескивает руками, обнимает Сэмми. — Умница ты моя!
Обогнув кровать, Нэнси удаляется в свою ванную, но миссис Херш неотступно следует за нею, сканирует глазами полки, с жадностью вбирая каждую деталь; наконец, поднимает бутылку «Arpege».
— Какая огромная бутылка духов!
— Это туалетная вода.
Миссис Херш дергает плечом, опускает глаза. Что бы у нас ни делалось, все не так. Ее взгляд падает на биде; сразу отворачивается. С точки зрения миссис Херш — и Нэнси это отчетливо понимает, — биде это зловещий в своей развратности гоише выверт. Приспособление для оргий.
— Вы меня извините, — ровным голосом произносит Нэнси. — Мне надо помыться.
— Гм. Пойду соберу Сэмми в школу. С большим удовольствием!
Пока сидел в кабинете и ждал, когда за ним заедет на дорогущем черном «хамбере»[39] его адвокат Ормсби-Флетчер, Джейк просмотрел остальную утреннюю почту в надежде на хоть какой-то знак сочувствия со стороны Люка. Нет, ничего. Первым из пачки вынулось письмо, написанное на листочке с дырочками сбоку — видимо, вырванном из перекидного блокнота.
Уважаемый мистер Херш!
Как Вы, конечно, поняли, увидев, какую бумагу я вынужден использовать для корреспонденции, находясь в стесненных обстоятельствах, я не склоняюсь перед ними, но без стеснения прошу о благосклонности, не обязательно для Вас обременительной.
Так, понятно. Всякую муру пропускаем… что в конце-то?
Несмотря на тяжелое состояние, в котором находится сегодня Театр, я все же вынужден кормиться своим единственным талантом, а потому полагаюсь на Вашу милость и нижайше молю не обрекать меня на профессиональную гибель. Мне быть или не быть — TV or not TV — то Вам решать.
Сам свингер и друг всех свингеров, Джадд ВардДальше косяком пошли просроченные счета. На розовых бланках… а, это из детского садика в Саннингдейле. Уведомление о задолженности из банка «Барклайс». Ежеквартальный отчет накопительного инвестиционного фонда. Просьба денег от движения «Борьба с апартеидом». Журнал «Сатердей найт». ТЕМЫ ДИСКУССИЙ: «НАШИ ДЕНЬГИ… ИЛИ ДЕНЬГИ ДЯДИ СЭМА?» «ЧТО ДУМАЮТ ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ КАНАДЦЫ О СЕКСЕ». Письмо какого-то секретаря недавно учрежденного общества всяческих меньшинств, в котором тот заверяет, что с неослабевающим интересом следит за делом Джейка и желает ему отменной британской удачи. Еще он просит Джейка поставить свою подпись под Сексуальным биллем о правах, который крайне необходим всем тем, кто нуждается в визуальной стимуляции либо кому требуется причинять и испытывать боль, а также некрофилам, тем, кто практикует любовь втроем, ну и трансвеститам, понятное дело, предусматривается создание клубов для встреч так называемых девиантов со взаимно встречными сексуальными запросами. К примеру, эксгибиционистам там можно будет без опаски выставляться напоказ перед избранной аудиторией вуайеристов. Еще это их общество намерено направить петицию в парламент, конкретно в адрес известных секс-девиантов среди парламентариев, — чтобы положили наконец начало порнографическому социальному обеспечению. В дальнейшем они надеются организовать мобильные публичные дома для обслуживания больниц и домов престарелых, а также отдельных индивидуумов с физическими недостатками, калек, парализованных, пожилых и психически неадекватных.
Пришла также обычная толика непристойных писем от незнакомок, которые следят за его делом по газетам, с той только разницей, что нынче утром свою фотографию приложила только одна из них. На фото красовалась рыхлая голая баба лет где-то, видимо, под сорок, стоящая на коленях в измятой и развороченной постели. Она зазывно улыбалась невидимому фотографу, руками поддерживая огромные круглые груди и пальцами сжимая соски. «КАК НАСЧЕТ ПОТРАХАТЬ МЕНЯ, ИЗВРАЩЕНЕЦ?» — было начертано помадой на обороте снимка.
Тут в комнату заскочил Сэмми и требовательно осведомился:
— А почему не ты меня сегодня в школу ведешь?
— Я не могу. Опять с утра надо быть в Вест-Энде. Тебя бабушка отведет.
— Похмелье мучит?
— Ну, как бы да. — Джейк поманил сына к себе. И, понизив голос, спросил: — Что нового слышно про Тиббита? — Его одноклассник по фамилии Тиббит уже успел прославиться как футбольный вундеркинд.
— А ты Молли не скажешь?
Джейк пообещал.
— Его переводят в Лидс. За него денег дали двадцать один фунт!
— Да он, поди, больше стоит!
Откуда-то уже неслись призывы миссис Херш.
— Ну, ты меня тогда веди в школу завтра, ладно?
— Завтра суббота… Да, кстати, Сэмми!
— Чего?
Что им положено говорить? В детстве я от отца был далек, а теперь уж поздно. Да и вообще, между прочим, со следующей недели я, не ровен час, могу на некоторое время оказаться постояльцем тюрьмы ее величества в Дартмуре. Пока не выйду, гордый и постройневший.
— Мне хорошо с тобой. И нравится всюду водить тебя. Ты молодец. Теперь поторопись, а то опоздаешь.
Пять минут спустя раздался звонок в дверь, и Джейк, отворив окно, крикнул Ормсби-Флетчеру:
— Иду, иду!
Ваша милость, взгляните на это следующим образом. Кругом вовсю ширится сексуальная революция. Все эти суперсовременные отчаянные белые негритянки готовы по сто раз на дню ноги раздвигать, лишь бы…
Вполне вас понимаю, мистер Херш.
Пока Джейк выкарабкивался из черного «хамбера» у здания Олд-Бейли, адвокат Ормсби-Флетчер, нынче опять, как всегда с утра, обескураживающе веселый, продолжал что-то чирикать, издавать какие-то ободряющие звуки…
Над главными воротами выбит в камне девиз:
Да защищен будет Бедняк и Дитя его;
Обидчик же их — покаран.
А если их Обидчик сам и Бедняк, и Дитя его, как тот же Гарри?
Напоследок Ормсби-Флетчер поднял вверх большой палец, на что Джейк в ответ подмигнул. Самым своим залихватским манером.
Джейк хорошо знал, что в позорных списках обвиняемых Лондонского уголовного суда номер один имена и евреев, и белых канадцев-протестантов присутствуют издавна и во множестве. Так что первым ему здесь уже не быть.
В 1710 году, когда Джонатан Уайлд, Князь грабителей, слыл неоспоримым numero uno всего лондонского дна, его незаменимым подручным был шахер-махер, но имени Авраам. «Этот израэлит, — говорится в „Ньюгейтском календаре“[40], — оказался удивительно верным и полезным его приспешником». Действительно, слишком уж часто фальшивомонетчики, разбойники, воры, шулера и мошенники всех мастей при поимке клялись, что всю свою неправедную добычу сбыли некоему еврею в Уайтчейпеле. Что же до более современного еврейства, то был такой лорд Джордж Гордон[41], зачинщик беспорядков, случившихся 2 июня 1780 года. Толпа под его водительством подожгла Ньюгейтскую тюрьму, причинив значительные разрушения, и разграбила здание суда на Олд-Бейли. На этом не успокоившись, лорд Гордон принялся распространять клевету на Марию-Антуанетту и графа д’Амедара, но определенно ненормальным его признали лишь после того как он «…был обнаружен в Бирмингеме с длинной, по еврейскому обычаю, бородой, и выяснилось, что, подвергшись обрезанию… он упорно исповедует иудейскую веру». Прежде лорд, а теперь реб, Гордон несколько лет еще влачил существование в Ньюгейте, ежедневно молясь и блюдя в камере кашрут, пока не умер от тюремной лихорадки. Когда-то властный предводитель толп, он умер, как свидетельствует «Ньюгейтский календарь», в окружении отбросов общества — «…негров, евреев, цыган и всяческого сброда».
Общественный климат мало улучшился и к 1880-м годам — во всяком случае, судя по тому, как утонченный Монтегю Уильямс, адвокат и королевский советник, жалуется в своих мемуарах на мешавших ему «обтерханных евреев с хмурыми лицами», которые слонялись около здания суда. В 1887 году обтерханные евреи вдруг объединились в дерзкие банды и объявили о своем намерении освободить приговоренного преступника — убийцу Эзру Липски[42], так что охранникам Ньюгейтской тюрьмы в день казни польского еврея пришлось даже вооружиться револьверами. Впервые в истории.
Что касается англо-канадских своих предшественников, по некоторому сходству обстоятельств Джейк выбрал из них для пристального рассмотрения лишь одного: косоглазого сексуального маньяка и наркомана, закончившего в Монреале Макгилльский университет, — доктора Томаса Нейлла Крима, растленного завсегдатая публичных домов Южного Ламбета, о котором Джон Холлингсхед в своем труде «Лондон в лохмотьях», опубликованном, правда, за тридцать лет до появления там Крима, писал так: «Дома здесь поражают всеми мыслимыми проявлениями жалкости и грязи», а «лица, что посматривают из узеньких окошек, желты и отвратны; да и выглядывают-то если не еврейки, то ирландки…»
Томаса Нейлла Крима, родившегося в 1850 году в Глазго, родители привезли в Монреаль ребенком. В возрасте двадцати двух лет он поступил в Макгилл и через четыре года его окончил — еще один иммигрант пробился наверх: получил диплом врача. «Прекрасный работник, умнейший юноша, — писал о нем его профессор, — однако подвержен странным идеям — чудовищно странным идеям, должен признать; так что я уж и не знаю, до чего они могут его довести».
А довели они Томми для начала до убийства с помощью морфина девушки из Торонто, на которой ее разгневанный папаша заставил его под дулом пистолета жениться. Пока молодая женщина умирала у Крима на руках, он рыдал от напускного горя, а затем сразу сбежал в Иллинойс, где, использовав стрихнин, разделался со стареющим фермером, чтобы не мешал наслаждаться его неугомонной женушкой. Такая необузданность стоила ему десяти лет тюрьмы, выйдя из которой, он уплыл в Лондон. В Лондоне косоглазый доктор напропалую предавался разврату, заодно отравив по меньшей мере шесть filles de joie[43] за год, четыре из которых умерли в муках. Лишь после этого он был пойман и в 1892 году отправлен на виселицу, у подножья которой заявил, что он и есть тот самый Джек-Потрошитель.
Вот так очередной враль-канадец пытался крепко отметиться в Лондоне.
Возможно, это общая тенденция, размышлял Джейк, сидя в выгородке, которая называется скамьей подсудимых, и скромно опуская глаза, как только кто-нибудь из присяжных на него взглядывал. Быть может, приезжающие в Лондон провинциалы из колоний всегда были неравнодушны к нимфам панели?.. Что ж, это очень, очень даже возможно.
А в голове тем временем сложилась песенка:
Я не вор, не растлитель, не пакостный жид, Не священных основ сокрушитель, А беспечный любитель со всеми дружить, И вот на тебе: Джейк-Потрошитель!6
Не прошло и часа после ухода Джейка, как зазвонил телефон.
— Да, — сказала в трубку миссис Херш, — дома, дома. Что мне сказать, кто просит?
Но не успел звонивший отчитаться, встрепенулась Нэнси:
— Что? Меня?
— Ну не меня же, — слегка насупилась миссис Херш, протягивая трубку.
Нэнси трубку взяла, взамен предоставив свекрови младенца.
— Пожалуйста, снесите его в кухню. Если хотите, можете дать ему бананового пюре.
— Нет, вы такое видали? Вот так вдруг, прямо без борьбы Форт Нокс сдает свой золотой запас! Вся гигиена побоку, и я уже гожусь кормить внука!
— Да, конечно, — нежным голосом заворковала Нэнси. — Ну, только если к пяти я вернусь. Он позвонит, как только в суде объявят перерыв…
— Вы что, куда-то уходите? — потрясенно вопросила миссис Херш.
— Похоже, что да, — ледяным тоном ответствовала Нэнси.
— А если в полдень позвонит адвокат, что я ему скажу?
— Скажете, что я поехала в «Форест-миер-гидро»[44] лечиться клизмами. Миссис Херш, ну в самом деле, должна же я воздухом дышать! Хоть иногда! Совсем-то уж нельзя же!
Нэнси взяла ребенка на руки, покачала, помурлыкала. Уснул. Молли у миссис Херш была занята на кухне — при содействии бабушки безмятежно строила дом из комплекта «лего», пока там не появилась Нэнси, причем уже не в слаксах, а разодетая в пух и прах, что называется, в наряде от Пуччи-шмуччи (не в обиду будь сказано) и пахнущая, как парфюмерная лавка. Ну уж и отхватил мой Янкель себе прынцессу! Та одарила миссис Херш улыбкой. Впрочем, почти незаметной.
— И пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь! Молли пусть будет умницей, пойдет поиграет в саду. У Бена следующее кормление в четыре. Я тысячу раз успею вернуться; а до тех пор он все равно будет спать.
Оставшись в доме одна, миссис Херш на сей раз не стала с пристрастием изучать содержимое огромного — от стены до стены — отделанного кедром платяного шкафа, тем более что все имеющиеся в нем экстравагантные шмотки от Диора и Симонетты, Сен-Лорана и Ланвена уже были ей более или менее известны. Шуровать в бесчисленных ящиках с бельем было лень — там тоже все загадки разгаданы. Экая она у Янкеля цаца — прямо куда там: трусы ей подавай шелковые! Занозу в зад небось и то потребует не иначе как из красного дерева.
Приобняв Молли, миссис Херш велела ей идти в сад, обещав после обеда подарок, а сама поднялась на чердак в кабинет Джейка, где у него, между прочим, маминой фотокарточки нет как нет. Папаши, патентованного идьёта, — этого есть. Ну, Нэнси — понятно. Но ему тут что, на стенах места мало? Боже ж мой, хватило даже для вырезок из немецких журналов: вон какой-то фон Папен, еще и с семейством, фрау Геринг в магазине, какой-то эсэсовский генерал, вот картинка с корявой мазней, будто бы изображающей фельдмаршала Монтгомери. На него место есть. На всех место есть. А на мамочку? А на мамочку-то и нету!
Один шкаф почти пуст. Потому что и седло, и причиндалы для верховой езды, которые у него здесь хранились, все чохом переехали в Олд-Бейли. Теперь это вещественные доказательства обвинения. Зато в другом шкафу, к несказанному ее удивлению, обнаружились консервные банки — множество банок с консервами. Несколько полок, уставленных рядами и штабелями банок. Жестянок, какие бывают с супом, жестянок как с сардинами, жестянок как с тушенкой. Прямо супермаркет какой-то! Самое дикое то, что все без этикеток. Этикетки все до единой содраны. Миссис Херш взяла жестянку, которая, на ее взгляд, могла быть с лососиной или тунцом — что то, что другое, без разницы, — и спустилась в кухню, где, как подсказывал ей горький опыт, везде один сплошной дрек.
В холодильнике бекон и сосиски из «Харродса», какой-нибудь еще, может быть, копченый угорь, а буфет набит консервированными крабами и омарами, мидиями, улитками, бобами со свининой и прочим всевозможным трейфес — и никакой тебе гефилте фиш[45] или кошерного салями. Позвонить в магазин Селфриджа[46] ее высочество конечно же забыла!
А как она набирает номер — о, это надо видеть: крутит диск карандашиком, а то не дай бог сломает ноготь; они у ней длиной чуть не по футу каждый. Ладно хоть должны быть помидорчики и салат. С рыбкой, уж какая там ни окажись, пойдет за милую душу.
Но, открыв немаркированную жестянку, миссис Херш над ней остолбенела. Там оказалась клейкая желеобразная субстанция с решительно отвратным запашком.
Наверное, свинина, подумала она и судорожно отпихнула банку от себя подальше.
7
Когда Джейк познакомился с ней на вечеринке у Люка, Нэнси спросила: «Вы писатель?» — почему-то не включив в вопрос напрашивающееся словечко «тоже».
— Зачем? — ответил он, слегка обескураженно. — Я режиссер.
Ну да, с его стороны это было самонадеянно, и еще как, но все же это лучше, чем то, как он с недавних пор повадился представляться: «Я режиссер. Но не такой, какого вы искали. Такого, как я, и искать бесполезно: надо хватать, пока он в городе».
Дело было в 1959-м, сразу после триумфального приема, который пьеса Люка имела в театре «Ройал Корт», тогда как Джейк в те времена, балансируя в полуподвешенном состоянии, ждал возможности поставить свой первый фильм и чудовищно много пил.
Придя на вечеринку к Люку буквально на следующий день по приезде в Лондон, зажатая в галдящей толпе незнакомцев, Нэнси все время чувствовала на себе тяжелый взгляд темноволосого курчавого мужчины, который ко всему прочему еще и сутулился. Плоховато выбритый, в галстуке с приспущенным узлом и выбившейся из мешковатых штанов рубашкой, Джейкоб Херш норовил затесаться в каждую компанию, к какой бы она ни подошла. Оценивал и изучал высоту и полноту ее грудей, изгиб линии попки, приглядывался, не толстовата ли лодыжка — а то, может, еще какой изъян обнаружится? Стоило ей опуститься на диван и, увлекшись беседой с каким-то актером, закинуть ногу на ногу, не без самолюбования демонстрируя, какие длинные у нее ноги, как он, нисколько этим уже и не удивив ее, сразу сел со стаканом в руке на пол напротив и стал с пугающей скоростью подползать. Явно пытаясь при этом разглядеть то место, где кончается чулок. От ярости покраснев, Нэнси на миг подумала, не задрать ли платье, снять трусы да и кинуть их бесстыжему обалдую прямо в его унылую морду. Но вместо этого лишь сдвинула ноги теснее и одернула юбку. Впрочем, нет — вряд ли он просто озабоченный мелкий поганец; скорее парень чувствует ее недостижимость и всячески себя настраивает искать и находить в ней недостатки. Будучи исключительно привлекательной девушкой, к вниманию таких субъектов она уже привыкла, немало натерпевшись от них в университете. Да, вот кого ей Джейк напоминал: какого-нибудь до оскомины нахватанного, невыносимо начитанного зубрилу-третьекурсника, вообразившего себя интеллектуалом. Бывают такие — знаете? — как правило, почему-то еврейские мальчики, напичканные невнятными, жутко пафосными стихами без знаков препинания и заглавных букв; от соседства с нею они дико возбуждаются, но слишком неловки (да и трусоваты), чтобы подойти и заговорить — а ведь чем черт не шутит, вдруг да и получится назначить свидание! Но где им! Вместо этого они садятся в студенческом буфете за соседний с нею столик и начинают агрессивно перед всеми выделываться. Или громко обсуждать ее нарочитую, по их мнению, холодность. А еще бывает, втиснется такое хамло на лекции рядом с ней и давай слепить блеском вопросов к профессору. Любили они и высмеивать ее, особенно перед девчонками, которым с внешностью повезло меньше, просто на нет исходили от жажды мщения за предполагаемую неприступность. Хотя и приступать-то не пытались: кишка тонка, зато слухи о ее тайных сексуальных похождениях распускали такие оскорбительные, что, бывало, у нее слезы на глаза наворачивались. И не важно, что она предпринимала все мыслимые меры, чтобы не провоцировать, не быть слишком заметной: ходила в мешковатых свитерах, чуть не монашеских юбках и туфлях без каблука. Всячески тихарилась, лишь бы не приваживать тех самых парней, заинтересованности которых другие девицы изо всех сил добивались. Она же добилась только того, что все поняли: Нэнси Крофт не наш человек; ну да, вся из себя, да и фигурка тоже, но — холодная и чужая.
Джейк с бокалом в руке хвостиком тащился за нею следом, всегда чуть отступя от ее кружка. Если она осмеливалась что-нибудь сказать про Лондон или отпускала замечание о только что виденном спектакле, он с комментариями не лез, но снисходительно усмехался, будто говоря: вот дурочка! Если помимо воли втягивалась в разговор с занудой, глазами выражал порицание, с брезгливым видом поднимая бровь: что, мол, страдаешь, терпилица! Не можешь, что ли, отшить? Таскаясь за ней из комнаты в комнату, он, видимо, изнемог и дважды в разговор все же вмешался. В первый раз когда мужчина, что-то прошептавший ей на ухо, заставил ее рассмеяться. Он тут же ни с того ни с сего грубо встрял, а когда почувствовал, что тому мужчине это как с гуся вода, стал его язвительно расспрашивать о жене и детях. Во втором случае, когда мужчина рядом с нею был выше него ростом и симпатичнее, ему вдруг показалось, что она как-то слишком уж благосклонно принимает ухаживания, и тогда он просто схватил мужика за рукав и под благовидным предлогом куда-то чуть ли не силком уволок. В общем, Джейкоб Херш с нее глаз не спускал, даже долить в бокал не отлучался, если сокровище, по его мнению, не было в это время в должной безопасности, зато, когда она разговорилась с явным гомосексуалом, счел момент подходящим и, широко ухмыляясь, на нетвердых ногах поплелся прочь.
В конце концов Нэнси не выдержала и сунула ему свой пустой бокал.
— Вы не могли бы раздобыть мне что-нибудь выпить?
— Кто — я?
— Ну да, если вам не трудно.
— ВыизвинитемынезнакомыяДжейкобХерш.
Вот тогда-то она и спросила его: «Вы писатель?», почему-то не включив в вопрос уподобляющее словечко «тоже», а он ответил: «Зачем писатель? Я режиссер!», тем самым предоставив ей возможность улыбнуться.
Он тут же мстительно контратаковал:
— Только не говорите мне, что вы актриса!
— Нет, я не актриса.
Получив назад свой бокал, она повернулась к нему спиной и принялась болтать с кем-то другим, нарочно демонстрируя жаркую вовлеченность. Но тут ощущение того, как он шарит взглядом по ее спине, особенно подолгу задерживаясь на попе, стало совершенно нестерпимым — настолько, что она сперва даже хотела нагло покрутить ею, повилять перед его носом, но не решилась, а, наоборот, собравшись с духом, скользнула в сторону, прижалась спиной к стене и вдобавок как ширмой заслонилась от него собеседником, только бы лишить этого «Джейкобхерша» возможности смотреть на нее так плотоядно. А когда собеседник-ширма оказался занудой (еще один боец на ристалище неуемных рыцарских эго), она внезапно извинилась и пошла надевать пальто.
— Люк, пожалуйста, вызовите мне такси.
Тут чьи-то неуклюжие руки перехватили пальто, стали ей его подавать.
— Я подвезу, у меня машина.
То был, конечно, Джейк, и он не спрашивал. Почти повелевал.
— Да нет, я уж пешочком. Хочется, знаете ли, продышаться.
— Вот и мне тоже! — радостным петушком пискнул Джейк и, не ожидая приглашения, последовал за нею.
Пока вместе не завернули на Хэверсток-хилл, шли молча, ветер развевал длинные черные волосы Нэнси, а на ее бледном овальном лице преобладало удивление.
— Ну вы и красавица! — сердито буркнул Джейк.
— Спасибо.
— Хотя ведь вам, должно быть, не впервой это слышать, — пробормотал он, пожав плечами.
— Нет. Не впервой.
— Зато от меня вы это слышите впервые! — вдруг заорал он, грозя ей пальцем. — А я не каждой это говорю! Как Шапиро. Этот болтун, подонок речистый.
— А кто это?
— Да тот, который вам ушки нализывал.
— А, так вот, значит, кто это был! — воскликнула она с наигранным интересом.
— А вы в Лондоне живете или так, наездом?
— Я еще посмотрю, понравится мне тут или нет.
— Вам понравится, — заверил ее он.
— Тогда, значит, решено?
— А что же так саркастически?
— Да мне бы еще работу найти.
— А может, я помогу? Что вы умеете?
— Показывать стриптиз на вечеринках.
— Нет, серьезно, кто вы по профессии?
— Какая вам разница?
— Но вы же не социальный работник, черт побери!
— Вы что, хотите прекратить знакомство?
— Или, не приведи господи, детский психолог!
— Пока не угадали.
— Вы богаты?
— Мой отец бизнесмен, торгует обувью.
— Уже интересно.
— Н-да-а, ну и странный вы парень!
С тем они и подошли к дверям ее жилища на Аркрайт-роуд. Она ковыряла замок ключом, он медлил.
— Так уж и быть. Можете зайти, рюмку напоследок налью. Если пообещаете вести себя прилично.
В знак согласия он кивнул, но его улыбочка ей не понравилась.
— То есть вам должно быть ясно, — не успокаивалась она, — что в постель к себе я вас не приглашаю.
Готовя напитки, она посматривала на него через окошко в стене, разделяющей кухонный стол и обеденный — как он брал в руки журналы и словно взвешивал, будто судья, который взвешивает улики. Понятно: два года строгого режима за «Вог»; за «Эль» еще шесть месяцев одиночки. «Лейдиз хоум джорнэл»?! Все, голову с плеч! Ага, вот потянулся к полкам, проверяет книжки — где тут дурной вкус притаился? А модный хлам? Довольно хихикнул: видимо, нашел и то и другое. От души забавляясь, она не стала объяснять, что квартира ею подснята со всем содержимым. Но тут Джейк наткнулся на «Избранные рассказы» Исаака Бабеля, книжка лежала на кофейном столике. Схватил. Полное недоумение.
— И вы что же, вот это — читаете? — почему-то с обвиняющей интонацией спросил он.
— Да нет. Я надеялась, что мне удастся затащить сюда вас, вот и выложила — специально, чтобы произвести впечатление. А что — по-вашему, следует?
Джейк отдернул руку, глаза сузились. Весь обмяк.
— Извините, — проговорил он.
— Весь вечер вы ко мне будто приценивались. Какое у вас на это право?
— Никакого. Давайте завтра сходим пообедаем.
Но оказалось, что у нее билеты на «Гедду Габлер».
— Да ну, она у них ужасно поставлена! — рассердился Джейк. — Не спектакль, а уродище какое-то. Этого их недоноска назначь регулировщиком на перекрестке, и то не справится, — и давай поносить сперва Бинки Бомонта, «Ройал Корт» и Дональда Албери, а потом, увлекшись, и Артура. Рэнка[47], да и вообще режиссуру — что в «Гранада телевижн», что на Би-би-си. Наконец Нэнси не выдержала:
— Я очень, очень устала. Ведь я приехала только вчера, вы же знаете.
Джейк вскочил, опорожнил бокал.
— Я так и не сделал попытки, потому что вы не велели… Но может быть, надо было? Может, вы на самом-то деле это не всерьез?
— Нет, я всерьез. Честно.
Но поцеловать ее он все-таки попробовал. Поцелуй остался безответным.
— О’кей, о’кей, всерьез, все понял. А можно мне встретить вас у театра? После спектакля съездим куда-нибудь, пообедаем.
— Я буду там не одна.
— Во как! А с кем?
— Вас это касается?
— Вам что — стыдно сказать?
Что ж, она сказала.
— Ах вот он кто… Бог ты мой! — И он горестно прижал ладонь ко лбу. — Бедное дитя! Он же сволочь каких мало.
— Вроде Шапиро?
— Хуже. Один из самых злостных притворщиков в городе. Будет называть вас кошечкой и зайчиком, выделываться в ресторанах и всячески вешать лапшу. Зачем вам с ним встречаться?
— Мне кажется, вы… как-то многовато на себя…
— А как насчет вечера в четверг?
— На четверг мы договорились с Люком.
Это его, похоже, вконец доконало. Не возражал. Не грубил. Просто тихо, тихо пошел к выходу.
— А вот в пятницу я вечером свободна.
Однако в четверг всего за десять минут до момента, когда должен был прийти Люк, у Нэнси зазвонил телефон.
— Я еще дома, — сказал Люк. — И должен говорить быстро. Здесь Джейкоб Херш, помнишь его?
— Да, конечно.
— Зашел пригласить меня на обед. Как-то это неловко. И он весьма решительно настроен. Я ему говорю: у меня свидание, а он: ладно, приглашаю обоих! Ты как — не очень возражаешь?
Через несколько минут Джейк, сияющий, сидел на ее диване. Люк нервно постукивал ногтем по зубу. Нэнси разливала напитки.
— Лед я принесу, — вскочил Джейк. — Не беспокойся, Нэнси. Я уже знаю, где он.
— Я сама принесу лед, — ровным голосом проговорила Нэнси.
— Да пожалуйста-пожалуйста! Навязываться не стану.
Но, едва оказавшись в «Ше-Люба»[48], теперь уже Нэнси странным образом почувствовала себя лишней. То, как двое друзей лезли из кожи вон, соревнуясь за ее внимание — чуть не изо рта друг у друга выхватывая истории, тянули их каждый к себе, как два щенка тряпку, якобы в шутку, но каждый раз с подковыркой, — ее, с одной стороны, очень веселило, но вместе с тем и досада брала: ей-то ведь и слова не дают вставить! Люк рассказывал смешные анекдоты про актеров, занятых в постановке его пьесы, она смеялась, Джейк мрачнел.
— Расскажи лучше про того продюсера из Нью-Йорка, — целя в приятеля злобным взглядом через край стакана, предложил Джейк. — Ну, помнишь? Еще девицу который привел, специально чтобы ты ее…
— Вот, обрати внимание: Джейк свято хранит секреты, — не дал ему договорить Люк.
Тогда Джейк рассказал ей о том, как однажды ставил спектакль для «Гранада телевижн», а во время эфира один из ведущих исполнителей умер от сердечного приступа, и тут уж режиссеру досталось! Пришлось покрутиться, показать, что он умеет делать с камерами. Люк пригласил ее понаблюдать за съемками в Пайнвуде[49], в ответ Джейк тут же стал зазывать ее смотреть телеспектакль, сидя за режиссерским пультом.
Так они и дергали ее каждый к себе — наперебой, безостановочно, а в результате совершенно измотали, и она была несказанно рада, когда в конце концов пришла пора уходить. Джейк схватил счет.
— Мы возьмем такси, — сказал Люк, взяв Нэнси под руку.
Но Джейк, уповая на то, что скаредность Люка пересилит все, что угодно, лишь отмахнулся:
— Еще чего! Я отвезу вас. Нам по пути.
Джейк распахнул перед Нэнси переднюю дверцу, но она грациозно скользнула на заднее сиденье, поближе к Люку. Сука!
— Кого отвезем первым? — пропел Джейк.
— Мы едем к Нэнси.
И вот машина встала у ее двери, но Джейка никто «на рюмку чая» не пригласил.
— Тебя подождать? — спросил он Люка.
— Спокойной ночи, — отозвался тот, прежде чем со всей дури шандарахнуть дверцей. — И спасибо за обед.
Неблагодарный мудак! Второсортный писака! Джейк свернул за угол, переждал красный свет, потом вынужден был дать кругаля, чтобы не переть против одностороннего движения, и в результате остановился там же, где и был, только на другой стороне улицы. Выключил свет, стал ждать. Адонай, Адонай, сделай так, чтобы у нее оказались месячные! Пусть из нее течет кровь, из скотины этакой! Хотя ему-то — ой! — ему ли не похер, грязному гойскому ублюдку.
Прошло полчаса. Свет в гостиной погас, опустились шторы.
…О-о, — стонет она там, — о-о, твои руки сводят меня с ума-а! Пожа-алуйста, войди в меня скорее!
Дрожа от нервного возбуждения, Джейк прикуривал одну сигарету от другой.
…Но почему ты до сих пор такой мяконький?
Хх-хе-хе! Вслух усмехнувшись, Джейк хлопнул себя по коленке. Второсортный писака, жмот, скупердяй, к тому же у него еще и не стоит!
…Ну… ну, тогда я тебе полижу.
Ой, нет! Не позволяй ему, Нэнси! У него это… У него ангина Венсана![50]
Час прошел. Вот и в спальне свет гаснет. Пожалуй, при ближайшем рассмотрении не такая уж она и умница. Да и красавица сомнительная. И зубы у нее неровные.
Два часа! Тут Джейку, преисполненному к ней отвращения, а к себе ненависти — за все это высиживание в темноте, будто он какой-нибудь придурочный подросток, — неожиданно вспомнилось детское: «Если я умру во сне, Боже, снизойди ко мне…» Ага, конечно! Он-то снизойдет, а я-то что же — сойду в могилу, так и не поставив «Оливер!»?[51] Ни разу не трахнув негритянку? не увидев Иерусалим? не отказавшись от «Оскара» и не выступив по этому поводу с речью, не испытав, как действует героин, не поучаствовав в борьбе за какое-нибудь важное дело, не заимев круизную яхту, не произведя на свет сына, не став премьер-министром, не бросив курить, не встретившись с Мао, не попробовав (прости, Господи!) секс с мужчиной, не сняв фильма по рассказам про Беню Крика, не отклонив предложенный титул сэра, не оказавшись в постели с двумя красотками одновременно, не убив нациста, не пригласив в Лондон Ханну, не совершив круиз в каюте первого класса на лайнере «Иль де Франс», не сняв в каком-нибудь триллере Лорен Бэколл[52], не познакомившись с Ивлином Во, не прочтя Пруста, не кинув за ночь четыре палки (интересно: а бывает вообще такое?) и не удостоившись ретроспективного показа своих фильмов в «Национальном фильмотеатре»[53].
В твоем возрасте Орсон Уэллс уже был знаменит. Достоевский уже написал «Преступление и наказание»[54].
Моцарт завершил все лучшие свои творения. А сэр Перси Биши — так тот и вовсе утоп!
Впрочем, я не ставил цели Походить во всем на Шелли.Невыразимо подавленный, Джейк завел мотор и покатил прочь. Свернув на улицу, где жил Люк, машинально глянул на его окна, и сердце радостно ёкнуло: в спальне свет!
Отпирать Люк вышел в халате.
— Ты что тут делаешь? — накинулся на него Джейк.
— Как что? Живу я тут. — Времени было четыре утра. — А ты… вот, сейчас наберусь храбрости да и спрошу: ты-то что тут забыл?
— Да как-то не спится.
— И мне тоже. Выпьешь?
Они поговорили о перспективах постановки пьесы Люка в других театрах, о сценарии, с которым носился Джейк, о сенаторе Джоне Кеннеди и его шансах на президентство, а также о том, надо ли им со всеми вместе принять участие в следующей, пусть и бессмысленной, манифестации на Трафальгарской площади. Говорили обо всем, кроме Нэнси. Наконец, Джейк спросил:
— А ты чего там — вроде недолго с ней пробыл-то, а?
— Ушел почти сразу. У нее голова разболелась.
— Ай, как жалко!
— Да-а… Как она на твой взгляд?
— Да так себе. А на твой?
С годами эта пара реплик у них троих стала чем-то вроде пароля. Тем самым застолбив один из тех моментов, которые их объединяли.
Следующим вечером, как запомнилось Нэнси, Джейк приехал рано, чтобы было время покаяться, поскольку ожидал, что встретят его сердито.
А наутро они вместе улетели в Париж, и только там, когда она уже лежала в его объятьях, он признался, что на случай, если бы она принялась ругать его за испорченный вечер с Люком или вдруг пригрозила выгнать, у него было заранее намечено разыграть приступ люмбаго.
— Тогда бы мне пришлось зависнуть у тебя на неделю, я лежал бы в постели беспомощный и никак не мог бы противостоять самым извращенным твоим притязаниям.
В такси все это вспомнив, Нэнси улыбнулась.
То был 1959 год.
С тех пор появились Сэмми, Молли и Бен. Восьми лет как не бывало.
Когда в паб «Дюк оф Веллингтон» — тот, что на Портобелло-роуд, — крутя головой, торчащей над толпой посетителей, опаздывая, влетел запыхавшийся Люк, он не сразу углядел Нэнси, и она в этот момент вдруг увидела его ревнивыми глазами Джейка. Вытянутое лицо Люка стало теперь полнее, обрюзгло, появились морщинки, он завел бачки (как бы в помощь редеющим льняным волосикам) и окружил подбородок полукольцом монгольских усиков а-ля Фу-Манчу[55]. На Люке был желтый свитер с высоким воротом, коричневый замшевый пиджак и до неприличия обтягивающие узкие брючки с накладными карманами — похоже, не обошлось без Дуга Хейварда[56]. На сцене те же, входит их общий друг, стиляга, — сказал бы Джейк.
Ну стиляга, ну и что, внутренне заспорила с ним Нэнси, сопротивляясь навязанному Джейком неприятию и досадуя на себя за то, что его предубеждения застят ей белый свет, причем даже в его отсутствие! Люк, уговаривала она себя, все равно чудный, он всегда мне рад, всегда обо мне помнит, не то что некоторые другие. Да ведь нам с Джейком и самим уже под сорок!
Люк привлек к себе Нэнси.
— Как прошло вчерашнее заседание?
— Давай об этом пока не будем. Что Канада? Поклонники таланта падали ниц?
Ну, не то чтобы… Зато все их старые друзья в Торонто, по его словам, очень интересуются неприятностями Джейка, источают сочувствие, но жаждут грязи.
— Слушай, — резко сменив тон, заговорил он торопливо, — я хотел бы кое-что прояснить. Я, конечно, ни на секунду не допускаю мысли, что Джейка приговорят к чему-то более серьезному, чем какое-нибудь всенеприятнейшее предупреждение, но ты в любом случае о деньгах можешь не беспокоиться. В случае чего я смогу тебя обеспечить, причем левой ногой.
Этот сможет. И даже не ногой. Одним мизинцем. Тем не менее Нэнси была тронута. На глаза навернулись слезы.
— Да ладно, я и так уверена, что ты нас не бросишь.
— Ты что это? Иронизируешь? — Он нахмурился.
— Нет. Честно. Но лучше не надо. Джейку это не понравится.
Люк не настаивал.
— Какой идиотизм, — скривился он. — Ну, в смысле, суд, все это дело. Не верю ни единому слову. А ты?
Нэнси посмотрела на него настороженно:
— Не думала, что твоя убежденность нуждается в подпорках.
— Да ну, черт, нет, мы ведь три года жили вместе, в одной квартире, забыла? Я отлично знаю: нет у него никаких извращенных наклонностей! Да и вообще он в этом смысле скромник.
— Да. Но в той заварухе он был не один.
И она поведала Люку о том, что Гарри (второй фигурант дела) — субъект уже судимый, даже дважды, причем один раз за шантаж.
— А что по этому поводу говорит Джейк?
— Он думал, что Гарри привирает, а когда узнал, что все правда, тут уж, как говорится, прибалдел. От этакой безбашенной изобретательности. — Сказав это, Нэнси не удержалась от смешка. Люк тоже усмехнулся. — Джейк сказал так: «Ну кто подумал бы, что Гершл на такое решится». Между прочим, — добавила она, — Гарри уже связался с «Ньюс оф зе ворлд»: после суда хочет продать им всю подноготную.
— А на это Джейк что говорит?
— Его это невероятно забавляет. Он своим Гарри просто очарован.
— Что он, рехнулся, что ли?
Нэнси заметно напряглась.
— Шучу, шучу, Нэнси. Ты ж понимаешь, я любя. Но вся история настолько дикая! Ну, хотя да, адвокаты объяснят, расскажут, как он всегда подбирал всяких бездомных и заблудших, что Гарри он оказывал помощь как благотворитель, да и о том, что прилетел прямо с похорон в состоянии стресса, а ты была с детьми на Корнуолле, ну и…
— А вдруг он сам хочет в тюрьму?
— Да ну, не болтай чепухи, Нэнси!
— Все дело в том, Люк, что теперешним ты его едва ли знаешь.
— Так он меня сам отвадил. Надо же так издеваться! Своими шуточками по стенке размазывал. Моих девиц, весь мой образ жизни. Все чохом. О’кей, о’кей, я, что называется, пробился. Но если ты пробился, ты не обязательно продался! Видеться с ним — значило все время извиняться. Все время сдерживаться, чтобы он не попрекнул, будто я «сыплю именами». Черт, больно-то мне надо ими сыпать! Что ж делать, когда с этими людьми общаешься каждый день.
— Но он-то с ними не общается!
— Мы ведь как братья были раньше, сама знаешь. 3-зараза. Может, выпьешь?
— Мне нельзя.
— Постарайся смотреть на это с юмором.
— Стараюсь. Ха-ха-ха.
— Сейчас-то да, не до смеха. Знаю, знаю. Но когда кончится… а, ч-черт. Ведь молодыми мы были не разлей вода! — Люк словно думал вслух. — Столько у обоих было надежд, так лихо начинали!
— Не все кандидаты проходят.
Вот опять изречение Джейка[57].
8
Постучав по оконному переплету, миссис Херш вызвала из сада Молли. Они вдвоем поели вареных яиц с гренками: бог с ним, уж лучше так, чем снова трогать сковородку Первой Леди — у ней специальная такая, для омлета, всегда настолько жирная, что в ней хоть на коньках катайся, но после того как миссис Херш ее как следует отдраила с горячей водой и металлической мочалкой, выяснилось, что, по понятиям хозяйки, это чуть ли не уголовное преступление.
Затем, уложив Молли на послеобеденный тихий час в кровать, миссис Херш, все еще мучимая голодом, приготовила себе растворимого кофе. По чистой случайности она оказалась возле окна (и вовсе она не шпионила, что бы ни думала себе об этом Нэнси!) — как вдруг подъезжает машина. Низко посаженная и очень, очень дорогая спортивная модель. Мужчина, который оттуда вылез и обошел вокруг, чтобы открыть дверцу для Нэнси (конечно, разве такая цаца может сама повернуть ручку!), ростом был гораздо выше Джейка, этакий тощий локш[58] с соломенными волосами и в очках.
А главное — гой!
Вот обнимает Нэнси, гладит ее по длинным черным волосам.
— Ничего, все образуется.
— Мне только бы молоко не пропало.
Люк ее крепко обнял.
— Если пропадет молоко, я его возненавижу.
— Да перестань, — говорил он, мягко раскачиваясь вместе с нею. — Ты не сможешь.
— Нет уж, если молоко пропадет, я его точно возненавижу!
В этот момент Нэнси инстинктивно глянула вверх и, увидев в окне пепельно-серое лицо свекрови, так и застыла.
— Йёт-тэ-тэ-тэ!
Ой вей из мир! Горе-то какое! Отступив в кухню, миссис Херш упала в кресло, вспотела, ее всю обдало жаром. Сердце учащенно билось. Услышала, как отворилась парадная дверь, зашуршала Нэнси — вот пальто снимает… снимает… когда она его уже повесит? — ага, проходит в гостиную. Чем-то брякает об итальянский стеклянный столик на позолоченном, украшенном цветочным орнаментом основании. Щелкает зажигалкой. Не получилось, опять щелкает. Наконец вплывает в кухню — принцесса Янкелева, — изьяшно держа стакан в руке с длинными серебристыми ноготками. Трое детей, а эта! Ведь каждую неделю умудряется посещать парикмахера, за сучьими своими когтями следить… А пахнет теперь не столько духами, сколько кое-чем покрепче. Глаза припухшие.
— Ну что, дети не очень измучили?
— Как могут дети мучить? Дети — это счастье, они цветы жизни! Я только ради них и живу.
— Я тоже люблю детей, миссис Херш, но живу определенно не только ради них.
Ты-то да! Уж ты-то конечно. Блядь такая. Миссис Херш пихнула ближе к Нэнси открытую вонючую консервную жестянку.
— Что это?
— Собачья еда.
— А… Вот я так и подумала. Сказала себе: ну, наверное, это собачья еда. Но у вас же нет собаки!
— Нет.
— А… Значит, была?
— Никогда, — отрезала Нэнси, начиная получать от беседы истинное удовольствие.
— Я открыла ее по ошибке. Была без очков. Я в таком состоянии! Как подумаю, что он сейчас сидит на скамье подсудимых! Естественно, если бы я прочитала этикетку…
— Так там же нет этикеток. Ни на одной банке из всех, что хранятся на чердаке.
На глазах у миссис Херш выступили слезы, и Нэнси, так уж и быть, смилостивилась. Уже куда более мягким, примирительным тоном сказала:
— Разве вы не знаете, что у него в кабинете все особым образом разложено. А в каком порядке, знает только он. Там если что-то тронешь, он сразу поймет.
— Но зачем же — Господи, помилуй! — зачем ему собачья еда?
— Для Руфи.
— Какой еще Руфи?
— Миссис Руфи Флэм. Она как бы невеста этого самого Гарри. Впрочем, не важно. Но пожалуйста, не ройтесь в его вещах, миссис Херш! Ради вас же самой, пожалуйста, не надо!
— Ну а я что — говорю, что надо? Всю жизнь мечтала! — Она встала, качнулась. — Ох, эти приливы. Пойду прилягу.
— Давайте помогу вам. — И Нэнси подхватила ее под руку.
9
Прошлое Джейка, всегда представлявшееся ему исполненным сибаритства, беспредельного честолюбия и неумеренных запросов, наконец увиделось ему в законченном, отточенном и четком виде. В своей многозначительной симметрии. Еврейский Всадник, Herr Doktor Менгеле, Гарри, Ингрид, все вместе за шиворот притащили его туда, где он должен теперь в полудурочном виде, как голый дебил выставляться перед судом в зале № 1 на Олд-Бейли.
Вчера обвинение против него выглядело шатким, весьма шатким, но сегодня, в пятницу, впервые на заседание вызван Гарри. А Гарри-то — идиот! И Джейк, весь в коконе страха, вспомнил их первую встречу или, вернее, то, что по всегдашней своей гибельной беспечности он принимал за исходную точку их знакомства. Вот оскорбленный в лучших чувствах Гарри, покидая его дом, еще раз переспрашивает Джейка:
— Так вы действительно не помните, где мы встречались прежде?
— Нет, извините.
— Да пожалуйста-пожалуйста. Меня вообще очень мало кто замечает. Я, знаете ли, привык уже.
И вроде все сказал, а топчется, не уходит.
— Вы говорите, что у вас нет денег, мистер Херш, так что если бы даже захотели, все равно никак не могли бы изыскать. Это достойно сожаления. Потому что неоспоримо известно, что вам за то, чтобы вы не работали, в месяц платят больше, чем я зарабатываю за год. Или тут что-то не так?
— Кто вам это сказал?
— Это я просто к тому, что вы солгали.
— Но где же все-таки мы встречались, Гарри?
— По вашему тону я понимаю так, что вы считаете невозможным, чтобы мы вращались в одних и тех же кругах.
— Это и так понятно, — сказал Джейк, закипая злобой.
У Гарри щеки явственно порозовели.
— А теперь расскажите, как получилось, что вы в курсе, — пытался все же что-то выяснить Джейк, — или думаете, что в курсе состояния моих частных дел?
— Если вы солгали в одном, то, скорее всего, кривите душой и насчет двоюродного братца. То есть вы знаете нынешнее местопребывание Джозефа Херша. Или де ла Хирша, — добавил он язвительно. — Потому что вы его защищаете!
Стоя перед судом, Джейк внутренним взором видел Гарри таким, каким тот запомнился ему с первого появления в его доме.
Глумливый, похожий на хорька Гершл Штейн. В Лондоне родившийся, Лондоном воспитанный и Лондоном пропитавшийся до мозга костей. Государственное здравоохранение подоспело вовремя, чтобы снабдить его очками в стальной оправе, но слишком поздно, чтобы как-то улучшить состояние зубов — кривых и покрытых отложениями камня. Его каштановые волосы были редкими и сухими, зато пучочками торчали из ушей, а кожа казалась пятнистой и почти такой же серой, как плащ. Джейк тогда еще подумал, что все это от здешней сырости: вроде побегов картофеля, который прорастает, забытый под раковиной.
Маленького роста, щуплый, этакий петушок-недомерок, Гарри носил под пиджаком пуловер, а на лацкане значок борца за ядерное разоружение. В черном кружке вроде как стрелка вверх. Значок был лишним: что он борец, это и так понятно — весь его облик ясно говорил о наследственном кипении возмущенного разума, усугубленном личным горестным опытом. Темным, суровым опытом. Джейк сразу распознал в нем обездоленного, который, зверея, ждет автобуса под дождем в хвосте длинной усталой очереди. Мимо которой со свистом проносится Джейк на такси. Гарри же по пути домой заходит в лавку за галлоном дешевого бензина и разжигает примусок «Аладдин»[59], прежде чем высыпать на сковородку мороженые чипсы «Капитан Орлиный Глаз» и сосиски «Уоллз болз». В общем, пара минут, и готов одинокий ужин.
В то время как Джейк изводит продавщицу в дорогущем «Харродсе», требуя не этот, а вон тот кусок вырезки (там вроде пленочек поменьше), Гарри только в июле вступил в программу «Накопи на Рождество» и непрестанно отбивается от торговцев, рвущихся прямо на дому втюхать ему какую-нибудь заваль, зато уж от задолженностей банкам не страдает. Не огорчают его и очереди за «ягуарами». Как и отсутствие снега в Куршавеле.
Или карательный налог на доходы от прироста стоимости активов. Оскорбляет его лишь угнетение, происходящее от несовершенства мира. Его глаза горят, пышут злобой.
Едва тот угнездился в новеньком кресле от солидной и старинной компании «Хил с сыновьями», Джейк помимо собственной воли заметил, что брюки у парня лоснятся, а к манжетам подшиты полоски кожи.
— Мило. Очень мило, — сказал Гарри, оглядываясь в гостиной. — Обстановочка — мечта моей Руфи.
Той Руфи, что числится под не внушающим надежду номером в муниципальной очереди на улучшение жилья.
— Ей, правда, такое великолепие не по средствам. С одной стороны сорят деньгами янки вроде вас, с другой — жмут соки перецы рахманы[60], а в результате квартплата растет так, что боже ж мой.
— Я не янки. Я вообще-то канадец…
Как будто все устройство мира специально так задумано, чтобы мучить и изводить Гарри, издеваться над ним и вызывать его злость. Проснувшись на следующее утро после первого визита в дом к Джейку, он зажег вонючий газовый обогреватель и в ожидании, пока засвистит вскипевший чайник, прочитал на первой странице «Дейли экспресс» о том, что в Хитроу только что сошла с небес наиновейшая богиня — Джина Лоллобриджида, неотразимая в ягуаровой шубке с воротником из чернобурки. «Вдобавок к той шубке, что была на Ля-Лолло-Великолепной, у нее с собой еще три — тигровая, соболья и вторая ягуаровая. Номер люкс в отеле „Савой“, где звезда провела ночь, охраняет специальная стража». Еще в газете были фотографии красоток из последней серии «Мстительниц»; мстительницы все как одна стояли, так зазывно подавшись вперед, что в ложбинку между грудей хотелось присунуть. Так, что там еще… Какая-то шведская сучонка в мини-юбке, от ветра задравшейся по самую шармуту. Завалить бы ее куда-нибудь в болото, да и заткнуть, чтобы не хлюпала.
После чего Гарри пришлось все-таки с этой темы съехать, отметив про себя, что надо бы по пути на работу кинуть заляпанные спермой простыни в прачечную, пока там нет наплыва других любителей по-легкому оттянуться.
МОЯ ЛЮБОВНАЯ ЖИЗНЬ
Исповедь стюарда компании «Эйр Канада», обвиняемого в сексуальном насилии
Бортпроводник воздушного лайнера Пол Крейн из Кингстон-Хилла (Суррей), обвиняемый в изнасиловании стюардессы, поведал нам вчера о женщинах в своей жизни. Он рассказал, что в Сербитоне у него постоянная девушка, она работает в диспетчерской службе, но вдобавок он всегда поддерживал отношения с одной-двумя стюардессами.
Государственный обвинитель спросил его:
«Со сколькими из них вы переспали?»
Ответ Крейна: «Да чуть ли не со всеми».
Что ж, Гарри и без того знал, что стюардесс нанимают вовсе не за знание языков: от них требуется размер бюста, да чтобы рачком вставала с радостью и легко насаживалась, сев командиру на колени на высоте тридцати тысяч футов, пока лайнер на автопилоте. Это ведь нюхом чуешь — только носом поведи, когда она прямо из пилотской кабины заворачивает в туалет подмыться; на тебя при этом ноль внимания, ты можешь хоть обораться насчет попить-покурить, даже если это дешевый ночной рейс на Париж, во время которого никто ее особенно не дергает. Нет, она на тебя так посмотрит, будто ты грязь на дороге, и только буркнет: «У меня всего две руки, подождать можете?» А Гарри-то не дурак, он видит, что она только что эт-самое, шлюха дешевая.
Гарри с детства убедили, что начинать день надо с молока, а заканчивать чудо-снотворным. А если пиво будешь пить, то будут девушки любить. Да и Британию поддержишь. Потому что за лейбористов надо Голосовать Сердцем. А на работу бежать с песней в зубах.
Втиснувшись в переполненную подземку, где старичье все заплевало харкотиной («Мальчишка, поживи с мое!»), а хмурые усатые девицы прилепляют жвачку куда ни попадя («Гала — Такая же Девушка, как и Ты»), он опять попадает под психическую атаку плакатов с полуголыми девицами, чьи широко разведенные ляжки приглашают задвинуть, все на хрен задвинуть и мчаться на пляжи Мальты или Майорки. Вот одна прижимает к голым грудям бутылку шерри, ласкает, упрашивает: «Давай со мной!..» Девицы с ногами невообразимой длины, лоснящиеся, во всех местах уже смазанные, ты только глянь: они натягивают чулки как гондоны! Девицы, только что застегнувшие лифчик или вылезающие из ванны — ой, подержи полотенчико!.. А то беги, занимай очередь на стриптиз где-нибудь на Олд-Комптон-стрит в Сохо, а лучше в эротеатр «Уиндмилл», где можно расстегнуть молнию, прикрыть колени плащом и отдрочить, следя за выкрутасами на сцене.
Вокруг просто все — каждый и любой — получают искомое. Ну, то есть все, у кого есть деньги.
По стрелке выход на Оксфорд-стрит, толкотня перед эскалатором, забитым сиськами и задами, а также прыщущими самодовольством не шибко взрослыми девчонками в мини-юбках. Снулыми, что естественно. Днем они надменные стервы-машинистки/стенографистки или продавщицы, зато вечерами, крышей съехамши на колесах, становятся исступленными фанатками или даже херолепщицами[61], в чьих комнатушках на подоконнике теснятся изваяния хулиганских членов. А Гарри и тут пролетает — поздновато родился. Он не орет дурным голосом под бряцание скверно настроенной гитары, и волосы у него не висят до плеч. Так уж вышло, что «Роллинг Стоунзам» он предпочитает Бетховена. К тому же имеет классовое чутье.
Притиснутый толпой к стойке с прессой и не найдя на сей раз в себе сил миновать ее, не купив «Мэйфейр»[62] (вчера и позавчера все же как-то проскочил), в то утро Гарри злобно хапнул яркий журнальчик — ну просто хохмы ради: глянуть, что за хрень они там нынче людям впаривают. НУДИСТКА НАТАЛИ ДЕЛОН. СЬЮЗЕН СТРАСБЕРГ БЕЗ ОДЕЖДЫ. В «САЛЛИЗ АЛЛИ» ВАМ ПОМОГУТ НЕ ТОЛЬКО СТИЛЬНО ОДЕТЬСЯ, НО И УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕР ДОМА.
Сунув журнал в портфель, через пару минут Гарри уже на площади Сохо-сквер, вот он сворачивает в здание, заходит в лифт, потом на пятом этаже по коридору направо, и вот его клетушка, где груда документов о чужих чудовищных расходах ждет, когда он в них вдумчиво покопается. Ближе к полудню, раздавая улыбки как благословения, мимо проносится Отец Оскар Хофман (гильдия актуариев, ассоциация советников по международному праву): в два часа у него бизнес-ланч в «Белом слоне».
— Как вы считаете, Оскар, — настороженно глядя, спрашивает его Айзенталь, — говорят, «Триплекс Тьюб» созрела? Можно брать? Ничего такого не слышали?
— Кирпич и цемент. Вкладывайте в кирпич и цемент — не прогадаете.
Ощутив себя в настроении постебаться, Гарри пригласил на ланч огромную толстуху Сестру Пински, надеясь не утратить аппетита, когда будет внутренним взором пересчитывать складки на ее животе, прикидывая, насколько обременителен вес таких арбузных сисек.
— Пойдем со мной, Сандра, соединимся талончиками да закатим оргию.
— От тебя спасу нет, Гарри!
Тонна плоти, колыхающаяся при ходьбе.
— А ты стала бы, сняв трусы, позировать для журнала, а, Сандра? Как Натали Делон.
— Если бы стала, — послышался одышливый ответ, — там пришлось бы выделить для меня не страницу, а целый разворот.
В руках у Сестры Пински — это надо же — биография короля Фарука[63].
— Для меня, — пояснила она, — его судьба символизирует классически напрасную жизнь.
— Ах, Сандра, дай мне Фарукову жизнь, и я приму его жалкую смерть. Предоставь мне тридцатикомнатные номера в отелях и чтобы королевы красоты выеживались передо мною в танце живота. Пусть я буду в игорных домах проматывать по сотне тысяч фунтов за вечер. Я тоже хочу помнить имена всех римских девочек по вызову. А называя имя, сразу вспоминать, какой у нее цвет волос на лобке. И тогда знаешь что, дорогая? Тогда я уступлю тебе свой стол в офисе. И свой аккаунт в Обществе взаимного жилищного кредита. И страховку. И пенсионную схему. Свои фотокамеры. Свое прошлое, настоящее и будущее.
Ну что ж, пора назад в клетушку к нескончаемым чужим счетам, папкам и гроссбухам.
Когда веселый Отец Хофман, проплывая мимо, заскочил поприветствовать, было уже полчетвертого.
— Ты знаешь, кто там сидел за соседним столиком?
Гарри с улыбкой приготовится.
— Уоррен Битти[64] с очередной блядчонкой. Представь: отламывает кусочек хлеба, жует и языком пропихивает ей в рот. Прямо в ресторане. Хлеб черный.
Наконец в клетушку к Гарри притащился вызванный Брат Блум с отчетами на проверку. Гарри небрежно отодвинул их в сторону и говорит:
— Пора бы нам вместо тебя компьютер завести, ты не находишь?
— Я нахожу, что ты урод и момзер[65], — отозвался Блум, зная, как раздражается Гарри, когда при нем употребляют еврейские словечки. Будто на его частную жизнь покусились. Особенно если это в пределах слышимости мисс Пински.
И вот уже пора домой; Гарри перебирает возможности. Можно просочиться на семинар Академии графических искусств или пойти на Регент-стрит в «Камео-Поли» — глянуть новый фильмец. Или навестить Руфь. Решил посидеть дома перед теликом, напомнив себе, что сперва надо получить белье из прачечной, а уж потом усаживаться за ужин из яичницы с маринованным горошком, заодно услаждая себя свежей газетой «Ивнинг стэндард». Из которой однажды почерпнул, что, если Дэвид Бейли у кассы магазина обнаруживает, что накупил всякой всячины на девяносто с чем-нибудь фунтов, он быстренько докупает чего-нибудь еще, потому что должен выписать чек, а как пишется слово «девяносто», он не знает.
…Так, что там нынче? Дэвид Фрост[66] закатывает очередной завтрак на тридцать персон в отеле «Коннот». Все, кто хоть что-нибудь значит, трепещут в нерешительности — что бы такое надеть в среду на бал-маскарад у леди Антонии Фрейзер[67].
Сорокалетнего Берни Корнфельда, главу «Фонда заграничных инвестиций», обладателя личного состояния более чем в сто миллионов, во всех поездках сопровождают как минимум четыре девицы плейбойской неотразимости, одетые в мини.
Гарри снимает трубку, набирает номер отеля «Савой».
— Пожалуйста, пригласите к телефону мисс Лоллобриджиду.
— Мисс Лоллобриджида никаких звонков не ожидает. Если хотите, могу оставить для нее сообщение.
— Детка, ты лучше не жужжи, а двигай попой, посмотрим, как она откажется поговорить с… Джоном Хьюстоном[68].
— Хорошо, сэр. — Потом, после паузы: — В данный момент она подойти не может, мистер Хьюстон. Не могли бы вы перезвонить через десять минут?
— А что, в сортирах у вас телефоны еще не установлены?
Заслужил смешок.
— Что ж, ладно, как же нам быть-то… Я выхожу уже! Пожалуйста, скажите мисс Лоллобриджиде, чтобы оставалась там, где она сейчас. Через десять минут подойду. С полотенцем и жокейским хлыстиком.
Рухнув на кровать и расстегнув ширинку, Гарри тянется за «Мэйфейром»: «брачные игрища между Сьюзен Страсберг и играющим ее мужа Массимо Джиротти». На фотографии голая девица с напряженно закинутой назад головой лежит на простынях, с ней волосатый итальяшка, прилепившийся ртом к ее соску. «Вверху справа: прозрачный пеньюар не справился с задачей должного возбуждения мужа. Внизу: результат — внезапное появление мужнина брата». Здесь она простерта на скамье, голая, если не считать высоких кожаных сапожек; голова мужнина брата заслоняет от зрителя ее шармуту. Которую тот, надо полагать, вылизывает.
Гарри переворачивает страницу. «Исследование: опрос одиноких лондонских девушек об их сексуальной жизни».
…Я сидела на полу, а он подошел и, целуя меня, стал валиться со мною вместе на пол. Задрал на мне платье выше головы, и я вдруг поняла, что краснею как сумасшедшая, но он был так нежен… Просунул руку мне под спину и, расстегнув лифчик, принялся целовать груди и катать между пальцами сосочки, чтобы они встали.
Мы глубоко-глубоко засовывали друг другу в рот языки, и я почувствовала, как он пальцами водит по мои трусам. А на мне были такие маленькие одноразовые трусики, и он в них спереди прорвал дыру. Теперь я чувствовала его руки прямо уже везде и дико завелась. Закинула ему ноги на плечи и стала водить лодыжками ему по ушам, а после этого мы занялись любовью — через дыру в трусах. Мы сделали это три раза.
Кончив, Гарри мокрыми от спермы пальцами вымазал на фотографии рот и груди Сьюзен Страсберг, после чего разодрал «Мэйфейр» в клочья, торопливо оделся и направился по Хаверсток-хилл в паб.
На углу переулка Инглиш-лейн подзадержался, отыскивая телефонную будку; блокнотик с невнесенными в общедоступную телефонную книгу номерами, как обычно, лежал в нагрудном кармане. Тут он заметил, что чуть дальше в переулке припаркован «роллс-ройс Серебряное Облако». Водителя нигде не видно. С небрежным видом приблизился, по пути раскрыл в кармане плаща перочинный ножик и прочертил им по всей боковине «роллс-ройса». Пройдя довольно далеко вперед, вернулся и продрал краску с другого бока машины, после чего вернулся на Хаверсток-хилл. Когда вышел из паба, пошел посмотреть на «роллс», но его уже не было.
10
Мистер Паунд в который раз пытался прищучить Джейка.
— Правильно ли я понимаю, что вы — вот лично вы — с ненавистью относитесь к немцам.
— Нет, ну как же… Моцарт был немцем, — осмелился возразить Джейк. — Бетховен… Да ведь и Карл М… то есть я хочу сказать, Кант был немцем!
— И тем не менее вы их ненавидите. Это верно?
— Ну зачем же так, сэр, — ответил на это Джейк, изобразив недоумение. — Для этого надо быть расистом!
Он там! — думал Джейк, вновь садясь на предназначенное ему место. Он там, он и сейчас там. Скачет. Всадник с улицы Сент-Урбан. Пусть без костюма для верховой езды от «Джошуа Монаган лимитед», что в Сент-Стивенз-Грин близ города Дублина. Но все равно несется, скачет громовым галопом. По оливковой зелени холмов Верхней Галилеи. Или, может быть, уже в Парагвае. Птицей вспархивает на холм из курящихся туманами заливных лугов в долине реки Параны, одной рукой без узды, простым нажатием на холку правит чудным плевенским скакуном, другой достает из сафьяновой седельной сумки бинокль и обозревает расстилающиеся вокруг пампасы — ищет малоприметный след, ведущий в джунгли где-нибудь между Пуэрто-сан-Винсенте и пограничным фортом «Карлос Антонио Лопес», где затаился ничего не подозревающий Хер Доктор.
Бойся, Менгеле, бойся, потому что этот Всадник, когда-то бегавший задрав штаны, по монреальской улице Сент-Урбан, стал бронзовым как морской спасатель, и штаны у него теперь туго стянуты на плоском, твердом, как железо, животе. Он будит людей, высмеивает бездействие, взывает к отмщению.
— Как, — спрашивают Джейка вновь и вновь, словно с его стороны это какое-то извращение, — как может он до сих пор ненавидеть немцев?
— Да легко.
— Но послушай, — ласково увещевает его Нэнси, — как можно ненавидеть Гюнтера Грасса?
— Да как два пальца об асфальт.
— И Брехта?
— Вплоть до десятого колена!
Этого Нэнси, которой в День Победы в Европе было неполных семь лет, уяснить неспособна.
Ну как ей объяснишь, не выставив себя психом, как расскажешь об этом еврейском кошмаре, этом ужасе, который внезапно накатывает в его же собственной гостиной, разит как раз тогда, когда вокруг все только что было исполнено благополучия, когда вроде бы наконец все как-то устаканилось, улеглось, сплелось воедино — дом, жена, их общие дети, — так что всякие неприятности, ошибки и неудачи поддаются спокойному осмыслению, и даже такие вещи, как старение и смерть, только что казались вполне переносимыми.
Если бы он и попытался как-то что-то объяснить, то начинать пришлось бы с этой гостиной, с вещей банальных и бытовых. С буржуазного быта, который, надо признать, пятнадцать лет назад ему тогдашнему был совершенно чужд.
Вот вечер пятницы: хотя они не зажигают свечи и не исполняют других подобных ритуалов, которые позволяли бы встречать шабат как невесту, кое-что в нем все же остается, и при случае он это ощущает. Чаще всего после хорошего обеда. Из поджаренных ребрышек с печеной картошкой, салата, сыра и вина. Джейк откидывается на софе, перед ним чашка кофе из свежемолотых зерен, коньяк в сферическом коньячном бокале; истомленный и расслабленный, он тем не менее пытается что-то там разбирать в очередном предложенном его вниманию сценарии. Нэнси, уютно подобрав под себя ноги, устроилась в кресле, слушает концерт Моцарта в исполнении Давида Ойстраха. А может быть, наконец добравшись до воскресных газет, вырезает рецепт или статью о том, как элегантнее оформить травяной бордюр. Или размышляет над последней программой «Национального фильмотеатра», заранее в точности зная, что захочется посмотреть ему. Курчавенький Сэмми, плюхнувшись животом на пол, лежит, подставив кулачок под подбородок, с задумчивым видом составляет из затейливых деталек головоломку. Молли что-то рисует, нахмурилась. Нет только Бена. Ловит кайф в колыбельке под должной дозой материнского молока. А когда дети разложены по кроваткам, если к тому времени его летаргия проходит, он поднимает Нэнси, принимается ласкать ее, и заниматься любовью они удаляются в спальню на второй этаж, по дороге приостановившись у двери горничной, которой надо пожелать доброй ночи. В постели она под него всячески подстраивается, и он не чувствует себя ни уцененным, ни на безрыбье навязанным. Кончают вместе. Потом строят планы на отпуск. Что у нас там на очереди — Коста-Брава или долина Луары? Даже и менее счастливый брак, и то давал бы хороший повод к самодовольству. И великодушию к друзьям: все мы люди, у всех есть маленькие недостатки.
Бывает, Джейк не сдюжит, так и задрыхнет на софе. Мужиковато, конечно, зато ну очень по-домашнему! А перед тем, понадобится ли персик или пепельница, или, быть может, тарелочка вишен, это ему подаст Сэмми. А захочется выкурить сигару — ее принесет Молли.
Где-то далеко идут войны, происходят насилия. Люди голодают. Пальчики черных младенцев обгрызают крысы. Кругом зверство. Поджигатели. Враги. А у них убежище, которое он выстроил для своей семьи. Они пользуются им правильно и живут себе припеваючи. Разбитое стекло парника — работа Сэмми: не в те ворота гол засандалил. Нэнси ухаживает за своими розами и кустами томатов. Джейк помогает с прополкой. Доносящееся с кухни нескончаемое жужжанье — это бессонный мистер Шапиро, хомячок Молли, мчится, бежит в никуда, вращая свое колесо. Пятна на обоях в гостиной — Джейк виноват: произошел выброс шампанского из неловко откупоренной бутылки. Буфет — причуда Нэнси. Ее первая покупка на аукционе. В кладовке запас еды, в буфете — вина, в банке — денег. Хата богата, супруга упруга. Да и дети прелесть.
«Ну что, Янкель, жизнь удалась?»
«Да уж, грех жаловаться».
И вдруг, откуда ни возьмись, знакомая фотография еврейского мальчонки в кепке, порванном пуловере и коротких штанишках. Удивленное лицо, в глазах ужас, руки подняты над головой в попытке защититься. На заднем плане узкая варшавская улица, кучка других евреев. Они с нашитыми на грудь звездами Давида, с узлами и мешками на плечах. Все стоят с поднятыми руками. Позади них невидимому фотографу позируют четверо немецких солдат. Один для смеха навел винтовку на оцепеневшего еврейского мальчонку.
«Дети резали себе руки и собственной кровью писали на стенах барака, как это сделал мой племянник, написавший: „Андреас Раппапорт, прожил шестнадцать лет“».
А вот еще одна фотография, на сей раз поразительно красивой еврейки, она сидит голая на корточках перед ямой; солдаты за ее спиной ухмыляются. Смотрит в камеру; во взгляде нет ни гнева, ни осуждения, одна печаль; рукой пытается прикрыть свисающие груди. Как будто это важно. Как будто через несколько секунд она не будет мертва.
«Сколько их, по вашим оценкам, убито в Освенциме? Кто-кто, а вы-то должны бы знать».
Богер[69]: «Думаю, Гесс назвал примерно правильную цифру».
«То есть два с половиной миллиона человек?»
«Два миллиона или один миллион, — отмахивается Богер, — попробуй пойми теперь!»
Затем (в его еврейском кошмаре) за ними приходят. Прямо на дом. Уполномоченные службы дежидизации, призванные уничтожать еврейскую заразу. Бена как цыпленка хватают за ноги и вышвыривают в окно, разбрызгав его мозги по всему крыльцу. Молли, всем своим опытом наученную считать взрослых добрыми, вскинули в воздух — но не для того, чтобы вновь поймать в объятия, а чтобы ударить головой о кирпичный камин. Сэмми застрелили из пистолета.
«Когда двери фургона открывали, оттуда исходила страшная вонь, настоящий смрад смерти. В эти грузовики заключенных грузили своим ходом, а выбрасывали прямо в ямы рядом с крематорием № 11».
«Случалось ли, что кто-то был в этот момент еще жив?»
«Да».
«Но Менгеле не мог при этом присутствовать все время».
«По-моему, он находился там всегда. День и ночь».
11
Пятница.
Вслед за Томасом Нейллом Кримом и Эзрой Липски (ох уж этот пойлишер[70] паскудник!), а также вполне в традиции доктора Криппена, супружеской четы Седдонов, Невилла Хита, Джона Кристи, Стивена Варда[71] и других им подобных, Джейкоб Херш, бывший бейсбольный релиф-питчер сорок первой группы Флетчерфилдской средней школы, оказался в зале № 1 Уголовного суда, доставленный туда из камеры внизу, чтобы отвечать перед судом совместно с Гарри Штейном. Охранять обвиняемых с двух сторон встали молчаливые конвойные.
Над судебным залом № 1 огромный прозрачный купол. Стены в дубовых панелях. Меч правосудия — сверкающий, с похвальным тщанием выкованный и отделанный золотом — был в 1563 году подарен городу оружейным мастером и с той поры висит над судьей рукоятью вниз. На месте и свежий букет цветов и пахучих трав — традиционное средство от тюремной лихорадки, возникающей, как считалось, вследствие страшной вони, которая в прежние времена шла снизу, из камер Ньюгейтской тюрьмы. Букет, как всегда, стоит перед багроволицым Представителем Королевы в уголовном суде. Присяжные тоже тут как тут — переминаются с ягодицы на ягодицу на скамьях столь жестких, что уже одно это, с опаской подумал Джейк, должно склонять их к суровости немилосердной.
На Джейке его самый дешевый, скромненький костюмчик серенького цвета, будто из ателье проката, где он поседел и залоснился от трудов праведных. Выбор рубашки тоже неслучаен — из тех полупластмассовых, которые после стирки не требуется гладить. Современно, недорого, но солидно (никто ж не знает, что рекламой своих рубашек и воротничков фирма «Эрроу» обязана парочке счастливых гомиков). Все это должно подчеркивать его близость к народу, а стало быть, и к присяжным. Какой выбрать галстук, он раздумывал больше часа, пока наконец сердце не подсказало: вот он! Выбор пал на старую «селедку», когда-то купленную на распродаже в универмаге Джона Барнса.
Коварный мистер Паунд впервые вызвал на слушания Ингрид только вчера. Подобающе бледную, хотя и вполне привлекательную Ингрид в строгом черном костюме с юбкой, лишь чуть приобнажающей колени.
— Вы работаете, мисс Лёбнер? Кем?
— Работаю помощницей по хозяйству. Au pair girl. А вообще я студент.
Облаченный в парик Советник Ее Величества быстренько установил, что Ингрид двадцать лет, в стране она находится семь месяцев, а до того воспитывалась в семье приличнейшей из приличных: ее отец дантист в Мюнхене. Вечером 12 июня она ходила смотреть кино в «Одеон», а потом зашла выпить кофе в паб «За сценой» на Финчли-роуд. К ее столику подошел незнакомый мужчина.
— Который отрекомендовался Джейкобом Хершем, сказав, что он кинорежиссер?
— Да, сэр.
— Почему вы ему поверили?
— Он показал мне удостоверение личности и газетную статью о его последнем фильме.
— Что произошло потом?
— Спросил, не актриса ли я.
— Что вы ответили?
— Ответила, что нет. Но он был так возбужден! В хорошем смысле, вы не подумайте. И говорит: вы как раз тот девушка, который я искал.
— Что было после этого?
— Он пригласил меня к нему домой… да… Читать сценарий. Он хотел убедиться, что я достаточно владел английским.
— Вы согласились?
— Ну, я подумал: что в этом страшного? Он сказал, что, когда Элке Зоммер[72] пригласили сниматься, она тоже работала au pair girl в Хэмпстеде.
— Мисс Зоммер — это известная киноактриса, немка по происхождению. Я правильно понял?
— Да, сэр.
— Вот посмотрите: это те самые страницы сценария, которые он просил вас зачитывать? Пожалуйста, не торопитесь. Прежде чем отвечать, присмотритесь внимательно.
— Да, сэр.
— Как сказано в сценарии, девушка должна быть одета — я цитирую — в шапочку медсестры, лифчик, пояс с чулками и высокие ботинки. В руках у нее конский хлыст — конец цитаты. Вы были одеты именно так?
— Нет, я сначала просто так ему читала, по-серьезному. Много раз. И он очень строго слушал.
— А потом что?
— Потом он попросил меня одеться как в сценарии.
— И что вы сделали?
— Сделала, как он просил. Читала ему сценарий в лифчике и трусах. Шапочки медсестры у него не нашлось, а хлыст был.
— Понятно. А кто играл роль вашего, так сказать, партнера?
— Так он как раз и был генералом Монтгомери.
— Если ваша милость позволит, прочие страницы сценария я предоставлю на рассмотрение суда несколько позже.
Джейк сидел, уставясь на носки своих ботинок и крепко сцепив ладони. Только не извиняться, только не объяснять!
Следующим свидетелем был длинный сутулый полицейский с интеллигентным лицом, который приходил арестовывать Гарри.
— И тогда, — забубнил сержант Хор, — я еще раз его спросил, действительно ли его зовут Гарри Штейн, а он ответил, что здесь вам не Германия и он не станет терпеть гестаповских штучек.
— Он отказался назвать вам свое имя?
— Он сказал, что у него есть приятели на Флит-стрит и что он знает, какова жестокость полиции. Собственно, произнес он следующее: «Отвали, казак! Только попробуй мне, подсунь какого-нибудь тухлого сена».
— Понятно. Дальше, пожалуйста.
— Дальше я опять спросил его, верно ли, что он Гарри Штейн, и знает ли он барышню по имени Ингрид, а он ответил, что это все еще свободная страна, несмотря на ракеты «поларис» и американские базы.
— Американские базы?
— У него на лацкане был пацифистский значок. Он меня пытался вообще за дверь выставить!
Когда клерк принес Гарри Штейну Новый Завет, чтобы тот на нем принес присягу, секретарь суда кашлянул и спросил тихим, вежливым голосом:
— Какой вы веры?
Молчание Гарри было не просто враждебным. Оно жгло.
— Ну, то есть вы… гм… еврей?
На глазах у Джейка все советы неимоверно дорогих адвокатов, все увещевания, все репетиции, все транквилизаторы — все в один миг пошло прахом.
— На предмет угнетения, налоговых поборов и погромов, — возгласил Гарри окрепшим голосом, как Генрих V, ободряющий войска перед битвой при Азенкуре, — я действительно еврей! Вроде как «нас мало, но тем больше славы придется на каждого!».
Ну все! Петля на шею! — подумал Джейк. — Теперь-то уж точно петля.
Чуть дрогнув средневековым париком, мистер Паунд пригвоздил Гарри пронзительным взглядом.
— Когда вы затаскивали девушку наверх в спальню Хершей, — начал он свой очередной вопрос, — Херш был уже…
— Я не затаскивал ее.
— Когда вы сопровождали девушку наверх, Херш был уже раздет?
— Я не помню.
— Вы не помните?
— Он был в белье.
— Белье морской волны?
— Простите, не понял.
— Цвета. Цвета морской волны?
— А, ну да.
Да, господи, да! Обливаясь потом, сочащимся из каждой поры, Джейк заставлял себя не слушать: что там слушать, привыкать надо. Привыкать к тюремному существованию. Он уже видит гойских пидеров, щиплющих его по пути к пищеблоку. Психопатов, которые будут обзывать его трусом — или как там у них? хлюздой, что ли, — за то, что он не хочет присоединиться к плану побега, а то еще и убьют, чего доброго, раз его угораздило прослышать об их замысле. Всё, хорош рассиживаться после завтрака в теплом сортире с суперлиберальной «Гардиан». Будет ему теперь параша, воняющая день и ночь в углу камеры, а ведь он такой стеснительный, да и запорами порой страдает. «Давай-давай, дорогуша. Я не смотрю!» Порочные сокамерники станут устраивать ржач над его еврейством. «Что, синагога? Копченой лососинки небось хотца? Или у вас в законе только рыба-фиш? Как насчет виски „Чивас Регал“? Хорошей сигары? Бульончика с клецками из мацы? Ты не тушуйся, Янкель! Напиши своей бабели, пускай шлет чек — тряхнем чуток твоим секретным швейцарским счетом». Да и на прогулочном дворе он, естественно, отстоять себя не сумеет. «Видал? Который вон, еле плетется — это Херш. Грабли тут вчера растопыривал. По чану слегка отоварили, он и в осадок. Ну, чмо ботаническое!»
12
Бессонно ворочаясь на постели (в голове звон, сердце так и грохочет), миссис Херш молится, предлагая пять лет своей жизни, лишь бы сына не посадили в тюрьму, а там, глядишь, уйдет от этой своей холеры, вернется с детьми в Монреаль. Они же ей тут мешать будут: мужа-то нового нанюхивать!
И только это она собралась заснуть, внутри все как-то отлегло, вдруг — что такое? — в дверь стучат.
— Да-а?
— Извините, если я вас разбудила, — начинает Нэнси, полная решимости быть вежливой, — но…
Уснешь тут с вас!
— Только что звонил Джейк. Говорит, придет поздно.
Прижав ладонь к щеке, миссис Херш заполошно вскидывается:
— Боже мой! Что, что опять?
— Ничего, — ровным тоном отвечает Нэнси, не забыв ободряюще улыбнуться. — Ему надо о многом поговорить с Ормсби-Флетчером. Они зашли в паб. Возможно, он придет очень поздно. Вот, я принесла вам. — И она ставит перед свекровью подносик. — Взяла для вас кошерного салями и ржаного хлеба.
Бутерброд с салями приправлен ломтиками маринованного огурчика, тонко-тонко нарезанной редиской, помидорчиком и листиками салата. Рядом на подносе кружка чая с лимоном и высокий винный стакан, в нем свежесрезанная роза. Миссис Херш приподнимает верхний кусок хлеба с сэндвича, неодобрительно вздыхает, опускает и отодвигает поднос в сторону. Нэнси машинально подпихнула подносик вновь ближе к ней.
— Ну ешьте же, — потребовала она.
Миссис Херш в ошеломлении на нее уставилась. Погром, погром!
— Я три магазина обошла, пока кошерную салями отыскала. Так ешьте же ее, миссис Херш!
— Не могу.
— Вот сяду здесь и буду сидеть, пока вы не съедите сэндвич. И до последней крошки.
— Не могу.
— А я говорю, ешьте!
— Но вы же хлеб маслом намазали.
— И что?
— А то, что получилось некошерно. Мне не положено есть масло с мясом.
Черт! Черт! Черт!
— А шпионить за мной вам положено?
— Можно подумать, я что-то видела. Упаси Господи.
— Вы подсматривали за мной из окна. Пялились квадратными глазами!
— То есть это я преступница.
— И вы ни слова не скажете об этом Джейку. Вы меня понимаете?
— О, я понимаю! Ох, как я это понимаю. Уж это можете не волноваться!
— Нет, вы определенно, самым злостным образом не понимаете. Совершенно ни зги не понимаете. Вы что, в самом деле вообразили, будто Люк мой любовник?
— Кто произнес это слово?
— По-вашему, у меня их куры не клюют. Приваживаю табунами. В промежутках между беременностями. Когда не кормлю грудью и не меняю пеленки. Как только Джейк за дверь, приезжают целыми автобусами и заябывают до посинения…
Ах нет, не успев договорить, спохватилась Нэнси. Господи, боже мой, стоп, стоп, что я такое несу?
— Ну вы и слова употребляете. Прямо площадные какие-то!
— Если вам не положено есть бутерброды с колбасой и маслом, — уже не сдерживая слез, вновь перешла в наступление Нэнси, — то как же вы можете есть яичницу с сосисками?
— Яйца, милочка, согласно галахе[73], не мясное и не молочное, а парве[74], — надменно парировала миссис Херш.
— Ох, ну я не могу! — Нэнси даже ногой топнула. И еще раз топнула. — Иногда эти ваши еврейские штучки-дрючки…
Ага, шести миллионов им мало!
— Извините.
— Не извиняйтесь. Наоборот, не надо держать это в себе. Говорите, послушаем…
Тут-то и ворвалась в комнату Молли, будто ее кто из катапульты запустил. И сразу прыгнула в объятия миссис Херш.
— Что с тобой, бабушка?
— Ничего, моя др-р-рагоценная.
Нэнси тем временем надумала закурить сигарету.
— И как все прошло сегодня? — осведомилась миссис Херш. — Он что-нибудь рассказывал?
— Да вряд ли очень хорошо, — отозвалась Нэнси. — Иначе бы не отправился куда-то пьянствовать.
С тем она выскользнула из комнаты, поспешив к Бену, который уже испускал первые негодующие вопли. Загасив сигарету, выхватила его из колыбельки, и носом, глубоко вдыхая, сунулась ему в щечку. Потом, мелко покусывая, принялась целовать соленую от ее слез попку. Нельзя, чтобы пропало молоко. Что бы ни случилось, лишь бы не пропало молоко!
Медленно, методично Нэнси кидала грязные пеленки из тазика в американскую стиральную машину, потом складывала чистые и сухие и только-только улучила миг, чтобы заскочить в туалет, как в его дверь замолотила Молли.
— Мне на-ада-а!
— Поди принеси свое пальто, доча. Нам пора идти встречать Сэма.
— Мне на-ада-а! Пусти-и!
Что поделаешь, открыла дверь.
— Плюх! — сквозь хихиканье пискнула Молли у матери над ухом. — Плюх-плюх!
13
— Мистер Херш! — выкрикнул бармен. — Мистера Джейкоба Херша к телефону!
Но то была не Нэнси.
— Гарри с вами? — дрожащим голосом спросила Руфь.
— Нет.
— Он собирался ко мне ужинать, должен был прийти больше часа назад. Не знаю, где его искать даже.
— Успокойтесь.
Так… Если он ударился в бега, размышлял Джейк, это будет стоить мне всего-то 2500 фунтов залога. Что ж, как любит повторять та же Руфь, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
— Да ну, я уверен, он скоро явится, — солгал Джейк.
— А вдруг он что-нибудь с собою сотворил?
Вот уж совершенно несбыточная надежда.
— Да где-нибудь болтается, наверно. А может, просто заснул?
— Вы думаете, я ему домой не звонила? — И она разразилась слезами.
— Хотите, чтобы я к вам приехал? — устало спросил Джейк.
— Но если он обнаружит со мной вас, он придет в ярость.
— Да, это точно. Примите что-нибудь, Руфь. — Цианистый калий, например. — В конце концов он объявится. Что с ним может случиться? Насколько я знаю Гарри, он ждет не дождется, скорей бы завтра вновь предстать перед судом.
— Нехорошо так.
— Да, Руфь… Нет, Руфь… Спокойной ночи, Руфь.
Но осмотрительный Ормсби-Флетчер считал, что Джейку не следует ссориться ни с Гарри, ни с Руфью, поэтому настоял на том, чтобы к Руфи все же заглянуть. Поэтому, допив то, что было в бокалах, они пошли на автостоянку позади здания Олд-Бейли, по пути вновь и вновь уверяя себя и друг друга в том, что день в суде нынче выдался весьма и весьма обнадеживающий. Рядом с домом Руфи Ормсби-Флетчер Джейка высадил.
— Ну что — не пришел еще?
Руфь покачала головой. Она кусала губы, борясь со слезами.
— У вас тут есть что-нибудь выпить? — спросил Джейк, падая в единственное кресло, на котором не высилась груда белья, ожидающего глажки.
— Только безалкогольный «Шлоерс». Еще есть бутылка сидра «Бэбичам» — он слабенький, специально женский.
Как жаль, подумал Джейк, что коньяки «Реми Мартен» почему-то не удостоены рекламы по телевизору. Вспомнив, полез во внутренний карман. С целью успокоения Руфи, он захватил для нее дюжину пакетиков от «Кити-Кэта» и шесть этикеток «Кнорра»; от того, чтобы извлечь пяток шкаликов джина «Бифитер», пока решил воздержаться.
— А вам не очень трудно будет сделать мне чашечку кофе?
Увы, дети уже лежали в постелях, поэтому, размешивая растворимый кофе, Руфь была вольна в который раз предаться скорбному перечислению обид. Ведь Гарри уж совсем было решил исправиться, остепениться, бросил своих пакостных девиц, завязал с фотографией, а тут Джейк взял да и притащил его к Бернарду Фарберу — ну, на ту вечеринку, помните? — чем ввел опять во искушение.
Джейк, прилежно играя роль, устало обратил ее внимание на то, что он делает для Гарри что может. Но тем, как она вдруг все повернула, она таки заставила его взбодриться!
— А ведь ту девицу Гарри только для вас и притащил. Ему-то она совершенно была без надобности!
Внезапно весь отврат, неотторжимо присущий слушаниям в суде, вся оскорбительность необходимой лжи, вся связанная с этим грубость и вульгарность разом овеществились, представ перед Джейком в виде напыщенной пошлячки Руфи.
— Уважаемая миссис Флэм, — тихим голосом начал он, — пожалуйста, послушайте меня. У меня жена и трое детей. Ради Гарри я непозволительно рискую. Все, чего я хочу взамен, это правды. Ради бога, не надо этих внезапных вывертов.
— Ага, вы говорите одно, он говорит другое. Откуда же мне знать, что было на самом деле. Меня ж там не было!
— Не надо притворяться, будто вы глупее, чем вы есть, Руфь.
— Ишь ты!
— Зачем мне надо, чтобы Гарри для меня притаскивал какую-то девицу?
— Ну вы мужчина или нет?
— Если бы я собрался развлечься с девицей, пока Нэнси нет дома, я бы как-нибудь и без Гарри обошелся.
— Откуда мне знать, что у вас за игрища на уме?
— Да боже ж мой! — вставая, воскликнул Джейк и придвинул к ней все пять бифитеровских пробных бутылочек. И в ту же секунду позвонили в дверь.
— Это он! Это Гарри!
Гарри уставился на Джейка, подозрительно сузив глаза.
— Ну привет, Гершл. И где же это тебя носит? Может, уже убил кого, нет?
Тот не отвечал.
— А то, не ровен час, тут за уголочком кого-нибудь слегка изнасиловал, из-за того и задержался?
Бледный и настороженный, Гарри наконец отозвался:
— А ты что тут делаешь?
— Руфь волновалась. Приехал поддержать ее.
— Решил ее подкупить? — бросив взгляд на бутылочки, проговорил Гарри. — Чтобы и она была против меня?
Не ссорьтесь с ними, предупреждал Ормсби-Флетчер. Джейк полез в карман и достал упаковку таблеток.
— Вот, держи, Гарри. Но больше двух сразу не принимай.
Гарри только фыркнул.
— Сегодня все прошло хорошо, — сказал Джейк. — Думаю, прорвемся.
— Ну да, тебя-то в понедельник оправдают, братэлло. Чего тебе волноваться. Упечь они хотят меня.
— А почему у вас адвокат советник королевы, — подала голос Руфь, — а у Гарри нет?
— Наши адвокаты одна команда.
— И охеренно хорошо работают. Против меня.
— Но это же не так, Гарри!
— Тебе-то все с гуся вода.
— Конечно, с его связями… — присовокупила Руфь.
— Связи имеются. В крайнем случае обращусь за помилованием прямо к королеве. По блату. Только вчера про это с Филом говорил. Он обещал замолвить словечко. Спокойной ночи, Гарри. Утром позвоню.
— Не бойся. Делать ноги не собираюсь.
— Да я и не боюсь. Позвоню просто проведать, как ты.
— Какой стал заботливый! — поджала губы Руфь.
14
Когда миссис Херш проснулась от бряканья стаканов и громких голосов, было уже темно.
— Джейк, я никогда не пилю тебя за то, что ты пьешь, но, пожалуйста, больше-то не наливай!
— Вот хоть ты тресни, что бы я ни делал, Гарри все равно думает, что его определили в мальчики для битья. Считает, что его адвокат работает в моих интересах. Господь всемогущий, как же я мог втравить-то нас в такую заваруху!
— Да. Вот как ты мог это сделать, а, Джейк?
— Да что сделать-то? Что я сделал? Ты что думаешь, я и впрямь избивал ее этим дурацким хлыстом?
— Нет. Конечно нет.
— Тебя это что — возбуждает? Может, нам стоит попробовать?
— Иди к черту.
— Да ладно, я же не со зла. А между прочим, когда слушаешь все эти свидетельства в суде, у меня — вот честно-честно — встает. Думаешь, вот те на, звучит-то как заманчиво! Вот бы и мне туда! Но я там был, и все было совсем не так.
— Да верю я тебе, Джейк. В который раз говорю: я тебе верю.
— А где моя заботливая мамочка? — вдруг всполошился он, расплескав питье. — Зачем ты ее от меня прячешь?
— Я же сказала тебе: она уже легла.
— Если Гарри опять угодит в тюрьму, у него крыша съедет. Ему этого не снести. Ему тогда кранты.
— Зато ты только того и ждешь. Вот было бы приключеньице!
— Да ну, брось ты. Кому какое дело? До тебя, до меня… Всем плевать. Вот мне — ты знаешь, чье мнение мне важно? Доктора Сэмюэля Джонсона[75]. Все думаю: если бы я жил в его время, понравился бы я ему или нет? Позвал бы меня доктор Джонсон за свой стол или нет? Кстати, ты знаешь, Люк вернулся.
— Да ну?
— Об этом было в «Ивнинг стэндард». Не в новостях двора ее величества, конечно. В Лондонском дневнике. Он приехал, он уехал — событие! Большой талант… наш Люк.
— Пожалуйста, не пей больше.
— Как дети?
— Нормально. Давай сделаю тебе омлет.
— Нэнси… — Его внезапно потянуло к ней.
— Да, да, мой милый…
Они вместе двинулись в кухню, но столкнулись с миссис Херш.
— А, привет, мам. А гутен шабес! Нэнси, ты знаешь, ведь в былые времена моя мамочка по пятницам вечером зажигала свечи! Когда я был маленький, она каждую пятницу свечи зажигала.
Миссис Херш просияла.
— Ты про свои таблетки не забыла?
— Нет, я была хорошая девочка.
— Ну вот. У Нэнси глаза красные. У тебя тоже глаза припухли. Да не о чем вам беспокоиться, честно! У нас все схвачено. Когда это дело кончится, я, пожалуй, вчиню им иск за противоправный арест.
— Мы с твоей матерью тут поссорились.
— Да ну, пустяки. Немножко друг друга не поняли. Не будем расстраивать Джейка.
— Почему не будем? Сегодня я встречалась с Люком. Посидели, выпили. Я расплакалась, он подвез меня до дому, и твоя мать увидела, как он меня у подъезда поцеловал. Она решила, что у меня с ним роман, и поэтому я не хочу, чтобы она тебе рассказывала.
— Да я же слова не сказала! Избави бог!
— Пожалуйста, будь так добр, объясни ей, что ты ревнуешь меня к Люку не оттого, что между ним и мною что-то было, а потому что он сделался таким великим.
— Э, э! Я тут не на суде! Я там на суде!
— Ах, ну и сели бы без меня вдвоем на кухне, — вскричала Нэнси, убегая, — сели бы вместе да и поели бы какого-нибудь парве!
— Чего? — озадаченно переспросил Джейк.
Когда он вошел, она лежала на кровати, плакала. Сел рядом, стал гладить по волосам.
— Умер Нельсон Эдди[76]. В «Геральд трибюн» сегодня некролог был.
Когда ее рыдания утихли, Джейк принес стакан холодного молока и держал у ее губ.
— Пойми, ведь я же не из тех, кто измывается над старушками! — Тут ее плечи снова стали вздрагивать. — И не из тех, кто через слово матерится! В общем, прямо не знаю! Я такой дурой, такой дурой себя выставила! — И она, всхлипывая, часто прерываясь порыдать, рассказала ему, что произошло.
Джейк коснулся ее щеки.
— Я сегодня прибирался у себя в столе, — сказал он. — И нашел фотокарточку, на которой ты десять лет назад снята. Тебе там, по-моему, лет двадцать. Стоишь под деревом в летнем платье и этак еще волосы отводишь, чтобы в глаза не лезли. Такая до боли красивая, я даже злился на тебя, потому что не знал, что за мужчине ты улыбаешься, почему выглядишь такой счастливой — ведь меня ты тогда еще не встретила. Теперь вот знаю. — Он поцеловал ее. — Пожалуйста, постарайся немножко поспать, потом ребенок полночи уснуть не даст.
Проскользнув мимо комнаты матери, Джейк спустился в гостиную, где налил себе еще бренди. Н-да. Не то место, не то время. Поздно стали взрослыми и слишком скоро старимся — вот грустный удел всего его американского поколения. Рожденное в депрессию, хотя на себе и не испытавшее в полной мере ее горечи, оно умудрилось не влипнуть ни в Испанскую войну, ни во Вторую мировую, его миновали Холокост, Хиросима, израильская Война за независимость, маккартизм, Корея, а потом и Вьетнам, и наркотическая субкультура. И все как-то так ловко и без напряга. Все время возраст не тот. Вечные наблюдатели — нет, не был, не состоял, не участвовал. Все вихри где-то в стороне.
Когда Франко гордым победителем вошел в Мадрид, Джейк с приятелями с улицы Сент-Урбан сидели на завалинке, оплакивая уход из спорта Лу Герига[77], который первым дал им понять, что люди смертны. Вторжение в Польшу для них было всего лишь фотографиями, которые они приклеили на первые страницы альбомов, посвященных Второй мировой войне, начавшейся так полюбившимся всем и каждому музыкальным фильмом «Волшебник из страны Оз». В отличие от старших братьев они могли лишь гадать, как повели бы себя в бою. Собирали алюминиевые кастрюли для изготовления «спитфайров» и с нетерпением ждали, когда же война закончится, чтобы Билли Конн[78] мог снова испытать судьбу. Во время Холокоста их родители делали деньги на черном рынке, а сами они познавали первые радости мастурбации. Десятилетние сопляки, им-то призыв не грозил, они сперва высмеивали дядьев и старших братьев, из осторожности не спешащих записываться в армию, потом с рассудительностью, подобающей старости, до порога которой уже и впрямь становилось рукой подать, подстрекали молодых парней жечь призывные повестки. Были мальцами-задирами, от горшка два вершка, а уже отчаянно фанатели, свистя в два пальца со всевозможных галерок времен войны; стали моральными авторитетами, вдохновителями политических акций и петиций, так ни разу и не испытав себя на полях сражений. Своему веку всерьез ни разу не понадобившиеся, сделались сами себе смешноваты. Слишком молодые, когда надо было отправляться под пушечный огонь в Европу, теперь они стали слишком старыми, толстыми и морально замороченными, чтобы носить флаг под рубахой.
— Когда подытожат наши достижения, — сказал как-то раз Люк, — выяснится, что наш единственный реальный вклад это слово «fuck», которое мы взяли с забора и внесли в литературный канон. Люди вон «Искру» издавали, а мы «Скру»![79] На месте Троцкого у нас изгнанник Жироди[80]. Вот помяни мое слово: рано или поздно мы непременно вытащим это дело на сцену, где можно будет вдобавок к радости от реакции зрителей словить кайф от пресловутого процесса совокупления.
Вместе с тем Джейк считал, что их поколение зажимают. Или, вернее, оно зажато между двумя другими, яростными и плотоядными, — поколением все под себя подмявших обиженных стариков с одной стороны и молодых незнаек с другой; справа перестраховщики-банкиры, отчаянно пытающиеся защититься от наседающих слева сокрушителей основ. Лично для него это оказалось чревато тем, что, стоило ему споткнуться, на него тут же набросились с двух сторон: первые будут теперь судить, вторые обвинять. Ингрид подымет жалобный вой, а господин судья Бийл[81] будет ей с важным видом поддакивать.
Чего он не мог вразумительно объяснить Нэнси, так это почему вся эта катавасия с судом не столько угнетает его, сколько бодрит: что-то и впрямь вдруг стронулось, пришло в движение. В каком-то смысле даже завертелось. С самого начала он только того и ждал, когда же внешний жестокий мир начнет крушить их маленький мирок, пропитанный любовью, но замкнутый в себе и ото всех отъединенный денежным коконом. А времена настали — ох, лихие! Доброта и ласка в отдельно взятом доме стала, похоже, просто невозможна (во всяком случае, без разложения и распада), подобно тому как невозможен социализм в отдельно взятой стране. Поэтому с первых же их с Нэнси медово-безмятежных дней он ждал прихода вандалов. В первую очередь всякого рода обиженных, лишенных справедливой доли. Выживших узников концлагерей. Голодающих Индии. Изможденных африканцев.
От начала времен до 1830 года численность человечества достигла одного миллиарда. Еще миллиардом больше на планете стало через сто лет. На появление третьего миллиарда ушло всего тридцать лет. А к концу XX века Землю будут населять целых шесть миллиардов двести пятьдесят миллионов жителей — чуть ли не в два раза больше, чем сейчас. При том что уже сейчас половина населения планеты недоедает, а четыреста пятьдесят миллионов существуют на грани голодной смерти. Что же будет еще через тридцать пять лет?
— А я скажу вам, что будет, — думал Джейк. — Придут сумасшедшие китайские хунвейбины и потребуют свое, за ними подтянутся черные фанатики, которые и сейчас живут только ради мести. Придут талидомидники[82] и прочие всякие паралитики. Униженные и оскорбленные. И не пытайся запираться на засовы. Войдут в окно!
Джейк даже не удивился, когда из его одержимости Всадником, как чертик из коробочки, выскочила Руфь.
Которая наслала на него Гарри.
Который, в свою очередь, озаботился появлением Ингрид.
Пророк Элиягу когда-то разочаровал его, так и не явившись пригубить вина из серебряного кубка за пасхальным столом. Зато вандалы не промедлят! После всех этих лет ожидания наконец пришли: ну-ка, Джейкоб Херш, муж, отец, сын, домовладелец, инвестор, сибарит, киносказочник, — пожалуйте к ответу!
«В 1967 году, когда четыреста пятьдесят миллионов человек голодают, когда даже в благостной Англии, где золотым общественным стандартом является алкоголизм, наркомания и бессмысленная жестокость и по меньшей мере восемнадцать процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, мне, Джейкобу Хершу, потомку Дома Давидова, заплатили пятнадцать тысяч фунтов, чтобы я не снимал кино, а тихо-спокойно жил, занимался с женой любовью на крахмальных чистых простынях, обучал свое потомство в частных школах, беспокоясь только об излишнем весе, набранном благодаря обжорству, и переживая лишь из-за того, что время активного отдыха трачу на пьяный разгул. Вдобавок я преисполнен зависти к более удачливым друзьям и ругательски ругаю тех, кого чаще приглашают на презентации. Я выражал недовольство леностью домашней прислуги. Я жаловался на падение качества изделий промышленности — того самого качества, что когда-то традиционно питало национальную гордость британцев, негодовал по поводу роста цен на вино. Во времена, когда богатые становятся всё богаче, а бедные всё беднее, я живу себе припеваючи. Как очень точно однажды выразил это Люк, если мы и впрямь все на „Титанике“, то я, по крайней мере, иду ко дну первым классом.
Аминь».
Разбудило Джейка шарканье тапочек. Вошла мать.
— А Нэнси в курсе, что ты каждый месяц посылаешь деньги какой-то женщине в Израиль?
— Мам, кабы я знал, что ты роешься в моей почте, я бы уже на люстре висел! Вот ей-богу!
— Письмо лежало на полу. Я только подняла. Это что — твой ребенок?
— Мама, я молился на ночь. Или тебе все еще мало внуков?
— Это не ответ.
— Ну хорошо: нет, это не мой ребенок.
— Так зачем же она шлет его фотографии?
— Может, хочет, чтобы Джейкоб Херш его в кино снял?
— И как люди живут теперь, не понимаю! Просто не понимаю!
— Когда-то, — вновь подал голос Джейк, — отец заговорил со мной о профессиях, которым я мог бы себя посвятить. Советовал мне не становиться врачом, потому что доктор у всех на побегушках. Его могут позвать даже среди ночи. А если, мол, станешь дантистом, придется покупать дорогущее оборудование. Зато если сделаешься раввином, это не потребует абсолютно никаких дополнительных капиталовложений. Единственное, что понадобится, это то, что ты и так умеешь: языком трепать. Мам, как ты думаешь, из меня получился бы хороший раввин?
— Ты мог стать всем, кем только захотел бы.
— И купить домик в лучшей части Утремона[83], женившись на хорошей еврейской девушке.
— Я ни разу не сказала ни слова против Нэнси!
— Вот и впредь постарайся не говорить, потому что я люблю ее. И, поскольку она меня тоже любит, вряд ли я такой уж плохой.
Глядя, как он, шатаясь, в поисках бутылки направился к стеклянному столику, мать думала, Господи, Боже ты мой, ну зачем он уехал из Монреаля, глупый, глупый! В те годы, сразу после войны, за канадский паспорт любой отдал бы правую руку. Какой еврей не умолял бы на коленях впустить его в такую хорошую страну?
— Вот, послушай, — обратился к матери Джейк, покачиваясь с книгой в одной руке и стаканом в другой. И стал с расстановкой читать: — «Обозревая прошлую жизнь, я не нахожу ничего, кроме пустой траты времени, несущей телу лишь болезни, а уму расстройство, очень близкое к сумасшествию, в котором Он, тот кто создал меня, наверняка потщится найти мне оправдание, дабы представить извинительными многие промахи и пороки своего творения». — Захлопнув книгу, он объявил: — Это из дневника покойного великого и высокочтимого реб Шмуэля Джонсона. Канун Песаха тысяча семьсот семьдесят седьмого года.
Книга вторая
1
Стоя на отведенном обвиняемому месте в суде Олд-Бейли, Джейк внезапно страшно обозлился, вспомнив, как он много лет назад пытался съездить в Нью-Йорк, и тем самым, пусть неумышленно, положил истинное начало всей этой гибельной скачке со Всадником с улицы Сент-Урбан, но самым обидным показалось ему не то, что попытка не удалась, а то, что его поездка сорвалась всего лишь из-за вульгарной канцелярской оплошности клерка иммиграционной службы США.
Было это в 1951 году, когда Джейк, уже три года проучившийся в Макгильском университете, решил прервать учебу с осени, которая наступала прямо завтра.
Ах, Нью-Йорк, Нью-Йорк! Нью-Йорк звал и манил, Нью-Йорк непреодолимо влек к себе его сердце. Как бы вот только, думал он, лежа с сигаретой в кровати, сообразить, где взять на дорогу денег. Ну и чтоб там продержаться — хоть месячишко.
В комнату без стука вошла мать.
— О том, что ты задумал, надо рассказать отцу. Боже, как он обрюзг, раздулся! Я тут увидела его на улице, так обомлела: просто как жаба какая-то. Я не в осуждение ему говорю, ни боже мой, все ж таки он твой отец. Да ты слушаешь меня или нет? Это куда ты вдруг собрался?
Помимо своей воли, не думая, он брел куда глаза глядят и добрел до улицы Сент-Урбан; вошел в заведение Танского «Сигары & Воды», решив позвонить отцу, который неподалеку снимал комнату, с тех пор как четыре года назад родители окончательно развелись. Мистер Херш заехал за ним на своем потрепанном «шеви», заднее сиденье которого, как всегда, было завалено образцами. Канцелярские товары, знаете ли, — шариковые ручки, календари, тетради… С тех пор как Джейк в последний раз видел отца, очередная суровая монреальская зима серьезно подпортила состояние кузова. Машина облупилась и поржавела.
— Как дела, папа?
Иззи Херш лишь поглядел на сына и простонал:
— Ой-вей!
Джейк тогда носил голубой берет. Отрастил чахлую бороденку и щеголял длинным, цвета слоновой кости мундштуком для сигарет. Он предложил поехать на бульвар Сен-Лоран, посидеть в какой-нибудь закусочной, как в старые времена.
— Да ты что! Туда теперь не ходят. Как-то не модно стало.
Нехотя Иззи Херш все же отвез Джейка в «Хаймз деликатессен» на Мейн. На витрине, словно буханки хлеба, были навалены куски грудинки, рядом куча красно-серых говяжьих языков. Когда Джейк, закрывая за собой дверь, хлопнул ею, на веревке закачались колбасы. Аромат там стоял еще более аппетитный и сногсшибательный, чем помнилось с детства.
— А что? Очень даже simpatico[84], — одобрительно заметил Джейк.
— Ну и давай. Заходите снова.
— Я говорю, хорошо здесь.
— Так ведь закусочная. Так и должно быть. Что особенного?
— Да нет, ничего. Я в том смысле, что вот, мы опять вдвоем, поедим сейчас.
— Поедим-то мы поедим. Но денег у меня нет, если ты ради них все затеял.
Мистер Херш заказал им обоим по сэндвичу из постной грудинки на черном хлебе, маринованные помидорчики и… — ну да, ну да, и кнышес[85], пожалуйста, если они у вас сегодняшние.
— А что это за верблюжье говно ты куришь? — раздраженно спросил отец Джейка.
— «Голуаз».
— Ф-фэ!
— А ты до сих пор читаешь «Северный шахтер»?
— Да, читаю до сих пор. А что?
— А то, что акции твои тогда, наверное… Как у тебя с акциями?
— Как у меня с акциями? Все мимо денег. Как может быть с акциями? Ничего хорошего. Я их не понимаю. Нет, правда. Твои дядья с них так и процветают, удачно крутятся, а у меня все как в песок. Если мне кто какую наводку и даст, так только чтобы посмеяться. Я на них восемнадцать сотен американских баксиков потерял — восемнадцать сотен за один только прошлый год!
— Это ужасно. Я тебе сочувствую.
— C’est la guerre[86].
Мистер Херш поманил сына ближе. Сузив большие испуганные глаза, он обвел помещение закусочной: нет ли нежелательных ушей.
— Я вот купил одну акцию… — тут его голос упал до едва слышимого бормотания, — «Алгонкинских шахт»…
— Каких, каких шахт?
— Да не повторяй ты за мной, балабол несчастный!
— Что не повторять-то? Я даже не расслышал ничего.
— Тебе надо знать название компании? А не узнаешь, у тебя что — сердце остановится?
— Да нет. Нет, конечно.
— У меня есть бумаги компании «Шахта-Икс», — сказал Иззи, повысив голос так, что по закусочной он прокатился будто шар для боулинга. — Так вот: эти бумаги подорожали с доллара девятнадцати до пяти долларов десяти центов… ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ.
Хайм тут же выключил электронож для мяса. У старика, сидевшего за соседним столиком, ложка брякнулась в тарелку, где у него был суп с креплах[87].
— Проблема в том, — тут голос мистера Херша опять как-то съежился, — что я-то их покупал по одиннадцать сорок пять!
Джейку вспомнилось, как мальчишкой он устраивал засады на отца с домашним заданием по грамматике, буквально терроризировал его, требуя помочь с уроками. И каждый раз, когда отец попадал пальцем в небо, мать хохотала, ликуя. Вот ведь как, вдруг дошло до Джейка: если бы не мы с Рифкой, они бы с матерью давным-давно развелись. Ловить в том браке Иззи Хершу было уже нечего. Движимый внезапным порывом, Джейк потянулся через стол погладить отца по щеке.
Кто-то заметил, нет? Мистер Херш, стреляя глазами во всех направлениях, поспешил оттолкнуть руку Джейка.
— Ты чего это? — раздраженно буркнул он. — Вас этому что, в университете учат?
Джейк вынул из пачки «Голуаз» очередную сигарету.
— Я угощаю, — торопливо добавил отец. — Платить сегодня папина очередь.
— Надо бы нам встречаться чаще. Я тебя люблю.
— Я твой отец, черт его дери. Что же тебе — ненавидеть меня?
— Когда я был маленький, у тебя очень здорово получалось меня смешить. А еще ты, помню, выплавлял мне из свинца солдатиков на кухонной плите. Купил формочки на какой-то свалке, помнишь?
— Ну, теперь-то ты уже не ребенок, — сказал отец, несколько озадаченный. — Хотя, надо признать, дерьмом не плещешь. То есть умом не блещешь, я хотел сказать.
Однако рассмешить на сей раз не вышло. Не заслужил даже слабой улыбки.
— Ну ладно. Пожалуй, хватит лириц-цких излияний. Так ты о чем со мной поговорить-то хотел? Сифак намотал или еще что-нибудь в этом духе?
— Нет. Хотел сказать, что тебе больше не надо беспокоиться насчет платы за универ. Макгилл я бросил. И возвращаться туда не собираюсь.
— Чего это вдруг?
— Он больше не стыкуется с моим Weltanschauung[88].
Мистер Херш схватился за голову. Закачался.
— Ну, дожили! Совсем стал поц! Или как ты сказал — что-то какой-то там штунк?[89]
— Да тоска там зеленая! — с жаром выпалил Джейк. — Мне с самого начала там не понравилось.
— А что тебе вообще нравится? Вечно все критикуешь.
— Кино!
— Что-о?!
— Хочу заняться кино.
Этим он отца так позабавил, что тот от души расхохотался.
— Что ж, уши у тебя, пожалуй, не больше, чем у Кларка Гейбла. Для начала уже неплохо, верно я говорю?
Джейк тоже усмехнулся.
— Слушай сюда, — заговорил мистер Херш, наклоняясь к нему поближе. — Ведь этого ж мало — решить, что тебе хочется в кино сниматься. Тебя же должны открыть!
— А я не хочу сниматься. Я хочу снимать.
— Ты думаешь, мне нравится торговать этой ерундой? Я, может, владельцем фабрики быть хочу.
— Надумал я для начала поехать в Нью-Йорк и там оглядеться. Настало время понять, кто я есть.
— Что значит кто ты есть? Ты Янкель Херш. Вот за это я точно могу поручиться.
— Проблема в том, что у меня нет денег на билет.
— Ну вот, я так и знал: рано или поздно мы упремся в грубую реальность. А то — кино, шмино…
Отец встал и двинулся к выходу. По дороге расплатившись, сгреб в ладонь сдачу мелочью. А по выходе наружу, прежде чем опустить в карман, сощурясь, осмотрел каждую монетку.
— Что-нибудь не так? — спросил Джейк.
— Ш-ш. Погоди минутку.
Мимо прошла какая-то пара. Потом грозного вида старуха в обнимку с пакетом рыбы, за ней несколько подростков в одинаковых ветровках с переливчатыми буквами AZА[90]. Наконец, они остались одни.
— Вот: гляди, — сказал мистер Херш.
— Ну.
— Это американский пятак — «никель».
— И что?
— Что? Не делай вид, будто дурачком родился! Если бы этот «никель» был не с Джефферсоном, а с бизоном-буффало, и был бы он тысяча девятьсот тридцать восьмого года да еще с маленькими буковками S (от Сан-Франциско) и D (от Денвера)… Знаешь сколько тогда он стоил бы? Вот прошлым летом было: Макс Кравиц посадил в свое такси какого-то пьяного и довез до «Альдо» — обувной магазин, знаешь? На счетчике два десять. А этот гой возьми, да и сунь ему четырехдолларовую банкноту. Ну да, банкноту в четыре доллара. Кредитный билет банка Верхней Канады, и на нем дата — первое декабря тысяча восемьсот сорок шестого года. Знаешь, сколько нынче стоит такая деньга?
— Ай, да ну, батя, брось, — махнул рукой Джейк, проникаясь к отцу нежностью. — Тебе никогда не быть богатым.
— По-твоему, главное — быть богатым? Тогда-то да, тогда со мной бы стоило общаться, верно? Тогда бы мы сидели в модном ресторане — где-нибудь в Сноудоне[91], и ты бы не шарахался при одной мысли о том, что будет, если тебя со мной увидит кто-нибудь из твоих интелли-хентных приятелей. Так вот что я тебе скажу, причем плевать я хотел — услышишь ты это или пропустишь между ушей. Хочешь, не хочешь, но я твой отец все-таки. И я говорю: деньги это еще не все! Президент крупнейшей в мире сталелитейной компании Чарльз Шваб (загнув палец, отец назначил его номером первым) умер банкротом, а перед этим пять лет жил на одолженные деньги. Человек, который в тысяча девятьсот двадцать третьем году году был президентом Нью-йоркской фондовой биржи (я говорю о Ричарде Уитни), до сих пор сидит в «Синг-Синге». Крупнейший «медведь» Уолл-стрит Джесс Ливермор покончил с собой.
Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужна работа. Самоуважение. На, держи! — заорал он, тыча двумя бумажками по десять долларов сыну в грудь. — Потому что я знаешь кто? Я мешугенер, псих, сумасшедший!
— Когда-нибудь ты будешь мной гордиться. Я стану великим кинорежиссером.
— Не засирай мне мозги! — возмущенно отмахнулся папаша. — Хочешь, чтобы я гордился? Иди работать! Начни зарабатывать на жизнь! Встань на ноги!
Отказавшись ехать в отцовской машине, Джейк пешком вернулся на улицу Сент-Урбан и пришел к своей старой школе, Флетчерфилдской средней, которую окончил через три года после войны, после чего поступил в Макгилл.
Мать постоянно Джейку вдалбливала, что самое в жизни важное это высшее образование.
Что ж, верно.
— Не важно, что ты знаешь, — поправлял ее отец Джейка. — Важно кого!
И тоже верно.
Всем своим обликом Джейк старался подчеркивать левые убеждения: этакий благообразный социалист со свежим номером журнала «Нью стейтсмен» под мышкой — носил твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, отрастил длинные волосы, дома все полки забил «Пингвинскими»[92] книжками.
Когда мог себе это позволить, ел в итальянских ресторанчиках. Где на каждом столике пустая бутыль из-под кьянти с воткнутой в горлышко цветной свечкой. И старому школьному приятелю Додику Кравицу рекомендовал:
— Обрати внимание на тратторию «У Анджело». Там подают такие раковые шейки в чесночном соусе — пальчики оближешь. Называется «скампи чезенатико».
— Так ты и херес пьешь?
— Ну, иногда. Сухой севильский херес «Тио Пепе». Почему нет?
В то время он как раз читал «В поисках Корво»[93].
— Ага… мм… А что, интересно, вы с твоими долгогривыми друзьями делаете по ночам, когда до четырех утра куролесите? Скажешь, читаете друг другу вслух стишата?
— Бывает. Или музыку слушаем.
— Небось классическую?
— Ну да. А что?
— Скажи-ка, а ты боишься змей?
— Чего?
Потом Джейк понял, что означал этот вопрос. В журнале «Эсквайр», валявшемся на трюмо, у которого наводила марафет сестра, оказалась статья под заголовком «Как лучше узнать младшего брата: не гомосексуал ли он?». Журнал сестре подсунул Герки, ее жених. Да и до того будущий зять настойчиво советовал Джейку как-то разобраться с угрями. И лучше бы до их свадьбы.
— Какое-никакое торжество все-таки, сам понимаешь! А ты у нас шафер. О’кей?
У Джейка появилась манера ходить по дому, держа перед грудью руки с расслабленными кистями. Однажды во время ужина он обратился к Герки так:
— Милый, пожалуйста, передай мне еще один кныш. Merci.
— Ты, это… опупел, что ли? — нахмурился Герки.
Деньги, деньги…
— Мне на Нью-Йорк, дядя Сэм. Чтобы там как-то зацепиться. Мне надо двести пятьдесят долларов.
— Что такое деньги? У тебя есть здоровье, его не купишь и за миллион! Как я завидую твоей молодости!
— Мне только на год, потом отдам.
— Вот посмотри на нас. Ты же интеллигентный юноша. Вот мы сидим с тобой… Ты у родственников, здесь все твои друзья… Хочешь еще бутербродик? Лимонада? Бери, кушай! Кто что считает? У нас открытый дом. Разве нет? А тут я вдруг возьму и дам тебе денег, которые — ты говоришь — я будто бы получу обратно. Через год, так?
— Я слово даю!
— А если, не дай Бог, год пройдет, а денег у тебя не будет? Что тогда? Ты испереживаешься. Я тоже испереживаюсь. Не ровен час, еще поссоримся! И уже не будем сидеть вот так вместе, не будем кушать бутербродики мит дем лимонадик!
— Я обещаю, дядя Сэм!
— Он обещает! Кто, занимая деньги, говорит, что не отдаст? Да у меня вообще нет такой привычки — в долг давать. Давая деньги друзьям, теряешь и друзей, и деньги! Особенно среди своих. Кому нужны ссоры в семье? Ты меня понимаешь?
А у дяди Джека в конторе позади рабочего стола висел плакат:
АЛИ-БАБА БЫЛ ПОИСТИНЕ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ: ЕМУ ПРИШЛОСЬ ИМЕТЬ ДЕЛО ТОЛЬКО С СОРОКА РАЗБОЙНИКАМИ!
Дядя Джек тоже сказал «нет», он не может одолжить денег. Во всяком случае, в данный момент. Что ж, Джейк пошел к дяде Лу.
— Не стану тратить ваше время на предисловия. Мне нужны двести пятьдесят долларов.
— Что-то я не понял твою шутку юмора.
— Я серьезно, дядя Лу. Я тут с одной шиксой[94]дурака свалял.
— Господи, как же я сразу-то не заметил, что с тобой непорядок. Ведь только глянул, да и говорю себе: о-о! парень-то влип! Ой, влип… просто как кур в ощип. А такой мальчик хороший!
— И либо я найду ей деньги на аборт, либо, значит, женись.
— Двести пятьдесят долларов?
— Ну да, такая цена.
— Ой, ну ты загнул!
— Чего?
— Шучу, шучу. Стараюсь ко всему подходить с юмором. Это у меня уже традиция такая.
— Понятно.
— Слушай, да ведь у моей Иды шурин — ну, который в Гамильтоне живет, ты его должен помнить, — он же как раз доктор того самого сладкого места! Сделает тебе все в лучшем виде и больше двух сотен не возьмет.
— Тут такой случай щекотливый, дядя Лу, я не хотел бы на этом что-то выгадывать. Не тот я человек, дядя Лу, понимаете?
— Как не понять, я сам такой. Так я звоню ему или где?
— А эти две сотни вы мне тогда одолжите?
— Да забудь ты о них! Он должен мне гораздо больше. Спишу с его счета, да и все!
Оставался один дядя Эйб, презрительный высокомерный Эйб, который всех прочих Хершей переплюнул, став главным мозговым мотором адвокатской фирмы «Херш, Зелигман, Конвей, Бушар &». У него был офис в «Доминион-сквер-билдинге» — главном, можно сказать, общественном здании Монреаля — и каменный особняк в Утремоне. Причем он даже и совесть не совсем утратил: Джейку запомнилось, как в войну дядя Эйб защищал евреев-ортодоксов, приехавших в страну в качестве беженцев, — боролся за их права, собирал деньги, искал им жилье и устраивал на работу. Зато вот дочку его, невыносимую стерву Дорис, Джейк терпеть не мог, а еще у него был маленький сынок, которого дядя Эйб просто изводил своей любовью. Бывало, посадит шестилетнего Ирвина к себе на коленку и давай его качать и хвастать им: даже специально Джейка звал и, чтобы тот восхитился, заставлял мальца перечислять названия всех девяти канадских провинций, осыпая поцелуями в награду за каждый правильный ответ. «Этот пацан, скажу я тебе, — еще тот пацан!» Нет, просить деньги у дяди Эйба хотелось меньше всего.
А Герки? М-м, а что, это идея. Стоит попробовать. Джейк позвонил ему и предложил встретиться, выпить. Ну давай, отозвался Герки, и на его машине они закатились в какой-то придорожный шалман.
Но пройти прямо к столику Герки не дал. Взял Джейка под руку и говорит:
— Давай-ка сперва посмотрим, как у них тут с сантехникой. Пошли.
Герки занимался производством жидкого мыла, дезодорирующих писсуарных растворов и всяких туалетных причиндалов вроде вешалок для полотенец. Никогда он не зашел ни в один ресторан, отель или ночной клуб без того, чтобы совершить перво-наперво инспекцию сортиров, отчет о которой громогласно выкладывал за столом.
— Здесь у них каменный век какой-то! Знаешь, что насыпано в писсуары? Кубики льда!
Тот шалман не состоял в числе клиентов фирмы Герки.
— Нет, ты зайди, зайди: не туалет, а сейф какой-то — для хранения застарелого пердежа. Вдыхайте глубже, господа. И выдыхайте реже.
— Да ладно, я тебе и так верю.
— Нет, ну это черт-те что! А знаешь, между прочим, почему? В их учебниках туалеты не считаются за производственные площадя. Они не производят прибыль! Но это ж близорукость явная, потому что — вот ты представь, — мужик зашел причесаться, нюхнул вчерашнего говнеца… Он что — пойдет жаловаться за туалет? Ну фи-и, ну это ж некрасиво, он всем просто расскажет, что ему дали пересушенный бифштекс. Ты уловил мою мысль?
— Да понял, понял. Пошли уже отсюда.
— О’кей, о’кей, — нехотя поддался тот, двинувшись в бар впереди Джейка. — Но сантехника должна быть безупречной. Такой, чтобы ни комара, ни носа! Вне подозрений. Как жена Наполеона. Такого рода вложения оправдываются первыми.
— Черт возьми, Герки, что ты мне-то втираешь?
— Мы проводили исследование. Средний посетитель, если он сидит в ресторане или ночном клубе и вдруг захотел посрать, он отказывается от десерта, отменяет заказ очередной выпивки и бежит опростаться дома. Извини, ты что пить будешь?
— Скотч.
Герки заказал два скотча.
— У общественных сортиров, — продолжил он лекцию, — плохой имидж. И они мне будут говорить, что это не производственные площадя! Это я к тому, что если просуммировать все отмененные десерты и недовыпитый алкоголь… Короче, что толку приглашать за миллион долларов в неделю Лину Хорн?[95] Ребята, приберитесь в сортире! — вот девиз нашей фирмы.
— Здорово. И как? Ну то есть, Герки, у тебя как с деньгами?
— Ну, деньги есть, но они все в деле. — Герки приложил руку к груди. — Я с радостью тебе помог бы, дружище, но…
— Да я же не прошу денег.
— …понимаешь, я все швыряю обратно в бизнес. И Рифка, знаешь, так активно способствует! Общественница — будь здоров. Одно время помогала раковым, но у них там такой кветчи[96] президент… Короче, не сработались, теперь она по сердечникам выступает. Вообще-то с прошлой недели у нее какой-то уже свой проект. Они много полезного делают, ты знаешь…
— Да я не сомневаюсь.
— Кстати, слушай! Есть одна халява. Могу устроить.
— Какая?
— Бесплатная. Чарна Розен. Да ты помнишь ее. Она теперь всем дает. Будет рада с тобой встретиться. Читала Дилана Томаса! А ты длинноволосый, как раз такой должен ей понравиться.
— Герки…
— Да ну, будешь мне говорить! Надо это делать регулярно. Ты же студент, ассимиляционист. Soixante-neuf[97], прикинь, оль-ля-ля! Так что не надо на нас смотреть как на придурков. Мы с Рифкой, между прочим, люди продвинутые, без предрассудков.
Джейк устремил на зятя взгляд. Серьезный, честный и очень, очень грустный.
— Герки, — прошептал он, — как я рад, что ты это сказал!
— Да? Ну — и… — выдавил из себя Герки, не зная, чего ожидать.
— Понимаешь, меня не интересуют девушки.
— Че-го?
— Помнишь, ты подбивал Рифку на то, чтобы она мне задавала странные вопросы. Вроде того, что боюсь ли я змей?
— Ну-ка, валим отсюда на хрен, — дернулся Герки, хватая его за рукав.
Выйдя на парковочную площадку, они уселись вместе в Геркин «крайслер».
— Так ты хочешь сказать, что ты у нас этот самый? Фейгеле?[98]
Джейк кивнул.
— А мы-то еще вместе в бассейн ходили! Лиги еврейских юношей! — захохотал Герки, грозя пальцем. — Ну, давно, правда, было. Ах ты, грязный мерзавец! — Вдруг Герки прикусил губу. — Но это же убьет Рифку. Черт, да если она узнает…
— Мне это тоже, знаешь ли, не фунт изюму.
— Ну да. Понятное дело.
— Вот ты представь. Скажем, поиграл ты в гольф, танцевать пошел — щупать Чарну Розен или чью-нибудь жену, — парни вокруг смотрят и только лыбятся да подмигивают, а если бы я, например, попробовал пообжиматься с каким-нибудь официантиком или кем-то из мальчишек-клюшечников…
— Слушай сюда, мелкий ты сукин сын, — посерьезнел Герки. Опустил дверное стекло. — К психиатру сходить не хочешь?
Сразу Джейк отвечать не стал.
— Ну, что молчишь?
— Рифка говорила, ваш новый раввин — чистый бриллиант. И очень современный. Может, мне с ним поговорить? Попросить, чтобы — ну, вроде как на путь наставил?
— Я на твоем месте не стал бы. Он не из этих… не из реформистов.
— Знаешь, Герки, думаю, мне лучше из города слинять.
— Ну-у, — протянул Герки, заводя машину, — если ты так решил…
— В Нью-Йорк хочу податься. Проблема в том, что я на мели совсем. Денег нет даже на дорогу.
— У всех свои проблемы, — сухо отозвался Герки.
— Герки, ты не понимаешь. Мои страсти…
— Все, хватит, не отвлекай меня. Я за рулем.
— …так разыгрались, совсем голову потерял. Как-нибудь ночью меня поймают полицейские. Где-нибудь в парке «Маунт Ройял»… или в Утремоне…
— Ты это все к тому, чтобы занять у меня денег?
— Да отдам я! Честно, милый.
— Шею бы тебе сломать. Следовало бы выволочь тебя сейчас же из машины и пасть порвать — для твоей же пользы.
— Мне б только двести пятьдесят бачков, и я исчезаю.
— А я всегда тебя подозревал! Ты это сам замечал, наверное, правда?
— Ох, Герки, какой ты умный! Этого у тебя не отнимешь.
— Ну, ты и змей! Жопа ты с ручкой! Ты в самом деле обжимаешься с парнями?
Джейк послал ему воздушный поцелуй.
— Возьми назад! Возьми его назад, грязный урод!
2
С самого детства каждую осень он смотрел, как птицы — вот хитрюги! — летят на юг, а в тот октябрь и сам последовал за ними. Через границу, к теплу и свету. Прямо как его дядья, обожающие Майами и нью-йоркские курорты в Катскиллских горах; да и как тетушки, которых манят и влекут к себе кудесники-врачи из клиники Мэйо[99].
Нью-Йорк, Нью-Йорк! Лишь он всегда был нашей подлинной столицей. Что там какая-то Оттава или Квебек-Сити! Мелкие городишки, куда приходится наезжать, когда надо дать на лапу правительственному гою за какой-нибудь контракт или разрешение на строительство. Те места, откуда исходят чиновничьи распоряжения, а вовсе не те, где бурлит настоящая жизнь. Ах, Нью-Йорк! В Монреале между Парк-авеню и Мейн нет ни одной табачной лавки, где заодно не торговали бы нью-йоркскими газетами: «Ньюс», «Миррор», «Дейли рейсинг форм»… А там Эд Салливэн, Багз Бэер и Дэн Паркер! Комиксы про Гампсов и про «Улыбчивого Джека». Дороти Дикс, Гедда Хоппер… Но превыше всех — Уолтер Уинчелл[100].
Во время войны Джейк был мальчишкой-несмышленышем. Что он запомнил? Ну разве что плакат на стене заведения Танского «Сигары & Воды», предупреждавший, что СТЕНЫ ИМЕЮТ УШИ и ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ. Запомнились папа и мама, дядья и тетки, в пятницу вечером щелкавшие орешки, с нетерпением ожидая, когда же Соединенные Штаты в лице двух несравненных колоссов, доблестных витязей — Франклина Рузвельта и Уолтера Уинчелла — прекратят болтать чушь и наконец сподобятся вступить в войну. Британцами все восхищались: те были молодцы, истинные храбрецы, но гораздо больше надежд возлагалось на морскую пехоту США. Легко было представить, как мужчины, похожие на Джона Уэйна, Кларка Гейбла и Роберта Тейлора, оставят мокрое место от немецких танковых дивизий, тогда как Ноэль Кауард, Лоуренс Оливье и те другие, чьи лица мелькали в потоке британских военных фильмов, все выглядели как-то неуверенно, слишком уж по-человечески уязвимо. Как с тобой и со мной, с ними мог случиться сердечный приступ, могли завестись какие-нибудь полипы в прямой кишке, могли связаться с дурной компанией дети. Но Уинчелл? Изумительный Уолтер? Что вы! Его никакая напасть не возьмет! Там, у себя на Манхэттене, он всегда готов осыпать похвалами лучших из лучших — вечер за вечером, невзирая на национальность, цвет кожи и политические пристрастия. Уолтер Уинчелл разъезжает там на радиофицированном полицейском автомобиле и, бдительно поглядывая из-под широкополой шляпы, разоблачает «америка-фёрстеров», задает перцу противникам Рузвельта и мочит злодеев и юдофобов прямо в их норах. Кому же, как не славному У.У., рассказать всем мистерам и миссис в Америке, всем самолетам в небе и кораблям в море о том, какую страшную, неравную борьбу ведут евреи? Рассказать про Барни Росса; про Ирвинга Берлина и Эдди Кантора[101], столь бескорыстно расточающих свое время, силы и талант. Да и про то, что стрелком на первом самолете, потопившем японский корабль, летел еврейский мальчик — достаточно хороший мальчик, чтобы умереть за свою страну, но недостаточно хороший, чтобы быть принятым в некоторые клубы, названия которых У.У. может и огласить.
Нью-Йорк это марка, знак высшего качества. Оттуда прибыли в Монреаль Дженни Гольдштейн и Аарон Лебедефф[102]. Когда история «Эйби и его Ирландской Розы»[103] попала наконец на сцену монреальского «Театра Его Величества» и дядья с тетками ходили туда ее смотреть (да не раз, а целых два раза), на рекламных плакатах в виде гарантии значилось: ПОСТАВЛЕНО В НЬЮ-ЙОРКЕ. В благословенном Нью-Йорке, где Бернард Барух, сидя на парковой скамеечке, давал советы президентам и премьер-министрам, когда им дешево покупать и когда продавать подороже. Где мэр Ла-Гуардия таки был способен вставить словечко на идише! Где у Джейка есть даже троюродные братья — то ли на Деланси-стрит, то ли в Браунсвилле. Где записывал свои пластинки уморительный Мики Катц. Откуда прилетал Пьер Ван Паассен, чтобы, требуя пожертвований, повергать в слезы заполонившую проходы толпу слушателей рассказами о том, как Хагана[104] сражается в пустыне с Роммелем: иногда люди по нескольку дней не получают воды, так что порой им приходится пить собственную мочу.
— Он что, серьезно? Они там ссаку пьют?
— Ш-ш. Тише.
— Ты лучше подумай, — (это уже мать шепчет Джейку в другое ухо), — нет, только представь, что за удивительное создание человек!
Туда ведь и отец Джейка ездил; интересные делал там заготовки. Всего пятьдесят центов, и прямо при тебе печатают газетную страницу, а на ней аршинным шрифтом: РИТА ХЕЙВОРТ БРОСАЕТ АЛИ ХАНА[105] РАДИ ИЗЗИ ХЕРША!
Оттуда он привозил порошок, от которого жертва розыгрыша начинает чесаться, привозил всякие фальшивые чернильные пятна и забавные визитные карточки, которые раздавал на свадьбе Рифки:
ИНСТРУМЕНТ КЕЛЛИ[106] РАБОТАЕТ.
А ТВОЙ?
Оказаться в Америке это был шанс увидеть цвет бейсбольной команды «Монреаль ройалз» (Дюка Снайдера, Карла Фурийо, Джека Робинсона и Роя Кампанеллу) на знаменитом нью-йоркском стадионе «Эббетс филд». Кроме того, Америка это «Партизан ревью», «ПМ» и «Нью рипаблик»[107] — издания, благодаря которым он обрел внутреннюю свободу: однажды в университете до него вдруг дошло, что он не обязательно чокнутый. Есть и другие, и даже очень многие, кто читает то же, что и он, так же думает и чувствует, и эти другие почему-то в основном обретаются в Нью-Йорке. На улицах Манхэттена можно будет их увидеть, родных как братья, может удастся с кем-то даже познакомиться, запросто поговорить…
Пакуя чемоданы, он обещал матери, что да, да, обязательно — будет писать раз в неделю, отец пусть не волнуется, он постарается найти работу, а сам уже, мысленно сидя в баре гостиницы «Алгонкин»[108], беседовал о Кафке с очаровательной девушкой в кашемировом свитере… тут подходит мужик с поблескивающей лысиной, садится рядом и говорит:
— Извините, случайно подслушал. Надо же! Вы старику просто открыли его усталые глаза! И я подумал: может, вы это оформите в виде эссе и мы его напечатаем?
— Мы — это кто? — холодно переспрашивает Джейк.
— Ах, простите! Меня зовут Эд. Эдмунд Уилсон. — (Или он прямо сразу скажет «Зайчик»?)[109]
Кстати, я хотел бы вас тут кое-кому представить. Вот Дороти… а вот, знакомьтесь, Гарольд, а того, с усами, мы зовем Си Джей… а вон тот — Э.Б.[110].
Или вот он заходит пропустить стаканчик в бар Джека Демпси[111]. Там молодой итальянистый крепыш вдруг ни с того ни с сего пихает его — «подвинься, Мойша!», а Джейк ему ка-ак выдаст свой коронный хук левой (знаменитый «удар кувалдой Херша», одно упоминание о котором повергает в трепет чемпионов)… Тот, конечно, вырубается, чем несказанно огорчает спутника — мужчину средних лет, который склоняется над ним, трясет: «Роки, ну скажи что-нибудь! Какой кошмар, боже мой, вы сломали ему челюсть! Ему же завтра вечером драться с Зейлом на ринге в Мэдисон-сквер-гардене![112] Что же мне теперь делать?»
Встав вместе с птицами (теми самыми, перелетными), Джейк поспешил на ранний утренний поезд, про себя думая: нет! никуда он не уезжает, он просто поселяется в свой настоящий духовный дом.
Он будет есть латкес[113] (или сырники, или чем там еще знаменито заведение «У Линди») и вдруг прочтет, что его опять похвалил У.У., а за ним и Леонард Лайонс; а тут уже и Лорен Бэколл на подходе — садится к нему за столик, картинно закидывает ногу на ногу, чарует, пытаясь заманить в свой номер люкс: конечно, в ход идут любые средства, лишь бы заставить Джейкоба Херша поставить для нее фильм.
— Простите, — вежливо, но холодно говорит ей Джейк, — но я не могу так поступить с Боуги[114].
Или… Несмотря на то что только позавчера он провел двенадцать иннингов в открывающей серию игре (позволив себе всего два неточных удара), Лео Дуркоша окидывает взором занятые базы и, дождавшись, когда подойдет Мики Мантл, только что добывший команде очко, от имени всей команды просит Джейка снова с ними сыграть. Джейк в ответ:
— Только при условии.
— Каком?
— Вам придется сказать Бранчу[115], что я требую, чтобы он дал возможность выступать в высшей лиге спортсменам-неграм.
В десять часов, когда подъезжали к границе, новейшая итальянская кинодива, такая красотка, что до нее как до луны даже Лоллобриджиде, начала помаленьку раздеваться у Джейка в пентхаусе. Как они меня все достали, — думал при этом он. Вжик-вжик. Шелест спадающего шелка. Долго спадает, каскадами. Звяк! — расстегнут пояс с резинками. Щелк! — это застежка бюстгальтера. Быстро глянув вниз, Джейк обнаружил, что брюки между ног вздыбились этаким вигвамчиком; торопливо прикрыл неприличие журналом «Лук» со статьей Нормана Винсента Пила[116], кашлянул, закурил сигарету и тут же испуганно дернулся: кто-то пальцами постукивал по плечу.
— Да?
Над ним маячил контролер американской иммиграционной службы, мужчина с кислым лицом в красных прожилках и с курчавыми клочковатыми бачками. То и дело посасывая застрявшее между желтыми зубами упрямое мясное волоконце, он попросил предъявить свидетельство о рождении. Глянул в него, хмыкнул, вписал в свою книжечку фамилию Джейка и побрел прочь, покачиваясь вместе с вагоном. Минут через пятнадцать, как раз когда итальянская кинодива шагнула к Джейку, умоляя помочь ей расстегнуть застрявшую молнию, Джейка снова постукали по плечу — на сей раз изжеванным карандашиком.
— Слышь, парень, на следующей станции выходишь.
— Как это?
— Желательность твоего пребывания в Соединенных Штатах под сомнением. Следующая станция у нас будет Сент-Олбанс, штат Вермонт. Там выйдешь, и иммиграционная служба разберется — пропускать тебя или нет, — пояснил контролер и опять, пошатываясь, удалился.
С минуту Джейк сидел в ошеломлении, припоминая грехи: ну да, подписал Стокгольмское воззвание[117], кроме того, петицию о помиловании Юлиуса и Этели Розенберг. Дурень ты дурень, ты что — не слышал о сенаторе Маккарти? Решив идти до конца и все выяснить, Джейк вскочил; при этом «Лук» соскользнул на пол вагона, и торчащая вигвамчиком ширинка выставилась на всеобщее обозрение. Да ч-черт побери! Под взглядами других пассажиров Джейк инстинктивно дернулся прикрыть руками пах и так же быстро их отвел, сообразив, что этим только привлечет к торчку всеобщее внимание. С пылающими щеками опять плюхнулся на сиденье.
Проклятье! Закрыв глаза, сосредоточившись, он поднял и снова положил на колени журнал и сызнова призвал красавицу в свой пентхаус.
— А ну-ка, ручки-то, грязненькие, от молнии убери, — сказала та.
— Но ты сама провоцируешь! Зачем пришла-то?
— Я же не знала, что ты такой страшненький коротышка…
(Еще дергается, но уже меньше.)
— …такой жиденок…
(Правильно, хорошо.)
— …кроме того, я вообще лесбиянка.
(Оооооо-хх!)
Облегченно прочистив горло и сызнова закурив, Джейк ринулся в бой. Иммиграционного контролера он обнаружил в пустом купе, тот сидел, ковыряя картонной спичкой в зубах, и листал громадный перечень имен — книгу толщиной с телефонный справочник.
— Почему меня высаживают из поезда?
— В пункте Сент-Олбанс вам придется подать официальное ходатайство о пропуске в Соединенные Штаты. Если вы там успешно пройдете проверку, вам сегодня же вечером позволят следовать до Нью-Йорка. Если нет, отправят обратно в Монреаль.
— А в чем, вообще, дело-то?
— У нас есть основания полагать, что вы можете оказаться нежелательной персоной.
— Какие основания?
— Я не могу вам этого сказать.
— И как долго будет длиться суд надо мной?
— Это не суд.
— Но как долго это будет длиться?
— Столько, сколько потребуется.
— Понимаете, сэр, единственная причина, почему я спрашиваю, состоит в том, что сегодня пятница. Я, понимаете ли, еврей… У нас в пятницу после заката начинается шабат, а в шабат я не могу никуда ехать, потому что вера запрещает.
Иммиграционный чиновник вперил в него взгляд, полный нового и, как Джейк старался себя уверить, благожелательного интереса.
— Если в претензиях ко мне есть что-то политическое, сэр, то, думаю, с моей стороны было бы не совсем честно скрывать, что в университете я был секретарем Клуба молодых консерваторов.
— Мы прибываем в Сент-Олбанс через десять минут. Я встречу вас на выходе из вагона.
Едва за окнами показалась платформа станции Сент-Олбанс, начался сильный ливень. Иммиграционный контролер указал на трехэтажный дом на вершине холма и начал восхождение. Джейк плелся позади, при этом два его чемодана то бились друг о друга, то лупили по ногам. В конце концов, задыхающийся и промокший, он достиг каменного здания. Над главным входом эмблема Департамента юстиции США — хлопающий коричневыми крыльями белый орел, похожий на гуся, — в сорок седьмом году Джейк видел его в фильме с Деннисом О’Кифом про агентов, внедренных в банду фальшивомонетчиков. Иммиграционный контролер привел Джейка на площадку второго этажа и оставил там обтекать на бурый линолеум, пока сам совещался с каким-то типом. Потом они поднялись на третий этаж, где вдоль всех коридоров, насколько Джейк мог видеть, тянулись шкафы с картотечными ящичками.
— Зайдите на минуточку сюда, — предложил Джейку контролер, вежливо отворив перед ним дверь.
Взгляду открылось нечто вроде больничной палаты. Три аккуратно заправленные двухъярусные койки, слева дверь в уборную. Вдруг сзади раздалось щелканье замка и, резко развернувшись, Джейк обнаружил, что его заперли. Контролер удалился, не сказав ни слова.
Дождь, дождь, дождь… Окно, прикрытое замызганной решеткой, выходило на грязный внутренний двор. Совершенно убитый, Джейк рухнул на одну из нижних коек. На бурой кроватной стойке вырезано: «Здесь был Г.У.». Дальше еще какие-то инициалы, а на нижней стороне верхней койки некий давешний заключенный нацарапал: «baise mon cul, oncle sam»[118].
За стенкой квакал и хрюкал приемопередатчик — диспетчер там выкрикивал приказы пограничникам.
— Внимание! На подходе Анафукоброплис, Анафуко… первое «а» — Абель, потом «н», как в слове «никель»… ну да, ну да, он грек. Скорее всего, будет пытаться проникнуть через Монреаль в составе группы из сорока конькобежцев. Только у них не коньки, у них ролики.
По коридору мимо комнаты, где томился Джейк, то и дело проходили мужчины и женщины; без конца со скрипом выезжали и снова, задвинутые коленом, грохали в стену выдвижные металлические ящики с картотекой. Вжжжик — пауза — блямс! Вжжжик — пауза — блямс!
— Всем внимание! — опять заговорил радиодиспетчер. — Ждем тех торговцев детьми — они, видимо, будут пересекать границу снова через два часа. Так что на этот раз, ребята, не упустите, поняли?
В полдень иммиграционный контролер вернулся, отпер дверь и изжеванным карандашиком указал на голову Джейка.
— Не вижу шапо, — сказал он.
— Чего не видите?
— Ну, я ведь про ортодоксальных евреев все знаю. Читал про них в журнале «Лайф». Шляпы нет. Так что поедешь небось и после захода, а, малой?
— Вы очень наблюдательны. Уверен, что однажды Эдгар Гувер вас заметит.
Контролер выпустил Джейка из здания и повел через городок к покосившемуся, бурому как товарный вагон щитовому домику у самых путей. Не отрывая глаз от лоснящихся на заду штанов сопровождающего, Джейк поднялся по деревянным ступенькам в контору, где стояли четыре стола и круглая печь в углу, рядом с ней сидел дознаватель. Волосы прилизаны, посередине прямой пробор, мертвые глаза, губ нет вовсе, уголки засаленного ворота рубашки загибаются вверх. Один взгляд, и сердце падает. Джейк сразу понял: все, кранты.
— Имя полностью? — начал вислоплечий дознаватель. — Возраст?
— Двадцать лет.
— Полное имя отца? Место рождения? Религия?
— Еврей.
— Где работаете?
— Сейчас нигде.
— Ум-гм. Состоите ли или состояли ли в прошлом в следующих организациях… Я буду читать медленно. Коммунистическая лига молодежи?
— Да вроде бы нет.
— Общество помощи беженцам Испанской войны? Лига канадских потребителей? Студенческий союз борьбы за мир?
— Я бы хотел сделать заявление.
Дознаватель откинулся в своем вращающемся кресле и стал ждать.
— Один из моих врагов в университете одно время подписывал моим именем всякие петиции левой направленности.
— Его имя?
— Да он в шутку. Он думал, это очень забавно.
— Понятно. Клуб прогрессивной книги?
— Гм, одну минутку. Дайте подумать… Я не уверен. Как вы сказали? Клуб прогрессивной книги?
— Да или нет?
— Да.
Вслед за этим дознаватель зачитал чуть не бесконечный список газет и журналов, спрашивая Джейка, подписывался ли он когда-нибудь на какой-либо из них. Его ответы перепечатали на машинке в пяти экземплярах, после чего Джейка попросили проверить, нет ли несоответствий и опечаток и подписать каждый экземпляр.
— Вот тут написано… религия: «иудей». Я точно помню, я сказал «еврей».
— И что?
— Он новенький, — вмешался иммиграционный контролер. — Я предупреждал!
— Я просто к тому, что вы же не хотите, чтобы я подписывал заведомо ложные измышления.
— Гос-споди-Иисусе, вы что, хотите себе же хуже сделать? О’кей, вот: я зачеркиваю иудей, сверху пишу еврей. Раз страница, два, три… подписывайте каждую, где я это сделал.
— Роджер[119], — подмигнув, подтвердил Джейк, стараясь ввернуть словцо как бы небрежно и в то же время с шикарным истинно нью-йоркским прононсом.
— А вот это вот брось! Понимаашь ли. Выражаться он тут еще будет! Смотри у меня.
Джейк подписал экземпляры. Потом его водили снимать отпечатки пальцев и возвратили в кабинет.
— Так. Слушание объявляю закрытым, — сказал дознаватель, — а вас — нежелательным в Соединенных Штатах элементом. Ваше ходатайство отклонено. На основании параграфа двести тридцать пять, пункт «це» Закона об иммиграции и национальностях вы в США временно не допускаетесь. Сегодня в полвосьмого вечера отправитесь в Монреаль.
— Но вы мне так и не объяснили почему.
— Разглашать информацию, на основании которой выносится решение об отказе, мы не уполномочены.
Джейка отвели назад в место заточения, и там он обнаружил сокамерника — тощего старика со впалым животом, который как на насесте сидел на краю верхней койки напротив, болтая в воздухе хилыми ножками. Он был в щегольской соломенной шляпе и клетчатой рубашке; широченная, она была ему велика по меньшей мере размера на два. На ногах рваные спортивные тапочки. Огромные глаза на выкате, да еще и выпучены так, будто он пребывает в непрерывном изумлении; над головой занесен посох.
— Стоять! Не двигаться! — приказал он, демонстрируя Джейку посох. — Стой, где стоишь.
— Господи Иисусе! Вы кто?
— А ты будто не знаешь!
Джейк неуверенно сел.
— Я знал, что они кого-нибудь пришлют. Крысу. Крота. Червя. Такого, как ты.
— А вы не могли бы объяснить мне, о чем речь?
— Признавайся! Тебе платит Фейгельбаум? Или ты от Шапиро?
— Да никто мне не платит. И никто меня сюда не подсылал. Посадили вот… А вечером отправят в Монреаль.
— Для того чтобы ты следил за мной? Нечего, нечего! Я тебя раскусил. Дрянь ты поганая. Сунешь руку в карман за оружием, закричу, позову охрану.
— Хотите, подыму руки, а вы меня обыщете.
— Еще чего! Хитрый ты больно. Тут-то я и нарвусь на прием дзюдо. Ты меня как муху прихлопнешь.
— Да зачем же мне убивать вас?
— Так ведь деньги! Пять миллионов!
Джейк присвистнул.
— Тебе разве про них не рассказали?
— Мне не особенно доверяют.
— Они ни перед чем не остановятся, чтобы убрать меня с дороги, сам знаешь. Мое дело как раз сейчас рассматривается Верховным судом на Манхэттене. Согласно реестру, его номер 33451/1951.
— Ну что ж, удачи вам.
— Это деньги отца. Они мои. Я знаю, где Фейгельбаум, и Шапиро я тоже вычислил, осталось только найти Сцукера и Леона Розенблюма.
С этими словами старик, к удивлению Джейка, выпучил глаза, казалось, еще больше. Подумалось: а что — они, пожалуй, у него и впрямь сейчас на лоб выскочат!
— Я бы поделился деньгами со всяким, кто поможет мне их вернуть и посадить преступников за решетку.
— Курить будете?
— Нет уж, ваши — увольте. Спасибочки. Вы что, спятили?
— Уж не думаете ли вы, что мои сигареты отравлены?
— В прошлый раз Фейгельбаум пытался убить меня ультразвуковым лучом. Который парализует и разжижает внутренние органы. Сами-то убивать меня не станут. Хитрые больно! Нет, всё наемников подослать пытаются. И находятся же уроды, мразь человеческая вроде тебя.
Вдруг в железной двери с лязгом отворилась «кормушка», в проем заглянул мужик.
— Как, вы сказали, была девичья фамилия вашей матери? — спросил он Джейка.
— У вас же это есть. В пяти экземплярах.
Старик спрыгнул с койки и всем телом бросился на дверь.
— Отпустите! Что вы меня здесь держите? Я не такой, как он!
— Нам нужно, чтобы вы еще раз сказали ее фамилию.
— Его сюда специально подослали! Чтобы убить меня! Он наемный убийца!
— Повторите, пожалуйста, ее фамилию.
— Она есть в анкете. Там и смотрите.
— Пожалуйста, продиктуйте ее по буквам. Прошу вас.
— Беллофф. Бе, е, эл, эл…офф. Вроде как в «fuck off».
— Ты у меня смотри тут, приятель! Разговорился, понимаашь ли…
Дверь Джейку тем не менее открыл.
— Можете идти. Скоро ваш поезд.
— Не сажайте меня опять в такой же вагон, — взмолился, отступая, старик.
— Да не волнуйтесь вы, дедуля. За вами придут.
За ним придут! Старик сполз на пол, обхватил голову руками и зарыдал.
— Неужто вы не можете ничего для него сделать? — возмущенно спросил Джейк.
— А что сделаешь? Есть идеи?
Дверь за Джейком захлопнулась, его проводили по лестнице вниз, вручив заботам еще одного служителя Фемиды, молоденького чиновника в штатском — на вид до хруста чистенького и с добрейшей обезоруживающей улыбкой. Молодой человек сразу нагнулся, освободил Джейка от одного из чемоданов, причем как-то так мимоходом, не привлекая к жесту вежливости лишнего внимания. Добрый его посыл тронул Джейка, и ему в первый раз пришло в голову, что сам-то он весь потный, мятый, и в глазах этого милого молодого человека выглядит, должно быть, каким-то мелким жуликом, может, даже сумасшедшим, как тот старик, что остался в камере. После грубости и убожества, весь день его донимавших, по контрасту парень до глубины души поразил Джейка. Такой благожелательный, такой чистый, ему так захотелось довериться! Когда вместе вышли на свежий воздух, у Джейка даже мелькнула мысль, что лучше бы случайные прохожие принимали их за приятелей, — зачем кому-то знать, что это заключенный и конвоир; возникло желание как-то дистанцироваться от гадости, липнувшей к нему весь день, и произвести хорошее впечатление.
— Извините за настырность, — сказал молодой человек, — но вы, кажется, политический, не так ли?
— Ну-у, да. То есть в этом меня обвиняют.
— А я не против политических. Они, как правило, образованные и… ну, что ли, идеалистического склада. А вот наркоманов и пидеров не перевариваю. Или вы их, может быть, считаете… вроде как за больных?
Джейк пожал плечами.
— А что вы собирались делать в Нью-Йорке?
— Вооруженный переворот.
— О, это круто. Крепко сказано.
— В одиночку с моим ультразвуковым пистолетиком.
— А, так вас вместе с этим держали. Потрясающий тип, правда?
— А вы агент ФБР?
— Да ну, черт, какое там! Ничего общего. Я знаете, что вам скажу: мне страшно нравится все канадское! Дома по радио мы всегда слушаем Си-би-си[120]. Как-то интеллигентнее у них все преподносится, вы меня понимаете? Там несогласным тоже дают высказаться. Ну, вот, например, этому — как его? — профессору Макаллистеру, который иногда у них по внешней политике с особым мнением выступает.
Макаллистер читал у Джейка лекции в Макгилле. Зануда, вульгарный марксист.
— Вы, случайно, его лично не знаете? Ну, вы ведь тоже из Монреаля.
— Нет. А там сказали, что за стариком кто-то придет. Кто?
— А, вы про этого. Черт, старик нам уже третий раз попадается. Придет его сын вроде бы. Очень уважаемый, известный дантист. Кстати, старикан не показывал вам цифры на руке?
— Цифры? Нет, — удивился Джейк, которого вдруг начало подташнивать.
— Между прочим, завтра у «Доджеров» будет играть Карл Эрскин. Даже и Уайти Форд, кажется, на поле выйдет!
— Хм.
— Когда подойдет поезд, просто входите впереди меня. Зачем нам тут цирк устраивать, верно?
— А что за цифры у него на руке? — (Ты хоть соображаешь, о чем лепечешь, идиот чертов?)
— Да это еще с войны у него осталось. Что-то там такое с ними в концлагерях делали. Вы что, не знали?
Джейк подавил позыв огреть его чемоданом.
— Самое смешное, что в Западной Германии теперь опять всем заправляют те же самые немцы. Вот что вы на это скажете?
— Скажу поцелуй меня в королевскую канадскую жопу!
— Вот те на. Зачем нам ссориться? Да ну… Лично против вас я же ничего не имею! — Он протянул Джейку раскрытую пачку сигарет. — Скажу вам по секрету, я даже во многом с вами солидарен!
— И что с того? О чем ты всю дорогу тут бормочешь? О концлагерях? Или о чемпионате по бейсболу? Вы что там в Штатах — поголовно спятимши?
Молодой человек остановился, его приятное лицо напряглось, сделалось очень серьезным.
— Вы в самом деле так считаете?
— Что?! Что я считаю?! Про что, вообще, речь?
— Про коммунизм. Главная-то его идея в чем? В братстве. Ну ладно, это я покупаю. Но она же у вас не работает! Все тормозит глубинная природа человека.
Джейк стоял, смотрел на рельсы. Господи, хоть бы уж поезд скорей пришел!
— Наверное, кто-то из ваших друзей должен был вас в Нью-Йорке встретить.
— Конечно, парад планировали. Манифестацию, уличные беспорядки.
— Хотите, я ему позвоню, объясню, почему вы не приехали.
— Ой, что-то меня тошнит. Я должен сесть.
Привалившись к столбу, Джейк сполз по нему, сел на корточки.
— Да вот же поезд идет! Просто заходите в вагон впереди меня. Садиться рядом нам не обязательно.
Молодой человек расположился далеко от Джейка — пятью рядами ближе к хвосту, а когда переехали границу, встал и на первой станции спрыгнул с поезда. Проплывая в вагоне мимо, Джейк встретился с ним глазами, когда тот стоял на платформе, прикуривал. Провожатый помахал рукой, осклабившись в заразительной усмешке. Сердце Джейка забилось, голову обдало жаром, и вдруг он, к собственному изумлению, злобно харкнул на вагонное стекло, причем как раз в тот миг, когда поезд дернулся и, задрожав, начал сдавать назад, чтобы потом опять двинуться вперед. Молодой человек посмотрел на него и покачал головой в полном ужасе.
А Джейк, в котором возобладал теперь стыд, понял, что опять выступил в своем репертуаре: поставил себя в один ряд с отребьем, не удержался на высоте положения. Повел себя неправильно, по-детски, как идьёт, тогда как до того момента правда была на его стороне. Потом, когда он вспоминал тот день и много раз рассказывал о нем на вечеринках, его каждый раз пронизывал стыд при мысли о том, как это выглядело, когда он, будто последнее хамло, плюнул на оконное стекло, но это ведь из рассказа можно и выпустить… Так что полностью он обо всем этом поведал только Нэнси.
Прибыв назад в Монреаль, Джейк прямиком пошел в бар на Центральном вокзале, заказал двойное виски, расплатившись американскими деньгами.
— Монреаль это Париж Северной Америки, — сообщил ему официант. — Уверен, вам здесь понравится, сэр.
Джейк уставился на монетки сдачи.
— Это что, — спросил он, — фишки для игры в монополию?
— Это наши канадские деньги!
Джейк с удовольствием рассмеялся.
— А вы не смейтесь. Канада серьезная страна. Занимает первое место в мире по добыче урана. А еще, между прочим, у нас Уолтер Пиджен[121] родился!
3
По возвращении в Монреаль Джейк, пытаясь все-таки поиметь от своего нью-йоркского фиаско хоть чуточку удовлетворения, вдруг подумал — и не без злорадства, надо отметить, — что из него теперь, как из корня, вырастут для Хершей доселе невиданные пограничные проблемы. Не без злорадства, потому что ему доставляло удовольствие думать, что его еле наклюнувшееся политическое прошлое может лишить дядьев и теток их любимого Майами. Так что в эту зиму, возможно, даже наиболее обеспеченным из Хершей придется вместе с ним терпеть замерзший, рухнувший ниже нуля Монреаль. Насморки, метели, обмороженные пальцы. Однако всего через неделю после его возвращения на границе задержали его двоюродного брата Джерри, допросили и разрешили следовать дальше в Нью-Йорк. Вовсе не Джерри и не Джейка опасались иммиграционные чиновники. Их интересовал другой Дж. Херш, а именно Джозеф или Джо, как его звали в семье, и дядьям Джейка это было известно с самого начала. Дядя Джек, самый непоколебимый ортодокс из всех Хершей, близорукий меховщик, чья революционная деятельность не простиралась дальше неудачного восстания против недостаточно ревностных аппаратчиков синагоги «Ша’ар-Цион»[122], рассказал Джейку, что его тоже однажды остановили на границе и два часа допрашивали, прежде чем пропустить.
— Да ты наверняка, — сказал он, — просто надерзил им. Сам себе ты устраиваешь столько проблем, сколько не сможет тебе устроить никто другой.
— Но в чем они обвиняют Джо? В преступлении?
— Он коммунист, а ройте[123].
Джейк, овеянный собственными враждебными вихрями, от этого объяснения со смехом отмахнулся. То, что братец Джо когда-то был игроком, актером, может быть, даже гангстером — это на краю сознания Джейка как-то еще маячило, но чтобы коммунист?
Чепуха какая-то.
Когда Джейк впервые встретил Джо? Вспомнить это оказалось не так-то просто, но году, кажется, в тридцать седьмом. Джо тогда было восемнадцать, Джейку семь.
Все началось с того, что однажды знойным летним днем, а точнее, в воскресенье (обычное такое воскресенье, как все другие) Ханна привела свое потомство — Джо, Дженни и Арти — в загородный дом дяди Эйба; летом он жил у озера. Джейк вместе с двоюродными и троюродными родственниками соответствующего возраста с криками плескался и прыгал с пирса, ворчливые тетушки играли в маджонг, запивая кнышес кока-колой; ражие дядья за столиком, поставленным в тень клена, увлеченно резались в покер; женщины взвизгивали, мужчины похохатывали, родичи подросткового возраста скакали и притоптывали под патефонную пластинку буги-вуги, младенцы, как положено, орали… Как вдруг на берегу настала нехарактерная тишина. Джейк, заинтересовавшись, пошел глянуть и увидел Ханну с ее тремя отпрысками. По сравнению с его тетушками Ханна выглядела невероятно тощей. Прямо как черное зимнее деревце. Два младших ее ребенка, странно бледненьких на июньской жаре, были одеты в темные, явно с чужого плеча городские одежды; Джо (старший) — нет, Джо был одет не так.
Джо стоял от них в стороне и презрительно улыбался. Его черные волосы были безжалостно сострижены под машинку, а одет он был в выцветшую голубую рабочую рубашку и линялые темные штаны из «чертовой кожи» — то была форма «Мальчиковой фермы», исправительного заведения в Шоубридже, где содержали малолетних преступников. Дженни, весь лоб которой был усеян злыми прыщами, нарочито игнорировала прочих подростков. Арти был гораздо младше — всего года на три взрослее Джейка; он цеплялся за Ханну и щурился на солнце. Дядя Эйб великодушно водил хмурых претендентов на вхождение в семью от одной группы родственников к другой, и от Джейка не укрылось, что его тетки от вновь прибывших как бы отпрянули, а после того как дядя Эйб двинулся дальше, принялись между собой лихорадочно перешептываться. Обедать Ханну с ее выводком вместе с гостями не посадили — подали им поесть на кухне.
— Кто это? — спросил Джейк отца, когда тот вез их на машине обратно в город.
— Твои троюродные. Баруховы детки.
— А кто такой Барух?
Не отвечая Джейку, отец повернулся к жене и сказал:
— «Паркер-51» у Эйба уже пропал.
Дурацкая это была идея. Ошибочная.
Но мать Джейка перебила мужа, и они принялись ссориться, возбужденно переговариваясь на идише.
— А почему у старшего голова побрита? — спросил Джейк.
— Ты слышал, наверное, что на самолетах принимают меры против обледенения? А у него это мера против обовшивления.
Новых Хершей запихнули в квартирку без горячей воды на улице Сент-Урбан по соседству с Джейком, в одном из домов, которыми владел дядя Эйб. Братец Джо сидел дома, искать работу с ходу не бросился, а объясняли это тем, что он нездоров. Он никуда не торопился, спал допоздна, чтобы, как выразился доктор Кац, запасать энергию, которую потом, когда придется противостоять зимним метелям, он будет швырять в топку своего тела. Обычно Джо до полудня дрых, потом шел гулять, и как бы поздно он домой ни возвращался, Ханна, говорят, в любом случае его дожидалась, сидя за кухонным столом и грея мозолистые натруженные ноги в тазике с горячей водой, а заодно вязала носки любимому радиокомику, в любой момент готовая подступить к сыну с расспросами обо всех его бедах и болячках вплоть до того, когда и какой консистенции стул у него был в последний раз.
Через четыре месяца после их поселения на улице Сент-Урбан выпал снег, земля замерзла, простыни, висевшие на веревках, натянутых поперек заднего двора, стали твердыми как стекло, а Джо из дома исчез. Матери сказал: «Схожу к Танскому за колой, к ужину жди» и был таков.
У Танского Джо видел Макс Кравиц.
— Он у меня пытался десять баксов в долг стрельнуть, но я сказал, ну уж нет.
Отказывать Джо на улице Сент-Урбан было доброй традицией, потому что дядя Эйб раз навсегда определил, что Джо не лучше, а может быть, даже хуже своего папаши Баруха. Так что, хотел ли он купить гитару, или Ханна искала, где бы призанять ему на мотоцикл, ответ был один — нет и нет. Квартплату за их жилье на Сент-Урбан дядя Эйб списывал, он же оплачивал им счета от врача, которые подчас бывали очень даже изрядны, но излишеств не одобрял.
Джо ушел из дома в декабре тысяча девятьсот тридцать седьмого и, несмотря на все усилия полиции, Института барона де Хирша[124], а потом даже и весьма подозрительного частного детектива, к услугам которого прибегли под впечатлением от подвигов Бэтмена и Вондербоя,[125] ни слуху ни духу о пропавшем не было до самой осени тридцать восьмого, когда Ханне пришла от него французская открытка из Тулузы. Это ж где! Это ж вообще Европа! Где он добыл хотя бы тех же денег, чтоб туда попасть? Все недоумевали, а кое-кто из соседей по улице тут же язвительно указал: где-где, да вот же — за день до исчезновения Джо неподалеку обнесли гараж! Другие (вспоминая, наверное, Баруха) больше склонялись к тому, что он, должно быть, нанялся на судно. Летом тридцать девятого пришла еще одна открытка, на которой теперь красовалась почтовая марка Мехико-Сити.
— А он не такой дурак, — сказал Шугармен. — Хотя бы под призыв не угодит.
— Ой, только вот не надо! Кому такой болезненный цуцик нужен в армии? — скривился в ответ отец Джейка.
Со дня исчезновения сына Ханна ни разу не усомнилась, что он вернется. Он вернется весной, заверяла она соседей, злобно сверля их взглядом. Когда зацветет сирень под окном. Но пришла весна, потом опять пришла весна, а Джо не возвращался. Вместо него в январе сорокового у Ханны на пороге появился высокий мужик с пустыми серыми глазами.
— Вообще-то, — лениво процедил он с улыбкой, от которой по спине забегали мурашки, — мне нужен Джозеф Херш, известный также под именем Джесс Хоуп.
Мужик назвался инспектором Королевской канадской конной полиции[126].
— Что он наделал? — всполошилась Ханна.
— Никаких обвинений против него не выдвигается. Мне надо просто с ним немножко покалякать.
— Таки, вы знаете, не только вам!
Вечерами Ханна либо присаживалась на балконе, либо стояла в гостиной у окна — нет, вы представьте, каждый божий день! — и каждый раз дергалась, когда к дому подъезжал незнакомый автомобиль. Когда надо было уходить и в квартире никого не оставалось, Ханна всовывала в щель двери записку, где указывалось, у кого из соседей оставлен ключ. Морозными вечерами прочесывала улицы, искала Джо, а заодно продавала газету «Газетт» — в центре, где-нибудь перед отелем «Вог» или неподалеку от джаз-клуба «У Динти Мура», либо в толпе болельщиков у «Форума»[127] после хоккейного матча. «Гзэт!.. Гзэт!»
Ханна была костистая, жилистая тетка, вся из торчащих во все стороны углов, с лицом морщинистым как мятая оберточная бумага, да и цветом в тон ей же; на нем горящие черные глаза и бородавка, как шуруп ввернутая в длинный, загнутый книзу нос. Зимними вечерами (холодными, надо сказать, до посинения) она ходила в мужской кожаной шапке с опущенными ушами, двадцать раз обмотав шерстяным шарфом тощую цыплячью шею, а поверх всех кофт натягивала красный форменный свитер хоккейной команды «Монреаль канадиенс». На поясе кожаный кошель, а пальцы шерстяных перчаток отрезала, чтобы удобнее было отсчитывать сдачу. Вот обувка у нее было справная — унты летчиков ВВС, изнутри утепленные овчиной: а как же, главное ноги в тепле! «Гзэт!.. Гзэт!»
Где-то Ханна выискала спятившего, растерявшего уважение в массах ребе, последователя любинерской, редкостной какой-то традиции, кабинет которого был завален схемами и таблицами — пособиями по хиромантии и френологии; она входила, целовала кисти его талита[128] и совала деньги пачками, упрашивая придумать действенную молитву о возвращении к ней ее Джо. Однако не помогла еврейская некромантия. Тогда Ханна припала к бетонным ступеням церкви Святого Иосифа, пошла по ним взбираться на коленях, вознося молитву ко Христу, но и он не помог, чем, в общем, даже и не удивил. Потом Ханна взяла за правило ходить по вокзалам, смотреть, как приходят и уходят эшелоны с войсками, принялась искать Джо среди солдат с тем результатом, что однажды рождественским утром газета «Стар» вышла с огромной рекламной фотографией, на которой Ханна протискивается сквозь толпу солдат, будто бросившись к кому-то любимому и родному. Сверху полосу венчал лучезарный крест, по периметру фотография была обведена рамкой из омелы, а внизу шел штриховой рисунок: солдат в землянке, читающий письмо. Подпись гласила:
ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ РОДИМЫЙ ОЧАГ
С антрацитом Мак-Таггарта — не погаснет!
Ханна же всюду носила с собой фотографию Джо, и если к кому-нибудь на Сент-Урбан или даже в Утремон приезжали гости из Нью-Йорка или Торонто, если воскресным вечером в синагоге горел свет, шла бар-мицва или происходило венчание, Ханна была тут как тут — сущее наказание, кошмар всей улицы — она шла от стола к столу, показывая фотографию, да еще с этаким злым, обвиняющим видом. Если ее приглашали сесть, тут же налегала на виски и начинала нести сущую околесицу, и все про Джо. Рассказывала о тех временах, когда у него — маленького, тщедушного четырехлетки — тело было шершавым как наждак из-за стригущего лишая и как он был на волосок от смерти, заразившись скарлатиной. Вспоминала, как он однажды чуть не задохнулся, подавившись ржавым гвоздем.
— Да ведь и с самого начала — кто мог подумать, что он выживет? — повторяла она вновь и вновь. — Кто, я вас спрашиваю! Бог? Ага, сейчас! Он прямо все глаза проглядел, заботясь о Своем избранном народе! «Костыль» Джонс?[129] Косоглазый главный раввин Лондонского зоопарка? Доктор Геббельс? Джо у меня родился в промерзшем горняцком бараке в Йеллоунайфе[130] при вспоможении (если это можно назвать таким словом) всегда поддатой польской повитухи, пока его папаша где-то опять напропалую пьянствовал. Родился слабенький — заплакать и то не мог. Во-от такусенький и весь синий — как чернилом намазан. Кто мог подумать, что он выживет? Я! Одна только я.
В течение всего бейсбольного сезона Ханна держала объявления в газетах всех городов, где шли игры высшей лиги, а в ту неделю, когда проводились конские бега «Кентукки-дерби», газета «Луисвильский курьер» выходила не иначе как с таким ее воззванием:
ВОЗНАГРАЖУ!!!
всякого, кто предоставит информацию о местопребывании Джозефа Херша, также известного под именем Джесс Хоуп. Рост 6 футов 1 дюйм, волосы черные. Сведения высылать по адресу: а/я…
Чем дальше, тем более злобно тыкала она фотографией Джо под нос испуганным иностранцам в гостиничных вестибюлях, в зале прибытия аэровокзала и в порту, где швартовался паром. В конце концов, она сама стала темой для газетной колонки «Что к чему» Мэла Уэста в монреальской «Геральд». «НАДЕЖДА В НАШЕМ СЕРДЦЕ КАК ЗВЕЗДА[131] — писал когда-то бард, и ведь как в точку, будто про нее сказал! При том что Ханна Херш обычная, простая баба и наша давняя знакомая — мы ее каждый день встречаем то тут, то там на улицах и площадях нашего города…» Дядя Эйб вызвал Ханну к себе в офис на седьмой этаж Доминион-сквер-билдинга. Газета с позорящей колонкой лежала на столе.
— Ф-фи! — сказал он.
— Это мой первенец, — нисколько не смутилась Ханна.
Первенец, но ребенок не единственный. Меньше чем через год после исчезновения Джо Дженни пришлось бросить Флетчерфилдскую школу и пойти работать. Ее одобрили: как-никак матери помогает, да и не просто помогает — почти что в одиночку поднимает брата Арти. И уж совсем зауважали, когда выяснилось, что и учебу она тоже не бросила — ходит в вечернюю школу, но почему всегда с таким постным видом? Нет, что вы спорите? Вы увидите, спросите то же. Потому что ее прыщи теперь высохли и исчезли, и она оказалась весьма миловидной особой, особенно когда этак вышагивает домой с работы в новом свитере, надетом на летнее платье — на локотке сумочка, в другой руке авоська с продуктами и книжкой, а попа юбкой так обтянута, прямо что твой арбуз, но мальчика, чтоб был для ней достаточно хорош, вот не найти ей! Вот с целой улицы! А еще слух разнесся, будто бы Дженни из своей вечерней школы больно уж поздно домой приходит и не очень-то уважительно разговаривает с матерью, тогда как сказано: чти матерь твою!
Даже такую, как Ханна.
— Гзэт! — выкрикивала Ханна на углах улиц. — Гзэт! — а иногда ни с того ни с сего вдруг разражалась рыданиями или принималась материть прохожих.
Однажды ранним весенним утром, когда сирень была в полном цвете, Ханна высыпала из хранившейся на кухне кофейной банки весь недельный запас продуктовых денег и кинулась на угол Сен-Лоран и Рашель на базарчик, откуда возвратилась с маринованным языком, жирным гусем, мозговыми косточками, куриной печенкой, огурчиками, черешней сорта «а-бинг», импортным виноградом и ананасом. Себе под нос напевая, разожгла плиту. Дженни, как раз убегавшая на работу, была не столько огорчена растратой денег, сколько испугана, увидев Ханну невменяемой и в таком необъяснимом возбуждении.
— Сегодня Джо возвращается! — объявила Ханна.
— Он что, письмо прислал?
— Из дома ушел он совсем налегке, и сердце оставил в солдатском ларьке… Чарли, Чарли, мама не забыла…[132]
Придя с работы, Дженни обнаружила, что вся плита уставлена булькающими кастрюлями. А из духовки только что вынут противень, полный горячих хрустких булочек с изюмом, и всунут другой, с медовой коврижкой. В гостиной на столе праздничная посуда, ваза полна фруктов и накрыта свежей льняной салфеткой. Арти, несмотря на сопротивление, переодет в лучший выходной костюмчик; ботинки сверкают…
— Ах, подружка моя, мой спасательный круг, — опять запела мать и откинулась в кресле, будто бы в томном изнеможении, — ты скажи не тая, где мой ласковый друг…
Но в конце концов настало время Ханне отправляться продавать газеты.
— Если он явится, пока меня нет, — сказала она, — вы с Арти с глупыми вопросами к нему не лезьте, поняла? Никаких почему исчез и где был! Налей ему рюмочку «Чивас Регал» и скажи, что я скоро приду.
После чего, заметив, что у обоих испуганный вид, добавила, приладив к поясу кошель:
— Иго-го, Сильвер! — и с лошадиным ржаньем, хлопая себя по заду, вприпрыжку выскочила из дома.
Суп булькал на плите два дня. Гусь высох и обуглился. Булочки с изюмом зачерствели.
— Послушай, может быть, нам все-таки сдать его комнату? — спросила Дженни.
— Эта твоя вечерняя школа! Ха! — взвилась вдруг Ханна. — Думаешь, я не знаю, что там за обстановочка? Небось вовсю передком двигаешь!
Еще больше их отношения обострились из-за радио. Ханна всегда была страстной радиослушательницей, а с тех пор как исчез Джо, и вовсе от радио не отрывалась. Любимцем Ханны был Боб Хоуп[133].
— Ох уж мне этот Бобби! — говаривала она. — Такое порой загнет, помрешь-не-встанешь!
На стене над ее кроватью висели фотографии с автографами Хоупа, Джо Пеннера, Безумного Русского, Фила Харриса, Эдгара Бергена и Чарли Маккарти. А, да, еще, конечно, Джека Бенни[134].
Вечерний воскресный радиоэфир — это была рана, незаживающая рана. В единственный свободный вечерок Дженни хотелось послушать что-нибудь интеллигентно-возвышенное — например, радиопостановку по Си-би-си, но Ханна об этом даже слышать не хотела. Особенно если на другой станции в гости к Мортимеру Снерду должен был приехать У.К. Филдс[135].
— Мам, ну ты бы хоть разок попробовала, — умоляла Дженни. — Ну хоть один разок!
Что ж, Ханна попробовала. Вышло так, что тем вечером как раз передавали духоподъемную пьесу одного из самых свободомыслящих канадских драматургов. Пьеса была про красивую и нежную слепую девушку, за которой ухаживает интеллигентный мужчина с глубоким басом. Мы знаем, что он преисполнен любви к слепой девушке, но нам дают понять, что с ним самим что-то не так. Мужчина собирает деньги девушке на операцию, которая оказывается успешной, но, когда мы узнаем, что девушка вот-вот прозреет, он внезапно пакует вещи, готовясь уйти. Почему? Оказывается, хочет избавить ее от потрясения. Он негр! Ханна вздыхала, закатывала глаза.
— Пока есть жизнь, есть надежда, а где есть надежда, обычно поблизости и Боб Хоуп с Бингом Кросби, — в очередной раз повторила она, и ее рука вновь потянулась к ручке перестройки частоты.
Курлы — мурлы, пити фьют! Дынц бум, дынц бум, дынц бум…— Как же ты не понимаешь, мамочка, — огорчилась Дженни, — что эта пьеса поднимает вопросы, очень важные для сегодняшнего мира.
— Да ну, дурочка ты с переулочка. Через твой выпендреж у меня дырка в голове. Шла бы ты к себе в комнату, да поучилась уму-разуму у песика Уолта Диснея!
— Тогда его сперва переименовать надо. Из Плутона в Платона. Ну вот что с тобой разговаривать? Ты ведь небось даже и не знаешь, мамочка, что Платон — это был такой величайший философ.
Иногда ссора между Ханной и Дженни растягивалась на неделю, а начиналось все, как правило, с того, что упрямая мамаша включала радио, причем не просто громко, а очень громко, да еще и в то самое время, когда ее дочь, которая успела уже окончить среднюю школу и сразу пошла на курсы при университете, пытается заниматься. Дженни коварно выкрадывала из приемника лампу, и тогда мать наносила несимметричный удар: подсыпала дочери в постель раскрошенную мацу. В свою очередь, Дженни под пятницу приносила с рынка неощипанную курицу, тем самым вынуждая Ханну срочно заняться ненавистным для нее делом; в ответ Ханна плюхала дочке в борщ касторки.
— Вот тебе! Ты у меня завтра забегаешь!
Однажды благостным весенним вечерком 1943 года, когда опять под окнами на дворе расцветала сирень, Джо вошел в дом так запросто, словно уходил всего лишь на угол за сигаретами. Ханна со стоном обмякла в его объятьях.
— Так. И за что же нам такая честь? — испуганно осведомилась Дженни.
У подъезда между тем стоял красный как пожарная автоцистерна спортивный «МГ»[136].
Хлоп! Трах! Соседи пораспахивали окна. Высыпали на балконы и лоджии. Арти, Додик, Гас и Джейк, вне себя от восторга, обступили машину. На лобовом стекле наклейки: Флорида — штат цитрусовых, Новый Орлеан — город Марди Гра[137].
Гранд-Каньон, Колорадо, Лас-Вегас, Тумстоун, Чикаго, Джорджия… Машина была в пыли южных пустынь, на лобовом стекле кляксы грязи и расплющенные жуки. В решетке радиатора застрявшие птичьи останки. Номер калифорнийский. Позади рама, к которой приторочены два кожаных чемодана и саквояж. А еще гитара. Один из чемоданов со сверкающей золотом бляхой, на которой выгравировано имя владельца — Джесс Хоуп; другой вкруговую облеплен наклейками с экзотическими названиями отелей Франции, Испании, Мексики и США.
Додик Кравиц (он был смелее остальных) сразу полез проверять, что в бардачке. Подергал — заперто.
— Ясное дело, — сразу все понял Додик. — Там у него левольверт.
4
В день возвращения Джо его обтекаемая пожарного цвета «эмгэшка» до вечера стояла на Сент-Урбан, производя там впечатление полной неуместности среди потрепанных «шеви» (ничего лучшего местные главы семейств не могли себе позволить), грузовиков для развозки угля, таксомоторов на отдыхе, «фордиков» мелких торговцев и всяких фургончиков для поставок бакалеи, — этакий княжеский жеребец среди крестьянских кляч, а братец Джо — его шевалье, гусар, всадник, рыцарь, вернувшийся из крестового похода.
По фотографии Джо, которую Ханна всем показывала на вокзалах, его все рано узнать было бы невозможно. Уезжая, Джо был тощим мальчишкой, болезненным, с надрывающим душу кашлем, а вернулся большим широкоплечим мужчиной. И очень элегантным, это Джейку запомнилось, — ох, каким элегантным! Вышагивает по Сент-Урбан бронзовый как пляжный спасатель, глаз не видать за темными очками, брюки ловко облегают упругий зад и плоский твердый живот, — просто не верится, что он когда-то был здешним! И уж никак не скажешь по повадке, что из-за угла могут выскочить кредиторы или вдруг шериф с наручниками нападет. Такого запросто по плечику не похлопаешь, даже если ты гой двухметрового роста. Люди на улице любовались им, но и побаивались тоже. Когда в день возвращения он проплывал, например, мимо фруктовой лавки «Бест-Грейд-Фрут», дядя Лу не совсем решительно махнул ему рукой — дескать, заходи, поболтаем, — но в глубине души был даже рад, когда Джо в ответ лишь кивнул, но проследовал мимо. Завсегдатаи заведения Танского тоже насторожились, отметив между тем, что Джо мужчина пьющий. Нет, он, конечно, не шатался, и никаких таких особых грубостей за ним ни раньше, ни теперь не водилось, но иногда в его движениях вдруг проглядывала какая-то подводная замедленность, а в манере поведения явственно проступала угроза. Джо не был веселым, озорным пьянчужкой, какие встречались Джейку на бар-мицвах. Его опьянение нисколько не походило на то, что охватывает после рюмашки шнапса, когда хлопнешь ее под медовую коврижку, закинув голову и тотчас смаргивая навернувшуюся слезу. Нет, пьяный Джо становился опасен.
Вечером в день возвращения он вызвал Дженни и Арти в гостиную.
— Наш отец жив, — сказал он. — Коптит небо в Торонто. Живет с ирландкой. Вдовой. У нее своя кондитерская.
И все; но на другой день Арти подслушал, как Джо и Дженни ссорятся.
— Вот ушел ты из дому и куда поехал? — пристала к нему она.
— В Европу.
— И в Париже был?
— Да. Но потом, ты понимаешь, я как-то оказался в Голливуде. Женился, но неудачно. На старлетке.
— Ага. А я королева Сиама. А теперь скажи, зачем домой явился. Скажи уж прямо: в тюрьме-то долго сидел?
Он только усмехнулся. Она за свое:
— Гад ты, Джо. Сволочь ты. Вот я так даже в Торонто не могу уехать. А знал бы ты, как мне здесь все обрыдло.
— Так уезжай!
— А что будет с Арти?
— Так у него мать есть. Твое какое дело?
Следующим утром Джо сделал заход по магазинам, и в дом пошли приносить покупки. Щегольские белые рубашки и черные шелковые носки из магазина «Севил-роу» на Шербрук-стрит. Серебряный портсигар от Биркса[138].
Костюм не от «Мори Голда и Сына» (с подбитыми плечами, двумя рядами пуговиц и мешковатыми штанами), а от портного с настоящим британским акцентом. Для улицы Сент-Урбан вкус Джо был все-таки странен. Он не любил веселеньких цветастых галстуков и двуцветных ботинок; не нравились ему и пальто из верблюжьей шерсти. Джо одевался как холодный и корректный вестмаунтский[139] адвокат.
Он быстро выяснил, что Арти и Джейк, подстрекаемые Додиком Кравицем, подворовывают в универмаге «Итонс» (да еще и когда! — с утреца по субботам!), и как следует их за это взгрел, чем Додика изрядно озадачил: малец-то пребывал в убеждении, что Джо и сам крутой бандюган.
И Додика, и Арти с Джейком еще больше запутала ситуация, возникшая после карточной игры, которой они предавались весь следующий день, на редкость дождливый. Джо, державшийся спесиво и неприступно, как-то даже угрожающе, скоренько ободрал пацанов как липку. Они принялись вокруг него виться, всячески юлить и заискивать, но Джо так и не предложил вернуть им проигранное.
— Да ну тебя, — хныкал Додик, — тебе ж это семечки! Я думал, мы просто так, на интерес играем.
— Карты есть карты, — сурово ответствовал Джо. — Дело серьезное.
Крепче всех проигравшийся Додик (2 доллара 85 центов) ударился в слезы.
— Ты злой мерзавец, взрослый мудак! Невинных детей ограбил! Папа говорит, ты вообще в банде, в похищении сына Линдберга участвовал!
И не успел Джо отреагировать, как Додик выкатился в дверь. Оказавшись в безопасности, устроил злобное представление.
— Эй, сифилитик! — закричал он Джо. — Давай баш на баш! Ты рыгнешь мне в жопу, а я тебе за это пердну в рот!
Одному Гуди Перлману хватило смелости спросить напрямик:
— Откуда у тебя столько денег, Джо?
— Ну, как бы тебе это объяснить, Гуди… — слегка замялся Джо. — Ты ведь, пожалуй, не поймешь, hombre[140], но черным рынком они, во всяком случае, не пахнут.
Как-то раз Джо проходил мимо пошивочного ателье Гуди Перлмана на Мейн и зашел — просто так, по старой памяти. Гуди, кстати, разъезжал на «бьюике» — и это во времена, когда такой автомобиль можно было купить разве что на вторичном рынке (с десятью или пятнадцатью милями на одометре), причем по цене, намного превышающей заводскую. В общем, когда Джо в тот вечер пришел домой, Гуди уже ждал его в автомобиле, припаркованном у подъезда. Пригласил Джо сесть к нему и показал фотографии жены и детей, а также медицинское освобождение от армии. Поговорили о добрых старых временах, похихикали, но в глазах у Гуди стоял страх. Сидит, шутит, а у самого за шиворот пот течет. В конце концов вынул конверт с двумястами пятьюдесятью долларами и сунул Джо.
— Пожалуйста, не подымай волну. Оба евреи, мы же поймем друг друга. Я желаю тебе самого лучшего, всяческой удачи, ты такой у нас умница, такой красавец, просто принц!
На что Джо, говорят, достал зажигалку и подпалил конверт — то есть действительно поджег его — и не разжимал пальцев, пока деньги не исчезли в пламени. Затем он, не сказав ни слова, выбрался из машины, тогда как Гуди, со скрежетом врубив передачу, рванул с места и поехал прямо домой, где попросил Молли вызвать доктора Каца.
На заднем дворе Джо устроил себе что-то вроде тренировочной площадки. Повесил боксерскую грушу, положил маты, на них медицинбол[141].
Иногда к нему наведывались какие-то незнакомцы, участвовали в спарринг-тренировках, приводили с собой девиц, и девиц, надо сказать, действительно шикарных, которые при этом сидели, изящно закинув ногу на ногу и посасывали мартини. Арти с Джейком подсматривали, прячась за занавесками в спальне; так Джейк впервые увидел фантастическое переплетение шрамов у Джо на спине. Целый узор из заживших порезов и ран. Одна из девиц, длинноногая блондинка, появлявшаяся обычно в темных очках и костюме для верховой езды, приходила чаще других и сидела дольше, а после упражнений растирала Джо полотенцем, потом садилась в его «эмгэшку» и ждала, пока он тоже переоденется в форму наездника, после чего они вместе ехали в конюшню на Бэгг-стрит, где брали напрокат лошадей. А бывало, что та же девушка приезжала поздно вечером — просто повидаться с Джо — или внезапно появлялась среди дня. Однажды, когда она сидела на дворе с Джо и попивала мартини, в дверь позвонил высокий, элегантно одетый седой мужчина. Девушка спряталась в сарае. А Ханна, выйдя к нему на звонок, сказала, что Джо нет дома. Мужчина сел в машину, прождал чуть не два часа, и лишь потом уехал.
Наведывалась к нему и еще одна женщина. Эта приезжала на такси. Темноволосая и необычайно красивая, хотя явно старше Джо. Ее визитам он, похоже, не шибко радовался и никогда не позволял ей растирать себя полотенцем после работы на снарядах. Как-то раз она на заднем дворе вдруг расплакалась, о чем-то его умоляла, а он хлестнул ее полотенцем, так что она даже вскрикнула. Впрочем, бывали случаи, когда он уезжал с ней вместе и возвращался только утром, нагруженный покупками из «Севил-роу».
Элегантно одетый седой мужчина вновь и вновь подходил к их дому на Сент-Урбан, а однажды приехал с утра, сел на заднем дворе и стал смотреть, как Джо занимается зарядкой. Что он говорил, Джейку и Арти слышно не было, но было ясно, что Джо сердится: он молотил по груше все сильнее и сильнее, а его глаза пылали ненавистью. Когда Джо упражняться закончил, мужчина, заискивающе улыбаясь, протянул ему длинный бурый конверт. Но Джо не взял его, а сделал вид, будто сейчас в шутку ударит. Мужчина рассмеялся, продемонстрировав в улыбке все тридцать два зуба, и тут Джо так заехал ему в поддых, что тот согнулся пополам и не разгибался пугающе долго, не в силах ни охнуть, ни вздохнуть. Когда тот мужчина пошел прочь, Джейк и Арти перебежали на балкон, откуда наблюдали, как он, деревянно переставляя ноги, идет к машине. Ханна тоже сидела на балконе. Смотрела вместе с мальчишками, как еще один мужчина, моложе того, но такой же высокий, распахнул перед ним дверцу. Оба высоких дядьки тут же принялись горячо о чем-то разговаривать — даже прежде, чем машина поехала. Ханна плюнула через левое плечо и возвратилась в дом, оставив Джейка и Арти на балконе строить предположения.
Однажды Джо посадил всех пацанов в такси Макса Кравица и повез на стадион «Долормье даунз», где посадил на тренерскую скамью у линии первой базы. Игрок, приписанный к первой базе — фёрст бейсмен, как он по правилам называется, — махнул ему рукой.
— Привет, Джо!
Джо кивнул и лениво махнул в ответ.
— Он что, твой знакомый?
— Мы с ним один сезон вместе в юношеском составе «Доджеров» играли.
— Ты хочешь сказать, что работал в профессиональном бейсболе?
— Ну, недолго.
По дороге домой Джо вдруг спросил:
— А почему это Дженни иногда так поздно приходит домой из вечерней школы?
Арти не знал, Джейк тоже.
— Может — того? вафляет? — предположил Додик. — С заглотиком.
Я даже испугался: мне показалось, что Джо сейчас его убьет. Но нет. Помолчал, а потом говорит:
— Скажете Дженни, что классно провели со мной сегодня время. Скажете, что я нормальный мужик, вам нравлюсь.
Но Дженни в тот день до вечера просидела на работе — печатала накладные в душной и одуряюще жаркой конторе трикотажной фабрики.
— Что плохого в том, что он их куда-то сводил? — удивилась ее реакции Ханна.
— Вокруг гуляет полиомиелит. Им не следует бывать в местах скопления народа.
Ханна со стоном скривилась.
— Если ему так уж делать нечего, не болтался бы по жаре, а шел искать работу, — не сдавалась Дженни.
Однако когда Джо предложил внести свою лепту в семейный бюджет и выложил две новенькие бумажки по сотне долларов, Дженни деньги отвергла — где ты их, дескать, украл?
— А ты бы, кстати, не оставляла трусы и лифчики болтаться на веревке в ванной, — тихо сказал Джо. — Арти почти взрослый парень.
— Только не надо здесь свои законы устанавливать, ладно?
— Вот месяц вновь прошел, — запела Ханна, закружилась, прижав к щеке палку от швабры, — опять мне нужен «котекс»!..рэгтайм… блю-уз!.. — и вдруг резко остановилась перед Дженни. — Это и все, чему ты научилась у твоего хваленого Джимми Дюранте?
— Его фамилия вообще-то Дюран. И он выдающийся писатель[142].
Узнав, что Джо не только на лошадях умеет кататься, но у него есть еще и права пилота гражданской авиации, соседи удивились. Это надо же! Может взаправду летать на самолете! И они с жаром принялись посвящать его во все, что он упустил за время своего шестилетнего отсутствия. Залман Фрид, например, стал офицером в артиллерии. Сын Купермана пошел в военный флот и топит немецкие подлодки в Северной Атлантике. Марв Блум сбит над Мальтой, и теперь о нем то и дело говорят по радио, призывая покупать военные облигации. («Эй, мистер, — обращается к слушателям диктор, — помнишь Марва Блума, веснушчатого тощенького подростка, который приносил тебе по утрам газеты?..») Все эти истории Джо выслушивал с мечтательной полуулыбкой.
— А вы, значит, — подбивал он итог, — все это время, как заведенные, капусту косите? Так получается?
Пробыв дома всего неделю, Джо начал просыпаться по ночам, чихать и кашлять. Так что, когда он уходил, Ханна его непременно дожидалась, хоть возвращался он не раньше часа ночи, а то и в два, и своими голосами они будили Дженни.
— Зиму нынче обещают мягкую, Джо. Это все говорят. Да и вообще, по правде сказать, зимы у нас стали тут какие-то совсем не те.
Разбуженная доносящимися с кухни пряными ароматами и звоном посуды, Дженни, бывало, пробовала к ним присоединиться, тем более что в сковородках скворчало очень заманчиво.
— Да ничего у нас нет! — отмахивалась от нее Ханна, сладко, но как-то без радушия улыбаясь. — Так… старая кость. Суп вчерашний. Тебя это не заинтересует.
— Да я вообще есть не хочу, — холодно отвечала на это Дженни.
— Ну вот и слава Богу. Вот и иди тогда. Спокойной ночи.
Сам того не желая, запал поджег Шугарман. Он рассказал Джо про битье стекол в еврейских лавках, про свастики, которые рисуют на мостовой против синагоги на Фейрмаунт-стрит. Все это местные фашисты, франко-канадские последователи Адриена Аркана[143].
— Ну, так и что вы делать с этим собираетесь? — спросил Джо.
Что у нас собирались с этим делать? Собирались не разрешать детям играть в софтбол на Флетчеровом поле. А то ведь шайки франко-канадского хулиганья там так и рыщут.
Назавтра Джо собрал под вечер Арти, Додика, Джейка, Гаса и еще нескольких мальчишек и повел их на Флетчерово поле играть в мяч. И на следующий день, и еще на следующий. И все время там с ними оставался, чтобы, если у франко-канадцев вдруг возникнет какая-нибудь шальная мысль, им стоило бы только глянуть, как Джо валяется на травке позади сетки отбивающего, и эта мысль тут же бы улетучилась.
Додик Кравиц, становившийся в присутствии Джо очень смелым, выкрикивал по адресу отступающих хулиганов непристойности на их родном французском. Когда один из мальчишек обернулся, Додик, схватившись за ширинку, проорал:
— Votre soeur, combien?[144]
Один из франко-канадцев запустил камнем.
— Ёшка ин дрерд арайн![145] — ответил на это Додик.
Еще один камень ударил в землю. Додик согнулся, спустил штаны и повилял в воздухе бледной и тощей задницей.
— А это для Папы Пия! — одновременно проорал он.
Ну, тут уж, хочешь не хочешь, пришлось франко-канадцам двинуться на приступ. Джо встал, взял биту и пару раз махнул, будто бы по мячу. Хулиганы исчезли.
Додик, Джейк, Арти и остальные принесли на улицу Сент-Урбан раскатистый, хвастливо-преувеличенный отчет о победе, но родителей он не порадовал. У них и так уже проблем хватало. Все больше становилось уличных инцидентов, которые устраивали бродячие банды франко-канадских громил. Партия национального единства премьера Дюплесси распространила карикатуру, на которой старый грубый еврей с длинным уродливым шнобелем убегает в ночь, волоча за собой мешки с деньгами. Лоран Барре, министр в кабинете Дюплесси, сообщил законодательному собранию, что его сын, когда его зачисляли в армию, во время медосмотра подвергся оскорблениям со стороны врача-еврея. «Бесстыжие еврейские эскулапы, — жаловался он, — потешались, всячески унижая голых канадских юношей». Следующим утром дядя Эйб, едучи в свой загородный дом в горах, был сильно удивлен, увидев прямо на дороге надпись: «A bas les Juifs»[146]. Он собрал других столпов общины, щедро жертвовавших на выборную кампанию «Национального единства», и они отправились поговорить с министром, результатом чего стала размноженная газетами фотография, где тот всем пожимает руки и благостно улыбается, прощаясь с делегацией на ступенях отеля «Шато Фронтенак» в Квебек-Сити. На следующий день некий правительственный чиновник сделал заявление для прессы. «Наш антисемитизм, — сказал он, — сильно преувеличивают. Что касается меня лично, то у меня и адвокат еврей, да и машины я всегда покупаю у Сонни Фиша».
Джо кинулся по табачным лавкам и парикмахерским, всех там накручивал, подзуживал и высмеивал, вопрошая: что? что делать-то будем?! Такие оскорбления нельзя оставлять без ответа!
Это было в среду. А в пятницу некий парень с улицы Сент-Урбан отправился в дансинг-холл «Паледор» послушать джаз и, может быть, подклеить какую-нибудь шиксу, да и снял там дамочку, чей муж в тот момент пребывал за океаном с «ванду»[147].
Парня избили и бросили истекать кровью на тротуаре перед домом, о чем тут же подняли крик все газеты. В субботу Джо пошел по лавкам на сей раз с газетой в руках; очень всех доставал, грозил, бахвалился, подстрекал, и вечером группа из двадцати смущенных мужиков, якобы вооруженных бейсбольными битами и кусками свинцовых труб, на четырех машинах выехала в направлении «Паледора». Франко-канадских парней, выходивших оттуда с девушками, от подруг оттаскивали и уводили в переулок. Когда появилась наконец полиция, мужики с Сент-Урбан уже разбежались, а в переулке без сознания валялся избитый франко-канадец. Про это хором раскричались газеты, потому что парень (который к предшествовавшим потасовкам никакого отношения не имел) оказался студентом Монреальского университета и к тому же племянником адвоката, занимавшего видное положение в «Обществе Жана Баптиста»[148].
Дансинг «Паледор» закрыли, и всю ночь, как и следующую тоже, по Сент-Урбан туда и обратно медленно курсировали полицейские машины. Ну а владельцев лавок и забегаловок (как-то ведь и их надо прищучить) стали неумолимо штрафовать за нарушение каких-то городских регламентов, многие годы не применявшихся. Губерман, которого остановили, когда он ехал со скоростью вряд ли больше тридцати миль в час, протянул автоинспектору традиционную мзду в виде пятидолларовой купюры, за что тут же был обвинен в попытке подкупа должностного лица. Столпы общины послали покаянное письмо родителям франко-канадского юнца и еще одно в газету «Стар». «Всех обязательно отыщем, — говорилось в письме, — достанем из-под земли!» Делегация, в составе которой был и дядя Эйб, посетила адвоката избитого, которому обещали, что его обидчиков в общине найдут сами и отдадут для наказания властям.
Лавки на Сент-Урбан стали закрываться рано, и после наступления темноты почти никто не выходил из дома. В галицианерском шуле[149] вознесли по этому поводу специальную молитву. Люди сидели, смотрели в окна, ждали. На следующее утро, когда все в доме еще дрыхли без задних ног, Джо, всего-то и пробывший дома пять недель, собрал чемоданы и снова исчез. А через два дня — да, через два, Джейк это определенно запомнил — пожарного цвета «эмгэшку» Джо нашли перевернутой в лесу рядом с шоссе. Все остальное домыслы.
Когда ее нашли, машина Джо была поставлена на попа, выпотрошенная и сожженная около нью-йоркской трассы, что-нибудь милях в десяти от города. Кое-кто припоминает, что перед этим всю ночь невдалеке от дома Джо стояли две малолитражки, в них шестеро мужчин, которые курили и попивали из горлышка, а когда Джо сел в автомобиль и поехал, они двинулись за ним. Другие не соглашаются — дескать, бросьте, то был несчастный случай. На взгляд Джейка — едва ли, потому что один из чемоданов Джо нашли раздербаненным, а его содержимое — разбросанным по лесу. От другого чемодана оторвали крышку, а внутрь кто-то наложил кучу. Среди других вещей, обнаруженных поблизости, оказалось портфолио с четырьмя фотографиями ДЖЕССИ ХОУПА (эксклюзивно представляемого Нэйтом Херманом, прож. по адр.: Уилтширский бульвар, Голливуд). Одна в профиль, другая анфас, еще одна, где Джо в боксерских трусах, и еще на одной он в ковбойском костюме с угрожающим видом целится из револьвера.
Развороченную «эмгэшку» Джо нашли в среду. А в понедельник полиция, как обычно, наведалась к члену городского совета Бротскому за обычной еженедельной мздой, и неожиданные визиты к местным лавочникам и оптовикам инспекторов из «Комиссии по ценам и торговле военного времени» после этого прекратились. Да и с арестованного Губермана все обвинения в превышении скорости и попытке подкупа должностного лица были сняты за отсутствием достаточных доказательств.
А через месяц и Дженни покинула дом на улице Сент-Урбан, забрав с собою Ханну и Арти в Торонто. Сбежала, ох, сбежала!
— Отныне наша семья не будет больше зависеть от денег дяди Эйба, — провозгласила она. — Нашего милого, мать его, дяди Эйба.
5
Дженни.
Как преклонялся перед нею Джейк! Как она когда-то влекла его! Дженни, с ее книжками «Современной библиотеки», ее схемой Парижского метро и карандашными рисунками Китса, висевшими в ее комнатке над кроватью. Дженни, от корки до корки пожиравшая «Субботнее литературное обозрение» и посещавшая все, какие только могла, популярные лекции. Читала даже Хэвлока Эллиса![150] И сочиняла страстные послания писателям, которыми восхищалась — главным образом авторам радиопьес на Си-би-си, в том числе Дугласу Фрейзеру. При этом видела себя не просто очередной йентой[151], а восхитительно смуглой еврейской красавицей, которая только и ждет, когда титан вроде какого-нибудь Томаса Вулфа придет, чтобы забрать ее из удушающей среды монреальского гетто, и она воцарится в его манхэттенском дворце-пентхаусе, станет его усладой, станет для него — да, да, не больше и не меньше, однажды она сама именно так сказала Джейку, — станет его raison d’être[152].
Ах, зовущая, полногрудая Дженни, краса улицы Сент-Урбан! Ты была сущим наказанием для неуклюжих, невзрачных дщерей клана Хершей, визгливо хихикающих девчонок с прыщавыми рожицами, грубыми голосами и наследственным отсутствием женских форм. Для двоюродных сестер Джейка Сандры и Хелен, для дочери дяди Эйба Дорис, да и для сестры Джейка Рифки, потому что их всех — пусть они и с прическами, в панбархате и креп-жоржете, в жемчугах и серебристых лодочках — мальчики тут же бросали, едва завидят Дженни, пришедшую на семейное торжество в скромненьком свитерочке — будь то какая-нибудь бар-мицва или венчание; тем оставалось только сидеть с надутым видом или подпирать стенку, глядя, как скользит в танце Дженни, к которой так и льнет, так и льнет сын Дикштейна, а в ожидании уже нетерпеливо подсигивает Морти Коэн.
— Конечно: чего парни хотят, то она и дает им! — объясняла это Рифка.
Но в те давние дни, если она Джейку что и давала, так это повод завидовать Арти. Его-то никогда старшая сестра Рифка не купала, и ему не выдавалось шанса всласть полюбоваться круглящимися грудями, когда она склонялась бы над ним, съежившимся в ванне. Точно так же Рифка никогда не соглашалась с ним бороться — ни в один из нескончаемо длинных субботних вечеров, а Дженни соглашалась — иногда, но уж запомнилось зато на всю жизнь, как она, нисколько не беспокоясь о задирающихся юбках, схватив Арти за шею, пытается кувырнуть его через спину или как Джейк, пробуя высвободить голову, упирается носом в ее поразительной упругости грудь и оседает на пол в тот самый миг, когда Додик Кравиц, по-медвежьи ее облапив, принимается ритмично — тырк-тырк-тырк — всем телом в нее колотиться; при этом с ее стороны не бывало ни жалоб, ни упреков, если схватка (то есть даже и не если, а неизбежно) вдруг замедлялась и Додик переставал делать вид, будто его руки попадают в сокровенные местечки по ошибке. Да ну, зачем? Она просто резко вставала и по-прежнему дружелюбно объявляла:
— Все, на сегодня хватит, представление окончено. Я сказала довольно, шмендрики![153] — и шла готовить им бутерброды с печеночным паштетом, а потом уходила в кино. Или в парк «Маунт Ройяль»: чтобы побродить по опавшим листьям, поясняла она в этом случае.
На что Додик неизменно откликался так:
— Ага, ей хватит, а мне вот как-нибудь бы кончить! Ну, в смысле, кончить это дело — я без намеков. Хочу с тобой!
Но только Джейку, который помогал ей носить книжки из библиотеки, она иногда позволяла сопровождать ее в прогулках по парку.
В воспоминаниях Джейка запечатлелась осень. Когда деревья желтеют и краснеют, пожухлые листья скручиваются и вдруг все улицы оказываются забросаны кружащейся листвой. Когда спортивные странички газет вдруг заполняются фотографиями юнцов с выбитыми передними зубами и подробным описанием их статей, потому что эти юнцы — не более не менее как кандидаты на тренировочные сборы хоккейной команды «Монреаль канадиенс». Когда в синагогах объявляют, сколько еще осталось свободных мест на Великие праздники[154].
Дженни частенько повторяла:
— Ну уж нет, такому не бывать. Чтобы я старела, продавая лотерейные билеты «Хадассы»[155], пока мой растолстевший муженек храпит после обеда на диване.
Она рассказывала Джейку о том, что ходит теперь в театральную студию. А там есть такой Кенни Пендлтон, который (Монреаль есть Монреаль, куда денешься!), чтобы жить, украшает витрины универмага «Итон», но при этом играет — профессионально! — в радиопьесах Си-би-си и участвует в постановках Монреальского репертуарного театра. А однажды, когда приятеля, с которым они напополам снимали квартиру, не было дома, он угощал Дженни отбивными собственного приготовления, которые они ели при свечах в этой полуподвальной квартирке на Таппер-стрит. Конечно, не особняк нувориша, как где-нибудь в Утремоне, — всяких диванчиков с торшерчиками нет как нет: так, лампочки с пластмассовыми абажурами, зато все художественно оформлено. В гостиной огромная фотография «Давида» Микеланджело. А комнатка, которую Кенни называет «тронной», вся сплошь оклеена карикатурами из «Нью-Йоркера». Еще у них там афиши Жана Кокто. И репродукции Анри Матисса.
— На вечеринках у Кенни мы все сидим на полу и пьем французские вина. И не разговариваем про операции на мочевом пузыре или про цены на текстиль и курс всемогущего доллара.
А в парке золотая осень и куда ни глянь всюду парочки — под каждым кустом целуются.
Тут Дженни:
— Знаешь, я не хочу, чтобы ты продолжал водиться с Додиком Кравицем.
— Почему?
— Не важно.
Зато вот Арти, говорила она, непременно пойдет учиться в Макгилл. Даже если ей для этого придется вкалывать сверхурочно. А Джейк, будучи верным ее пажом, не должен нацеливаться на ненавистный Утремон. А то будет еще один самодовольный Херш Загребущие Руки.
— Но наша эта Сент-Урбан — дыра. И мы тут все никто. Отсюда надо бежать.
Такая Дженни, которая плачет над историей Абеляра и Элоизы, дает ему читать «Нана» и держит под подушкой книгу стихов Хаусмана «Парень из Шропшира», подаренную ей Пендлтоном, — Джейк понимал: такая Дженни для здешних мест существо странное. И в те вечера, когда выдавалась возможность колесить на велике вокруг трикотажной фабрики под конец смены, он с замиранием сердца ждал, когда она появится, на вид такая же, как и другие грубоватые фабричные девчонки: лицо усталое, сердитое, лоб поблескивает, — но вот она увидела его и заулыбалась, обрадовалась, разрешила ему ехать домой рядом с ней.
— Ишь какой! — говорила она, ероша ему волосы. — Ездишь к фабрике клеить девчонок? Интересно, что бы сказал на это наш дядя Эйб.
— Да ну тебя.
Однажды вечером она объявила, что назначает ему свидание: в следующую субботу поведет его в кино.
— В шабес? — шепотом переспросил он.
— Думаешь, тебя стукнет молния?
— Вот еще! Стану я бояться.
Вместе из дому выходить не решились, встретились украдкой на углу и отправились не в ближний кинотеатр, где можно запросто наскочить на знакомых, а нашли какой-то новый в незнакомом гоише районе. После фильма Дженни сводила его в мороженицу и прочитала лекцию об Эмили Дикинсон и Кеннете Патчене[156].
Договорились в следующую субботу встретиться снова. Дженни, сама себе удивляясь, для этих свиданий прихорашивалась, однако, чтобы не смущать Джейка, после первого их похода в кино туфли на высоком каблуке больше не надевала и волосы высоко не взбивала, чтобы Джейк, изо всех сил тянувшийся кверху и напихивавший под пятки мятой бумаги (хотя она этого и не знала), казался почти что и не ниже ее ростом.
В первую свою субботу они всего лишь держались за руки, слипшись ладошками, но во вторую, едва только пошла заставка основной кинокартины, Дженни положила на свое плечо руку Джейка и придвинулась к нему ближе. Так же продолжалось и в следующую субботу, и в следующую за ней. Потом, в очередной субботний вечер, рука Джейка, соскользнув с плеча Дженни, случайно очутилась у нее на груди, потрепыхалась там, и его мизинец слегка погладил мягкую выпуклость. Джейк замер, не осмеливаясь двигаться дальше, но и отступать не желал, и тут Дженни нетерпеливо прошептала:
— Ничего, ничего. Честно, в этом нет ничего плохого, — на что Джейк, с трудом проглотив ком в горле, вдруг стиснул ее грудь с такой силой, что она даже зубами скрипнула, чтобы не застонать от боли. Что ж, пришлось Дженни взять его руку и показать, как надо, и он принялся гладить и сжимать ее нежнее, а при первых признаках того, что его восторг несколько приувял, Дженни (о, боже! подумал он) расстегнула блузку, отщелкнула замочек лифчика и, ободряюще поглаживая его руку, направила ее на обнаженную грудь с неожиданно твердым соском. Время потянулось какими-то болезненными рывками, с бредовой медлительностью, пока, от нового испуга вспотев, он не почувствовал, что ее рука расстегивает ему ширинку, лезет внутрь, высвобождает его и, лаская, начинает часто-часто подергивать, слишком часто… — и тут он брызнул ей в руку.
— Ой, извини, — прошептал он, но Дженни сделала знак молчать, полезла в сумочку и, достав платок, вытерла их обоих. После этого они пошли в мороженицу. Дженни закурила длинную сигарету с желто-коричневым, цвета пробки, мундштучком. Последний писк — сигареты с фильтром.
— Хочешь? — спросила она, дразня глазами.
— Конечно, — с готовностью схватил он сигарету, но сразу закашлялся.
— Скажи, а ты по ночам дрочишь? Как наш Арти. Глядя на картинки, а?
— С ума сошла?
— Я так и подумала, — ядовито улыбнувшись, сказала она и потянулась за пальто.
— Ты что, уходишь?
— Да. И с походами в кино покончено. Вернемся к этому вопросу, когда подрастешь.
Да ведь это когда еще будет! Как нетерпелось им стать взрослее, старше! Джейк до сих пор это помнит. Вечерами они, готовясь к бар-мицве, торчали в синагоге, а ближе к ночи запирались в комнате Арти, спускали трусы до щиколоток и изучали, как идет дело с оволосением лобка. Вот эти жалкие отдельные волосинки — неужто они густо разрастутся? По наущению Додика Кравица мальчишки ускоряли процесс бритьем, которое не всегда удавалось производить безболезненно.
— Ну ты, шмок[157], поосторожнее! Один раз лезвие соскользнет, и вырастешь на всю жизнь парикмахером. Будешь как Горди Шапиро.
А еще им Додик Кравиц рассказал, как японские девушки притыркались ублажать себя в гамаках. И конечно же Додик из всех был самым шерстистым и обладал самой длинной, грозно оплетенной венами и толстой дубиной. Он вечно выигрывал все их соревнования по скоростной мастурбации — кончал первым и забирал все монетки, так что вскоре с ним состязаться в этом перестали — мол, ни за что и никогда, если, конечно, он не предоставит фору секунд этак хотя бы в шестьдесят.
6
О Господи! О Монреаль!
Сегодня по телевизору
14:30. Медицина и Библия. Современная эндокринология в применении к эпизодам Писания. Не страдал ли Эсав низким сахаром в крови — быть может, это и побудило его продать первородство? Не было ли у Голиафа нарушений в работе гипофиза? Доктор Роберт Гринблатт, автор книги «Поищем в Священном Писании», расскажет о некоторых своих гипотезах.
Полный провал! После неудачного путешествия в Нью-Йорк прошло уже три недели, а Джейк так в Монреале и застрял. Без работы, без перспектив. Свой план побега Дженни осуществила семь долгих лет назад, в сорок четвертом, а я вот не сумел, думал он. Только и добился, что выпал из системы и опять подставился под удар, и не раз. Он был жутко подавлен: делать нечего, идти некуда… и тут встретил Гаса. Высоченного, рыхлого Гаса Бергера — откуда он только взялся? — который целеустремленно вышагивал с кожаным портфелем в руке по Сент-Катрин, нахохлившись и мужественно борясь с ветром.
— Тук-тук, — сказал Джейк.
— Кто там? — отозвался Гас, прыснув смехом.
Гас в шутку ткнул Джейка кулаком в плечо, Джейк, встав на цыпочки, восторженно подергал Гаса за лопушастенькие уши, и они двинулись в «Тур Эйфель», чтобы вместе выпить. Через пару часов выползли на свет божий и, щурясь от безжалостно бьющего в глаза косого осеннего солнца, сходили за бутылкой виски, купили закусь, после чего взяли такси и отправились к Арти в его съемную комнатенку неподалеку от Макгилльского университета. Кто б мог подумать: Арти, которому дядя Эйб дал возможность выучиться на зубного техника, оказывается, давно уже опять в Монреале.
— Ух ты-ы! — удивленно протянул он. — Надо же, кто пришел!
Джейк, Гас и Арти устроились прямо на ковре и стали пить виски, закусывая бутербродами с копченым мясом и гнутой как стружка жареной картошкой. Вечер вышел совершенно изумительный, может быть один из лучших у Джейка в жизни. Они были уже не мальчики, но, слава богу, все-таки еще не взрослые мужи, снедаемые завистью один к другому, замордованные ипотекой и озабоченные лишними калориями и образованием детей. У них все еще было впереди. Ни один не смотрел на себя трезвым взглядом и не стремился к удовлетворительному браку и сносной работе. В последующие годы ожидания подсократятся, успех или неудача их разделят. Но в тот чудный вечер у Арти их переполняло расположение друг к другу. Говорили о несравненных старых временах и тех местах, где бывали вместе. Спорили о Джоне Фостере Даллесе с его троглодитской доктриной балансирования на грани войны, о Джеке Робинсоне, сломавшем расовый барьер в бейсболе, о мошенничестве риэлтеров, об иностранных автомашинах, о втором бое Джонни Греко с Бо Джеком[158], полной дешевых посулов рекламе дорогой зубной пасты, о Додике Кравице, об улице их детства Сент-Урбан и, наконец, дело дошло до Джо.
— А он правда был связан с рэкетом? — спросил Гас. — Или это туфта?
— Наверняка-то я, конечно, не знаю, но могу рассказать вот что. В прошлом году, когда я был в Нью-Йорке, случилось мне там посмотреть по телику какой-то старый вестерн, в котором Рэндольф Скотт[159] пускается в погоню за некой шайкой, и, кто бы вы думали, вскакивает вдруг на лошадь и бросается наутек? Наш Джо! Мой старший брат Джо скачет наперегонки с Рэндольфом Скоттом, это ж господи боже мой!
— А где он теперь? — спросил Джейк.
Веселость Арти поблекла, он даже сэндвич от себя отодвинул.
— Вот чего не знаю, того не знаю. Это надо спросить Дженни. Которая тем временем, во исполнение давней мечты, вышла в Торонто замуж за автора радиопьес и как раз намедни приехала в командировку в Монреаль — в качестве редактора художественного вещания Си-би-си.
— Как она, кстати?
— Да по-прежнему. С закидонами.
Джейк не видался с Дженни уже много лет, правда, не по своей воле, а только потому, что она когда-то покинула Монреаль, решительно объявив: не желаю, дескать, больше иметь с Хершами ничего общего, даже с Джейком, хотя это было не вполне так. Оно, конечно, да, Дженни хвасталась своим гойским мужем, рисовалась перед наезжающими в Торонто знакомыми, но как-то слишком уж демонстративно, ей явно хотелось знать, что говорят о ее замужестве косные ортодоксы Херши. А когда стала вращаться среди небожителей, внезапно сделавшись «на ты» со всем конклавом торонтских писателей, режиссеров и актеров, она этим как бы транслировала в Монреаль некие посылы, подобно отравленным стрелам нацеленные в Хершей, чтобы те знали, в каком избранном обществе ее принимают. Увы, на дядю Эйба это не производило впечатления. Как и на дядю Джека. Все мстительные попытки поразить их пропадали втуне. Ее мир был для Хершей чужим.
— Конечно, давай встретимся, — сказала она, когда Джейк позвонил. — Если ты не боишься набраться от меня заразы.
— Это как это? — переспросил Джейк.
— Ну, в смысле, я должна тебя предупредить, что для любого Херша я verboten[160].
Падшая женщина.
В результате следующим вечером он сидел у Дженни в номере отеля «Лаврентийский», где она угощала его тем, что именовала «джином с вермутью».
Хотя и ярковато накрашенная, со влажно поблескивающими и слишком красными губами, Дженни оставалась безмерно привлекательной женщиной, по-прежнему жизнерадостной и непредсказуемой, и в глубине ее черных глаз по-прежнему таился огонек. Она поведала Джейку, что горько разочарована тем, куда движется Арти. Учится на зубного врача!
— Легко предсказуемый исход для человека с синдромом гетто. Во всяком случае, надеюсь, он… удовлетворен.
— А ты? — спросил Джейк, дивясь тому, как он обиделся за Арти.
— Что ж, по крайней мере, я не полезла в беличье колесо позолоченного гетто. Выплескиваю сексуальную фрустрацию, организуя благотворительные базары. Совсем как твоя кузина Сандра. В общем, можно сказать, занята полезным, осмысленным делом. А как наша дражайшая Дорис?
— Да все так же, наверное. Я-то ведь с ней практически не вижусь.
— Ты знаешь, она фригидна. Ее муж звонит мне, когда бывает в Торонто. Думаю, он наслышан о том, какие важные у нас бывают люди. Да и о том, что я еще та штучка. В общем, я каждый раз отвечаю, что ему нужна не я, а девочка по вызову. Я не обслуживаю путешествующих членов из общества «Бней Брит»[161].
Особенно тех из них, кто, как я подозреваю, не очень-то в этом деле хорош. «Извини, детка, кажется, я рановато кончил…» Видел бы ты его рожу при этом! Я думала, он тут же поседеет.
Оба сидели зажатые, а Джейк и вовсе вдруг оторопел, когда услышал, что в ванной кто-то пустил душ и, подражая Фрэнку Синатре, запел:
Вот бы снова в Мандалей! Где крылатых рыбок стаи В небо радостно взлетают, Проносясь у самых рей…— Ну, ты прямо пуританин какой-то! — вдруг усмехнулась Дженни. — Настоящий Херш. Кроме того, никто ж не думал, что ты придешь на полчаса раньше!
Вскочив, Джейк забормотал:
— Ладно, я потом, я попозже зайду.
— Приходи завтра. Позавтракаем вместе.
В вестибюле Джейк ошеломленно опустился на кожаный диван. Вот тебе и Мандалей! Сидел, сидел, и вдруг из лифта выходит Додик Кравиц.
— Ах ты, с-сукин ты сын! — вырвалось у Джейка.
— Ревнуешь? — поинтересовался Додик.
— Додик, сделай мне одолжение. Отстань от нее.
Додик язвительно ухмыльнулся, пальцами снял с языка воображаемую волосинку, поиграл бровями и, аккуратно выпустив волосинку, проследил ее медленное падение на ковер.
— Ты понимаешь, тут дело в чем… Муж-то ее на семи иннингах ни одного хоумрана ей не дает исполнить, — сочувственно объяснил он.
На что нацеливался Додик, Джейк понял после того, как следующим утром они с Дженни позавтракали, и она объявила, что желает вырвать его из лап Хершей. Купит ему билет на самолет и поможет пробиться на телевидение в Торонто.
И они полетели одним рейсом.
— Додик чувствует, что у него заколодило, — объяснила Дженни. — И подумывает, не начать ли все заново в Торонто.
— Ох, не стоит тебе с ним связываться! Он тебя хочет только использовать.
— А ты?
7
Муж Дженни ждал их в гостиной.
— А вот и он, — подпихнула Дженни к нему Джейка. — Мой маленький Джейк, который когда-то щупал меня в кино. Нет, ты это можешь себе представить?
— Что ж, ты у нас девушка боевая! — сказал на это Дуг, с вымученной улыбкой разглядывая свои замшевые туфли.
Дуг Фрейзер, один из самых смелых, бескомпромиссных и плодовитых канадских драматургов, работал для сцены и для радио, писал и собственные пьесы, и инсценировки, причем штук по тридцать в год. Чего ему было не занимать, так это юмора. В одной из его пьес, к примеру, некий выбившийся из низов крупный бизнесмен самозабвенно вкалывает, чтобы заработать… СВОЙ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН. Наконец он получает его, провернув величайшую в жизни сделку, готовится теперь уделить время семье — ну, наконец-то! — и тут врач ему сообщает, что никакой язвы у него нет. У него рак желудка!!! Что и предлагается в качестве этакого финала, в каком-то смысле, пожалуй, мрачноватого. Высоколобую канадскую Си-би-си это не отпугнуло, но ни один американский канал с запуском его пьесы не торопился — ясное дело, им такое не по зубам, особенно, как выразился Дуг, в век оптимизма.
Детьми Дженни с Дугом не обзавелись. Таков, как они говорили, их ответ ядерной бомбе. У Дуга в кабинете стояли картотечные шкафы с наклейками: ИДЕИ, ПЕРСОНАЖИ и КОНТРАКТЫ.
— Я ведь не какой-нибудь длинноволосый нищий стихоплет из мансарды.
Джейк поинтересовался, как поживает Ханна.
— Только что заходил Люк. Увел ее в кино. На нового «Тарзана», — сказал Дуг и покачал головой.
— Вот и к лучшему, — несколько натужно проговорила Дженни. — То есть просто замечательно. Теперь они только поздней ночью вернутся. Причем пьяными.
Вопрос про Джо Джейк не задавал до тех пор, пока не разлили по стаканам.
— Представляешь, прошло столько лет, и вдруг во мне проснулась болезнь, которой страдала мама, — призналась Дженни, сама над собой посмеиваясь. — Иногда мне кажется, что я вижу его на улице. Выпрыгиваю из автобуса, подбегаю к совершенно незнакомому человеку, которого будто бы узнала со спины, и кричу: Джо! Но всегда это оказывается не он.
Она рассказала, что всю свою пятинедельную побывку на Сент-Урбан Джо чудовищно пил. Способен был часами просиживать в полумраке гостиной перед бутылкой «Чивас Ригал» — весь в каких-то своих мрачных грезах. Она часто спрашивала, зачем он вообще через шесть лет домой явился, но до ответа он снизошел лишь однажды.
— Жду звонка по межгороду. В любой момент мне могут позвонить.
Вечерами он из дому выходил, а когда возвращался, первым его вопросом было: «Мне не звонили?» К утренней почте Джо тоже кидался первым. И вставал раньше всех. Если приходило письмо для Дженни — какое-нибудь извещение о концертном абонементе или, к примеру, что-то из ее вечерней школы — он заходил к ней в комнату, будил ее.
— При этом он, конечно, знал, что я сплю без пижамы.
Затем она опять обрушилась на его пьянство.
— Бутылка в день это ему было трын-трава.
Так что, по словам Дженни, если ее будил среди ночи стук упавшего стула, нечленораздельная сдавленная брань или чье-то тяжкое дыхание у нее за дверью, она знала, что Джо, как бывало прежде с его отцом, опять в стельку пьян. Потом до нее доносились хрипы и кашель из сортира, где он блевал, или он вдруг принимался звонить по телефону, ронял трубку, кричал на телефонистку. По утрам Ханне приходилось перестилать его постель, мыть туалет и нести костюм в химчистку.
— В этом вся мамочка, — запоздало сетовала Дженни. — Мамочка, которая за всю жизнь ни разу не подмела у меня в комнате!
— Но ты-то как думаешь — зачем он через столько лет явился?
— Ты хочешь сказать, что не знаешь? Да он просто хотел меня трахнуть!
Джейк почувствовал, как у него загораются щеки.
— Да ну, ты прямо я не знаю. Нельзя же быть таким ограниченным! Не думаешь же ты, что инцест бывает только у гоев!
— Не думаю, конечно, — сказал Джейк, чувствуя себя идиотом.
— Извините, что вмешиваюсь, — сказал Дуг с видом знатока, — но это один из предрассудков, к которым предрасположены евреи.
— Вы очень проницательны, — нашелся Джейк. И повернулся к Дженни: — А что, Джо коммунист?
— От вопросов такого рода, — перебил Дуг с тревогой, исказившей его лицо постаревшего мальчика, — остается дурное послевкусие!
— Но я же не из Комиссии по антиамериканской деятельности.
Я просто задаю вопрос о своем двоюродном брате.
Дженни неуверенно встала.
— Ладно, пойду приму ванну. Вечером гости придут. Кого тут только не будет!
— И вас мы тоже рады пригласить, — сказал Дуг. — Мне, понимаете ли, не так уж часто удается всласть поболтать с кем-либо из вашего поколения. — Он пододвинул пуфик ближе к Джейку. — Вас, ребята, вообще как — интересует происходящее вокруг? Ну, в смысле, по-настоящему интересует?
Вечеринки у Дженни славились тем, что еды там бывало вдоволь, и спиртное лилось рекой. Правда, еврейских изобильных разносолов, от которых Джейк уже не отказался бы, там не водилось, подавали в основном эмансипантские канапе да холодные закуски типа «бежим из гетто». По большей части прозрачные ломтики итальянской салями на крекерах. Ассимилянтские килечки, скрючившиеся подобно червякам на кусочках белого хлеба. Маленькие — даешь свободу! — свиные шпикачки. В торонтском салоне у Дженни народ собирался очень, очень искушенный, все как один нонконформисты, все читали «Тайм» между строк, знали доподлинно, что Элджера Хисса подставили[162], причем специально, и были против бряцания оружием в Корее. Они восхищались Родом Серлингом, Хортоном Футом и другими драматургами «Филко-Театра». Пэдди Чаевского сравнивали с Шоном О’Кейси[163].
— Да, да, — соглашался какой-то тележурналист, — но ведь и здесь, у нас в Торонто, начинаются удивительные перемены.
— Это, например, какие же? — воинственно спросил его тогда высокий молодой человек в очках.
— Слушайте, Люк, если Торонто вам недостаточно хорош, почему вы не уезжаете?
— Ну… взглянем на это так: японцы тоже ведь до самого Пёрл-Харбора в Вашингтоне посла держали.
Джейк одобрительно хмыкнул.
— А вы-то еще кто такой? — резко развернувшись к Джейку, спросил тележурналист.
— Зовите меня Измаил[164]. А ваше имя я знаю?
— Разумеется, знаете, — важно ответствовал тот. — Если хоть в малой мере интересуетесь культурой Канады.
— Тогда можете не говорить. Вы — Мазо де ла Рош[165].
Люк ухмыльнулся.
— Не собираюсь выслушивать тут грубости от каких-то двух недорослей!
— Ну так и не слушайте.
Пока к ним продвигался улыбающийся Дуг, Люк ускользнул. Джейку никак не удавалось вновь с ним законтачить, пока они не столкнулись в саду, где, к его удовольствию, оказалась Ханна — она попивала пиво и смеялась шуткам Люка.
— Янкель! — обрадовалась она, и они обнялись.
За эти годы лицо Ханны стало как из мореного дуба, волосы побелели.
— Вот, познакомься с моим дружком. Это Люк Скотт. Он водит меня на все хоккейные матчи. И на выступления боксеров.
Джейк и Люк пожали друг другу руки.
— Дженни говорит, что вы, может быть, останетесь в Торонто, — сказал Люк. — У меня есть квартира. Буду рад вас там поселить, пока осматриваетесь. Платить можем пополам.
— Вы уверены? — спросил Джейк.
— Да уверен он, уверен, — и Ханна подвинулась, чтобы Джейк мог сесть вместе с ними на скамейку. — А ты знаешь, какая завтра наступает неделя?
— Нет.
— Йом-Кипур! Ты постишься?
— Извини, Ханна, нет.
— В прошлом году она и мне не позволяла.
— Но теперь-то уж Ханна рисковать не хочет — в ее-то возрасте!
— Заткнись, Люк. Представь: стояла у меня над душой, смеялась! Ха-ха, мол, весь год ешь некошерное, а сегодня начнешь поститься? Только не в этом доме! О’кей, всю следующую неделю я притворялась, будто ем у больной подруги. Ну, и как ты его находишь, Янкель?
— Кого?
— Мистера Никто-и-звать-никак, ее мужа.
— Нашего Ёбсена, — хихикнул Люк.
— Да ну тебя, Ханна. Дженни ведь все эти годы с тебя пылинки сдувала. Или нет?
— Ну, во всяком случае, драться мы больше не деремся. Заключили перемирие. Я ее прикрываю: говорю этому ее мелкому шмоку, что она со мной, когда на самом деле она где-то с кем-то трахается. Ну что делать, коли шустрая такая уродилась! А она за это дает мне денег на кино. Вознаграждает.
Мелкий шмок Дженни в это время разглагольствовал в гостиной, объясняя сокровенный смысл своей не совсем еще дописанной пьесы «Авария».
— Я изучал предмет, советовался с психиатром, мы подняли статистику по автобусам, грузовикам и двум сотням водителей малолитражек, и такое открылось — с ума сойти! Среди водителей есть некоторое меньшинство, которое невероятно подвержено дорожно-транспортным происшествиям. Так вот эти постоянные виновники аварий, похоже, все страдают от одной и той же проблемы. Неспособности приноровиться к жизни в социуме.
Еще на подходе к кружку, собравшемуся около Дуга в гостиной, Джейк шлепнул себя по щеке, присвистнул.
— Да, да, все так, все опирается на факты, Джейк! Мы изучили послужные списки сорока таксистов — из них двадцать взяли с длительным опытом безаварийной езды, а другую половину из тех, кто явно склонен попадать в аварии. Безопасные водители чаще всего спокойные, выдержанные мужчины, чуть ли не туповатые. Происходят из стабильных семей, верны женам, к азартным играм равнодушны и вежливы с пассажирами. А постоянные участники аварий обычно в социальном плане не устроены. У тринадцати пьющие отцы и властные матери. Двенадцать бросили школу и подростками привлекались к суду. Восемь человек признались в сексуальной распущенности. Тринадцать не могут долго проработать на одном месте. Четырнадцать гнали самогон. Мы называем таких «личностями с легкой психопатией».
— Смотри-ка ты, — сказал Джейк, потирая подбородок. — Это надо же!
— Что интересно, у них есть общие черты. Обычно они понятливы, но импульсивны, ненавидят дисциплину, терпеть не могут монотонность и хотели бы работать на себя. Они хорошо говорят, но плохо слушают. Неконтактны. Стремятся всегда быть в центре внимания. Более того, мы заметили, что у нарушителей скоростного режима есть общее характерное свойство. Скрытая агрессивность, направленная против начальства. В то время как безопасный водитель борьбу с неудовлетворенностью ведет в социально приемлемых формах, аварийщик использует машину в качестве средства выражения враждебности. Эти исследования убедили нас, что аварийщики испытывают злобу на начальство — на полицейских и своих работодателей. И во всем винят других водителей, особенно женщин. Так что можно даже сузить, сфокусировать направленность их вражды: это их жены и перво-наперво властные мамаши, которые их угнетали. В крайних случаях справедливо было бы сказать, что они используют автомобиль, чтобы… доказать свою мужскую состоятельность. Пытаясь подчеркнуть маскулинность, заводят себе машины с форсированными моторами и дают выход мстительным чувствам по отношению ко всему женскому полу.
— А ребенок, которого такой собьет, — озабоченно проговорил Джейк, — может быть и твоим!
— Вот именно! Именно так, Джейк. Следует понимать, что большая проблема нашей культуры в том, что о мужчине слишком часто судят по тому, насколько он способен рисковать.
Тут наконец Джейку удалось зажать Дуга в уголок и поговорить наедине.
— Нет, я, конечно, понимаю, вы такое слышали и прежде, но я все-таки хотел бы высказать вам восхищение, которое у меня всегда вызывали ваши работы.
— Ну, спасибо, Джейк. Рад причислить вас к своему фан-клубу.
Муд-дак.
— В ваших вещах чувствуется настоящая, живая плоть. Они заставляют думать.
— А теперь скажите-ка мне, куда вы-то движетесь? О чем ваши мечты?
— Как хорошо, что вы спросили! Умираю, до чего хочу попасть на телевидение — теперь, когда оно наконец начинает развиваться и в Канаде. Хотел бы режиссировать, но, понимаете, таких связей, как у вас, у меня, конечно, нет. Вряд ли кто на Си-би-си захочет со мной даже увидеться.
— Когда вы говорите режиссировать, вы подразумеваете просто работу или призвание?
— Естественно, призвание. Америка с ее лихорадочной погоней за деньгами не для меня. Хочу оставаться в Канаде, сказать свое слово здесь. Может быть, когда-нибудь смогу ставить такие же хорошие пьесы, как ваши.
— Такие же проблемные?
— А то! Я уже начинаю чувствовать, что без этого и вовсе никуда.
— Гм. Вообще-то я ужасно не люблю кумовство.
— Я тоже, Дуг.
— Взять хотя бы Югославию. Коррупция там способна загубить даже общество, устроенное на принципах социализма!
— Согласен на все сто процентов. Но я-то ведь, вы ж понимаете, простой рабочий парень. Я не ищу никаких поблажек. С радостью согласился бы начать как рабочий сцены, если передо мной будет маячить открытая дверь. Ну, хоть щелочка.
— Я должен подумать.
— Да вы особо-то не берите в голову, Дуг. Для вас важнее всего писать! Цена вашего времени неизмерима, но… в общем, я конечно же был бы очень благодарен, если бы такой знаток людей замолвил за меня словечко.
Дженни перехватила Джейка в коридоре.
— Ты меня ненавидишь?
— Дженни, ну что ты.
— Значит, любишь?
— Ну да. Конечно.
— Ведь как я старалась! Училась, штудировала литературу, выкладывалась так, что аж до ненависти ко всей этой галиматье, чтобы, если когда-нибудь удастся оказаться среди тех, кого тогда считала светлыми личностями, талантами, могла бы в их компанию вписаться. Понимать их язык, аллюзии там всякие, коннотации… И что же? Знаешь, как я различаю людей, которые действительно чего-то стоят, среди всей той шатии, что у нас болтается? Это те, кто весь вечер проводит, болтая с Ханной. С моей мамашей, дурищей такой, — чем она только заслужила подобное с их стороны внимание? А меня избегают! И Дуга то и дело подкалывают. Если только им не требуется его покровительство.
— Вот как? — не найдя ничего лучшего, проговорил Джейк.
— Да, пацан, пуговки на ширинке у тебя застегнуты, но честолюбие торчит. А ведь ты не был таким расчетливым!
— Расту, — сказал Джейк, увлекая Дженни наверх, к ее спальне. — А теперь расскажи мне про Джо. Так был он коммунистом или нет?
— Да кто может знать, кем он был. Или есть — ведь он лжец, каких мало!
После приезда Джо первый же счет за телефон пришел такой, что только держись. Переговоры с Нью-Йорком, Сан-Франциско, Голливудом, причем некоторые по двадцать минут.
— Эти счета он оплачивал наличными, — вспоминала Дженни.
— И что — ты так и не спросила, чем он все эти шесть лет занимался?
— Ладно, о’кей, спросила. Однажды вечером (пьян, как всегда, был в стельку, это уж будьте покойны) он рассказал мне, что в тридцать восьмом очутился в Испании, в Мадриде.
— Господи, так вот откуда шрамы на спине!
— Конечно. Только появиться они могли по причинам самого разного свойства.
— А что он тебе еще рассказывал?
— Что из Испании он уехал в Мексику. В Койоакан.
Ух ты! Пригород Мехико. Тогда там еще жил сам Троцкий! У Джейка учащенно забилось сердце. Он рассказал Дженни, как его приняли за Джо и остановили на американской границе.
— Ну и что? Почему это обязательно должно быть связано с политикой? Ты думаешь, он воевал в Испании. А я уверена — бегал от гангстеров. Домой пришел зализывать раны, почувствовал, что его тянет ко мне и ради меня снова ушел.
— Ну ты и загнула, Дженни!
— Вот этого не надо. Думаешь, я прямо все-все тебе стану рассказывать?
Снизу вдруг донеслись раскаты хохота. Вопли восторга.
— Опять она за свое! — нахмурилась Дженни и, стукнув кулаком по подлокотнику кресла, резко встала. Джейк потащился следом.
— Гзэт! Гзэт! — Ханна в наброшенном на голову старом свитере «Монреаль канадиенз» пьяно подскакивала то к одной группе гостей, то к другой. — Гзэт! Гзэт!
К Ханне с озадаченным видом подбирался Люк Скотт, но Дженни перехватила его, сцапав за локоть. И сразу как-то помягчела.
— Познакомьтесь. Это Люк Скотт, — сказала она, прильнув щекой к его плечу. — Он будущий писатель и нуждается в ублаготворении.
— В чем? — переспросил Джейк, не разобрав за шумом вечеринки.
— Да слышал ты, слышал, — отмахнулась Дженни. — Тем более что ты для меня все равно слишком молод.
Вместе они куда-то заторопились, Джейк провожал их взглядом. Люк явно был смущен, оглядывался, искал глазами Ханну.
Которую Джейк нашел опять в центре собравшейся вокруг нее толпы.
— В Йеллоунайфе, — говорила она, — зимой даже могил не роют. Земля промерзает так, что делается тверже камня. Поэтому каждую осень гробовщик — мы его звали Формальдегидный Смит — обходил нас и приглядывался: соображал, сколько могил ему надо заранее вырыть. Так же он и к Джо приглядывался — к моему четырехлетнему Джо! Никто не верил, что он выживет: он был такой болезненный, и Смит вырыл ему маленькую могилку. Я была молодая мама. И видела ее своими глазами. И я сказала: мистер Смит, заройте сейчас же эту яму или я оторву у вас яйца, поджарю и брошу псам!
8
Не прошло и месяца, как в Торонто объявился Додик Кравиц и, дабы получше примелькаться, вскоре — специально, чтобы его громко вызывали к телефону, — уже сиживал за коктейлями в барах, популярных у рекламщиков и прочей связанной с Си-би-си публики, среди которой вертелась и пара записных зубоскалов: Джейк Херш и Люк Скотт.
Решив возродить свою старую фирму «Дадли Кейн продакшнз», Додик рассылал всякого рода уведомительные письма. Но дело подвигалось туго. Чужак без связей, он обнаружил, что двери при его приближении не то что не открываются, а, наоборот, захлопываются перед носом. Помочь силилась одна Дженни. Раз в неделю они встречались за обедом, после которого удалялись в его квартиру на Авеню-роуд, где он равнодушно на нее взбирался, стараясь, чтобы от оргазма до следующего пункта повестки дня оставалось время на душ. Его идею телевикторины корпорация Си-би-си покупать не жаждала, и ни одно рекламное агентство в его посреднических услугах не нуждалось. С отчаяния кинулся в Нью-Йорк, пытался получить права на распространение в Канаде обручей «хула-хуп». Не вышло. Впрочем, вернулся с правами на таблетки для похудания. Принимай по таблетке в день, ешь что хочешь и сбрасывай по десять фунтов в неделю. Однако в те дни Додик был весь в сомнениях, да и средств на рекламу и всякий там промоушн достаточных не было. Он обнищал до последней тысячи долларов, завален неоплаченными счетами, да тут еще и язва желудка начала кровоточить, как вдруг однажды вечером прочел в газете «Стар», что некто собирается опубликовать Канадский социальный реестр, в котором, по словам бесстыжего газетчика — внимание! — не будет ни одного еврея. Что и вдохновило Додика на то, чтобы рвануть в издательский бизнес — одновременно послужить своему народу и заложить краеугольный камень будущего несметного богатства.
Канадо-еврейский справочник «Кто есть Кто», создаваемый издательством «Маунт Синай пресс» с президентом Дадли Кейном во главе, в течение целого года был не более чем навязчивой идеей, всепоглощающей мечтой, с которой Додик ложился и вставал в своей все более задрызганной квартирке; пламенной надеждой, с которой он топал по зимним улицам, пытаясь вымучить из себя какую-нибудь чудодейственную схему быстрого оборота капитала. Нужен большой куш. Но на что ставить? Где? Как? А что, если, подумал он, попробовать тряхануть Джейка Херша, этого сентиментального дурачка?
У Джейка, приподнявшегося от рабочего до менеджера сцены, времени для него было не много. Да и ни для кого у него лишнего времени не было, за исключением разве что Люка Скотта, мальчика из хорошей семьи и драматурга, которому предстояло еще пристроить куда-нибудь свой первый сценарий. Они вдвоем снимали квартиру, иногда наперебой ухаживали за одной и той же девчонкой, но в остальном дружили преданно и были неразлучны — этакие профессиональные эпатажники и зубоскалы; всюду таскали с собой полоумную старуху Ханну, врываясь на вечеринки с единственной целью всех там фраппировать. Точно так же признанные режиссеры и писатели постарше, как обнаружил Додик, не выносили эту парочку мерзавцев, которые их нещадно мешали с грязью. Невзирая на личности, всех беспощадно зачисляли в бездарности, которые просто никому не нужны, поэтому и окопались в Канаде.
«Они бы, может, и продались, — хихикал Люк, — да только покупателей не находится».
«Их неподкупность уже не добродетель, — вторил ему Джейк, — а привычка, приобретенная по необходимости. Это как с тетей Софой, которая — ну да, не проститутка, но почему?»
Придя к ним в гости, Додик с облегчением обнаружил, что дома один Джейк.
— А вы тут классно устроились, — одобрил Додик. — Завидую.
Вырядившись в свой самый потрепанный костюм и сплевывая в платок, заляпанный кетчупом, — дескать, вот: представляешь, язва, а мне и лечиться не на что, да тут еще судебные приставы в затылок дышат, — Додик всячески старался разжалобить старого школьного дружка, будил в нем воспоминания о временах, когда они были пацанами, о детских рожицах друзей (соседей по Сент-Урбан), и, когда Джейк стал трепыхаться, заподозрив, что сейчас начнут грабить, Додик пригвоздил его к месту последним сокрушительным аргументом — ладно, мол, всё, обещаю: на выстрел больше не приближусь к Дженни — и в итоге все-таки выцыганил чек на пятьсот долларов плюс подпись Джейка на поручительстве, чтобы банк выдал Додику ссуду в две с половиной штуки баксов.
Причем вышло, что это он очень вовремя, потому что секундой позже распахнулась дверь, и ввалился Люк, пропустив вперед себя еще и Ханну.
— Ты смотри! — воскликнул он, предвидя возможность постебаться. — И кто это к нам прише-ол!
Ханна, чувствуя, что все это может добром не кончиться, спряталась в кухне, где принялась выгружать из сумки продукты и готовить ужин.
— А я — всё! Ухожу, ухожу, ухожу, мистер Скотт, сэ-эр, — забормотал Додик и испарился.
Джейк был в ярости.
— Послушай-ка, Люк, я тоже кое-кого из твоих друзей терпеть не могу, но я же так себя не веду!
— Ну да, ты ведешь себя еще хуже.
Ханна принялась их разнимать.
— Вас послушать, можно знаете за кого принять? За парочку голубых. Цапаетесь, как пара педиков на Джарвис-стрит.
Придя после ужина в редкое у нее приподнятое настроение, Ханна вдруг сверкнула черными глазами и, схватив колоду карт, стала выделывать с ней — такое! Подобной сноровки Люк не видывал в жизни. Пока Джейк давился со смеху, она мигом пошвыряла им карты — вверх рубашками, одну Люку, одну Джейку, одну себе, перевернула свою, оказался туз.
— А знаете, кто этому научил меня?
— Джо! — просияв, догадался Джейк.
Ханна кивнула и потянулась к бутылке пива. Потом стала рассказывать о муже.
— Он был лодырь от рождения, мой Барух, да и вообще свинья. Только бы пиво было, пиво он мог трескать целый день, а вечером либо по блядям, либо на борцовский матч. Он, кстати, деда твоего обкрадывал, — слышь, Янкель? Смолоду все по тюрьмам — только выйдет, и опять, и все по хулиганке. Еще за годы до того как я с ним познакомилась, — вот спроси отца, если мне не веришь, — твои предки месяца по три, иногда по четыре жили спокойно, не видя Баруха, потом вдруг заваливается в два часа ночи пьяный, молотит кулаками в дверь, морда в крови, весь блевотиной провонямши, и орет, ругается на твоего деда. Евреи! — орет. — Евреи, я вернулся! Ваш брат Барух пришел! Я дома!
Уже сели в машину, а она все предавалась воспоминаниям о муже.
— Однажды он Йосла Альтмана так избил, что тому пришлось в больнице швы накладывать. А твоего отца он ни в грош не ставил, ты знал это, Янкель? Однажды говорит ему: эй ты, знаешь, Иззи, кто ты есть? Нет? Не знаешь? Ты ошибка твоего отца. Или еще сунет ему под нос палец и говорит: на, говорит, Иззи, понюхай, это тот, который прорвал бумажку! Да он вообще был помойка ходячая, мой Барух, скандалист чертов. А жулик какой! Да вообще чеканутый. Я бы, наверное, не выдержала, померла с ним, если бы он на полгода не уехал на гастроли с франко-канадским цирком — силача изображал, жевал бритвы и гнул подковы в Шикутими, Труа-Пистоле и Тадусаке. В старину, когда в Монреале на улице Сент-Урбан не было тротуаров, а везде сплошная грязь и бордели, он непрестанно шлялся по портовым кабакам, а потом, естественно, и сам матросом на судно нанялся. Или его напоили — может, он в пьяном виде контракт подписал. Кто знает?
По настоянию Ханны они зашли в дом с ней вместе, и она за руку отвела их через детскую в подвал, в свою спальню, где, встав на стул, вытянулась — ну точно как сухая ветка — и сняла со шкафа шляпную коробку.
— Вот вы небось не знаете, что это, — и она осторожно высвободила из папиросной бумаги черную широкополую фетровую шляпу. — Это настоящая «борсалино», друзья мои. Одна из первых, появившихся в Западной Канаде. Мой Барух ходил в ней по Виннипегу. — Она смахнула слезу. — Как выйдет, бывало, на Портидж-стрит, да как пройдется, так девки прямо в исподнем поглазеть выскакивали — никогда такого не видали. Даже метисы, которые ни Бога, ни черта не боятся, и то в канаву соскакивали, чтобы дать пройти такому крутому перцу.
Домой Джейк с Люком ехали в молчании, и дома тоже говорить не хотелось, но и заснуть не могли, поэтому откупорили бутылку бренди и отворили окно, впустив летний ветерок.
Джейк объяснил, что Хершей в мире как собак нерезаных — мешок всяких троюродных сестер и братьев, толпы теток — низкорослых, рыжих дочерей зловредной второй жены Шмуля-Лейба, а также зверски затянутых в корсеты внучатых тетушек со стороны Мотки; в природе существует свой, особый, мир Хершей, такой обширный, что в детстве Джейк без вопросов принял факт появления Ханны, еще одной родственницы Хершей по мужу, которая однажды материализовалась прямо из летней знойной дымки с тремя детьми, но без мужа. Но муж, конечно, был — как не быть?
Этот самый Барух. В 1901 году дед Джейка по отцу, прихватив с собой еще и брата, уехал из Лодзи в Монреаль, где оба стали родоначальниками огромных кланов (у деда было четырнадцать детей, у его брата двенадцать); вот в чем, продолжил Джейк объяснение, кроется причина многочисленности здешних Хершей. Эту загадку он разгадал еще в детстве. Но в детстве она ему раскрылась не до конца: оказывается, причина не только в этом. Был третий брат. Барух. Дед Джейка с братом слали деньги в Польшу, чтобы Барух, из троих самый младший, мог к ним присоединиться. Вот он и приплыл, сошел с парохода в Монреале, но прошла неделя, и Барух с ними порвал, превратился невесть во что. Заявил, что шоймер-шабесом[166] больше не будет. Демонстративно ел некошерное и готов был по субботам работать. И старшие братья отреклись от него.
В конце концов Барух то ли нанялся на судно, то ли его увезли насильно. В любом случае известно, что он плавал в Аргентину в качестве кочегара. На танкере обошел мыс Горн и докером отработал сезон в Австралии. Каким-то образом пробрался в Японию, потом торговал игорными автоматами в Китае. Жил на Таити, мыл золото на Юконе, затем обосновался в Виннипеге, где женился на Ханне, и у них родилась дочь. В это время он испытал краткий, хотя и яркий расцвет в качестве поставщика контрабандного виски. В какой-то перестрелке на границе с Монтаной Барух получил пулю, и с тех пор, насколько Джейк был об этом осведомлен, удача от него отвернулась. Рана заживала как-то неправильно, началась гангрена, и ногу ему пришлось ампутировать выше колена.
Люк встал, пошатываясь, сходил на кухню и вскипятил воды для растворимого кофе.
— Ого, уже рассвет, — сказал он. — Если только это не атомная бомба, которой на хрен снесли Этобико[167].
Горизонт был весь охвачен пламенем. Кроваво-красным.
— Давай девчонок позовем, — предложил Люк. — Таких, гм… каких-нибудь красоток с длинными ногами и в кружавчатых трусиках.
Времени при этом было полшестого утра.
— Слушай, а вот было бы классно самим сиськи иметь. Утром так вот спохватились, а за ними и бегать никуда не надо! — С этими словами он сел на подоконник и, злобно глядя на густеющее мельтешение машин внизу, принялся поносить Торонто и все, что с ним связано. — Ненавижу этот город. Он безобразен. А до чего провинциальный!
— Этот город вроде базы для тренировок, Люк. Нам дают пользоваться его инвентарем и оборудованием, но задерживаться здесь нельзя.
Англия! Англия! Вот должна быть наша цель, думал Джейк, и, хотя ему еще только предстояло осуществить свою первую телевизионную постановку, задачу перед собой ставил ни больше ни меньше как стать кинорежиссером мирового уровня.
— Если я в тридцать не соскочу с телевидения, брошу все.
А Люк поклялся, что его первая пьеса будет так хороша, что ее можно будет играть хоть в Лондоне, хоть в Нью-Йорке. Или вообще ничего не надо.
Казалось, едва они только рухнули и уснули, раздался звонок в дверь. Люк пошел открывать.
— Да мне не вас, не вас мне надо, мистер Скотт, сэ-эр.
Додик вперся в комнату Джейка, долго тряс его, наконец разбудил, и Джейку, хочешь не хочешь, пришлось натягивать штаны и плестись с ним в банк получать его две с половиной тысячи долларов займа.
Получили, Додик бросил через левое плечо щепоть соли, заскочили в синагогу по-быстрому поцеловать сефер тору, после чего на Джарвис-стрит Додик коснулся первого встречного калеки и зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Средство реального похудания доктора Маккоя», упросив заранее обработанного знакомого, сына аптекаря из аптеки на углу, тупого, зато очень жадного баварца, сделаться его вице-президентом и предоставить свой адрес в качестве юридического адреса фирмы (для снижения расходов). Впоследствии это оказалось более чем неумно. Двумя неделями раньше, предаваясь раздумьям за полуденной чашкой кофе в заведении «У Френни» и посмеиваясь над тучной официанткой, Додик, так уж и быть, дал ей одну из своих таблеток, пообещав, что она поможет. К его изумлению, когда он заскочил в то же самое кафе через десять дней, жирная польская сука действительно похудела на восемнадцать фунтов. Даже несмотря на то, что, по ее заверениям, продолжала жрать в три горла. Еще и больше чем прежде, с аппетитом поистине ненасытным.
«Средство реального похудания доктора Маккоя», распространяемое только через заказы по почте, почти без рекламы и всецело зависящее от изустной молвы, с самого начала пошло удивительно бойко, особенно в сельской местности и шахтерских городках вроде Садбери и Эллиот-Лейка. Додик уже подсчитывал огромные будущие барыши, развалясь в кресле у Джейка дома, где, как ни глупо это выглядело, всячески пытался не замечать Люка, который одним своим присутствием портил все удовольствие. Не верите? Напрасно! Прибыли растут, скоро он вовсе скинет к чертям собачьим нью-йоркского поставщика, пилюли производить будет сам и мигом покроет сетью сбыта всю Канаду… А там, пожалуй, уволит и баварского придурка.
— Конечно, все равно же он, наверное, нацист! — с усмешкой отозвался на это Люк.
— Что ж, тебе лучше знать, согласен. Свояк свояка, как говорится…
Люк выругался; они вообще постоянно ссорились. Вновь и вновь друг на друга накидывались, были, что называется, на ножах; оба умудрялись будить друг в друге самое худшее.
Люк, выше крыши набравшийся либеральных идей, чуть ли не беременный ими, как все беременные, эту свою тяготу носил слишком уж гордо, а Додика порицал, чувствуя, что такое беспринципное делячество ему, либералу, мешает пылко защищать евреев, представительствуя от их имени перед отцом и его насмешливыми друзьями в «Гранитном клубе»[168].
Что касается Додика, то он Люка побаивался. И не доверял ему.
— Ты меня знаешь, Джейк. Когда я чего-нибудь хочу, я хватаю. И дерусь за это как в боях без правил. А этот твой гаденыш, он — ты же сам видишь! Ему-то что, сиди себе и жди: все равно ведь само придет. Потому что ему-то придет, таким в этой стране галушки сами в рот прыгают. Этот мир — он ведь что? А то, что он наследство, оставленное Лукасу Робину Скотту, эсквайру. А что у него внутри под этой самоиронией, этим спокойствием? Внутри у него сердце из камня, из того самого гранита. Он точно так же гребет под себя, как я и как ты, Янкель, просто он так воспитан, чтобы делать это с милой улыбочкой, все вокруг себя вымазывая патокой.
Не что иное, как интуиция, пусть даже в действие ее привел вполне реальный горестный случай, спасла Додика от того, чтобы распространить свою торговлю, как он хвастал, на всю Канаду. Как-то вечером он, попивая кофе, сидел опять «У Френни», изучал биржевые страницы «Глоб энд мэйл», и вдруг ему пришло в голову заботливо осведомиться о той самой когда-то тучной официантке. «Мария в больнице, — сказали ему. — Умирает». Сперва-то он подумал, мало ли что: может, от аборта. Или от триппера. Тем не менее во время следующей поездки в Монреаль Додик нашел франко-канадского провизора из тех, что лишних вопросов не задают, и попросил его сделать анализ пилюли, соврав, что его толстеющей жене ее дали в Мексике, куда они ездили в отпуск. А когда узнал, в чем состоит сила пилюли, прыгнул за руль и всю ночь без остановок гнал до самого Торонто, где его с охапкой новых заказов приветствовал радостный баварец на пару с его довольным папашей, который осыпал благословениями их обоих — прямо не мог на них надышаться.
— Йорген, — сказал Додик, — в наших руках прямо-таки небольшая золотая жила, верно? В том смысле, что даже при осторожном подсчете дело должно давать по десять тысяч долларов в год чистыми, причем ни работать не надо, ни капитал вкладывать, и это ведь только начало!
Напарник Додика просиял, его папаша радостно хихикнул.
— Но у меня большие неприятности.
Папаша посерьезнел, принес бутылку, плеснул в стаканы виски.
— В Лаврентийских горах у меня собственность, с ней проблемы. Налоговая задолбала. Срочно надо десять тысяч долларов. То есть вроде как бы уже вчера. Мне ужасно не хотелось этого делать, ребята, потому что мы все-таки друзья, но я нашел покупателя…
— Мы же партнеры! — проревел младший из ослов.
— …а он хитрый такой, говорит, хочу весь бизнес целиком.
— Но мы ведь партнеры, мистер Кейн! Вы моему сыну…
— Я не хочу вас обижать, но если прочитать внимательно наше с вами соглашение, то вы увидите, что я имею право в любой момент все продать.
Отец и сын возбужденно посовещались по-немецки.
— Всего-то десять тысяч! Он хочет даром. Но что я могу поделать? Меня загнали в угол.
— А если папа изыщет деньги?
— Ну естественно, уж лучше я бы вам продал. Но, ребята, давайте реально. Где вы возьмете сразу десять тысяч? — Додик немного подумал. — За десять дней! — Еще подумал. — Да еще и наличными.
В результате Додик одним ударом получил и вожделенный куш, и избавился от «Средства реального похудания доктора Маккоя». И ведь как вовремя! Потому что всего неделей позже из Эллиот-Лейка поступил первый тревожный сигнал. Двоих рабочих урановой шахты доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. Додик радостно отложил в сторону газету, позвонил своему брокеру, с порога отмел его возражения и вложил хорошенькую сумму в игру на понижение урановых акций, после чего написал три письма в Оттаву — самым радикальным социалистам в парламенте, — приложив вырезку из газеты. Уже через три дня один из них произнес возмущенную речь, в которой поднял вопрос о радиации, представляющей колоссальную опасность для здоровья горняков.
И тут же, как Додик и рассчитывал, урановые акции покатились вниз.
— Ха-ха-а! — радовался Додик, распевая под душем. — Ха-ха-а! — путаясь в штанинах, танцевал он, надевая костюм, чтобы идти на пирушку в честь первого телеспектакля, поставленного режиссером Джейкобом Хершем. Надо же, имя его школьного приятеля, коротышки Джейка, крупными буквами сияет на экранах телевизоров по всей Канаде! «Телетеатр Дженерал моторс представляет…»
На пирушку явился и Дуг Фрейзер, и Дженни, и все девушки из труппы, и весь техперсонал, и, естественно, на длинных своих ногах прискакал блондинистый Лукас Скотт, эсквайр, по-прежнему ноль без палочки, весь по самое некуда заваленный отвергнутыми сценариями.
— Ну, как успехи, Шекспир? — рот до ушей, спросил Додик.
— Мериться со мною остроумием ты б, Кравиц, лучше даже не пытался. У тебя нет шансов.
Отступив, Додик присоединился к кружку, собравшемуся вокруг Ханны, которая, как всегда, рассказывала про Джо.
— Он у меня родился в насквозь промерзшем горняцком бараке в Йеллоунайфе при вспоможении (если это можно так назвать) всегда поддатой польки-повитухи…
Поскольку у Джейка, которого в тот момент обхаживали приятели Скотта, богатенькие гойчики, времени для Додика, похоже, не было, тот ушел рано, собираясь купить свежую «Глоб», чтобы глянуть, как на данный момент обстоят его дела на урановом фронте. А прекрасно!
Вот они — быстрые деньги, думал Додик. Реальные и позарез необходимые быстрые деньги.
Необходимые, потому что все это время Додик не прекращал трудов по созданию канадо-еврейского справочника «Кто есть Кто»; работа шла медленно, и чем дальше, тем тяжелее — понадобился презентабельный офис, внушительный банковский счет, выход на типографию и торговую сеть, и все это теперь стало доступно. Теперь он наконец сможет сосредоточиться на ловле жирных спонсоров, привлечь которых собирался обещанием перечислить десять процентов дохода еврейским благотворительным организациям.
Работая тайно, Додик листал телефонные справочники всех городов Канады от океана до океана, прорабатывал страницы светской хроники в газетах — как всеобщих, так и еврейских, — выискивая там фамилии еврейских специалистов и бизнесменов. По совету Джейка, он нашел в Виннипеге какого-то шнука[169] из тех профессоров-романтиков, что пробавляются стишками, которому поручил написать трогательную историю вклада евреев в историю Канады (что-нибудь на парочку печатных листов), чтобы она начиналась с первых еврейских поселенцев, приплывших в 1759 году с генералом Амхерстом, среди которых выделялся, например, реб Аарон Харт, офицер интендантской службы[170] (ох уж эти интенданты, подумал Додик, даже и тогда небось покупал за гроши, а продавал втридорога!), но были и многие другие, кто, едва оглядевшись, сразу кидался в торговлю мехами. «Принеся, — добавил потом от себя на полях рукописи Додик, — современные маркетинговые технологии и торговую смекалку в страну колоритных, но тогда еще полудиких coureurs-de-bois»[171].
Историческая статья открывалась цитатой не больше и не меньше как из Достопочтенного Винсента Мэсси, первого уроженца Канады, ставшего канадским генерал-губернатором, который — надо же! — оказывается, признал когда-то, что евреи «обогащают почву Канады, внося в нее новую животворящую струю». (Иными словами, мы что-то вроде конского навоза, подумал Додик.) При этом в статье ничего не говорилось о том, как эта струя, выйдя из берегов во времена сухого закона, крепла главным образом за счет потоков нелегального виски; не говорилось там ни о «Еврейском военном флоте»[172] двадцатых годов, ни о монреальских букмекерах и игорных баронах позднейшего времени. Еще один нанятый профессор сочинил панегирик евреям в медицине — от Маймонида до Леонарда Хаймана Джекобсона, честнейших правил детского психолога из Торонто. Под заголовками, набранными староанглийским шрифтом и для ясности снабженными краткими выдержками из последующих статей, Додик все это воспроизвел на роскошнейшей бумаге, какую только смог заполучить бесплатно — заказав в Англии образчики бумаги для полиграфии, якобы с целью будущего ввоза в Канаду громадного ее количества.
Затем он, хорошенько приподнявшись на падении урановых акций, вызванном массовым распространением радиационных страшилок в прессе, снова позвонил своему слегка оторопевшему брокеру, снял прибыль с игры на понижение и вылетел во взбаламученную Оттаву, где стал искать встречи с соответствующим министром. Засада в сугробе около клуба «Ридо» дала результат: министр был отловлен.
— Мне надо переговорить с вами конфиденциально, сэр.
— В чем дело?
— Моя фамилия Кравиц. Я личный друг сына сенатора Скотта. Ну, вы в курсе, наверное: подающего надежды драматурга, — от души забавляясь, пояснил Додик.
— Ну, допустим.
— Я могу раскрыть вам истинную причину заболеваемости горняков в Эллиот-Лейке. Делюсь с вами этой информацией как давнишний ваш поклонник и стойкий антикоммунист.
Вернувшись в Торонто, Додик опять позвонил брокеру и распорядился сделать в инвестиционной политике полный разворот кругом: покупать урановые акции в как можно больших количествах. На сей раз очередная порция прибыли воспоследовала сразу, как только следующим вечером успокоенный министр выступил на очередных слушаниях в Оттаве.
Статью об этом «Глоб» поместила на первой странице следующим утром; прочитав, Люк от удивления присвистнул и передал газету Джейку.
Министр выступает со скандальным разоблачением аферы:
Средство для снижения веса содержит яйца ленточного червя
— Ничего себе, — поднял брови Люк. — Мне даже жалко его стало. Ведь теперь Додика запрут крепко-накрепко, да и ключ выбросят!
Н-да-а, такого даже я ему никогда не желал.
— А давай поспорим, что ничего подобного с ним не случится?
— Да как же он из этого выкрутится, Джейк!
— На двадцать долларов — забьем?
— Годится.
Как Додик и ожидал, Йорген с папашей, крякая от возмущения, ждал его прибытия у дверей офиса. Смелости им придавало присутствие некоего чересчур ретивого молодого человека, барабанящего пальцами по чемоданчику «атташе».
— Вы у них шпик на побегушках? — спросил Додик, пропуская гостей в дверь конторы.
— Я их адвокат, если вы имели в виду именно это: я не совсем понимаю ваш эстрадный жаргон.
— Азой?[173]
— Что, простите?
— Йорген, дружище, мы ведь могли бы это обговорить и вдвоем. Ты меня удивляешь. Сперва у тебя адвокат, потом у меня адвокат, потом полетят письма, угрозы, мы так ничего не достигнем, а они будут шинковать капусту тоннами.
— Вот это самый, кстати говоря, избитый и злокачественный трюк, о котором писано-переписано во всех учебниках, — вклинился ретивый молодой человек, вскакивая с кресла. — Попытка посеять раздор между клиентом и его поверенным.
— Да вы лучше вот это прочтите, Перри Мейсон[174], — сказал Додик, подавая ему папочку.
В папочке оказалось письмо Йоргену, в котором Додик слезно просил его не покупать «Реальное средство похудания доктора Маккоя», торговля которым есть предприятие как минимум рискованное; и еще одно письмо — нью-йоркскому производителю, в котором Додик объявлял, что не желает больше связывать свое имя с продуктом, который, на первый взгляд обещая сенсационную эффективность, в конце концов, как он опасается, может оказаться не самым безобидным для здоровья потребителей.
— Ах ты, хитрожопый ты еврейский выродок, ты о нас еще услышишь!
Щелкнув тумблером, Додик включил переговорное устройство.
— Мисс Гринберг, — заговорил он, со вниманием осматривая визитку адвоката, — пожалуйста, соединитесь за меня с Зелигманом из Антидиффамационной лиги[175]. Спросите, кто у нас там сейчас свободен из коллегии. Спасибо. — Затем, повернувшись к посетителям, объявил: — Господа, на выходе секретарь сообщит вам фамилию моего адвоката.
Тем вечером Додик остался дома, чтобы посмотреть, как Джейк поставил первую телевизионную пьесу Люка, причем заранее себя убедил, что это будет блистательная постановка говеннейшей пьески. Однако еще до конца первого действия пришлось ему признать, что этот Лукас Скотт, эсквайр, способен такими тебя обкрутить кренделями, что будьте здоровеньки. Додик даже обиделся: ну ведь несправедливо же! В каком-то смысле даже гадко, когда паршивец, у которого и так от рождения во рту золотая ложка, оказывается еще и ярко талантливым. Что ж, может, помрет молодым. Будем надеяться. После спектакля намечался легкий междусобойчик, но Додик, придя в дурное расположение духа, решил на него не ходить.
Начав праздновать еще на телевидении, Джейк с Люком до утра вместе пили, с чувством некоторой неловкости ожидая рецензий. Потому что если те окажутся плохими, это будет унизительно, а если хорошими, тоже ведь проку ноль — это же всего лишь Торонто! Так что, когда начали звонить репортеры, Люк был еле жив, а Джейк изо всех сил всем хамил.
Потом были еще пьесы, случались триумфы и покрупнее, были другие подобные утра после премьер, когда Джейк с Люком до рассвета куролесили с девицами, а потом кривились при виде рецензий, какими бы они ни были: обоим успех в Торонто представлялся чуть ли не позорным. Все больше и больше они всеми помыслами устремлялись в Англию. Англия, Англия, когда наконец придет время и для нее?
Завидуя их совместному успеху, Додик сделался мрачен, дулся, чувствуя, что Джейк его бросил, и стал сам от них отдаляться, уходя в собственные мечтания и проекты.
Например, канадо-еврейский «Кто есть Кто».
Пора ведь в конце-то концов и Додику сеть забросить!
По всей стране пошла пробная рассылка тысячи анкет — врачам, дантистам, адвокатам и бизнесменам — с просьбой вернуть их с фотографиями и сведениями о себе, причем без всяких обязательств. Как им сообщалось, они избраны в качестве лидеров местных общин взыскательной и представительной комиссией, потому что в столь эпохальное, исторически значимое собрание, каковое и само сделается частью нашего несравненного еврейского наследия, нельзя ни с черного хода войти, ни купить себе туда билет за деньги. В каждом конверте кроме анкеты содержался бланк заказа — на случай, если адресат пожелает выписать себе экземпляр этого еврейского «Ху из ху», который будет номерным и в переплете с золотым тиснением, поскольку первое издание планируется выпустить ограниченным тиражом, так что оно всенепременно скоро станет предметом коллекционирования и подорожает в два раза. Вскоре во внутренних кругах издательства «Маунт Синай пресс» готовящийся к выходу справочник называли уже попросту «Еврейским Х*ем».
Сто двадцать два человека к ответу приложили по чеку на двадцать пять долларов; из этих чеков только восемнадцать оказались липовыми, и Додик поспешил в банк, угрожая сменить кредитное учреждение, если ему сей же момент не выдадут новую ссуду.
На «Еврейском Х*е» Додик Кравиц сделал пятьдесят тысяч долларов чистыми законной прибыли, да еще и внес туда Джейка — бесплатно, по старой дружбе, как восходящее светило телережиссуры, которое такими темпами, глядишь, скоро воссияет и по другую сторону нашей большой волнистой лужи.
Люка к тому времени в Торонто уже не было — последнюю неделю в Канаде он решил провести на озере с родителями. Джейк на последний вечер в Торонто запланировал обед в ресторане с Ханной, но ты, Додик, — сказал он, — ты, если хочешь, давай, присоединяйся тоже.
Уверенно шагая к первому миллиону, Додик все же чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. В его квартире со встроенным баром, стену за которым украшал подсвеченный с обратной стороны витраж с изображением канканящих девиц, — квартире шикарно обставленной, оборудованной высококакачественной аудиосистемой и телефоном в ванной, — вечно царил кавардак. Всюду вонючие носки и грязные рубашки. В раковине горы немытой посуды. По углам засохшие колбасные огрызки. А больше всего донимала необходимость по-прежнему питаться в ресторанах либо довольствоваться закусками из кулинарии. Совсем извелся! Ничто не заменит домашнюю пищу — куриный бульончик, кнышес, фланкен[176]. Мечталось иногда и о жене — чтоб вся из себя была, но при этом хеймеше[177]. А то ведь что толку даже с миллиона, если жрать приходится всякий дрек, вечера просиживать в одиночестве, а потом либо дрочи на сон грядущий, либо вызывай по телефону поблядушку, у которой там еще от прежнего клиента мокро. У-y, триппероносицы! Девицы, с которыми он позволял себе расслабляться, хороши на уик-энд в Баффало, но чтоб с такой показаться в загородном клубе «Пайн Вэлли», — да ни в жисть!
Чтобы я, да женился, она должна Быть прелестнее розы, Луне равна, Разодета должна быть и в пух, и в шелк, Чтобы я, как лопух, под венец пошел; Чтобы бюст и диплом, и крутая родня — Лишь такой впору мужем назвать меня[178].Ханна пребывала в грусти, весь вечер чуть не плакала, несмотря на то что Джейк пообещал ей прислать денег на поездку в Лондон к нему в гости, — глядишь, чем черт не шутит, вдруг даже на премьеру его первого фильма!
— Из этой страны, от этой тундристой погоды все бегут! Сначала Джо, теперь ты… — И она рассказала ему историю, которую Барух привез из своих странствий, байку, услышанную от испанского матроса. — Знаешь, откуда взялось название этой страны? Перекочевало с карты конкистадоров, покорявших Перу. Один из них взял карту двух Америк и написал на месте неисследованных пространств севернее Великих Озер: Aqui está nada[179]. Потом это сократилось до aqui nada. Так и получилось слово Канада.
Эх, Барух, Барух.
— Когда у него бывали приступы сильных болей, — продолжила она, — (ну, то есть после того, как ему отняли ногу) он держался только на ненависти к братьям. Ага, говорил он, помрут — хороните их с палками, чтобы, когда придет Машиах, проще было прокопать себе ход наверх. Только вот хрен им в зубы! — и давай злобно ругаться. Так и вижу, как они гниют под шестью футами глины — святоши чертовы, лицемеры, и, если кто из вас возьмет у них хоть грош, брошу и прокляну!
После ампутации ноги Барух вернулся в Йеллоунайф, шахтерский городок, где родился Джо, купил закусочную, но тут же потерял и ее, и все, что у него было, спекулируя горными отводами.
Иногда он мог неделю не ночевать дома, и я, не переставая, то плакала, то ругалась. А когда в конце концов являлся, то непременно с бутылками и со своими гоише негодяями. Войдет, по заду меня хрясь, сверток окровавленный в руки сунет, и я, как была в слезах, иди на кухню, готовь всей этой шантрапе трефное: потроха всякие, свиные отбивные… А он давай будить Джо, да и Дженни тоже, целует их, щиплет, перед всеми хвастает, передает из рук в руки. С Джо пижамные штанишки спустит, схватит его и кричит: «Во! Во! Вот шлямбур будет, когда вырастет, вот еврейский шлямбур, — прячьте дочек!» А то даст Дженни хлебнуть пива и смеется, когда она его выплевывает, а Джо сунет в рот сигару и подожжет… При этом нам не позволялось никуда уйти — требовал, чтоб мы там с ними все сидели, вместе пили и ели с этими его дружбанами, пока он не затеет с кем-нибудь из них борьбу. Спорим, среди вас нет такого, кто мог бы уложить этого одноногого еврея на лопатки! А то иногда вдруг в отключку выпадет, и тогда его приятели — им же неловко передо мной — потихоньку, один за другим уходят, а мне на прощание любезностей наговорят: мол, Барух силой затащил их в дом, а вообще, он черт знает, прямо, что за чудило.
Барух перевез семью в Торонто, где родился Арти, там кое-как жили, через пень в колоду — иногда ему удавалось втереть какому-нибудь простачку никчемный участок горной разработки, пробавлялся и акциями, но все по мелочи. Завел любовницу и снова тяжко запил. Джо забрал Институт барона де Хирша, поместили в приют. Сбежал. Кончилось «Мальчиковой фермой». Ханна сбежала в Монреаль, где буквально кинулась в ноги бабушке Джейка и дяде Эйбу.
Так Ханна с тремя детьми, вспоминал Джейк, подремывая под стук колес поезда Торонто-Монреаль, и оказалась водворена в квартирку без горячей воды на улице Сент-Урбан. Получила и денежное пособие.
Джейк попрощался с матерью, пообещав из Лондона писать регулярно. Сходил навестить отца и дядьев, рассказал про Ханну (хотя они не очень-то и спрашивали) — дескать, с ней все в порядке, и все время старался как-нибудь навести их на разговор о Барухе, который, когда его бросила любовница, обосновался где-то в трущобах Каббеджтауна, в барачного типа развалюхе на берегу заваленной мусором речки Дон.
— На пиво и бобы он все же кое-как зарабатывал, — сказал отец Джейка, усмехнулся и покачал головой. — Занялся продажей газет около офисных центров, потом посуду мыл в ресторанах. Последнее копыто он отбросил в сорок шестом, ты знаешь, наверное.
— Да знаю! — начиная закипать, отозвался Джейк. — Вот это я как раз очень хорошо знаю.
Дядя Эйб, недавно удостоенный звания «Советника Королевы» — с обещанием еще больших почестей в дальнейшем, иронически улыбнулся.
— Тебе еще многое предстоит понять, Джейк. — Подумал, потрепал по волосам десятилетнего Ирвина и добавил: — Вот, познакомься-ка с моим парнем. Учителя изумляются. Они никогда ничего подобного не видали. Ирвин может на память перечислить названия всех сорока восьми штатов Америки.
Это Джейка взбесило окончательно. Обрушился на дядьев с бранью, упрекал в самодовольстве, пенял им, что вот, бросили родного человека, обрекли на одинокую смерть в убогом бараке, а Джо, единственного Херша, который действительно воевал в Испании, так и вовсе со свету сжили. Дядья только посмеивались. Потом с горячностью, вполне, впрочем, оправданной, заверили, что любой (ну, или почти любой) Херш имеет возможность получить работу либо у одного, либо у другого из них, но этим распалили Джейка еще сильнее. Он им сказал, чтобы имели в виду: рано или поздно он где-нибудь с Джо пересечется — хотя бы и в Англии, откуда тот прислал последнюю весточку, или, может, в Израиле. И тогда уж он его не бросит, как его дядья бросили Баруха. Наоборот, сделает все, чтобы помочь.
Так, сам того не сознавая, Джейк взял Джо под защиту, тем самым связав с ним свою судьбу.
Книга третья
1
Жеребец ржет, пятится, заставляя Всадника взять его в шенкеля. Мало-помалу успокаивается. Они все еще наверху, в горах, на опушке густого леса. Всадник обозревает поросшую кустарником долину, ищет уходящую в джунгли едва заметную тропу — она должна быть где-то тут, между Пуэрто-сан-Винсенте и пограничным фортом «Карлос Антонио Лопес».
Или вот Франкфурт. Всадник в составе суда под председательством судьи Хофмайера.
Свидетель узнает Менгеле.
— Ну да, вот так же точно он стоял и тогда — сунув большие пальцы за ремень с кобурой. А еще я помню доктора Кёнига, но, к его чести, должен сказать, что он всегда заранее напивался, как и доктор Роде. Менгеле — нет, ему это было не нужно, он мог и в трезвом виде…
Доктора Менгеле заботил женский барак.
— …Зачастую женщины лакали из своих мисок как собаки; единственный источник воды был рядом с отхожим местом, эта же тонкая струйка служила и для того, чтобы смывать экскременты. Туда женщины ходили пить или пытались взять немного воды с собой, набрав в какую-нибудь емкость, и здесь же рядом их товарки по несчастью сидели над отверстиями сортира. И постоянно, непрестанно надзирательницы избивали их палками. А эсэсовцы из охраны прохаживались туда-сюда и за всем этим наблюдали.
Крысы обгрызали тела умерших женщин, а иногда и тех, что без сознания. Все были усеяны вшами.
— И тут появился Менгеле. Ему первому пришло в голову истребить в женском лагере вшей. Он просто взял да и отправил всех заключенных женщин в газовую камеру. А потом произвел в бараке дезинфекцию.
Излюбленный пост Менгеле, его насиженное местечко было на пандусе, где работал отряд «канадцев». «Канадцы» разгружали тюремные составы и забирали пожитки у вновь прибывших. Часы, бумажники, одеяла, банки с вареньем, колбасу, хлеб, шубы. Все эти ценности складировали в пакгаузах с общим названием «Канада» — их так назвали, имея в виду славу Канады как страны всяческого несметного богатства.
— Но Менгеле не мог пребывать там постоянно.
— По-моему, он находится там всегда. Днем и ночью.
2
Когда сон про Всадника очередной раз рассеялся (дело было всего через неделю после того, как Ингрид официально выдвинула против них с Гарри обвинения), он сказал себе: не боись, Джейк, скоро Ормсби-Флетчер приедет. Ормсби-Флетчер, наша опора и надежда. Как утешительны его краткие замечания о погоде, как ободряет даже самый звук, который производит, хлопаясь о монашескую скамью в вестибюле, его фетровый котелок!
Ормсби-Флетчер.
Когда самому Джейку стало очевидно, что заявление, поступившее от Ингрид, уже не остановишь и дело действительно дойдет до суда, он со смущением осознал, что не хочет адвоката еврея: не надо ему крючкотвора, у которого на каждое слово десять в ответ, ловчилу, пытающегося быть хитрей судьи и прокурора, запутать и запугать свидетелей; который восстановит против себя присяжных и будет в суде так беззастенчиво красоваться, что в конце концов провалит к чертям собачьим все дело. Нет. Что ни говори, а у гоев есть свои сильные стороны, не всегда они только пыжатся да надувают щеки. Так что Джейку в качестве защитника нужен честный работящий англосакс. Вечер за вечером он это обдумывал и, побалтывая в бокале коньяк, методично разрабатывал все более точный фоторобот адвоката. Он должен быть красив без агрессивности, как это водится в британских высших кругах, то есть в его внешности должно чего-то не хватать, как в недопроявленной фотографии. Какой-то соли. Дом у него должен быть в пригороде, в простой деревушке Суррея (около Гилдфорда, что-нибудь в сорока минутах езды на электричке от вокзала Ватерлоо), где по выходным он бы выращивал розы и воевал с ползучими сорняками плечом к плечу со своей долгозубой женой. (И кстати, если я не слишком многого хочу, думал Джейк, загоняя обратно подступающие слезы, хорошо бы нам с моим гойчиком установить неформальный контакт — черенками какими-нибудь садовыми меняться, что ли.) Положение дел в Англии должно его беспокоить. Воспитанный на Библии в переводе времен короля Якова, лимонаде «крем-сода», дидактическом романе Томаса Хьюза «Школьные дни Тома Брауна» (1857 года), хомячках из зоологического отдела универмага «Харродс», чайных акциях «Папин цейлонский», южноафриканских рудниках и их облигациях, шоколадных облатках, улучшающих пищеварение, и, главное, на чувстве долга, на нынешних свингеров он должен смотреть с недоумением. Решение суда по поводу романа «Любовник леди Чаттерлей»[180] он, может быть, и одобрит, но против издания этой книги в бумажной обложке, как Джейк надеялся, все же возразит, поскольку тем самым она автоматически попадает в руки неподготовленного читателя, а это все же слишком. В каком-то смысле это сродни возведению битлов в рыцарское достоинство. Первичное образование он получил в хорошей — ну да, неужели же в плохой! — хоть и не в самой знаменитой частной школе, почетный долг стране отдавал службой в приличном полку, из которого плавно переместился в колледж имени графини Пембрук в Кембридже (где и отец его когда-то обучался), а уж оттуда — куда еще как не в помощники адвоката! В большую науку не пробился — настырные предки немножко сынка не дожали, хотя особо и не старались: диплом-то он все-таки получил! Он тори, но не тупой империалист и ура-патриот. Вот взять к примеру негров в Африке. Хотя до самоуправления они, на его взгляд, не совсем дозрели, но он конечно же вполне понимает и их точку зрения. Его жена (дочка викария! — определил для себя Джейк и даже вслух это произнес) к воскресному обеду всегда заказывает окорок (хорошо отбитый и промаринованный в уксусе) и до вторника они только им и питаются — то с рисом и карри, то в виде мясной запеканки с картошкой. И правильно: лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. По средам вместо обеда у них чай, к которому идут бутерброды с огурцом, с рыбным паштетом… что там еще к ним полагается? — а, ну и с джемом, уж это как водится, а потом он помогает с латынью сыну, а она читает дочурке вслух «Мэри Поппинс». Ммммм… Что же еще-то? А, вот! — вспомнив, Джейк даже руками всплеснул: у них нет центрального отопления, так как оба считают, что без него куда здоровее. Когда у нее месячные, он благородно сдерживает свой эгоизм и не лезет к ней с хамскими намеками на альтернативные методы посильного ублагобжения — наоборот, в такие дни он приносит жене коробки шоколада.
А сама она — жена моего гоя (Джейк все продолжал строить образ) — когда-то была грозным левым крайним хоккейной команды женского колледжа и даже дважды упоминалась в Дневнике Дженнифер[181]. Каждое утро она отвозит мужа на станцию, при этом оба неукоснительно пристегиваются только что изобретенными ремнями безопасности, и — вот, вот еще важная деталь: если ему понадобится позвонить из моего дома, он обязательно предложит четыре пенса. Если у нее обалденная грудь — а ведь может быть и такое… и даже должно быть! — она ее скромно прячет под объемными кофтами и всяческим кашемиром; аналогично и с попкой — если она у нее круглая и влекущая, то всенепременно скрыта строгим кроем твидовой юбки.
Мы с этим моим гойчиком, предвкушал Джейк, будем спорить о политике, соглашаясь в том, что Гарольд Вильсон хотя и хорош, но больно уж задается, в отличие от Джорджа Брауна[182]: этот попроще, зато его, хоть он теперь и лорд, ну совершенно невозможно представить себе рядом с королевой! — и тем не менее они оба очень, очень на своем месте. Мошенничать с налогами адвокат Джейка практически не будет — ну, разве что чуть-чуть, не больше чем когда играешь с матерью в безик. А как насчет газетного кроссворда? Какие предлагает, например, «Таймс». Да, это да, конечно. Это обязательно.
Эх, мне б такого!
Но где же мне, с тоскою спрашивал себя Джейк, всем существом устремясь к этому придуманному идеалу, где мне найти-то этакого обормота! И тут в мозгу сверкнуло: Ормсби-Флетчер! Когда-то Джейк познакомился с ним на одной из вечеринок у Люка, нашел его там брошенным, вроде пустой бутылки в углу гостиной, — сидит такой: ротик куриной гузкой, розовые щечки, но воротничок, конечно, безупречен.
— Рискну заметить, — сказал ему тогда Ормсби-Флетчер, — что я тут, кажется, единственный, кто совсем не связан с искусством. Я, видите ли, двоюродный брат Адели.
В результате Джейк отыскал телефон Ормсби-Флетчера и позвонил ему на работу.
— Мистер Ормсби-Флетчер, — начал он. — Вы, наверное, меня не помните. Это Джейкоб Херш…
— Да почему же? Помню, помню.
— У меня неприятности.
— К сожалению, сам-то я разводами не занимаюсь, но с удовольствием порекомендую вам…
— Да нет, у меня дело… гм… уголовное.
— Вот как? — проговорил Ормсби-Флетчер нерешительно и, как показалось Джейку, подыскивая пути отхода.
— Не могли бы мы встретиться, — вновь подал голос Джейк. — Просто поболтать. Вроде как неформально.
Они встретились в пабе; Джейк пришел первым, показушно помахивая солидной «Таймс» и юмористическим «Панчем».
— Что до меня, то я бы выпил что-нибудь слабоалкогольное, — сказал Джейк, уже крепко поддатый. — А вы что будете?
Тот заказал джина, и после мучительно непринужденной беседы ни о чем, подкрепившись еще несчетным количеством двойных виски, Джейк наконец рискнул:
— Я, наверное, к вам не совсем по адресу, мистер Ормсби-Флетчер. Зря только ваше время отнимаю. Меня по развратному делу тягают.
Малиновые щечки Ормсби-Флетчера вмиг поблекли, длинные ноги под столом задергались, он тесно сдвинул их и подобрал под кресло.
— Да вы не волнуйтесь. Я не пидер. Это просто…
— Может быть, вам лучше начать сначала?
Что ж, запросто. Джейк стал рассказывать. Но все как-то так по спирали — совсем было подберется уже к самой гадости и тормозит, начинает экать, мекать, прибегать к туманным намекам, клонясь в сторону от той болезненной точки, где вот-вот потребуются конкретные детали, термины, без которых никак не выявить сути, всякие медицинские штучки вроде пениса и пенетрации… А может быть, размышлял Джейк вновь весь в сомнениях, при этаком раскладе полагается пользоваться более грубым языком — что называется, площадным, колониальным, матросским… И тут Ормсби-Флетчер, который становился сердцу Джейка все более и более любезен, вдруг сам пришел на помощь:
— Я понимаю. После этого он приводит ее в вашу комнату, и она по собственной инициативе берет вас за роджер…
Ах, роджер! Боже мой, роджер, ну конечно!
— Да, — подтвердил Джейк, ощущая вспышку пьяной радости, — тут эта сука хватает меня за роджер…
— Но если дело обстоит именно так, мистер Херш…
Джейк хлопнул Ормсби-Флетчера по плечу и грубовато-мужественным жестом дружески притянул его к себе.
— Джейк, — сказал он.
— Эдвард, — без колебаний отозвался Ормсби-Флетчер.
Почувствовав возможность излить душу, Джейк отворил все шлюзы. И полилось! Следя только за тем, чтобы не очернять Гарри, он рассказал все. Ну, или почти все.
— Что ж, понятно.
— И что скажете, Эдвард?
— Не могу ничего обещать, вы ж понимаете, но я погляжу, что можно сделать.
— Ну, мне уже и этого довольно, — сказал Джейк, надеясь, что тот почувствует в этакой скромной приниженности скрытый упрек.
— Давайте так: завтра с утра вы первым делом приходите к нам в контору, — сказал Ормсби-Флетчер и объявил, что пьет на посошок.
— Увы, на сей раз без меня, — сказал Джейк, невероятно собой довольный. — Все ж таки я-то ведь за рулем!
Как потом оказалось, то была первая из бесконечной череды консультаций с разорительно дорогими солиситорами и барристерами, происходивших как во всевозможных офисах, так и у Джейка дома.
Очарованный Ормсби-Флетчером, Джейк научился предугадывать его желания. В кофе — пять ложечек сахара и молоко такое горячее, чтобы получалась жирная пенка. Бренди? — да, но не щедро плюхать в бокал на три пальца, а чуть-чуть, истинно по-британски, чтобы только увлажнилось донышко. В минуты досуга Ормсби-Флетчер очень любил расслабиться с сигарой и поворчать на недостатки островной страны.
— Рискну заметить, — (таков был у него обычный зачин разговора), — рискну заметить, что, на ваш взгляд, мы, должно быть, и в самом деле ужасно неразворотливы…
— Да ну-у, нет, — делая умный вид, не соглашался Джейк, — все-таки жизнь здесь куда как более цивильная, чем в Америке. Ведь жив-то человек не одной только производительностью труда, правда же?
Получив поддержку, Ормсби-Флетчер поинтересовался:
— А правда ли, что в тамошних корпорациях экзаменуют не только менеджеров, но и их жен, которые тоже должны соответствовать?
— Ужасная практика. Дьявольская, — согласился Джейк, качая головой. — Не знаю даже, как и говорить об этом…
Размышляя над формулировками в изложении дела для барристера, Ормсби-Флетчер любил посасывать шоколадные горошки. Легко подцепленный Джейком на крючок гламура, он думал, что тот действительно накоротке со звездами, и Джейк, отчаянно при этом привирая, с удовольствием кормил его сплетнями, уворованными из журнала «Вэрайети».
— Чертов Марлон, — однажды хмуро пробурчал Джейк, не заметив, что в комнату только что вошла Нэнси. — Опять он за свое. Представляете, он…
— Марлон? Какой Марлон? — удивилась Нэнси.
— У тебя ребенок плачет!
И вдруг Ормсби-Флетчер говорит:
— Если этакая перспектива не покажется вам чересчур мрачной, мы с Памелой хотели вам предложить… ну то есть, если у вас не окажется планов получше… вы, может быть, заскочите к нам поужинать? Скажем, в субботу вечером.
— Ух ты! Да это же просто блеск! — не стал скрывать радости Джейк.
Однако утром он проснулся не в духе, опять весь в сомнениях, и позвонил Ормсби-Флетчеру в офис.
— Эдвард, я насчет субботнего вечера…
— Не надо объяснять. Возникла какая-то накладка?
— Да нет. Совсем не в том дело. Просто я подумал… ваша жена, Памела… Она знает, в чем меня обвиняют? — Ему хотелось спросить, не будет ли она смотреть на него с отвращением.
— И думать не смейте, Джейк! Мы же договорились, ждем вас к восьми.
В среду утром пришла открытка с приглашением, выписанным чрезвычайно витиеватым почерком и подписанная: «Памела Ормсби-Флетчер». Текст содержал вопрос: нет ли таких видов пищи, которые противопоказаны вам или вашей супруге? Вот это воспитание! — подумал Джейк и написал в ответ, что им годится все. Следующим утром Ормсби-Флетчер позвонил:
— Я просто… ну, в общем… есть же какие-то у вас законы насчет диеты?
Нет, никаких, отвечал Джейк. Не беспокойтесь. И все-таки в субботу, уже поворачивая на кольцевую в Кингстоне, он краем глаза поглядел на Нэнси и вдруг сам забеспокоился. Да еще как!
— Знаешь, давай сегодня не будем вдаваться в модную тему о языке жестов и гомосексуальности, да и про всех этих мальчиков в ролях девочек…
Коттедж Ормсби-Флетчеров, окнами выходящий на общий выгон скромненькой деревушки в Суррее, превзошел самые радужные фантазии Джейка. Это был георгианский дом начала девятнадцатого века с великолепными окнами и весь увитый красными розами. На подъездной дорожке Джейк остановил машину сразу за черным «хамбером супер-снайпом» с номером EOF 1, с облегчением про себя отметив, что Нэнси, кажется, номера не заметила: отчего-то ему не хотелось, чтобы она обратила внимание на то, что отец Эдварда Эрнест (именно он купил когда-то этот номер), даже и сына назвал Эдвардом лишь потому, что ни с какой другой первой буквой номерных пластин с инициалами OF и цифрой 1 купить уже невозможно.
— Привет, привет, — вышел навстречу им Ормсби-Флетчер и повел сквозь дом в садик.
Ого! Розы флорибунда! Да и розовых гортензий целые заросли! А георгины-то, георгины!.. Памела оказалась весьма привлекательной на вид нервической блондинкой в мини-платьице от Мэри Квант и белых ажурных колготках. Кроме Хершей в доме был еще один гость, пухленький помятый сибарит по имени Десмонд — кто-то там важный в Сити; ждал на террасе, где уже выставили напитки, сырные палочки и картофельные чипсы. Вдруг появился бледный мальчуган по имени Эстлин и, заикаясь, принялся пихать Джейку в руки перо и тетрадку.
— Что это? Что? Зачем? — в испуге попятился Джейк.
— Это гостевая книга, — объяснила Нэнси. — Надо поставить дату рождения и расписаться.
Девушка-иностранка, помогающая по хозяйству — и тут au pair girl! — доставила еще одного сына Ормсби-Флетчера — неприятного трехлетнего карапуза по имени Элиот, чтобы его поцеловали и отправили спать. Выполнив этот обряд, Памела принялась болтать о театре: театралкой она была завзятой.
— Но как же бедные актеры? — спросил Десмонд Джейка. — Вечер за вечером, одно и то же, как они с ума-то не сойдут?
— О-о! Они же дети, вдохновенные дети! — торжествующе отозвался Джейк.
Памела внезапно вскочила.
— Кто-нибудь хочет помыть руки? — спросила она.
— Что?
Нэнси лягнула Джейка в лодыжку.
— А! Ну да, конечно.
Нэнси Памела проводила в туалет на первом этаже, а Джейка отправили наверх. Проходя мимо комнаты Элиота, он заметил, что карапуз сидит на горшке и поскуливает. Его нянька, та самая au pair girl, здесь же рядом.
— Что-нибудь не так? — спросил Джейк.
Нянька глянула на него с тревогой. Наверное, узнала: видела фотографии в газетах. И была в курсе, о чем речь.
— Не хочет идти в кровать без куклеца. Но вот куда он его дел, не говорит.
Запершись в ванной, Джейк немедленно достал из кармана пиджака бутерброд с салями на черном хлебе, который приготовила ему заботливая Нэнси. Жуя сэндвич, Джейк открыл дверцу медицинского шкафчика, но тот никаких секретов не выдал. Ладно, попробуем корзину с бельем. Рубашки, носки, наконец — ура! — исподнее Памелы. Черные трусики с затейливыми кружевами, прозрачные как паутинка. И такой же паутинчатый лифчик, чуть не из отдельных ниточек. Ах ты, мерзавочка! — восхитился он.
Обед начался с яиц вкрутую, разрезанных на половинки. Яйца были посыпаны перцем и нагреты на гриле, чтобы ушла лишняя влага. Памела сновала вдоль стола, предлагая к ним чем-то пропитанные волглые гренки из белого хлеба. Джейк съел яйцо, запил бокалом теплого, тошнотно сладкого белого югославского вина и мрачно проследил за тем, как Памела вносит три блюда. На одном оказалась какая-то вязкая масса, в которой плавали отдельные кусочки размером с ноготь — где мяса, где ореха, где разваренного лука; на другом горкой лежали несколько сухих, чуть теплых картофелин; а на третьем размороженный зеленый горошек какого-то линялого цвета. Памела клала сперва чуть-чуть мяса, потом пару похожих на мороженое шаров картошки, а поверх этого огромный половник горошка. Потом опять забегала с гренками.
— Ну надо же, какая искусница! Чародейка! — наворачивая за обе щеки, приговаривал Десмонд.
Затем последовал сырный стол — подали чеддер «Железнодорожный», целую голову, которая жутковато напоминала брус хозяйственного мыла. Проходившую через город Чеддер ветку железной дороги недавно демонтировали — что ж, значит, теперь она будет вечно жива в этом названии. Был и десерт — как без него! Нечто розовое, бесформенное и мокрое под названием «малиновый дурень».
Говорил главным образом Десмонд. Тори, как он признал, похоже, выдохлись, но придет день, и появится очередной лидер с огнем в груди и чреслах, и тогда мы увидим, как будет улепетывать из резиденции премьера этот безликий мелкий человечек!
— Ну, придется нам теперь оставить мужчин наедине с портвейном, правильно? — возгласила Памела и, к вящему удивлению Джейка, увела Нэнси вон из столовой залы.
Надо же, и впрямь: подали портвейн. И сигары! Десмонд извинился, что пришел без жены.
— Она в больнице, — пояснил он и добавил: — Ничего страшного. Так, небольшой ремонт канализации.
Ормсби-Флетчер припомнил времена, когда он был на службе в армии, в гвардейском полку на Рейне. Там они время от времени ходили в увольнительную в Гамбург.
— Все ж таки надо иногда… макнуть фитиль, верно я говорю?
Джейк, неприятно пораженный, даже откинулся на стуле: ну ты и грязный тип, Ормсби-Флетчер! Макать фитиль он, видите ли, на Рипер-бан ездил. Но, пока рылся в памяти, отыскивая тоже что-нибудь этакое, на помощь пришел Десмонд с историей про герцогиню Ньюбери.
— Когда у них дошло до первой брачной ночи, — сказал он, — герцог, естественно, решил ей впердолить. И что вы думаете? Герцогиня так завелась, что не могла остановиться. «Значит, вот это и называется *блей?» — наконец спросила она. «Ну да», — ответствовал герцог. «Тогда, — нахмурилась герцогиня, — всяким рабочим и прочему люду низкого звания подобные вещи надо запретить. Все равно для них это слишком сладко!»
Ха-ха-ха! Время воссоединяться с дамами. Джейк, извинившись, удалился на второй этаж в туалет — в кишках происходила революция, однако, когда он встал и потянул за цепочку, ничего не произошло. Сперва это его ничуть не удивило: с британской сантехникой он уже сталкивался; он снова дернул, потом еще, но сливной бачок так ничем и не разродился. О, господи, в смущении размышлял Джейк, глядя на большую жирную кучу на белом фаянсе. Что делать-то? Вот-те здрасьте! Тихонько отворил дверь. Выглянул. Никого. Джейк проскользнул в соседнюю ванную, нашел там пластиковое ведро, наполнил водой, на цыпочках прокрался обратно в туалет и вылил в унитаз. Куча всплыла и оказалась теперь вровень со стульчаком. Небольшое такое наводненьице. Свинья ты, вот ты кто, подумал Джейк. Сластолюбец. Жид пархатый.
Так. Главное без паники! Пытаясь собраться с мыслями, Джейк пошире распахнул окно туалета. Есть простое решение. Надо быстро завернуть кучу в собственные трусы, посильней размахнуться и забросить подальше в цветник. Да, хорошо, вновь задумался Джейк, но как же это дело взять-то? Так ведь оно же твое! Твои собственные отходы жизнедеятельности. Отвращение к ним есть буржуазный предрассудок. Да, да, все верно, но как же его взять-то? Ну, ты даешь! Ты же у нас социал-демократ! Традиционалист! Или ты только притворяешься смелым воякой? А сам не можешь жизни в лицо взглянуть? В природе все свято, Джейк. Все без исключения. Да, но как же мне это дело взять-то? Да трусами же! И быстро! Вжик — снял — схватил. Потом размахнулся — бросил. Неотразимая подача Херша, помнишь? Такая, что не перехватишь и не отобьешь. Через секунду Джейк решительно стоял над унитазом с семейными трусами в руке и вел обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре… три… два… полтора… один… три четверти… И-и-и-и-и… Что такое? Какие-то голоса в саду. Джейк с облегчением попятился. А все же я не белоручка буржуазная, подумал он. Еще б секунда, и все бы сделал!
Вынул из коробочки сигариллу, закурил. Ага, стало быть, они опять все вышли на террасу. Что ж, ладно. Вновь надел трусы, и, выскользнув из туалета, быстренько побежал по лестнице вниз, в туалет на первом этаже. Барух ато Адонай, Эло-хейну мелех аолам[183], дважды взмолился он, прежде чем потянуть за цепочку. Есть — полилось! Теперь что же мне — опять наверх, притащить сюда кучу, и…? Нет. В радостном возбуждении Джейк еще раз спустил в туалете воду — как можно более шумно — и принялся ломиться в дверь. В конце концов явился Ормсби-Флетчер.
— Меня тут, кажется, заперли, — крикнул Джейк.
— О, господи!
Ормсби-Флетчер объяснил Джейку, как отпереть дверь, после чего вывел в сад, где Памела демонстрировала живопись. Вот пейзаж. Вот корабль в гавани. Портрет. Все это напоминало головоломки, которыми Джейку доводилось развлекаться в нежном возрасте: составьте из кусочков картинку. Он громко изобразил восхищение.
— Только не говорите ему! — и Памела, вся воплощенное лукавство, повернулась к Джейку. — Ну что? Правда талантливо?
— Чрезвычайно!
— Но видно ведь, что автор дилетант, разве нет? — явно сбивая с толку, спросила она.
Джейк бросил умоляющий взгляд на Нэнси, но та стояла с непроницаемым видом. Вот сука тоже! Джейк подошел к картине вплотную.
— М-м-м-м, — протянул он, благодарно принимая от Ормсби-Флетчера бокал с бренди. — Да нет. Пожалуй, профессионал. — И добавил: — Вон мазок какой! Ну да, конечно, профессионал!
Десмонд прижал к губам розовую ладошку, подавляя смешок.
Это все ее! — подумал Джейк. Вечерами, в одном этом паутинистом лифчике и прозрачных трусах, она…
— Да хватит вам, — сказал Ормсби-Флетчер. — Расскажите человеку.
Памела подождала, наслаждаясь воцарившейся тишиной. В конце концов, вся восторженная, задыхаясь, со вздымающейся грудью, объявила:
— Все эти картины… написаны художниками, которые рисуют ртом и ногами!
Джейк ахнул, побледнел.
— Ведь вы бы никогда, — радовалась Памела, потрясая пальцем у него перед носом, — никогда бы не догадались, правда же?
— Ну… в общем, нет.
Ормсби-Флетчер не без гордости объяснил, что Памела председатель Общества помощи художникам, рисующим ртом и ногами.
— И при этом находит время готовить такие великолепные блюда! — присовокупил от себя Десмонд. — Такое порой придумает, такое!
— Вот эту картину, — сказала Памела, приподымая морской пейзаж, — написал семнадцатилетний мальчик, держа кисть в зубах.
Дрожащей рукой Джейк передал бокал с бренди Ормсби-Флетчеру.
— Он уже восемь лет как парализован.
— Удивительно, — слабым голосом отозвался Джейк.
Десмонд выразил мнение, что работы этой группы следует представить публике в Соединенных Штатах. А то — Лондон, свинг, декаданс — тут проку не жди. А эти несколько инвалидов вдруг взяли, да и отказались вымаливать подачки у государства! Всем нам пример, между прочим, в особенности тем, что поют, будто Британия выдохлась!
Следующей она показала картину, написанную ртом — натюрморт, изображенный жертвой уличного происшествия.
— А вот это, — на сей раз Памела подняла повыше портрет генерала Монтгомери, — выписано ногой. Один из серии портретов, исполненных ветераном Эль-Аламейна[184]. Следом она показала еще одну картину, написанную ртом — натюрморт, изображенный жертвой уличного происшествия.
Бесстыже вытянув руку с бокалом, чтобы туда налили еще бренди, Джейк гаркнул:
— Эту — покупаю!
Ротик Памелы округлился, образовав укоризненное О.
— Ну вот, теперь вы будете ругаться, говорить, что я настырная, — обиженно проговорила она.
— Да ну! Ведь это ради благородной цели! — сказал Джейк.
Восторг Памелы несколько увял.
— Нет, вы, конечно, можете купить, но только если она вам действительно всерьез понравилась.
— А, ну да, естественно. Конечно, понравилась!
— Потому что нельзя людей с физическими недостатками считать ниже себя! — И нахохлилась.
Тут Джейк взмолился, и Памела, простив его, разрешила купить за двадцать пять гиней портрет Монтгомери. Потом, вновь горячо и со вздымающейся грудью, добавила:
— А я… А я… Знаете, что я для вас сделаю? Я вас возьму посмотреть, как этот художник работает у себя в студии!
Джейк затряс головой, умоляюще стал вздымать руки — дескать, нет! не надо! но что сказать, так и не смог придумать.
— Ему это будет такое ободрение, так будет радостно узнать, — продолжила Памела, — что человек вашего ранга стал почитателем его таланта.
— А нельзя ли мне просто письмо ему написать?
— Да вы влюбитесь в нашего Арчи. У него такое чувство юмора!
— Правда? — голос Джейка дрогнул.
— А мужество какое! Мужества ему не занимать. — Затем Памела вдруг переключилась и завела одну из тех пластинок, которые, как заподозрил Джейк, были у нее припасены для званых завтраков в женском клубе: — Если у человека талант и он не может не рисовать, — завела она как по писаному, — он непременно будет рисовать! Будет рисовать, даже если жить придется в лачуге и на грани голодной смерти. Пусть у него нет рук — он будет рисовать, положив холст на пол и держа кисть пальцами ног. А нет ни рук, ни ног — зажмет кисть в зубах!
На втором этаже зажегся свет. Джейк крепче ухватился за бокал бренди и торопливо прикурил сигариллу.
— Слушайте, вы ведь творческий человек, вот скажите, Джейк, — возбужденно спросила Памела, — правда же, искусство от трудностей расцветает?
Еще одно окно второго этажа загорелось светом.
— Вы чертовски правы! — согласился Джейк.
Послышался сердитый выкрик няньки, потом пауза, потом завопил Элиот. Ормсби-Флетчер вскочил на ноги.
— Схожу гляну, что там такое, дорогая.
— Мне кажется, — продолжила Памела, — что чем более жестоки муки творчества, тем творение выходит совершеннее.
— Моя жена не очень хорошо себя чувствует, — сказал Джейк, пронзая Нэнси свирепым взглядом.
— Простите?
— Мне надо срочно отвезти Нэнси домой.
В вестибюле они нос к носу столкнулись с раздраженным главой семейства; тот был весь красный, в руках насос.
— Что случилось? — спросила Памела.
Элиот сидел на верхней ступеньке лестницы, по его щекам бежали слезы.
— Это не я, — хныкал он, — это не я…
— Он нашкодил, — сквозь зубы процедил Ормсби-Флетчер.
— Не будьте с ним чересчур суровы, — помимо собственной воли вмешался Джейк.
Ормсби-Флетчер, казалось, только теперь Джейка заметил.
— А вы что, уже уходите?
— Тут, понимаете, с Нэнси… Ей немножко нехорошо.
— Так… пустяки… Просто с желудком что-то, — вклинилась Нэнси, пытаясь поддержать версию мужа.
— Нет! Не с жел… — начал было Джейк, но осекся. — Я хочу сказать, что… в общем, она молодец, такая терпеливая! Спокойной ночи.
Ормсби-Флетчера он заверил, что вечер был совершенно феерический, и, вцепившись в портрет Монтгомери, повлек Нэнси к машине. Вой Элиота преследовал по пятам.
— В чем дело, что на тебя вдруг нашло? — допытывалась Нэнси.
Но до тех пор, пока не выехали на шоссе, Джейк вообще говорить отказывался.
— Просто у меня жутко разболелась голова, вот и все.
— А что там натворил у них ребенок?
— Да попытался куклеца своего дурацкого спустить в сортир, вот что.
Пока Нэнси готовилась улечься, Джейк налил себе неразбавленного и сел перед портретом Монтгомери. Что я тут делаю, думал он, в этой стране? Чем я могу помочь этим растленным полудуркам?
Что скажешь, Янкель?
3
Если бы. Если бы, если бы… Зачем он вообще уехал из Торонто в Лондон!
Лондон. Зачем, Господи, воля Твоя! И почему именно Лондон? А потому, что благодаря Всаднику (и собственной невоздержанности на язык) Нью-Йорк его отверг.
В детстве Англия для него много значила, но никогда его туда особенно не тянуло. По убеждениям он был лейбористским сионистом[185]. Помнится, он когда-то даже недолюбливал британцев, потому что они ему препятствовали в стремлении обрести родину. Сидит, бывало, с родителями у радиоприемника, слушает речь Черчилля: «…но французские генералы доложили своему премьер-министру, что через три недели Англии свернут шею, как какой-нибудь курице. Ну-ну, нашли себе курочку! Нашли шейку!» Еще вспоминаются фотографии зубастеньких принцесс Елизаветы и Маргарет в герл-скаутских платьях. Воздушная битва за Англию.
— Король, — сообщила однажды вечером мать, — горячей воды себе в ванну теперь наливает всего на дюйм. Так он подает пример всему народу.
— А кто, интересно, может это проверить: ведь он там один, надо полагать… в своем сортире-то! — усмехнулся отец.
Вместе с другими мальчишками Джейк играл в десантников на пустыре за синагогой, обстреливая Нарвик[186] заледенелыми конскими яблоками. Читал книжки Д.А. Генти[187] и Г.Д. Уэллса. Отворачивая лицо от ветра и хрустя по морозному снежку, каждое утро заново торил тропу во Флетчерфилдскую школу, при этом путь его лежал мимо полкового арсенала канадских гвардейцев, у входа в который в странной меховой шапке всегда стоял высокий невозмутимый гой. В народе говорили, что, если им прикажут, они прямо так, строем, шеренга за шеренгой, со скалы и попрыгают. Вот какая у них дисциплина!
Джейк помогал собирать деньги, свитера и носки «в помощь Британии», а позже, обходя те же дома, опять просил деньги, но уже на оружие для Хаганы. Примерно в это же время к ним в дом однажды пришел пилот британского Управления доставки[188] и, шевеля кавалерийскими усами, уговаривал отца купить облигации военного займа.
— Эти русские вообще-то не так уж плохи, — говорил он. — Во всяком случае, сейчас нам надо именно на это себя настраивать. Ну что делать, ну не было у них промышленной революции! Сотни лет развития им пришлось втиснуть в одно поколение.
Его неправильно проинформировали. На улице Сент-Урбан жили не одни только красные.
— В Финляндии, — круглил глаза отец Джейка, — им приходилось приковывать людей к пушкам. Не думаю, чтобы это укрепляло боевой дух.
Англия — это Джордж Формби, Томми Фарр, чуть не побивший Джо Луиса, и туман. «Элементарно, Ватсон!» и Биг-Бен. И мать, возвращающаяся из кино с покрасневшими глазами после фильма «Миссис Минивер»[189]. В Шоубридже, в пруду, куда летом ездило купаться все еврейское гетто Монреаля, в День империи[190] утонула маленькая девчонка, объевшаяся латкес. А настоящие англичане купались за горой, в настоящем озере. Англия — это страна, где все непрерывно пьют чай. Причем без лимона. А всякие вещи делают лучше всех в мире. Когда-то один из наших был там премьер-министром[191]. Англия это охота на лис. Это Джордж Бернард Шоу. Это Бульдог Драммонд. Это Чарльз Лафтон, бросающий через плечо куриную ногу. Это Эд Мёрроу[192]. Это песня про соловья, который будто бы запел прямо на Баркли-сквер. А еще Англия пробивалась к Джейку через посредство его собственного шотландского учителя, заставлявшего подопечных заучивать строки Скотта: «Олень из горной речки пил, / В волнах которой месяц плыл»[193], а также Теннисона:
Бей, бей, бей В берега, многошумный прибой! Я хочу говорить о печали своей, Неспокойное море, с тобой[194].Только вот ученики при этом ни печали, ни иной сопричастности как раз и не испытывали.
В колледже, где студенты лихорадочно черпали идеи уже из других разнообразных источников, Англия представала в ином, но столь же искаженном виде. Опять сплошная литература. Утонченные сочинения Джейн Остен. Благопристойность, разум, политическая зрелость.
Та ли это Англия, которую они с Люком вознамерились покорить?
Стоя у поручней на судне, выплывающем на открытый простор реки Святого Лаврентия, уже оставив Квебек-Сити далеко позади, Джейк, до невозможности возбужденный, с хохотом приставал к Люку:
— Нет, ты меня, меня послушай! Вот ты скажи, что сейчас происходит в Торонто?
— В Торонто? О, ну как же! Город с каждым днем становится все краше.
— А в Монреале?
— Ну, и Монреаль тоже: он неустанно движется вперед!
Первая встреча с Англией состоялась в прокопченном Ливерпуле. Без задержки пересев с парохода на поезд, они были поражены огромными размерами чайных ложек, гарью в чуть теплом чае, оседающей на дно стакана крупинками, и плакатиками в уборных: «Джентльмены, пожалуйста, поднимайте сиденья!» Но все же был, был момент, когда они усомнились, туда ли приехали: когда въезжали в Лондон на такси, им бросились в глаза эркеры во всех домах по обе стороны дороги, и в каждом трюмо, изнутри заслоняющее оконный проем, чтобы, не дай бог, в комнату не проникло солнце. Если оно когда-нибудь здесь появится.
Бр-р-р-р!
Первые недели в Лондоне Джейку запомнились непрестанной борьбой с промозглой сыростью. А еще тем, как пожирал шиллинги монетоприемник газового счетчика, потому что, когда они искали жилье, скупердяй Люк настоял на самой дешевой гостинице. Они прошли через все обязательное занудство, связанное с экскурсиями в Британский музей, в галерею Тейт и в Вестминстер, при этом презрительно избегали тех моментов, когда там смена караула, хотя обоим до полусмерти хотелось ее посмотреть.
Перед отъездом Джейк горячо уверял обеспокоенных монреальских родичей, что их город это культурная пустыня, жалкая колониальная плешь, он же отправляется туда, где сможет припасть к истокам великой имперской традиции, но как только он добрался и ото всех избавился, оказалось, что думать неспособен ни о чем, кроме девушек. Где тут девушки? О, возьми меня, я твоя! Но, боже мой, — те, что мельтешат в пабах, они же удручающе страшны! Как будто, годами лопая хлеб с топленым жиром, сладости и сэндвичи с рыбным паштетом, они пропитали свои юные тела ядами, которые то вдруг проявятся в виде усов, то выскочат какой-нибудь пятнистой почесухой, а уж на зубы действуют так, словно зубами здесь принято грызть свинец. С элегантными шиксами из Белгрейвии несколько сложнее: он пожирал их глазами, тогда как они — те, что только что отправили своих красномордых мужей (таких, например, красавцев, как Обри Смит или Ральф Ричардсон) завоевывать Индию, Канаду и Родезию (причем попробуй-ка не отправься: сразу получишь письмо со вложенными в него четырьмя белыми перьями[195]) — они, прелестницы, смотрели на него столь холодно и высокомерно, что и не подступись — примут за посыльного из «Харродса»: что? авокадо? — с этим, пожалуйста, к экономке.
С каждой неделей Джейк становился все несчастнее. Лондон, как он теперь сознавал, это всего лишь депрессивно-серый, давящий на мозги мегалополис. Где представители рабочего класса все до единого коротышки с черными зубами, а их начальники — наоборот, длинные и мертвенно бледные, как ростки застрявшей под холодильником прошлогодней картофелины, и очень многие почему-то заикаются.
Город гоев, гойский рой. Безвкусный, словно вата, белый хлеб. В пивной на полу опилки. Ошметки брюссельской капусты, скитающиеся по тарелке с жирной тепленькой водичкой. В мюзик-холле «Уиндмилл» они с Люком наблюдали стриптиз в исполнении стареющей дамы с дряблыми бедрами. И не успели после этого на сцене чуть-чуть покривляться лихорадочно веселые комики…
— Слыхал? У нас есть самолет таких размеров, что даже янки подобных не строили!
— Да ну?
— Я тебе точно говорю! Вот, сейчас отыщу. Где-то он у меня тут в кармане завалялся.
…как занимающие первые два ряда фермеры в твидовых кепках тут же принялись, в три погибели согнувшись и чиркая спичками, увлеченно рассматривать прихваченные с собой журналы с голыми девками.
— …А я в Брайтон, пожалуй, съезжу. Посмотреть подводный футбол.
— Дурак ты набитый. Подводного футбола не бывает.
— Не бывает? Читай газеты! Только вчера было в «Таймс»: «Подводными течениями в высшей лиге унесло главного тренера сборной страны».
В самый свой первый день в Лондоне, когда мостовая под ногами еще кренилась и вздымалась как палуба «Кьюнардера», Джейк пошел на Трафальгарскую площадь в Канада-хаус осведомиться насчет почты.
— Есть что-нибудь для Херша?
— А точнее?
— Для Д.Херша.
— Но вы же не Д.Херш!
Джейк оскорблено хлопнул паспортом по прилавку.
— Ах вот оно что! Тогда, значит, вас двое.
— А не могли бы вы дать мне адрес этого второго Д.Херша? — разволновавшись, спросил Джейк.
— Не думаю, что он все еще в Лондоне. Не заходил уже несколько месяцев.
— А адреса, куда переезжает, он не оставил?
— А вы кто, его родственник?
— Да.
— Ну нет, — усмехнулась девушка за прилавком, — адрес оставлять он поостерегся. — Она вытащила перетянутую резинкой пачку писем. — Вот. Сплошь неоплаченные квитанции, письма из банка, последние предупреждения, уведомления об аресте счетов. Повестки. Позорище!
— Тогда я, пожалуй, оставлю ему свой адрес. На случай, если он появится.
Постукивая карандашиком, девушка наблюдала, как Джейк пишет.
— А вы что, прямо только что из Канады? — спросила она.
Джейк кивнул.
— Те, кто выезжает за границу, должны считать себя представителями нашей страны, ее послами доброй воли. К нам, между прочим, здесь очень хорошо относятся.
— Ага, как к Вилли Ломану[196].
Понятно. Только вот дело-то в том, что я наркоман. Сдаваться приехал. В Службу здравоохранения. — И, скогтив с прилавка пришедший ему пакет, Джейк удалился в читальный зал.
Посылка оказалось от отца. Еврейский календарь с указанием праздников, которые надо соблюдать, ермолка и молитвенник. В ермолку всунута записка: «Писать можешь, когда захочешь, а писать прошу еженедельно».
В Лондон Джейк с Люком въехали на гребне успеха пьесы Люка, поставленной Джейком на телевидении в Торонто, и теперь это надо было повторить на британском коммерческом телеканале.
Как потом выяснилось, для канадцев, пусть даже желторотых и неоперившихся, момент, чтобы снизойти до покорения Соединенного Королевства, выдался как раз самый благоприятный. Недавно зародившееся коммерческое телевидение росло не по дням, а по часам, и квалифицированных кадров катастрофически не хватало. И там, куда американцам, которым требовалось разрешение на работу, вход был закрыт, не в меру шустрые ребята из колониальных провинций заполняли собой все вакансии. В те полубезумные, полубезмятежные деньки, когда телевизионные драматические постановки шли в прямом эфире, а спектакли репетировали по две недели, после чего два дня давали на прогоны в присутствии камер, наша парочка канадцев вовсю помыкала нерадивыми местными из операторской команды: по утрам объясняли, уговаривали, вечерами сулили бакшиш, а все ради того, чтобы те начали уже, наконец, шевелиться, снимали бы хоть чуть-чуть менее статично — там применили бы зум, здесь поиграли с отъезд-наездом, по ходу дела пытаясь имитировать съемки фильма, да и на пульте тоже не сидели бы сложа руки, а что-нибудь сымпровизировали, когда во время передачи камера номер три вдруг сдохла. Потом весь следующий день обнаглевшие канадцы ждали, когда зазвонит телефон и их пригласят в высоты поднебесные, однако это вот как раз дудки. Высот поднебесных было три — «Метро-Голдвин-Майер», «Коламбия пикчерз» и «Двадцатый век-Фокс». Это был бы шанс прорваться в настоящее кино.
Пока Джейк не спутался с девицей-помрежем и не въехал в собственную квартиру, они с Люком снимали жилье на двоих в Хайгейте. Вокруг там были сплошь домики на две семьи и в каждом страховой агент либо лавочник, только вчера добившийся достаточного благосостояния, чтобы пролезть наконец под проволокой на поляну среднего класса, поэтому в окнах красовались не герани со всякими там аспидистрами, а плакаты партии консерваторов: знак благодарности сэру Энтони Идену[197] за то, что все же привел их, вконец измученных и чуть не полунищих, к обещанному на выборах благополучию.
Убедив себя в том, что пришла пора полностью включиться в жизнь новой родины, Джейк тут же рванул в местный штаб Лейбористской партии, чтобы срочно предложить свои услуги, втайне ожидая, что при том, какой он нынче считается умница и красавец, одно только его имя тут же сразит наповал самую там у них прекрасную юную деву, которая вся аж исстрадалась, не зная, кому бы наконец отдаться («Да, это я и есть — тот самый Джейкоб Херш!»), а главное, его теперь, если постараться, запросто могут выдвинуть на пост главного режиссера всех партийных программ на телевидении, и благодаря этому Хью[198]— раз-два, и в дамки, а тут уж он и сам не растеряется, сумеет показать себя во всей красе перед звездными обитателями Хэмпстеда. «Да, Хью, я очень ценю ваше доверие; должность хорошая, стабильная. Не хочу быть неблагодарным, Хью, но…»
Облупленный офис Лейбористской партии с неработающим прачечным автоматом в вестибюле был пуст, если не считать толстой средних лет тетки в твидовом костюме.
— Да? — осведомилась она неласково. — В чем дело?
Встреченный мордой об стол, Джейк тем не менее поинтересовался, нет ли для него какой-нибудь работы.
— А вы что, знаете моего сына? — вопросом на вопрос ответила она. — То есть, я имею в виду, близко знаете?
Ее сын был местным кандидатом.
— Нет, — признался Джейк.
— Так зачем же вам тогда на нас работать?
— Ну-у… затем, что я поддерживаю Лейбористскую партию, — уже готовый дать задний ход, объяснил Джейк.
— A-а, понятно. Н-ну, я даже и не знаю… — Она захлопотала, забегала как испуганная курица и в конце концов села на кипу каких-то брошюр. — Тогда, наверное, хуже не будет, если вы раскидаете по почтовым ящикам эти письма…
Мало-помалу положение Джейка упрочивалось: буйные молодежные пирушки сменились зваными обедами, каминная доска в служебном кабинете украсилась визитками — не убирать же их, пускай лежат на устрашение мелким сошкам, которых никуда не приглашают. Люк писал, он ставил. Меньше чем за год они стали корифеями «Диванного театра»[199]; заодно, чтобы не сидеть без дела, начали работу над пародийным сценарием «Храбрые бритты».
Свой ланч Джейк обычно поглощал в кофейном баре «Партизан», что на Карлайл-стрит, хотя его реваншистский желудок и протестовал против воинственного ирландского рагу. Там же они были с Люком и пасхальным утром 1957 года — стояли чуть ли не по стойке «смирно» и смотрели, как каноник Коллинз выводит колонну борцов за ядерное разоружение на Трафальгарскую площадь.
Когда приглашения в высоты поднебесные наконец дождались, оно пришло не из «Коламбии», не из «МГМ» и не из «Фокс». Да и адресовано оказалось не Джейку, а Люку. Пьесу, которую он предложил театру «Ройал Корт», переработанную с тех пор, как Джейк когда-то ставил ее на канадском телевидении, приняли к постановке. Тут и настал момент, когда два друга, составлявшие, казалось бы, неразделимый тандем, внезапно друг от друга отстегнулись: с ними произошло то же, что в их поколении случилось со многими канадцами творческих профессий, — утрата веры в подлинность дарования друг друга: а вдруг оно лишь ничего не значащий ярлык, какие щедро лепит на свои товары невзыскательная провинция. Они-то ведь как раз и явились из tiefste Provinz[200], как назвал канадские доминионы Оден, из того самого захолустья, где искусство не только не произрастает, но где вообще возносят уничижение паче гордости. Вышли из страны дважды отверженной. С самого начала и англичане, и французы — то есть обе нации, заложившие основу государственности канадцев, — наперебой предавались в отношении нее всяческому злоречию. Вольтер называл эти места несколькими арпанами снежной пустыни, а Доктор Джонсон отзывался о Канаде как о «краях, с которых ничего, кроме мехов и рыбы, не получишь при всем желании».
Джейк, Люк, да, наверное, и все другие канадцы их поколения с младых ногтей были приучены полагать, что с молоком матери они вобрали в себя не слишком-то много культуры. А потому их естественный удел — культурная анемия. Подобно тому как некоторые гомосексуалы защищаются тем, что в угоду окружающим рассказывают злые гомофобные анекдоты, так и Люк с Джейком прятались от насмешек, сами над собой нарочито глумясь и ерничая. Единственное, в чем они были уверены, так это в том, что все туземные культурные достижения, на которых они воспитаны, есть полная чушь, и все это знают. Ни на какие авторитеты канадского происхождения опираться нельзя, даже и говорить о них нельзя без извинений и кривых ухмылок.
Пущенные плавать в транснациональном море противоборствующих мифологий, своей они были начисто лишены. Вращаясь в Лондоне в кругу сердитых выходцев из стран содружества, они им чуть ли не завидовали: конечно, у тех хоть есть реальные причины для недовольства! Южноафриканцы и родезийцы — те действительно спаслись от тирании, приехали, чтобы в изгнании поднять знамя борьбы за права человека; австралийцы? — что ж, у австралийцев на худой конец были предки, которых вывезли туда на арестантских судах; а уж выходцы из Вест-Индии так и вообще экипированы круче всех: кошмар, ведь еще их дедов выстраивали на рыночном помосте для продажи! Что от них ускользало, так это ироническая прозорливость горделивого предсказания сэра Уилфрида Лорье[201] — дескать, двадцатый век будет принадлежать Канаде. Потому что и впрямь, между столькими беглецами от тирании девятнадцатого века, всеми этими жертвами несправедливости, которую действительно можно было исправить политически (что в какой-то мере оправдывало созидательную разгневанность тогдашних беглецов), как это ни удивительно, только беглые канадцы оказались истинным порождением нового времени. Только они, собрав пожитки, снялись с насиженных мест, чтобы бежать ада нескончаемой скуки. И обнаружить, что он — везде.
Когда приглашение в высоты поднебесные в конце концов пришло, Джейкова подружка приготовила праздничный обед. Но вот она ушла спать, и сразу два старых приятеля почувствовали себя друг с другом неловко. Люк был в смятении. Он бы смирился с тем, чтобы его пьесу в театре ставил Джейк, но Джейка вряд ли возьмут туда режиссером даже по его просьбе, а просить за него он не станет. В талант Джейка Люк, конечно, верил, несмотря на его канадское прошлое, да и взаимопонимание у них было такое, какого, скорее всего, не будет ни с каким другим режиссером, и все-таки… все-таки в момент, когда надо не упустить шанс и по-серьезному прорваться, Люка так обуяло неверие в собственную значимость, что позарез приспичило, чтобы поддержку и ободрение оказал кто-то такой, кто раньше бы его не знал. Человек известный, с репутацией. Человек, имеющий вес, настоящий британец. Джейк, со своей стороны, в уме уже вовсю подбирал актеров, обдумывал сложности, возникающие во втором действии, и вдруг с тяжелым сердцем осознал, что Люк как-то так вкрадчиво, обиняками дает понять, что хотел бы попытать счастья с кем-то другим.
Первоначально Джейк не собирался позволить Люку так просто сойти с крючка. Поболтайся-ка, дружочек. Пострадай. И оба приятеля что-то такое говорили, плели словесную вязь вокруг да около, но к сути дела упорно не подступались. Один не приставал с ножом к горлу, другой тоже на рожон лезть не спешил. Отчаявшись, зарылись в воспоминания, но, как ни странно, и там не нашли живительной теплоты — наоборот, неожиданно пошли всплывать какие-то забытые обиды. В конце концов Джейку это надоело.
— Я должен был уже давно тебе сказать, Люк, но… Мне очень бы хотелось ставить твою пьесу, однако я так никогда на свободу не выйду.
— Понимаю.
— Пьеса замечательная. И я всегда так считал. Но я должен и о своей карьере подумать, не правда ли?
Люк осторожно запротестовал.
— Ведь я уже ставил твою пьесу в Торонто. Для меня это было бы повторением.
Так Люк — соломенноволосый, высоченный, жилистый — получил возможность покинуть квартиру немучимый стыдом, неловко теребя очки, как было, когда входил; теперь он даже рассердился, что тоже давало добавочный заряд бодрости: он-то ведь почти убедил себя, что, если бы Джейк попросил, пусть бы и ставил, ладно уж, а он — надо же! — оказывается, он вовсе и не хочет. Люка это все и печалило, и раздражало, но самым явным было чувство огромного облегчения. Он был уверен, что с британским режиссером у него гораздо больше шансов на успех этого рискованного предприятия, а старый друг только путался бы в ногах: ну кто он такой? — всего лишь еще один канадец, годный только на то, чтобы напоминать о временах их жалкого ученичества. Пусть так, но гнев Люку до дому донести не удалось. В постель он завалился, чувствуя себя преотвратно, сам в совершеннейшем смятении от собственного коварства.
Оставшись один, Джейк продолжал пить, обиженный и возмущенный тем, что лучший друг без слов высказал о его таланте такое неблагоприятное суждение, но, вдумавшись, сам тут же нехотя признал, что каким-то темным, тайным уголком души удивлен: неужто «Ройал Корт» и впрямь счел канадскую пьесу — пусть даже пьесу Люка — достойной постановки? Кроме того, он чувствовал облегчение оттого, что его собственной первой попыткой на британской сцене будет не канадская пьеса. Все, чему он научился, весь горький опыт заставлял полагать: ничто канадское достаточно хорошим быть не может. Он примерно догадывался, что воспоследует: бедняга Люк со своей пьесой не провалится, но и успеха настоящего не будет. Реакцией на премьеру станут более или менее благожелательные отзывы, запрятанные на самых дальних полосах газет, потом спектакль шесть недель будет идти при полупустых залах, и посреди сезона сойдет со сцены под возгласы о том, что для первой попытки это было очень даже неплохо.
Когда лондонские канадцы узнали, что пьесу Люка послали Тимоти Нэшу, молодому режиссеру, успевшему стать притчей во языцех, несмотря на то что он всего два года как закончил Кембридж, ни у кого даже и зависти особой не возникло, настолько превалировал скептицизм.
— Смотри, главное, ни на что не рассчитывай, — со страстью предупреждал Люка знакомый писатель.
А кто-то другой ввернул:
— Что ж, очень мило. Даже если пьеса сырая, а гениальность Нэша преувеличенна.
К изумлению Люка, Нэш прочитал пьесу за две недели и назначил ему встречу. Единственный, с кем Люк хотел бы перед этим пообщаться, это Джейк, но с ним советоваться было бы как раз неэтично, особенно ввиду собственного неуемного энтузиазма. Поэтому Люк провел вечер в одиночестве, безутешно перечитывая собственное творение. Пьеса показалась ему пустой и инфантильной, ему вообще стало ее стыдно, как будто без этого он мало боялся предстоящей встречи с Нэшем.
— Ваша п-п-пьеса это ващ-ще! Класс! Я б-б-балдею. Я ни на чем так не т-т-торчал уже много лет!
Хватай свою пьесу и беги, подумал Люк, причем быстро. Но почему-то ничего не предпринял. Не смог. Слишком уж ослеплен был этим Тимоти и его леди Самантой, да тут еще и Джейка рядом нет, — и хорошо, что нет: можно льстить и заискивать перед Нэшами без зазрения совести.
Ну ладно, хотя и не сразу, но можно же было, впоследствии вспоминал Люк, как-то порвать с ним. Например, когда на первой же репетиции стало ясно, что репутация у Нэша дутая. Это был жулик, хотя и обаятельный. Но тут Люку пришло на ум, что с модным Нэшем в качестве режиссера его пьеса засверкает особым блеском. То, что могло быть просто очередной премьерой, приобретало масштаб события. Нэш не только привлек великолепных актеров, которые в ином случае были бы неподъемно дороги, но и по мановению волшебной палочки заставил всех главных критиков Флит-стрит повылезать из их любимого бара «Эль Вино»; мало того, в предвидении, что постановку придется перенести на другую сцену, заранее заручился согласием самого что ни на есть престижного вест-эндского театра.
Какой там перенос на другую сцену! Наблюдая репетиции, Люк все глубже впадал в депрессию, так что скоро вообще уже не хотел, чтобы премьера состоялась. Поделился с Джейком страхами вкупе с подразумеваемым раскаянием и, не высказывая просьбу прямо, уговорил его прийти на репетицию, чтобы сесть в заднем ряду вдвоем, как бывало в Торонто. Джейк просидел весь вечер рядом с Люком, без конца что-то записывал, листал сценарий; пришел и на следующий вечер, и потом тоже. После чего Люк заставил Нэша упаковаться в его подбитое овчиной замшевое пальтецо и, затащив на обед в «Этуаль», сперва хорошенько накачал самой неумеренной лестью, а потом несколькими точными ударами безжалостно пригвоздил к месту. Молоток у него был свой, а вот гвозди Джейковы.
На премьеру в «Ройал Корт» Джейк шел посочувствовать, даже специально вооружился отрепетированными репликами, в которых должно было проявиться его великодушие, а оказалось, что пришлось после спектакля праздновать явный и недвусмысленный успех. Снедаемый завистью, мрачный, Джейк изо всех сил изображал радость, за кулисами стараясь держаться от Люка подальше: не хотел к нему примазываться, как другие — какой-то непонятный молодняк с телевидения и вечно всем недовольные канадцы, щедро рассыпавшие лесть, когда Люк рядом, а за спиной тут же принимавшиеся язвить.
— Все-таки как-то это вторично, вы не находите? — Или:
— Кеннету Тайнану[202] это бы понравилось, потому что левизной так и шибает. А в остальном…
Люк раскраснелся, курил не переставая и заметно покачивался, но явно во всем этом купался, облепленный теми же людьми, которые прежде, попробуй он к ним подойти на какой-нибудь вечеринке, немедленно начинали изобретать предлоги, чтобы исчезнуть, раствориться, объясняя это необходимостью предстать пред очи какой-нибудь очередной знаменитости. Продюсеры и агенты, журналисты и жарко дышащие шелковистые девушки.
— На вечеринке будешь? Точно?
— Ну а как же!
Тут на Люка напал продюсер, стал дергать за рукав.
— Подожди меня, я сейчас, — на ходу бросил тот Джейку.
Но Джейк сразу ушел, зато у Нэшей оказался чуть не первым.
Дом, как он помнил, должен быть где-то тут, в Фулэме, он даже на несколько шагов вернулся, чтобы еще раз взглянуть на табличку с названием улицы: наверное, перепутал адрес. Подшутили над ним, что ли? Ряд облупившихся, неопрятных домиков с покосившимися крылечками, какая-то старая карга в тапочках ковыляет посреди мостовой — видимо, в сетевой супермаркет «Макфишериз», поодаль стандартный кинотеатрик, мясная лавка с полной витриной аргентинской говядины — в общем, повсюду явная нищета уже не в первом поколении. В каждом садике обязательно присыпанная гранитной крошкой клумба гортензий. Под горкой, в синеватой дымке смога нагромождение газгольдеров и замысловатое переплетение толстенных труб.
Но нет, все верно: дверь открыла, сразу ослепив большими босыми ступнями, гибкая дева в тореадорских брючках.
— Вы, наверное, Джейкоб Херш, — сказала она, вдобавок к ослеплению оглушив зверским южнокенсингтонским акцентом.
Одна стена гостиной обита темно-коричневой пробкой, на другой — огромное полотно Джона Братби[203], изображающее толстую тетку, сидящую на унитазе. Очередное прозрение сортирно-кухонной школы.
— Как насчет выпить?
— Да, спасибо, леди Саманта.
— Да ладно! Просто Сэм.
Элегантные кожаные пуфы — где белые, где черные, плавучими островами колыхались в море ковров из шерсти тибетской овцы. Через несколько минут дом был уже переполнен всяческими доброжелателями, и Тимоти Нэш, тощенький заморыш, похожий на мальчика из подтанцовки, снизошел до Джейка. Низкий лобик, черная подкрученная челка. Под вельветовым пиджаком футболка, линялые джинсы, парусиновые тапочки, зато атташе-кейс, которым он небрежно пустил по полу через всю комнату, от Гуччи.
— Люк о вас твердит не переставая, — сказал Нэш. — Да и я — вот честно-честно — от ваших работ на телевидении просто м-м-мешгага!
— Мешуга[204], — поправил Джейк.
В итоге послали кого-то на машине на Флит-стрит за утренними газетами. Рецензии — сплошь фанфары.
— О’кей, — заключил Люк, — можно рвать когти.
Все вышли из квартиры леди Саманты, вооружившись бутылками шампанского и сэндвичами с красной рыбой, прихваченными с кухни. Пять утра, еще темно, зимний воздух бодрит. Там и сям сквозь иней торчат ростки крокусов. Сочлененный автобус, светя фарами сквозь надетые на них щелевые заглушки, вперевалку катит по Фулэм-роуд. У мясной лавки мужик в окровавленном белом фартуке; согнулся, тащит половину говяжьей туши. Рядом газетный киоск, в нем толстая дама, щурясь от дыма зажатой в зубах сигареты, сортирует утренние издания. У Люка клонится голова, вниз-вверх, все ниже и ниже. Джейк его тычет локтем — дескать, на, держи бутылку. Они как раз огибают угол Гайд-парка, навстречу поливальные машины, окатывают водой черные мостовые.
— Мальчишками в Монреале, — вспоминает Джейк, — летом мы бегали за ними, скакали в струях воды.
— Монреаль, П.К.[205].
— П.К. у нас в Торонто значило «писать-какать».
— А ФЛП?[206]
— Фиговый Листок на Попе. А как насчет У.Г.Д.?[207]
— Уйди, Гад Дебильный!
— Ах, Герти Маккормик, где теперь твоя попка в байковый трусах с начесом?
Содержательно побеседовав, достигли места жительства Люка в Суисс-Коттидже, где, потирая руки, зажгли все газовые калориферы.
— И что мы тут делаем, в этой непонятной стране? — сам себе удивился Люк.
— Заряжаемся культурой.
— И правильно делаем, Херш!
— Эт-точно, Скотт. Давай-ка дружно — вдарим еще по шампусику, лады?
Люк вновь перечитал рецензии, на сей раз вслух, лелея в себе воспоминание о непреходящей обиде, которую испытывал в Торонто; не забывал и о закадычных врагах в Лондоне, представляя себе, как они, проснувшись, прочитают эти же газеты, и будет у них весь день бесповоротно испорчен.
— А что, теперь ты у них будешь штучка-дрючка, — сказал Джейк.
— Да ну, я м-м-мешгага. Пошли они. А свистну-ка я сюда Ханну! Вышлю ей билет до Лондона.
— Что ж, ценная мысль! — одобрил Джейк, внутренне весь вскипев. Потому что это было его мечтой. Это он собирался высвистать Ханну в Лондон в день своего триумфа.
Джейк уселся на подоконник. Внизу мимо прошла сердитая мамаша, таща за руку хнычущего пятилетнего шкета. Мальчонка упал на мостовую, она принялась его громко отчитывать. Тот заревел. Не раздумывая, Джейк с треском распахнул окно.
— Оставьте его в покое! — заорал он.
Мамаша испуганно посмотрела вверх.
— Что вы его дергаете! — сказал Джейк, опуская раму. Потом повернулся к Люку: — Ты знаешь, мне ведь уже почти тридцатник. Через два месяца стукнет тридцать лет.
Они сели завтракать. Люк плеснул водки Джейку в апельсиновый сок и, прежде чем протянуть стакан, черенком вилки размешал.
— Не все кандидаты проходят, — сказал Джейк.
— Что?
— Это Оден.
Забренчал телефон; оказалось, звонит Пол Тэнфилд. Из «Дейли мейл».
— Да, — сказал Люк. — Понятно.
Он глянул на Джейка, такого вдруг сгорбившегося, помятого и несчастного, и решил по старой памяти отдать дань когда-то заведенному у них обычаю помпезность развенчивать. Вспомнить об их общей мальчишеской ненависти к пафосу и притворству.
— Как я пишу? Обычно — м-м-м — надену, эдак, халат от Харди Эмиса[208], да и пишу, как же иначе! — сообщил он Полу Тэнфилду. — Какие у меня странности? Ну, обожаю под дождем разгуливать. Еще машину люблю босиком водить.
Джейк чувствовал, что Люк хотел этим ему потрафить, но видел и то, что игривость друга явно деланная. Тот не успел еще повесить трубку, а уже жалел о сказанном, потому что этот жест был едва ли практичен. Когда телефон забренчал снова (на сей раз звонили из «Ивнинг стэндард»), Джейк предложил Люку взять трубку в другой комнате.
Следующий звонок был из канадского новостного агентства; этих можно в расчет не принимать.
— Одну секундочку, — бросил Люк и, передавая трубку Джейку, добавил:
— Это вас, мистер Скотт.
— Нет, — сказал Джейк. — Я что-то не расположен сейчас к розыгрышам.
Голову Джейка ломило, саднило горло. У Люка жгло глаза, во всех местах чесалось.
— Между прочим, обрати внимание, — сказал Люк. — Хоккейный сезон перевалил за половину, а мы еще не заключили пари!
— Может, этот сезон пропустим?
Тут позвонил агент Люка, сообщил, что на завтрашнее утро договорился о встрече с представителями консалтинговой фирмы; потом перезвонил еще раз, добавил, что во вторник его ждут к ланчу в «Мирабели», где будет человек из «Коламбия пикчерз», а еще на студии «Юнайтед артистс» хотят, чтобы он срочно прочел какую-то книгу.
В среду Люк улетел в Нью-Йорк — первым классом, с оплатой всех расходов приглашающей стороной — на переговоры о постановке его пьесы на Бродвее, да и другие там у него дела образовались.
Оставшись один, Джейк стал трезветь, хотя и медленно. У него лежали рукописи, которые надо было прочитать, маячили какие-то встречи, а он вместо этого каждое утро спал допоздна, неизвестно зачем делал выписки, читал журналы.
Рецензии в шикарных воскресных изданиях обескуражили его еще больше. К возвеличению Люка он в общем-то был готов, но не к потокам фимиама, изливаемым на режиссерскую работу Тимоти Нэша. О котором один из критиков писал, что эта пьеса оказалась для него трамплином, он на ней сделал гигантский скачок вперед и что его подчас излишне броский талант обрел наконец уверенную самодостаточность и воспарил. Ага, на крыльях Херша, подумалось Джейку.
В каком-то смысле это было лестно, даже очень — все ж таки хотя и в скрытом виде, но триумф-то это был его, Джейка, особенно если вспомнить о том, как поначалу Люк в него не верил, но это ведь никуда не пристегнёшь, — не будешь же, словно старый мореход Кольриджа, «как пойманный в силки, волнуясь и спеша»[209], хватать каждого за пуговицу и объяснять: вот этот, мол, приемчик изобрел я, а вовсе не Нэш! Джейк всегда чурался убогих болтунов, коими полон театральный мир, которые ходят и всем подобные сказки рассказывают. То никому не ведомый подслеповатый редактор киностудии начинает вдруг клясться, что это именно он спас от позора постановщика фильма; то редактор издательства, ночами напролет трудившийся в жалкой однокомнатной квартирке в Камдене над рукописью незаслуженно превозносимого ныне автора, оказывается, из бесконечного, сырого и невразумительного манускрипта собственноручно слепил бестселлер; то талантливого, но простодушного соавтора мошеннически оттерли, и он даже не упомянут теперь в титрах. Мол, именно они и есть настоящие творцы, только никто этого не знает. Трудолюбивые и незаметные клементы эттли[210], потерявшиеся в тени этих ваших хваленых черчиллей.
Уже не в первый раз Джейк вспомнил лохматого спортивного журналиста, с которым так любил выпивать в монреальском Мужском пресс-клубе: тот однажды рассказал ему о бывшем питчере бейсбольной команды «Монреал ройалз». В кандидатах на выдвижение тот подавал редкостные надежды, а когда ему дали возможность сыграть в высшей лиге с «Бруклин доджерсами», провалился, хотя и не по своей вине — в общем, в звезды так и не вышел. По непонятной причине все его подачи вязли из-за сбоев в работе команды. Пока он был на питчерской горке, на поле все только кувыркались и рыли носом землю. В результате этот питчер вернулся в «Ройалз», но злобствовать не стал.
— Такая уж это игра, — сказал он журналисту, от которого его историю узнал Джейк. — Либо у тебя вышло, либо нет.
Да, подумал Джейк. Как это верно! Либо у тебя вышло, либо ты в низшей лиге.
После восьмидневного отсутствия Люк возвратился из Нью-Йорка в полном ошеломлении.
— Нет, ты только послушай, Джейк! Это обалдеть же можно! Встречать меня в аэропорт они послали лимузин — черный «кадиллак» с телефоном внутри. В результате все, о чем я мог думать, это что надо бы с него позвонить, но кто поверит, что я звоню именно из лимузина, ползущего по Мэдисон-авеню! Поселили меня в отеле «Эссекс» в люксе с видом на парк, и не успел я сходить пописать, как номер оказался полон топ-менеджеров. Только достанешь сигарету, тут же очередной питомец Йеля подставляет пепельницу. Стоит вытянуть руку, как в нее мисс «Колгейт» вкладывает бокал с мартини. Все несут какую-то хреномундию…
— Несут что? — зловредно перебил Джейк; на самом-то деле словечко было ему знакомо. Слышал от какого-то голливудского деятеля.
Слегка поперхнувшись, Люк продолжил:
— Представляешь, в самый мой первый вечер в городе он закатил пир на весь мир. Сам живет в одном из кооперативных домовладений на Ист-Сайде, там у них Трумен Капоте в пайщиках и целый выводок Кеннеди. У него в квартире шагу не ступить — сплошной антиквариат, китайские гагаты и нефриты, первые издания, а ведь читает одни конспекты да аннотации. В гостиной висит Шагал, у окна какая-то финтифлюшка Джакометти.
Едва я переступил порог, шепчет на ухо: видите вон там девушку? Еще бы я ее не видел! Я, как вошел, сперва только ее и увидел. Как она там выгибается на подлокотнике софы. В общем, говорит, она здесь только затем, чтобы вы ее трахнули. Круто, да? Скажи, круто?
— Нн-да, — согласился Джейк, снедаемый завистью.
— Я при этом весь как выпотрошенный. А он в течение всего обеда пытается выманить у меня согласие написать оригинальную пьесу для… — тут он назвал имя звезды, которая у этого продюсера на контракте. — Это не человек, это бульдозер какой-то! Но так у них там заведено. За столом восемь человек. Я говорю, послушайте, я не пишу под актрису. Я не такой писатель. Если я что-то сделал и оно подходит, прекрасно, мне повезло, но я не могу начинать с актрисы. А он: вы что, с ума сошли? и весь ужин давит на меня и давит. В конце концов подают бренди, все еще сидят за столом, а он: вы чего хотите? Чтобы я удвоил гонорар? Так я удвою. Да не в том дело, отбиваюсь я из последних сил. А он: вот, придумал. Хотите танцевать в Белом доме на приеме по случаю инаугурации Кеннеди?
Ах ты, гад какой! — озлился Джейк.
— Да нет, — говорю, — не особенно. А это уже превратилось в игру такую. Я говорю нет и пытаюсь сменить тему, а он кидает новые приманки. Под конец говорю — все, я пошел. Я просто рухну, если не посплю, и тут — бамс! — девица вскакивает, вы, мол, меня по пути не подбросите? Продюсер тычет меня локтем. Да, думаю, если я бедняжку не подброшу, у нее будет куча неприятностей. Может быть, от этого зависит, дадут ли ей роль. Ладно, — говорю, — о’кей, потом такси останавливается, а я и выйти не могу, до чего устал. А она: может, зайдете, выпьем по рюмочке?
— Ну а ты?
— Ну, как ты думаешь? Плоть слаба. Кстати, Джейк, они смотрели твое ти-ви. Им понравилось. Если хочешь, я напишу им сценарий. А фильм можем сделать вместе.
— Если тебе самому этого хочется, зачем нужен я? для отмазки?
— Неделя в Нью-Йорке, Джейк, и Лондон становится как чужой. Все ж таки американцы мы или нет? Там себя совершенно не чувствуешь иностранцем.
— Мне же запрещен въезд в Штаты, забыл?
— Климат изменился. Уверен, с нормальным адвокатом это можно пробить. — Люк запнулся. — Денег я тебе одолжу.
— Ты мне — что?
— Я сказал, денег на это я одолжу.
Но Джейк сказал нет, и, выйдя из «Ше-Люба», они резко расстались, разойдясь по машинам. Внезапно Люк проорал:
— У меня во вторник вечером народ собирается! Сумеешь выкроить?
— Думаю, да. Конечно, почему нет? Покер?
— Нэнси Крофт приезжает.
— Кто?
— Ты что, в Торонто с ней не пересекался? А, что я говорю, если бы да, ты б запомнил. Такая красотка! Ой, господи, погоди секунду. Совсем забыл. У меня же для тебя заказное письмо. Пришло вчера на мой адрес.
В машине Джейк надорвал конверт.
Письмо оказалось из Канада-хауза, причем даже не ему, а брату Джо, за подписью какого-то чиновника из консульского отдела. К письму приложен именной ваучер для получения «материальной помощи от Канадского посольства в Мадриде, Испания».
Уважаемый мистер Херш!
По распоряжению министерства посылаем Вам ваучер для погашения дебиторской задолженности № 248с от 27 января 1959 года на сумму 132.67 (47 фунтов 2 шиллинга 6 пенсов). Будем признательны, если вы при первой возможности заплатите эту сумму. Вам следует как можно скорее возвратить нам справку о состоянии крайней нужды, выданную Вам Канадским посольством в Мадриде.
Опять его спутали со Всадником!
4
Следующим утром, еще девяти не было, Джейка разбудил телефон.
— Ну что, шмок, у твоего великого друга пошла наконец пьеса в Лондоне, и почему ж не ты ее ставил?
— Кто, черт возьми, это говорит?
— Копченую грудинку любишь? Прямо от «Левитта», а?
— Додик, ты что, в Лондоне? Что ты тут делаешь?
— Запускаю звезду. Мне надо с тобой погуторить.
— Ну ладно, хорошо. Сейчас ты чем занят?
— Онанирую. А ты?
Меньше чем через час Додик уже сидел в квартире и с ножом к горлу требовал, чтобы Джейк прочел пьесу, которая у Додика с собой — чтобы немедленно, прежде чем они начнут разговор! — и все Джейковы протесты были тщетны. Нехотя он удалился в спальню, и, когда, бегло пролистав текст, оттуда вышел, Додик аж привскочил с дивана:
— Ну что, эксперт, как ты думаешь?
— Надеюсь, ты не вложил в эту ерунду денег. Это чушь.
— Да ладно тебе. Эт-то и моя-a мечта![211] — пропел Додик, после чего выложил наболевшее.
Оказывается, он познакомился с Марленой Тайлер (вообще-то Малкой Танненбаум), звездой мюзикла «Мой прекрасный зейда», поставленного силами монреальской синагоги «Гора Кармель», — актрисой, когда-то, говорят, даже появлявшейся на телевидении Си-би-си, — и через два месяца на ней женился (или, как сказал раввин, «рука об руку взлетел с ней в брачные выси»). Сам к тому времени сделавшись чем-то вроде воротилы тамошнего шоу-бизнеса, Додик то и дело появлялся в модных местах Торонто с местными красотками, а однажды даже удостоился интервью в газете «Телеграм» — печатном органе крошечного городка Сент-Джонэс, что в провинции Ньюфаундленд-и-Лабрадор. «Что касается брака, — сказал он, — я никогда не сомневался в том, что женюсь на девушке из наших. На своем веку я наблюдал много смешанных браков. Они просто нежизнеспособны». А Марлена добавила: «Может, это звучит глупо, но у нас в доме после мяса не едят молочное — по соображениям гигиены, свойственным нашей вере».
Все к ее ногам. Додик построил в Форест-Хилле дом с затейливой буквой «К» на алюминиевой штормовой двери и как бы старинными каретными фонарями по бокам; гараж снабдил двустворчатыми воротами, управляемыми электроникой, не поскупился и на роскошную мебель: все для Марлены Тайлер, девушки его мечты — той, что прелестью равна Луне и превосходит розу. Но он-то полагал, что, выйдя замуж, она бросит сцену и телевидение: актриса так себе, могла бы и сама понять: ну сколько можно? Они и так богаты, никакой необходимости нет. После всех этих одиноких лет борьбы и неприкаянности, пожирания ресторанной отравы и спанья со всякими шиксами он просто истомился по домашней пище, упорядоченной семейной жизни и возможности потрахаться тогда, когда ему приспичит.
— Как, например, дождливым воскресным вечером — придешь этак, изрядно нагрузившись, с чьей-нибудь бар-мицвы: там ведь не только кидуш[212]читают, а еще и вино пьют… Или в субботу поздно вечером — вернешься с хоккея, а в телевизоре одна Джульетта[213] с квартетом «Ромеос». Я даже поставил в спальне телик с дистанционным пультом, чтобы мы могли смотреть с кровати, постепенно проникаясь настроением. Вдоволь натискаться перед трахом — ой, люблю!
Додик предвкушал совместные выходы в город, потрясающие званые обеды, а со временем и детей. Сына.
— Если уж на то пошло, за что боролись? Это жестокий мир, ты ж понимаешь, весь бизнес — это грязь и мерзость.
Сын не будет знать о трудностях начала, зато у него будет первоклассное образование. Например, Гарвардская школа бизнеса. И наконец, он примет на себя часть ноши, которую взвалил на себя отец в виде компании «Дадли Кейн энтерпрайзиз», потому что кому верить, как не родному сыну? Да никому!
— А вместо этого я, как дурак, в качестве свадебного подарка купил права на показ в Торонто какого-то второсортного мюзикла. И спонсировал его постановку с условием, что Марлене дадут главную роль. Ты знаешь, она, между прочим, смотрелась в ней не так уж и позорно. Некоторым рецензентам понравилась. И тут — смотрю, она уже и там выступает, и тут… Сборные концерты на телевидении, театральные ревю, какие-то танцы-шманцы… В общем, вякнуть не успел, и опять холостяк. Да хуже, чем холостяк! Домашняя еда? Пожалуйста, почему нет? Только мигни, и горничная разморозит в духовке комплексный обед. А хочешь — ешь в кабаке, и сиди там хоть весь вечер с друзьями за покером. Все равно главное впереди. А ведь устал уже — еле стоишь. Так нет, садись за руль, дуй к театру или к телестудии, встречай ее. Выйдет такая — вся в мехах, на ходу болтает, хихикает с остальными из труппы. Большинство-то из них голубые, это понятно, ну а другие? Кто может знать, что они там вытворяют в гримерных? А, ты же с Марленой незнаком еще. Одно слово — ой! Увидишь, сам поймешь. Кстати, для еврейской девушки она даже и в постели ничего. Я ведь теперь мужчина с сексуальным опытом, а как же. Нет, без балды, у меня с этим полный порядок. И в длину и в диаметре. Онанизм полезен, вот хоть ты тресни! Я это к тому, что — помнишь, на Сент-Урбан нам всё твердили, будто бы от него прыщами пойдешь или расти перестанешь… Херня. Говоря по-научному, что такое пенис? Это живая ткань и вены. Ты его тянешь, он растягивается. Ты им не пользуешься, он усыхает. Так о чем, бишь, я? А! У меня было сто девяносто две женщины (это не считая Марлены), и таки некоторые просили — хватит! Кончай, Кравиц, довольно, ненасытное ты чудовище. «Кравиц Большой Уд» — так меня одна девка называла. Неплохо, да? А мне нравится. Кравиц Большой Уд. Девушки все твердят, что, как мужчина, я очень даже силен, я и кончаю не слишком быстро — не то что нынешние всякие шмендрики. И меня не надо шлепать или еще там какого-нибудь рожна — ты обалдеешь, если рассказать тебе, на что пускаются некоторые гоим. На девок, правда, много денег уходит, но это же ведь тоже образование — они такого иногда понарасскажут! Вот не поверишь: в нашем Торонто (Онтарио) есть один биржевой гений (на Бей-стрит у него контора), так он каждую пятницу выкидывает стошку долларов только на то, чтобы девка встала на него каблуками (без ничего, в одних туфлях) и всего его обсикала. Черт побери, Джейк, тот раздолбай такой брокер — таких один на тысячу, он из великих. Я бы вставал на него каблуками и обсикивал его бесплатно хоть каждый божий день, а по субботам дважды, если бы он взялся за размещение моих финансов. Во всяком случае, в Марлене я нашел себе ровню. Ей это дело только давай, работает как нефтяная качалка, и все ей мало. Вот я себя и спрашиваю, так что же там на репетициях у них творится?.. С этими танцами опять же: они ведь, когда танцуют, лапают друг друга почем зря! Да они еще и в трико, да разогреты, а ручки-то — ай, шаловливые! Нет, она хорошая еврейская девушка, я ничего не говорю, но как я на это погляжу… Я б не выдержал! Короче, в полночь ее забираю. А я уже никакой, ты ж понимаешь, тем более что утром надо быть в офисе в полдевятого, иначе меня обкрадут, только так. А она, думаешь, домой рвется? Ха! Давай, говорит, зайдем выпьем в «Селебрити-клаб», не будь таким букой, ты что, старый, что ли? А всё их пидерьё сзади за нами тащится, хихикают как школьницы-пятиклашки. А кому платить? Папику-Додику, кому ж еще-то! Причем они пищат от смеха над шутками, которых я не понимаю: я вообще вот-вот сидя усну, а когда наконец мы дома, она хочет есть. Но горничную разве можно будить? Вдруг она от нас уйдет! В итоге я — я! — готовлю ей омлетик. Я уже как сомнамбула, а она, думаешь, скажет спасибо? Как бы не так. Жалуется: что ты совсем со мной не разговариваешь, сидишь пень пнем? В лицо мне зеваешь. Да ведь два часа же (это я говорю), я уже весь выговорился, что ты от меня хочешь? Сама небось спишь до полудня! А мне в восемь уже выходить. Да тихо, тихо, на цыпочках, как бы не разбудить бедняжку…
И Додик, продолжая в том же духе, рассказал, что они с Марленой пошли на сделку. Он согласился свозить ее в Лондон, где у него все равно есть дела, и там попытаться поставить эту пьесу. Он все ей устроит с одним условием — чтобы, если пьеса провалится, она бросила театр и родила ребенка.
— Короче, как ты думаешь, — спросил в конце концов Додик, — найдется кто-нибудь настолько сумасшедший, чтобы поставить тут эту хрень?
— Нет. В Торонто — может быть. Кстати, кто автор?
Имя автора значилось на первой странице, но было забито иксами.
— Дуг Фрейзер.
— Господи, я-то, блин, тоже! Мог бы и сам догадаться.
— А, ч-черт! Время-то как бежит! — Додик вскочил. — Приходи сегодня с нами обедать. Я Марлене уже обещал…
— Сегодня — нет. Сегодня я занят. Завтра, если ты не против.
— Заметано. Да, еще одно. Если Марлена спросит, я с тобой обедал. Гут?
— Гут-то гут, Большой Уд, только я понял так, что у вас любовь?
— Любовь, а как же! Только она ведь все равно когда-нибудь мне изменит. Это хоть к гадалке не ходи! И я буду стоять как дурак с вымытой шеей? А так у меня хотя бы отмазка есть, что я ей первый рога наставил. Короче, завтра в семь, ладно?
Полненькая, увешанная дорогими побрякушками Марлена Тайлер в платье из мерцающих синих блесток вся переливалась и сверкала; на голове сложное сооружение из крученых и начесаных пергидролевых локонов, накладные ресницы тяжело подрагивают, к подбородку прилеплена мушка, и золотая Звезда Давида (лучшее средство от сглаза, а как же!) зажата в ложбинке между стиснутых грудей. Плавным шагом прошествовав по вестибюлю отеля «Дорчестер», присоединилась к Додику и Джейку.
— Таки вы знаете, где я сегодня оттопталась? — сказала она. — Я оттопталась там, где ступал сам Диккенс! Вы такой счастливый, что живете здесь, Джейк. Атмосфера — так и разит!
За обедом Додик принялся рассказывать Джейку о том, как он не попал к Хершам на главное событие года — бар-мицву многоюродного брата Ирвина.
— Твой дядя Эйб в него столько денег вбил — мог бы построить крейсер. Обожает пацана. Считает его гением.
Но Марлену от разговоров о пьесе отвлечь было невозможно.
— Как вы думаете, нам трудно будет здесь найти поддержку? — спросила она.
— А почему бы вашему богатому мужу самому всю эту канитель не профинансировать?
— А как это будет выглядеть? — вмешался Додик, сердито поглядев на Джейка. — Я желаю пьесе всяческого успеха, но, если будет известно, что ее поставили только благодаря моим деньгам, над нами будут смеяться! Как над Рэндольфом Херстом с Марион Дэвис[214].
Тут Марлена как раз отплыла в дамскую комнату.
— Додик, зачем ты ее водишь за нос? Она же любит тебя.
— О чем ты говоришь? Что значит любит? — фыркнул тот. — Кто, черт подери, способен полюбить Додика Кравица?
5
— Брак это давно прогнивший буржуазный институт, — разглагольствовал Джейк в Париже. — От него воняет. А я человек современный, ты же знаешь, Нэнси. Но наш брак будет особенный. Скала!
Отец Джейка смотрел на это по-другому. За неделю до того, как Джейк явился вместе с Нэнси и Люком в качестве свидетеля в Хэмпстедское бюро регистрации актов гражданского состояния, отец прислал ему авиапочтой, да еще и с доставкой нарочным, письмо, к которому приложил вырезку из газеты «Монреаль миднайт».
СМЕШАННЫЙ БРАК — ВСЕГДА СКАНДАЛ!
Большинство смешанных браков разваливаются! К такому печальному выводу пришла редакция нашей газеты после тщательного изучения того, в каком состоянии находится статус кво этого важного вопроса теперь, когда все больше молодых пар переступают религиозные и расовые барьеры, объединяясь с другом или подругой «всей жизни».
Начиналось письмо вроде мирно: Дорогой сын!
Тебе кажется само собой разумеющимся, что я благословлю этот твой нечестивый брак, приложив еще и чек на свадебный подарок, но я тебя должен разочаровать. В прошлом мне приходилось во многих случаях защищать твою самостоятельность, но как я могу защитить тебя в том постыдном деле, которое ты затеял?
Когда в Торонто вышла твоя первая телевизионная постановка, я уже начинал тобой гордиться и надеялся, что в один прекрасный день ты поставишь что-нибудь хорошее и успешное, что ты найдешь себе подходящую подругу жизни и я смогу без стыда приходить в твой дом. Но нет, ты не таков! Тебе приперло ехать в Англию и ставить пьесы там. В Торонто ты прилично зарабатывал, больше меня. Но Канада оказалась тебе мала. НА ЕЕ ПЛОЩАДИ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ВСЮ ЕВРОПУ, я тебе сто раз это говорил, но кто же будет слушать старика отца? Который нужен, только чтобы клянчить у него деньги!
В своем письме ты заявил, что женишься не на еврейке или язычнице, а на женщине, ЧТО ТЫ ЖЕНИШЬСЯ ПО ЛЮБВИ. А вот скажи-ка мне, много ли ты видел молодых пар, которые бы женились по ненависти? Нет, это дело всегда происходит по любви, а еще лучше, когда по любви с первого взгляда. Эк у нас! (Эк у нас — по первым буквам значит «это курам на смех».)
А из какой она семьи, семья-то у нее какая-нибудь есть? Они-то захотят ли принять между собой еврея? Мы же прекрасно знаем, какие гоим ханжи. А что будет, если ты поставишь плохую пьесу или тебя с работы выгонят и не будет денег платить по счетам? Ты взъерепенишься и обратишься к бутылке. Слова, аргументы — твоя вина, не твоя и так далее, а потом вмешается кто-то третий, и что тогда? Первое слово, которое ты тогда услышишь, это жид пархатый, ничтожество, пьяница, шмок…
Слово «шмок» отец, видимо поразмыслив, забил на пишущей машинке литерами хххх.
…а ты станешь отвечать гневными словами, причем, зная тебя, Я УВЕРЕН, что слова эти будут не из приятных, да и пьесы, которые ты ставишь, полны неприличных слов, просто перенасыщены ими, так что тебе на язык они придут естественно и легко.
Ты уже присутствовал при крушении того, что когда-то считалось ИДЕАЛЬНЫМ БРАКОМ, но тяжкие времена, дни безденежья, чужое вмешательство и третьи стороны превратили любовь в ненависть. Так чего же ТЕБЕ-то ждать? Жизнь злая штука, и по тому, как ты ее начинаешь, я могу ожидать от этого брака только несчастия и развала, безо всякой надежды на счастливый финал.
ПОДУМАЙ ПОДУМАЙ ПОДУМАЙ как следует, прежде чем сделать окончательный шаг. Потому что с 20 августа, рокового для тебя дня, моя дверь и все, что к ней прилагается, будет для тебя закрыто. Двери всех Хершей будут захлопываться у тебя перед носом. А оттого, что ты не женат по еврейскому закону, твои дети, если они у вас будут, будут считаться незаконнорожденными ублюдками.
Так что вот сам теперь и смотри, ВЫБИРАЙ между:
А. Твоим отцом, который всегда желал тебе только самого лучшего.
Б. И какой-то посторонней Ж, которая вкралась в твою жизнь.
Если выберешь Ж, то есть Б, я не вижу иной альтернативы кроме того, чтобы просить тебя забыть мой адрес и никогда не пытаться со мной увидеться. На этом с тяжелейшим сердцем я завершаю это письмо, которое может оказаться последним.
ТЕПЕРЬ ОТ ТЕБЯ ЗАВИСИТ: «Б ИЛИ НЕ Б, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС».
А, то есть Я, то есть Папа.Однако, как это ни прискорбно, но в течение нескончаемо долгого и невероятно мучительного времени, длившегося, впрочем, всего каких-нибудь пару месяцев, сие зависело вовсе не от Джейка, чье решение было и так бесповоротным. Решать предстояло Нэнси — сегодня безоговорочно влюбленной, а назавтра вдруг отстраненной и надувшейся. Нэнси, которая в Париже не сказала нет, но и да не сказала тоже. Которая противилась (хотя и знала, как больно это его ранит) его настойчиво повторяющимся попыткам завалить ее подарками и закутать обновками с ног до головы, поскольку опасалась, что любая форма приятия утвердит его права на нее.
Поставит на ней клеймо: «Собственность Джейка Херша». Навек, непоправимо, невозвратно.
Уже и в Лондон вернулись, а она все колебалась, по большей части в его присутствии расцветая, однако в худые дни и раздражаясь, даже возмущаясь тем, как нагло он прибрал ее к рукам: уже на вторую неделю знакомства перестал звонить и спрашивать, свободна ли она вечером, — какое там! — он просто приходил после работы каждый день — заваливался как к себе домой, будто так и положено, падал на диван, клал ноги на журнальный столик, сбрасывал туфли и наливал себе рюмочку. Он буквально не давал ей дохнуть и этим пугал ее, и все же… все же она с нетерпением ждала его прихода каждый вечер, раздражалась, когда он опаздывал, заключала его в объятия в дверях и льнула к нему в постели перед ужином. Он волновал ее, радовал, заставлял помимо воли улыбаться. И ни один мужчина не был с нею так нежен. Однако бывали дни, когда накатывало донельзя неприятное чувство, будто она трофей, добыча, которая Джейку и нужна-то только потому, что Люк за ней погнался первым; в такие дни она бы с удовольствием не видела его вовсе, какими бы ни были приятными их встречи. В подобные злые дни она была бы несказанно рада вообще не мыться, не краситься и не наряжаться ради этого Джейка — только чтобы его соблазнить, чтобы доставить ему удовольствие: да ну его, лучше своими делами заняться. Уж какими ни на есть. Постирать, например, бельишко, послоняться по квартире в старом свитере и джинсах, почитать, послушать пластинки, а когда захочется, угоститься сыром и крекерами, вместо того чтобы готовить полномасштабный обед на двоих. С этими обедами, кстати, тоже сплошное и все нарастающее наказание, — и не в трудоемкости дело (или необходимости какой-то их особой гастрономической изощренности — как-никак стряпуха она отменная), а в том, что не всегда можно быть уверенной, на какой именно из ее кулинарных изысков хозяин взглянет, радостно потирая руки, облизнется и зверски набросится. Бывали вечера, когда ей больше хотелось чего-нибудь такого, к чему лежит именно ее душа, как бы оно ни было непрезентабельно, — ведь надоедает же вечно быть наготове, непрерывно угадывать его настроения. Интересоваться только его желаниями. Его работой. Его разбухающим эго.
Ее попытки устроиться на работу его, конечно, только раздражали.
— В здешних издательствах столько не платят, чтобы на это можно было жить, — сказал он. — У них там зажравшиеся богатенькие девчонки чуть не за просто так сидят, женихов себе поджидают.
Осторожно, крадучись, делая вид, будто в их взаимоотношениях не происходит никаких изменений — ну, то есть что она в принципе имеет право встречаться и с другими мужчинами, — он начал мелкими шажками, по миллиметрику перемещаться в ее квартиру. То придет со свежей спаржей из «Харродса» (весьма, надо сказать, обдуманный подарок), то принесет говяжьей вырезки, а заодно уж и тиковую салатницу, да еще вот кофемолка симпатичная подвернулась — разве не сгодится в хозяйстве? — а когда она начинала с жаром настаивать, чтобы они либо ели то, что она может купить сама, либо приходи после ужина, он напускал на себя такой обиженный вид, словно его как минимум несправедливо высекли, и она потом в постели старалась как могла, исступленно тешила его самолюбие, а он все это воспринимал как разрешение продолжать в том же духе, так что в канун выходных приезжал на машине, полной бакалеи и напитков, и целыми упаковками тащил в дом свою любимую еду и спиртное.
Вначале у них было заведено так, что до трех ночи он нежился в ее постели, после чего — ладно, раз тебе так важна твоя независимость (означающая раздельное проживание), так уж и быть — и он вынужден был с неохотой вставать, затем, дрожа от холода и жалости к себе, ехать домой, чтобы плюхнуться там в собственную постель. Но однажды ему было позволено остаться на всю ночь, и он решил, что нет ничего разумнее, как оставить у нее в ванной свою зубную щетку, бритвенные принадлежности, да и запас чистых рубашек и трусов в квартире не будет лишним. Потом опять-таки: утром ему нужно будет читать сценарии — значит, нужна удобная прикроватная лампа, утренние газеты, к которым он привык, да и запас мацы не помешает — он же так любит рассеянно хрумкать ею в постели! В ее, между прочим, постели. Теперь, когда в ее квартире звонил телефон, уже было неочевидно, ей это звонят или ему. Превозмогая негодование, она записывала телефонограммы. Будто она его секретарша. Или любовница. Но ты и есть его любовница, разве не так, Нэнси, душечка, ведь даже и твой день по-настоящему не начинается, пока он не войдет в дверь. Ты даже спишь лучше, когда он рядом. Но это лишь усиливало ее отвращение к себе. Потому что как это так — чтобы ее счастье зависело от кого-то еще! Да кто вообще его знает, можно ли ему верить? А вдруг она ему надоест? Или уже надоела? Потом однажды утром, почесываясь в ее постели, он настолько разомлел, что вслух подумал:
— А не пора ли перестать дурить самих себя? Может, съедемся?
Она тут же взвилась и выпрыгнула из кровати.
— Еще чего не хватало! Это мой дом, — и принялась торопливо стаскивать его пожитки в середину гостиной. Рубашки. Трусы. Пресловутую кофемолку. Сценарии. Прикроватную лампу. Банку селедки пряного посола. Он скрылся в ванной, стал собирать там остальное свое барахло, что заняло у него подозрительно много времени, а затем со вздохами, оханьем и кряхтеньем, — ну, если ты так решила… — сгреб вещички, поверх кучи которых легла палка салями. Нэнси стояла у окна и, размазывая слезы по щекам, смотрела, как он спускается по наружной лестнице, подбородком помогая себе удерживать расползающуюся груду, а следом тащится шнур от прикроватной лампы, и его вилка прыгает по ступенькам.
По-детски разобиженный, он следующим утром не позвонил, и она долго плакала, особенно уязвленная тем, что не смела никуда днем выйти: вдруг он все-таки звякнет? Вечером он тоже не проявился, чем вызвал ее гнев. Квартира стала вдруг как нежилая. Пуста, безрадостна. И так этим ее разозлила — то есть не именно пустотой, а самим фактом того, что ей приходится признать свою зависимость, — что, когда на следующее утро он снизошел до звонка, она со всей возможной холодностью проинформировала его о том, что — извини, но сегодня у нее свидание.
Нэнси намылась, накрасилась, напудрилась, надела пояс для чулок, при виде которого Джейк восторженно вопил и лупил кулаками подушку, а к нему лифчик с застежкой, что не давалась ему, хоть умри. Напялив платье, расстегнула две верхние пуговки, потом снова их покаянно застегнула, чувствуя себя преотвратно: стало страшно — сможет ли она вообще переносить близость другого мужчины? Вот еще новости! Она ведь в своем праве, разве нет? И она храбро приоткрыла шкафчик с медикаментами — просто так, на всякий случай: убедиться, что там имеется вагинальный гель. Она еще искала тюбик и колпачок, сама не веря в то, что у нее действительно хватит пороху, и по ходу дела вслух ругала Джейка, когда в дверь позвонили. Кинувшись открывать, она все-таки расстегнула верхние две, а потом и три пуговки платья. От собственной смелости зардевшись.
Высокий, загорелый и очень ею заинтересованный Дерек Бёртон, литературный агент, который уже неделю звонил ей каждое утро, был при галстуке выпускника Вестминстерской школы[215] и со сложенным зонтом в руке. Заметьте-ка, он не плюхнулся, скинув туфли, сразу на диван, а оставался стоять, пока не села она, после чего поднес к ее сигарете огонь, добытый при помощи изящной зажигалки в замшевом чехольчике, потом поднял бокал, сказал: чи-ирз!
Его не пришлось спрашивать, как она выглядит (в ответ добившись разве что невразумительного «нормально», да еще, может быть, попытки залезть рукой под юбку), — нет, этот сразу же, первым делом, заверил, что выглядит она совершенно фантастически. За дверью тут же развернул свой зонт и прикрыл им ее. Машина у него была «остин-хили» с кожаной оплеткой руля, шестью (она не считала, конечно, но казалось, не меньше) фарами и дюжиной эмблем на решетке радиатора. В пепельнице никаких яблочных огрызков. Или засохших бубликов в отделении для перчаток. Зато в нем были ароматные увлажненные салфетки для лица в специальном опять-таки замшевом футляре. Еще там в незаметном месте была разумно пристроена монетница, полная шестипенсовиков для парковочных автоматов. А еще маленький, элегантный карманный фонарик и записная книжка в кожаном переплете. Когда подъехали к ресторану, Дерек припарковал машину, втиснув ее между двумя пугающе близко поставленными автомобилями, и маневр этот исполнил блестяще — не кляня при этом на идише ни впереди стоящий экипаж, ни тот, что сзади. Потом ей пришлось подождать, пока он приладит сложный противоугонный замок на рулевую колонку. Джейк бы его возненавидел сразу, подумала она, и это заставило ее маняще улыбнуться и заметить:
— Как вы хорошо водите!
— Стараемся, — проронил он и спросил, приходилось ли ей когда-либо участвовать в ралли.
Увы, нет.
А умеет ли она читать карту?
И опять нет.
Вот это жаль, потому что он надеялся, что они смогут поучаствовать вместе.
Худо-бедно, в основном благодаря тому, что она сподвигла его на рассказ о военной службе в Нигерии, сквозь ужин они продрались, не увязая слишком часто в неловком молчании, но ей все же трудно было скрывать скуку, и уж ни за что бы она не стала приглашать его к себе напоследок выпить, если бы не заметила на противоположной стороне улицы знакомую машину с погашенными огнями.
К счастью, Дерек оказался легко управляем, к тому же, когда он, часто дыша и с раскрасневшимися щеками, все же кинулся обжиматься, сдавливая ее груди как груши клаксонов и непрестанно бормоча при этом, что она супер, офигительная девчонка и тому подобное, зазвонил телефон. Один звонок, второй, третий, пятый…
— Может быть, надо подойти? — спросил он.
— Будьте так любезны, ответьте, пожалуйста.
Поднес трубку к уху. Послушал, побледнел. Повесил.
— Пусть это вас не заботит, — сказала Нэнси. — Это местный маньяк. Он мне частенько в это время названивает.
Вот тут-то он и начал настойчиво дергать ее за платье — телефонный звонок подействовал как запал, от которого в нем возгорелось желание, но она, ссылаясь на усталость, подала ему его зонтик и спровадила вон. Как только он отъехал, она спустилась вниз, перешла, нарочито виляя задом, улицу и остановилась перед машиной Джейка, чтобы одернуть платье и поправить подвязку.
Выползая из машины, он пожимал плечами, ежился, пристыженно гримасничал.
— О-о-о! — воскликнула Нэнси. — Вот уж не думала, что это ты. Я-то ведь выскочила, чтобы по-быстрому срубить пять фунтов.
— Да ладно тебе, — бормотал он. — Ну ладно, ладно… — и потащился следом в квартиру, где первым делом принялся за изучение вмятин на диване.
— Сюда зайди, — сказала она, отворяя дверь в спальню. — Посмотреть, не смяты ли простыни, не хочешь?
— О’кей, о’кей, — замахал руками он, но в спальню все-таки заглянул.
— Ну ты и гад. Что ты ему по телефону сказал?
— Какому телефону? О чем ты? — запротестовал он, забежал в ванную и, выйдя откуда, осведомился:
— Ну что? Развлеклась?
— Ох и развлеклась! Выпить хочешь?
Но он уже сам в это время наливал себе рюмочку.
— Меня тут приглашают на уик-энд за город, — объявила она, сделав книксен. — С Бертонами. И Берками. Бертоны это которые… в общем, те самые, знаешь?
— Ну-ну, я и не подозревал, что ты решила пробиваться в высшие круги.
— Почему бы и нет? А ну-ка, Джейкоб Херш, вот дай мне хоть одну внятную причину, почему мне не следует ехать!
— Поезжай, — сказал он.
— Ах вот как! Поезжай? Да иди ты к черту! А что, если бы мы поженились, и я вдруг надоела тебе — лет, этак, через десять? Что тогда? И ты бы взял и поменял меня на молоденькую манекенщицу, как делают все твои замечательные приятели?
Его, стало быть, приятели по кинопроизводству.
— Я люблю тебя. И ты не можешь мне надоесть.
— Ты так в этом уверен?
— Ну, Нэнси, я тебя умоляю!
— Ты не можешь этого знать. Откуда? А вдруг через десять лет надоешь мне ты?
— Понял. Давай тогда прямо сейчас и разведемся.
На это она не смогла не улыбнуться.
— Только ты вот что: имей в виду, что, если заранее всего бояться, можно ведь и счастье проглядеть.
— Да. Я знаю. Ты мне позволишь тоже выпить?
Выпить он ей не дал, стал целовать ее и, на ходу расстегивая платье, повел в кровать, где она вдруг застыла и напряглась, заявив, что сегодня нельзя, она не может, потому что все ее средства куда-то загадочным образом исчезли.
— Как такое может быть? — спросил Джейк странно дрогнувшим голосом.
— Вот ты мне и объясни.
— Может быть, глянешь еще раз?
— Ах, Джейк! Милый мой Джейк. Наверное, придется мне выйти за тебя замуж.
— Когда?
— Да если хочешь, хоть завтра.
— Христос всемогущий!
6
Оскар Хоффман ознакомился с коробкой перепутанных счетов, квитанций и деклараций, которые принес ему Джейк, затем пришел тщедушный маленький человечек, этакий петушок в очках со стальными дужками, все их собрал опять вместе и с подобострастной улыбочкой вышел из кабинета Хоффмана так же скромно и незаметно, как вошел.
Вернулся в свою выгородку. Крошечную ячейку, которая пожирала его дни, причем занят он был с каждым днем все больше, а проку с этого извлекал все меньше, только злость нарастала… Сидел, прихлебывал чуть теплый чаек с молоком, заедая шоколадными пищеварительными облатками. В этой своей ячейке он с пристрастием вглядывался в явно выдуманные расходные счета кинодеятелей (продюсеров, режиссеров, сценаристов и собственно кинозвезд), — он, задрипанный и ничтожный, самый рядовой, самый мелкий и услужливый исполнитель консалтинговой фирмы «Оскар Хоффман & Ко».
С точки зрения начальства, Гарри Штейн представлял собой истинное сокровище — чуть ли не самый раболепный из бухгалтеров, да еще и виртуоз хитроумия, причем еще более избыточный в этих своих качествах, чем даже повергающая в оторопь толстуха Сестра Пински; стоит забрести в их учреждение очередному небожителю, тут же за ним устремится Штейн с альбомом для автографов и торжественно сопроводит прибывшего по коридору в святилище Отца Хоффмана, где небожителю предложат поразмыслить над преимуществами регистрации компании на острове Мэн[216] в противовес тому, чтобы отдать весь будущий доход за десять лет ее работы налоговому ведомству. При этом жалованье Гарри, не чинясь, получал акциями Треста. Иногда находил для корпорации новую поживу — где-нибудь на Багамах. Или в Люксембурге. Всегда приторно любезный, Гарри каждый раз первым кинется предложить кинозвезде журнальчик, чашечку чаю или пепельницу, если та вынуждена сидеть и ждать момента, когда ее наконец введут в исповедальню Отца Хоффмана, — сидеть конечно же в мехах (по документам проходящих реквизитом) и в обязательных черных очках, нетерпеливо ерзая и стараясь удерживать миропомазанную свою шармуту от грубого контакта с непривычно жестким стулом: на хитренького бухгалтера она и так с трудом выкроила время между любовным свиданием и визитом к остеопату.
— Ах, просто сама не знаю, что бы я без вас делала, Оскар! В деньгах — ну совершенно не разбираюсь!
А Гарри уже тут как тут, рад ввернуть:
— Пользуясь случаем, я просто должен вас поздравить: вы были так прелестны в… — и он называет картину, которую критики обругали.
— Угу, угу, спасибо, — машинально отзывается звезда, не утруждаясь даже взглянуть на это ничтожество, что-то там вякающее. Хвалы таких, как он, для нее словно птичий грай.
Особенно забавляли Гарри левые политики — несгибаемые герои, в уюте и прохладе жирующие за крепкими заборами Хэмпстеда, энтузиасты сбора подписей под протестными письмами в «Таймс» против очередной позорной выходки Дяди Сэма. Те, что демонстративно отказываются держать акции концерна «Доу-кемикл», в телеинтервью бросают вызов «истеблишменту», а личного шофера непременно поощряют к тому, чтобы тот запросто обращался к хозяину по имени. И все же… все же и им необходимо заступничество Отца Хоффмана перед Всевышним, ибо зачем платить лишние налоги или терпеть от неуемной алчности использованных жен?
— Должен сказать, — все с тем же энтузиазмом продолжает Гарри, — я с нетерпением жду, когда ваша новая картина…
— Что ж, очень приятно слышать, мистер…?
— Штейн.
— Да. А скажите, Штейн, вы бы хотели попасть на премьеру?
— О-о-о-о!
И вот уже у него в руках два билета на первое представление ее последнего шедевра, хотя и во втором ряду галерки, где сидят электрики и рабочие сцены с женами, старыми коровами в дешевых побрякушках; эти приходят раньше всех и покидают фойе последними, еще и у входа толкутся, вытягивают сморщенные шеи, охают и ахают при виде знаменитостей, когда те вылезают из огромных черных автомобилей — мужчины в строгих костюмах, а впереди них длинноногими цаплями выступают старлетки, пытающиеся друг дружку перещеголять открытостью декольте; отгороженный канатами, зачарованный и ослепленный плебс эти сучки приветствуют как бы неловким, девчоночьим помахиванием ладошки и тут же застывают — сиськи вперед, — чтобы их как следует запечатлели настырные фотографы из «Мейл» и «Экспресс». Такими зрелищами Гарри любил угощать одну из натурщиц Академии изобразительных искусств, а стоило той в столь изысканном обществе чуть разомлеть, тут же ее с небес на землю — бряк:
— Ты особо-то не восторгайся, дорогая. Они такие же поблядушки, как и ты.
В своей душной ячейке, согреваемый лишь слабеньким рефлектором да пламенеющей ненавистью, Гарри был уполномочен копаться в счетах клиента, становясь как бы свидетелем всех его кутежей за истекший год и суммируя расходы, — там что-то припишет, здесь подотрет и подделает, причем каждый ресторанный счет из «Мирабели» или «Амбассадора» сплошь и рядом оказывался больше его недельного заработка. Такой вот незаменимый работник. Любимый послушник Отца Хоффмана…
Однако с некоторых пор над когда-то благословенным шпилем бухгалтерского заведения Оскара Хоффмана собрались зловещие тучи. Снисходящий до них все чаще ангел из налогового управления изучил жертвы, приносимые ими на алтарь, и счел таковые недостаточно благовонными, поскольку новый министр оказался ревнителем и никаких налоговых убежищ пред лицом своим не терпел. И если прежде через святилище Отца Хоффмана легендарные небожители проходили радостные и осиянные благодатью (ибо его молитвы всегда бывали услышаны), то теперь некоторые из них вырывались оттуда раскрасневшиеся и даже в слезах; кое-кто повышал голос, слышались угрозы, и они ретировались явно в страхе Божием и предвидении грядущего суда.
На Отце Хоффмане лица не было. Он тряс головой, дергал себя за волосы. А дождавшись полдня, призвал любимого белого негра преломить с ним за рабочим столом хлеб с творожком и йогурт. Сидели, листали гроссбухи. Сверились и с законами, когда нужные книги им были доставлены.
— В наших рядах змеюка, Гарри. Так что ты — того… Поглядывай, ладно?
И наступили времена тревоги: Отец Хоффман стал все чаще останавливаться у автомата с газировкой, обозревать паству, всматриваясь в каждого и пересчитывая про себя дары, которыми осыпал их — займы и талоны на обед, премии и оплаченные отпуска, пенсионные отчисления и яства на ежегодной корпоративной пирушке; стоял и мучился, пытаясь разгадать, кто от него отрекся более чем трижды. Который — Искариот?
Однажды Гарри, не предупредив Хоффмана, остался в обеденный перерыв на рабочем месте, а выйдя, обнаружил начальника за странным занятием — тот шастал там и сям, склонялся над мусорными корзинами, шуровал в портфелях и рылся в ящиках столов.
— Гарри, люди приходят к нам с самым сокровенным. Нам доверяют. Но где-то среди нас засел стукач, змея подколодная, крыса, ублюдок, каких свет не видывал, и, когда я найду его, я ему кости переломаю.
Разделавшись на сегодня с работой, фотограф-любитель Гарри Штейн отправился в Сохо, где пошел по книжным лавкам, не опускаясь на сей раз до разглядывания упакованных в целлофан журналов, прицепленных к стенду бульдожьими прищепками, и на отсмотр стриптизных роликов времени не тратя, в каждом магазинчике сразу приступал к главному — кивал, ему кивали и приглашали в заднюю комнатку, где давали рыться в коробках на низеньком столике. Связанные. В необычайных позах. В резиновых одеяниях. Порка. Потом, когда до занятий оставалось еще около часа, прокинул стаканчик в «Йоркминстере», после чего, для смеху притворившись скромным дурачком, зашел в «Тратторию Терраццу» и попросил надменную девицу за стойкой оформить заказ стола на восемь персон с девяти вечера.
— Невозможно, — спесиво обронила та, на что Гарри, озадаченный донельзя, вынул листок с записью и, заикаясь, уточнил, действительно ли это «Т-т-траттория Террацца».
— Да, конечно.
— Меня прислал мистер Шон Коннери[217]. Я его шофер.
— Ах вот как… Ну, тогда…
Все еще притворяясь, будто читает по бумажке и нарочно уродуя французский, он добавил, что понадобятся четыре бутылки «Шато Марго», которые надо открыть в восемь сорок пять, чтобы подышали, и gateau — ну да, ну да, торт с тридцатью восемью свечками. Вас это не очень затруднит?
Затем Гарри спокойно огляделся в поисках будки с работающим телефоном, вытащил маленькую черненькую книжечку и нашел там ни в какие справочники не внесенный номер кинозвезды, которая заставила его нынче утром бегать под дождем…
— Это ты, душечка?
…за двумя билетами в театр, пока она, скрестив бритые ноги, ждала аудиенции у Отца Хоффмана, как ждут, чтобы предстать пред очи Его Святейшества Папы.
— Здравствуй, милашка!
— Рада вновь слышать ваш голос. — Ответ проникнут холодом, но и страхом тоже. — Только, видите ли, мой телефон теперь прослушивает полиция.
— Ну, так я сразу тогда скажу, зачем звоню. Как ты насчет того, чтобы мне прямо сейчас заскочить к тебе и как следует отлизать. То есть так, как тебе еще не лизали. До кости!
— Я специально не вешаю трубку. А вы продолжайте. Каждая ваша мерзость прослушивается.
— Ну, в смысле, если тебе уже можно. После аборта. Потому что мне совсем не улыбается выплевывать нитки от швов! — С тем он, довольно усмехаясь, и шваркнул трубку.
Время-то вышло: пора на курсы, так что Гарри, подхватив сумку с фотографическим снаряжением, устремился в учебную студию, располагавшуюся на первом этаже в здании Академии изобразительных искусств, коей он был давнишним членом-корреспондентом.
7
Сэмми.
Джейк предвкушал, как, когда врач провозгласит Нэнси несомненно беременной — причислит ее, так сказать, к лику, — она сразу станет неземной, похоть будет бежать ее, а он, внимательный, заботливый, чтобы не сказать самозабвенный…
«Не бери в голову, дорогая. Все как-нибудь само образуется… и в свой срок выскочит!»
…выкажет всю огромность своей любви, окружив жену нежностью взамен страсти, сделав ее скорее объектом обожания, нежели сосудом греха.
Черта с два!
Вместо того чтобы наполнить Нэнси святостью материнства, вспухающая ее утроба вдруг пробудила в ней распутницу. Так что подвижка пошла не в сторону Пречистой Девы, а в направлении верховной жрицы Храма Сладчайших Отверстий. Сексуальной акробаткой, вот кем она стала! И невзирая на свое положение, даже когда каменно-твердые груди начинали уже источать сладковатую субстанцию (отчего он сделался еще более пылким любовником), она, всецело предаваясь наслаждению, тянулась к нему каждую ночь. Шаловливыми пальчиками. Грудями, от прикосновения к которым все вставало. Языком, пробуждавшим его, уже полумертвого, к новой жизни. И ошалелый Джейк, возбужденный до всяческого небрежения состоянием зародыша, доводил ее до кульминации, до взаимного взмывания и парения, а о том существе, что плавает у нее внутри, они вспоминали после.
Сыну-то каково! Хорошенькая инициация, думал Джейк и, закурив, осведомлялся, как она, в порядке ли, не был ли он грубоват. Ничего себе «грубоват»: долбил бедненького своим тараном, как спятивший козлище. И тут же в воображении возникала мучительно-наглядная картина: его мальчик, его кадишл[218], рождается с дыркой в черепе, на всю жизнь изуродованный вмятиной от головки отцовского члена. Этакая укоризна пополам с уликой. В другом кошмаре он наклоняется лизнуть ее нижние губки, дразнит их, покусывает, и вдруг… здрасьте пожалуйста, оттуда нос торчит! Привет-привет! Или высовывается маленькая, несказанно нежная ручка, да как ткнет ему пальчиком в глаз. Привет-привет! Или отходят воды, и Джейк ими к чертовой матери захлебывается. А ведь ты заслужил такой конец, сатир несчастный! Или вот: дрожа и сотрясаясь в судорогах оргазма, она и впрямь выталкивает из себя младенца, выбрызгивает его через всю комнату в клочьях последа и потоках кровищи. А мне тогда как быть? — задумывался он. Ведь я даже не знаю, как перевязывают пуповину. А упаду в обморок — она останется без помощи!
Развеять эти его страхи Нэнси не спешила, зато однажды, чуть отдохнув от страстных утех, вдруг говорит:
— Дай руку!
— Что опять случилось?
— Чувствуешь, как он там возится?
— Да, — сказал он, отдернув руку как ошпаренный.
— Экий драчун, а?
Драчун? Бедный мудачонок там задыхается в моей сперме!
— Может быть, нам пока… воздержаться? Ну, в смысле, пока ты не эт-самое.
Когда Нэнси была на восьмом месяце беременности, проездом в Лондоне оказались Дженни и Дуг — по пути в Танжер на конференцию «Телевидение и развивающиеся страны».
— А ведь мы не виделись с тех самых пор, как Додик помог с постановкой вашей пьесы в Торонто, — сказал при встрече Джейк. — Жаль, что тогда все как-то не в ту степь пошло. Нет, в самом деле. По-моему, критики ругали ее напрасно.
— А меня так это даже ни капельки и не удивило. Их ведь ничто не задевает так, как правда и глубина. Однако надо отдать должное Кравицу: он изо всех сил противился коммерческому давлению, кто бы ни пытался — режиссер ли, Марлена… Он не давал им изменить ни слова!
— Уважает вашу писательскую самобытность.
Дуг с важностью кивнул. Дженни, чтобы поскорей сменить тему, спросила Джейка, помнит ли он Джейн Уотсон, актрису из Торонто.
— Ну, помню.
— У нее родился мальчик. Роды прошли нормально…
— Вот видишь, — бросил Джейк Нэнси.
— …а через три месяца у нее обнаружился во-от такой нарост в матке! Когда его удалили, это оказалась опухоль, но с зубами и маленькой бородкой.
— Очень мило. А скажи-ка мне почему, — подыскав ответную гадость, нашелся Джейк, — почему ты-то никак не забеременеешь, а, Дженни? Принимаешь таблетки?
— Не принимаю Дуга!
Н-да-а, вот где правда, вот где глубина!
В конце концов Джейк улучил момент, чтобы перекинуться парой слов с Дженни наедине. Рассказал ей, как его и тут дважды принимали за Джо. Сперва сразу по прибытии в Лондон, а второй раз, когда ему по ошибке переслали заказное письмо из Канада-хауза.
— Интересно, где он сейчас.
— Может, в Израиле. Или в Германии.
— Почему в Германии?
— Ханне оттуда время от времени приходят открытки.
Ханна, кстати, все еще так и не сподобилась воспользоваться приглашением Люка посетить Лондон.
— Так у вас, поди, и адрес его имеется?
— Адрес! Джо никогда не сообщает адреса. Но в сорок восьмом он был в Израиле. Во время этой их так называемой Войны за независимость. Ханне до сих пор оттуда приходят письма — от женщины, которая утверждает, будто она его жена.
— Что пишет?
— Да денег просит, как водится. Жалуется, что Джо ее бросил.
Следующим утром Джейк развернул «Таймс», вчитался…
СКАЛЬПЕЛЬ В УСТАЛЫХ РУКАХ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ
Хирургам приходится дежурить по двое суток
Из-за нехватки персонала хирурги в некоторых больницах выполняют срочные операции — в том числе в области нейрохирургии, — после того как отдежурили по двое суток, в течение которых им не удается выкроить для сна более двух-трех часов, да и то урывками.
Ах, Нэнси! Нэнси, любимая!
Воды у Нэнси отошли в три часа ночи со среды на четверг, роды прошли неосложненно. Вмятины в черепе у Сэмми не оказалось, зато все, что положено, имелось и, по беглому подсчету, как будто бы в надлежащем количестве. На ручку ему на всякий случай надели браслет с именем, но Джейк все равно старался запечатлеть в памяти характерные приметы младенца. Как иначе, это же его кадиш!
Люка (черт с ним, ладно уж) позвали стать крестным отцом.
— Все ж таки, если бы ты тогда не ухватился за возможность повесить на меня оплату вашего обеда в «Ше-Люба», мы бы вообще с Нэнси не соединились!
— Ну а сейчас она — как тебе? — спросил Люк.
— Да так… ничего особенного. А тебе?
Выйдя замуж и отбросив сомнения, Нэнси погрузилась в такое блаженство, такую радость доставляли ей Джейк, ребенок, хлопоты по дому, что она вообще не могла понять, зачем колебалась. Вместе с тем вскоре поняла, что ее муж не такой уже и подарок. Во всяком случае, не такая цельная личность, как она надеялась. Напротив, Джейк был соткан из противоречий. На первый взгляд исполненный самоуверенных амбиций, в дурные дни он поддавался расслабляющим сомнениям вплоть до полного самоуничижения — в том смысле, главным образом, что видел себя самозванцем, а свою работу (и впрямь подчас для посторонних непонятную) сродни мошенничеству. Иногда она переставала понимать — раз так, зачем он вообще избрал карьеру режиссера, и в моменты мучительных прозрений начинала побаиваться, что, если он не вознесется так высоко как надеялся, он ведь, чего доброго, еще может и вниз пойти, погрязнуть в горечи.
Тихонько покачивая Сэмми у груди на кухне в три часа ночи, она искала способ заставить Джейка понять, что ему вовсе не обязательно ради нее становиться знаменитым. Или, допустим, ради Сэмми. Но Джейк был весь так устремлен, что обсуждать подобные вещи, не раня его, не было никакой возможности, и она предпочитала помалкивать.
Если в редких случаях он получал от своего труда кое-какое удовлетворение, оно по большей части омрачалось презрением к коллегам, слишком многие из которых, как он чувствовал, дай им сценарий, только и смогут, что интуитивно понять, будет пьеса иметь успех или нет. Он часто жаловался ей, что почти все на телевидении неглубоки и легковесны, да к тому же начинены штампами. Актеров тоже настолько не жаловал, что, увидев его однажды за работой на съемочной площадке, она не могла взять в толк, как они его вообще выносят. Потому что, в отличие от многих других, он не льстил им и не умасливал тех, кто нужен, чтобы этим пробудить в них желание блеснуть. Наоборот, насмехался, передразнивал, унижал их ехидными замечаниями. За поверхностность драл три шкуры. Он сам не мог понять, как его терпят.
— Когда я ставил свою первую пьесу в Торонто, — однажды признался он ей, — и раз за разом, снова и снова объяснял автору, что и как должно быть переписано (хотя тот раздолбай все равно ничего толком поправить был неспособен), а актеров гонял до седьмого пота, заставляя их повторять эпизод раз по двести, я — представляешь? — в туалет специально бегал (и не раз!), чтобы отсмеяться. Спросишь, чему смеялся? Да только тому, что меня слушают, не мог в это поверить.
Мужчин-актеров он редко приглашал в рестораны, женщинам, игравшим главных героинь, цветов не дарил. Если с кем и водил компанию во время съемок, с кем дурачился и играл в покер, так это с операторами, помрежами, рабочими сцены да, может быть, еще иногда с занятыми в эпизодах актерами очень третьего разряда, которых заведомо можно не опасаться. Этих его приближенных шутливо называли генералами свиты Джейкоба Херша. Это были в большинстве своем выпивохи из бывших, а то и никогда не бывших — какие-то то ли странствующие цирковые борцы, то ли, наоборот, списанные по возрасту эстрадные акробаты, жалкие старые трансвеститы, речевики разорившейся еврейской труппы, скирявшиеся профессиональные боксеры, среди которых и наркоманы попадались, — и каждый из них рассчитывал на Джейка не только в смысле подработки и разовых подачек, но мог и среди ночи вызвать, — если, например, в пьяном угаре почувствует позыв к самоубийству или в результате запоя очнется в реанимации.
По мысли Нэнси, все это, сколь бы ни было трогательно, было бы относительно приемлемо, будь Джейк наделен действительно бесспорным дарованием, однако его случай, как она с грустью отмечала, был не таков, и она очень за него беспокоилась. Тревожилась и переживала, предчувствуя недоброе. У нее сжималось сердце, когда она видела, с какою страстью он, очертя голову, кидается в каждую новую постановку, даже если очередная пьеса грозила обернуться однодневкой, — часто не спал ночами, обдумывая ходы и решения, а после премьеры, опустошенный и деланно равнодушный, ждал приглашения снять фильм, но телефон все не звонил и не звонил. Потом осаждал офис своего агента, ругался с ним и спорил, пытаясь доискаться, как тот ухитряется поставлять контракты на постановку фильмов режиссерам куда меньшего калибра.
Вдобавок к этим проблемам Джейк испортил отношения со всеми авторами, с которыми его сводило телевидение. А те, с кем он хотел бы поработать, либо не жаждали подписывать контракт, либо, лично к нему настроенные благожелательно, все же побаивались доверять сценарий режиссеру, у которого в послужном списке нет ни единого фильма.
И чем меньше удовлетворения приносила ему работа, в которой он достиг уровня, предельного для телетеатра (как будто выскочил на поверхность и запрыгал на волнах, начиная в чем-то повторяться), тем чаще в его разговорах мелькал братец Джо: где он и что на самом деле собой представляет; словно он ждал, что Джо даст ему какой-то рецепт, ответ на все вопросы.
Однажды раздался телефонный звонок.
— Можно к телефону Джозефа Херша? — спросил мужской голос.
— Он здесь не живет. Это дом Джейкоба Херша. А зачем он вам нужен?
— Вы не знаете, где мне его сегодня отыскать? Это очень важно.
— Нет, но…
— А вы, значит, его родственник?
— Да.
— Передайте ему, что звонил Хэннон. Я все знаю. Если он подойдет ближе чем на милю, я его убью.
— А в чем дело?
— Вы просто передайте мои слова. Он поймет.
В другой раз к их месячному счету из «Харродса» оказался пришпилен чек. Некто, покупавший бренди и сигары — фунтов где-то на тридцать пять, — подписался как «Дж. Херш».
— Ну зачем же он так со мной-то! — обиделся Джейк. — Если нужны деньги, почему не прийти, не сказать? Да и попросту почему не зайдет? Не понимаю.
Он поведал Нэнси о том, как Ханна когда-то размещала в луисвильском «Курьере», в разделе «личное», объявления для Джо, чтобы их там печатали всю неделю, пока не кончатся скачки «Кентукки дерби». А что, усмехнулся он, может, нам объявление в «Таймс» дать? То был как раз канун «Гранд нэшенл» — почти точного британского аналога скачек в Кентукки. А потом в Аскоте «Ройал Рейскорс» начнутся. Рассказал и о том, как, когда они снимали квартиру на пару с Люком, иногда он вдруг кидался домой в полной уверенности, что Всадник там, сидит и ждет под дверью. Да и когда уже один жил, вел с ним, бывало, вечерами воображаемые беседы, оправдывался — при чем тут я, мол, это старшее поколение родственников вас предали — это они повинны в том, что Барух сгинул в нищете. Давай я чем-нибудь попробую это загладить!
— Представляешь, у него были права пилота гражданской авиации! И в бейсбол он играл как профи. Когда-то даже в кино снимался! Буквально — вот, как сейчас мы с тобой, бок о бок с Рэндольфом Скоттом!
Хотя нельзя сказать, чтобы Джейку вовсе никто и ничего по поводу кино не предлагал. Вновь и вновь ему посылали сценарии, просили подумать, и вечно скорей-скорей, сроки давят. Однако то материал оказывался жалок, то сделка, по поводу которой он радовался в понедельник, в среду срывалась. Когда второй фильм по сценарию Люка завоевал приз в Каннах, они втроем отметили это обедом в «Ше-Люба», но проку из этого не вышло. Люк попросил Джейка прочитать его последний опус, оригинальный киносценарий.
— Я с удовольствием прочту и выскажу свое мнение, — сказал на это Джейк, — но если тебе нужен режиссер, почему не попробовать Тима Нэша? Он и фильмы нынче вовсю снимает, сам знаешь.
По необходимости Джейк встречался теперь главным образом с продюсерами-маргиналами, порожними мечтателями, чьи фантазии он, так уж и быть, выслушивал после ланча.
По окончании одного из таких собеседований пришел домой и узнал, что Нэнси опять беременна. Этого следовало ожидать, потому что как раз месяцем раньше она вдруг после обеда заснула с книжкой в руке, а ночью в постели была на редкость похотлива.
Молли, родившаяся в мае, появилась на свет легко. А всего через месяц после того, как Нэнси снова оказалась дома, на них свалился Герки с Рифкой в полном восторге от путешествия, в ходе которого они побывали в Копенгагене, Париже, Риме и Венеции. Впервые увидели Европу.
— И как вам Венеция? — спросил Джейк.
— Н-ну! Это нечто!
— А на что похож Копенгаген?
— Очень, очень чистенький город.
— А Париж?
— Да-a, туда стоило съездить!
Герки и Рифка приехали к ним не без подарка новорожденному Хершу, но у Нэнси, развернувшей пакет, оказавшееся в нем переплетение проволочек и металлических пластинок вызвало недоумение.
— Вот видишь, Рифка, я же говорил! Такого они тут даже и не видали еще. Это прибор, помогающий отучить от писанья в кровать. Система быстрого реагирования.
— О! Как раз то, что нам нужно, — сказал Джейк.
— Кладешь мелкому в колыбельку, — объяснял Герки, — втыкаешь в сеть, и как только он начинает писать, его тут же — бац! — дергает током. Надежнейшая штука! У нас они расходятся просто влет.
Поспешно вытолкав их из спальни, Джейк пригласил сестру с зятем в еврейский ресторан в Сохо. После двух стопочек виски Герки стал изливать восторги по поводу евротура.
Доброму кузнецу и козий хвост наковальня. Впервые приехавшие из Америки неофиты-художники спешат в галерею Тейт, Жё де Пом, Уффици, Прадо. Начинающие писатели выискивают обиталища Доктора Джонсона, посещают Оксфорд, Кембридж, бродят маршрутами Джейн Остен по Бату, а в Париже надеются хоть краем глаза увидеть Сартра в «Дё маго» или поесть там же, где обедал Джеймс Джойс, не забывая, конечно, и бара «Риц», где пили Хемингуэй и Фицджеральд. Несчетное число раз Джейк устраивал себе паломничество к могиле Маркса и к дому, где жил Зигмунд Фрейд, нашел в Блумсбери «Кафе ройяль» и книжный магазин в Хэмпстеде, где когда-то работал Оруэлл, сделал своими многие другие священные места. Но Герки Солоуэй — особый случай. В Лондоне он первым делом устремился засвидетельствовать почтение храму несравненного Томаса Краппера[219], вместилищу нетленных унитазов, месту, где впервые успешно заработал Великий Слив и была, можно сказать, изобретена Ниагара. Потом Герки, только при виде родных прибамбасов и оживавший, рассказал Джейку о сверкающих и лучезарных туалетах Копенгагена, где каждый унитаз хочется обнять и расцеловать, а также о том, что в Риме он купил биде — просто так, выставить у себя в витрине. А в Париже, сойдя в его знаменитое Чрево, путешествовал там, блуждая фактически прямо по кишкам огромного города; тогда как на Монмартре в какой-то занюханной кафешке ему пришлось сидеть орлом на совершенно идиотском сооружении — сиденья нет, горшка тоже, и лишь одни приступочки для ног да переключатель света, который врубается и вырубается, когда запираешь и отпираешь дверь кабинки. Ну какие скряги, а? Зато уж сифилис там точно не подцепишь! И бульвар Сен-Жермен, и площадь Этуаль он тщательно обследовал на предмет знаменитых писсуаров, и таки да! — ты не поверишь, но там они и есть, прямо на улице, дьявольски вонючие, словно сошли со страниц Генри Миллера — кстати, забористо пишет, рекомендую: представляешь, эти извращенцы оставляли там с утра хлеб, чтобы съесть вечером, когда он будет весь обоссан. Эта Европа — ой-вэй из мир! И вместе с тем — се ля ви, нэ с па? А в Версале (ты, полагаю, слышал про него) — представляешь, они там клали кучи прямо по углам и подтирались гобеленами — прости, Рифка, я знаю, что ты еще не кончила десерт, но я же должен ему рассказать! Аристократы называются!
Как только Рифку высадили у отеля «Дорчестер», Герки, потирая руки, проводил ее глазами, потом хлопнул Джейка по спине (а вот теперь повеселимся, Янкель!), и Джейк повез его наслаждаться прелестями ночного Лондона — развратного, свингующего Лондона. Начали с тех самых, столь дорогих его сердцу, домиков поблизости от Угла Гайд-парка.
— Только ты вот что, Герки. Я лучше сразу тебе скажу, пока из машины не вышли: у них там писсуары с перегородками, и это не просто так. Не затевай там разговоров и нос всюду не суй. Запросто можешь нарваться на провокатора.
— Что ты имеешь в виду?
— Есть такие агенты полиции, которые ищут приставучих педиков, если ты так уж настаиваешь на объяснении.
— Да ты что! Слушай, у меня же полные карманы кредитных карт! Кроме того, имеется персональное рекомендательное письмо от моего банковского менеджера!
— Ну, ради меня, Герки. Давай — туда и обратно.
Они было решили включить в обзор также и сортиры на Пикадилли, да еще и в самый их звездный час, то есть сразу после полуночи, когда все хулиганы и отморозки, все продавцы и покупатели наркотиков собираются вместе, превращая заведение в сплошной наркоманский базар. Но едва Герки успел ломануться в дверь, как обнаружил простертого на полу молодого человека, который только что вставил в вену баян. Герки потом все присвистывал и повторял:
— Слава Богу, что у нас в Канаде нет государственного бесплатного здравоохранения!
В конце концов, они вернулись в номер люкс супругов Солоуэй, где Герки в пароксизме щедрости выразил свою благодарность тем, что налил им обоим по большой рюмке бренди.
— Не знаю, как тебе, Янкель, а мне понравилось. Здорово вот так вот иногда пойти против течения. Мы ведь не то, что все обычные туристы, правда? Не многие видели тот Лондон, что видел я!
Джейк согласился, и, заранее сговорившись, на следующее утро они с Герки поехали в «Реймондс ревю-бар»[220], после по магазинам за подарками, покуда Рифка будет на дневном сеансе наслаждаться фильмом «Звуки музыки»[221].
Увешанный фотоаппаратурой (вплоть до кинокамеры), Герки радостно прошагал по залам сперва «Хэмлиз», потом «Либертиз»[222], потом заставил Джейка снять фильм о том, как он кормит голубей на Трафальгарской площади и как он, ухмыляясь, посылает воздушные поцелуи со ступенек Канада-хауза, после чего они проследовали в «Харродс», где Герки сразу потребовал отвести его в туалет.
Дождался «Харродс»: наконец-то его сортиры оценили!
Выяснилось, что за весь их грандиозный евротур Герки не увидел ничего, что могло бы сравниться с мужским туалетом, примыкающим к мужскому же парикмахерскому салону на первом этаже «Харродса». Выйдя с выпученными глазами, он воскликнул:
— Вот это качество, Янкель! Вот это класс!
Полы мраморные, раковины тоже, дверь в каждую кабинку из дуба.
— Это просто нечто! Да нет, ну действительно нечто! Черт бы меня взял, там с полу вы таки можете кушать!
Невзирая на протесты Джейка, он принялся фотографировать. Восторженно. Бесконечно. Все оборудование. Во всех деталях. Какой-то джентльмен вышел из кабинки и остолбенело на Герки уставился.
— Гос-споди, ты боже ты мой!
Тут же кто-то потребовал у Герки кассету с пленкой. Послышались неласковые возгласы. Подоспел еще какой-то господин, потрясая тростью.
— Что за скоты! Грязные извращенцы!
В туалет устремились парикмахеры. Кто-то выхватил у Герки камеру.
— Ничего, она застрахована, — успокоил тот Джейка как раз за мгновение до того, как его самого шарахнули спиной об стенку, и он, потея и заикаясь, в отчаянии принялся раздавать визитки. Явился магазинный детектив, принял командование на себя. Все это кончилось тем, что их под конвоем доставили в офис на четвертом этаже, где Джейк, кусая губы, чтобы не расхохотаться, все же сумел наконец что-то объяснить.
8
С утра Гарри отправили в «Дорчестер» — посмотреть, что там за новые расходные счета надыбал очередной киноартист. Оказалось, тот собирал их на развалинах своего последнего рухнувшего романа. Всемирно известный и охреневший от бесстыжих гонораров актер занимал многокомнатный люкс, где его в данный момент обхаживали сучьего вида личный секретарь (наверняка какой-нибудь гомик-архитектор), следивший за тем, чтобы в бокалах не иссякало охлажденное «Шевалье Монраше»[223], и мастер педикюра, который стоял на коленях перед подушечкой, на которой покоились большие босые ноги. Под рукой у педикюрных дел мастера стоял кожаный кофр с частично выдвинутыми ящичками, полными всевозможных ножниц и пилочек, рядом на ковре лежал его черный котелок; он быстро-быстро массировал звездные ступни, изредка прерываясь, чтобы почтительно отстричь кусочек ногтя или приласкать большой палец, и обязательно повторял те движения, с помощью которых ему удавалось исторгнуть из великого непроизвольный стон наслаждения.
— Я так беспокоюсь, сэр! — проговорил педикюрщик. — Как же вы там в Голливуде-то будете?..
— М-м-м-м-м-м… — (Не открывая глаз, видимо, в экстазе.)
— Кто ж там за вашими ногами-то присмотрит?
Гарри, выпивший слишком много вина в неурочный час, уйти ухитрился вместе с педикюрщиком и пригласил его в паб.
— Вы со многими кинозвездами имели дело?
— О, да! Конечно, а как же! Они меня все, все требуют!
— И женщины тоже?
— Вы удивились бы. Чего только не насмотришься! — и педикюрщик прыснул. — Что ж… Без стука не входить, этому я научился.
— Да и войдя, глаза не подымать, верно?
— Но, вообще-то, знаете, они все очень славные ребята. Все без исключения.
— И чем выше его статус, — продолжил за него Гарри, заказав, несмотря на протесты педикюрщика, еще по одной, — тем он приятнее в общении, не так ли?
— Совершенно верно!
Тут Гарри поманил дебелого краснолицего мужика к себе поближе. И, понизив голос, спросил:
— А как насчет кашицы между пальцами?
— О чем вы?
— Думаешь, и она у них пахнет приятнее, чем у тебя? Или у меня.
Педикюрщик расхохотался:
— Во сказанул! Ну, дает! Ну, ты шутник! — Но глаза у него при этом забегали.
— А ты собирай ее. Ее же можно продать, не думал об этом? Вот, скажем, сведет тебя судьба с Элизабет Тейлор, так одна грязь из-под ее ногтей принесет тебе кучу денег.
— Ну-ну, нехорошо так. Не надо говорить гадости, не стоит, сэр.
— Да потом еще сами ногти. О ногтях подумал бы! Их можно хранить как память. Джон Кристи, между прочим, дергал у своих жертв лобковые волоски и хранил потом в жестянке из-под нюхательного табака.
— Все, довольно. Вполне достаточно.
— А то еще их пердеж. Тебе и это в голову не приходило? — Гарри не унимался, теснил педикюрщика, загонял в угол. — Их гребаный пердеж — ведь он же втуне пропадает! Если бы ты брал с собой на работу герметичный мешок и быстренько бы им — раз-раз! — ты бы так чертову кучу денег заработал! Вот Мерилин Монро, к примеру, взять: ведь ее нету больше, сдохла. А был бы у тебя ее пердеж в непроницаемом для воздуха контейнере…
— Я не хочу вас больше слушать! И не слушаю.
— Ты угодливая пакостная мразь! — выпалил Гарри и сшиб с него котелок. — Ты меня слышишь? Угодливая мразь!
9
Лето…
Слоняясь под вечер по Сохо, Джейк зарулил в «Нош бар»[224], решил подкрепиться сэндвичем с копченой говяжьей грудинкой. Разок с аппетитом куснул, но едва успел заглянуть в биржевой раздел «Ивнинг стэндард» (акции «Эс&Пи-кэпитал» без изменений, а вот у «Пан австралиэн» что-то опять период спада), как внимание само собой переключилось на пузатого американца в кримпленовом костюме. Жена американца в мини-юбке (все-таки зря она в нее втиснулась!) прижимала к груди путеводитель «Лондон от А до Z». Американец раскрыл толстый, полный банковских карт бумажник, в котором промелькнуло, в частности, удостоверение международной медицинской страховки с группой крови владельца; достал бумажку в один фунт и шлепнул ею о ладонь официанта.
Официант смерил его недобрым взглядом.
— Если не ошибаюсь, — подмигнув, проговорил он, — сдачи мне причитается двадцать четыре шиллинга?
Скажите вашему боссу, — нимало не смущаясь, продолжил американец, — что я такой же, как и он, галицианер.
— Морти, Морти, ну перестань! — со смешком одернула его жена.
И сочная грудинка во рту у Джейка сразу же стала кожаной подметкой. Сердце екнуло, и до Джейка дошло окончательно: пришел! опять тут как тут! — проклятый туристский сезон.
Каждое лето у деятелей американского и канадского шоу-бизнеса, обосновавшихся в Лондоне, на обычные жизненные тяготы накладывается куча дополнительных. Обычные это путаница с налогами, интриги, некомпетентность местных кадров, нахальство нянек и домработниц, мотовство жен с их неуемным шопингом (из «Харродса» прямиком в «Фортнум», оттуда в «Эсприз»), проблемы с выбором подходящей школы для ребенка. Кроме того, попробуй-ка смирись с отсутствием настоящей пастрами и маринованных помидорчиков в условиях смога и незатихающей битвы с художником и костюмершами, а главное, изматывающего холода. И к этому вдобавок с приходом лета авиалайнеры и пароходы начинают извергать на Лондон орды туристов — твоих же собственных настырных родственников и друзей, давно забытых одноклассников и армейских сослуживцев (век бы не вспоминать их), которые теперь превращают телефон, столь милый и безобидный в течение всей зимы, в орудие пытки. Потому что нет такого иностранца, который, позвонив, не расстилался бы, ожидая содействия в приобретении театральных билетов и соучастия в походе по ночному Лондону: «Ты знаешь, шут бы с ним со всем прочим, но больно уж по лондонским пабам пройтись хочется! По пабам и по бабам, которые там свингуют, а? Что скажешь, дружище?» Да и домой чтобы их пригласили, это они тоже не прочь: «Янкель! Да неужто ты не сказал еще своей прынцессе, что приехал дядя Лабиш? Она у тебя пироги-то хоть печь умеет?»
Такого рода диалоги с туристами, да плюс необходимость выслушивать их впечатления и жалобы… — что поделаешь, этот кошмар приходится выдерживать год за годом. Ты соглашаешься (опять, в который раз уже!), подают элегантное такси, и вот оно уже мчит вас мимо вежливых бобби — впрочем, со скоростью гораздо меньшей, чем если бы дело было в Нью-Йорке или, как в случае с Джейком, в том же Монреале. «Смотри-ка ты: я вижу, здесь еще не утратили способность наслаждаться жизнью!»
Н-да. С другой стороны, нельзя не признать, что мужики в котелках смотрятся смешновато, сервис в отелях ужасен, быстро отпарить костюм просто негде, чванливый британский выговор режет ухо, а уж как эти бритты ненавидят всех американцев! Завидуют.
«Да ведь и то сказать: ясно, что тут мы не дома!»
Да, тысячу раз да. И тем не менее никто не жалеет, что пустился в это путешествие. Весьма, конечно, не дешевое, зато как расширяет кругозор! — мир становится день ото дня все меньше, одна глобальная деревня… Но в следующий раз все-таки лучше не пытаться втиснуть столько стран в три недели. «Но уж „Америкэн экспресс“ везде на высоте! Тут ничего не скажешь».
К тому же лето чревато угрозой со стороны всякого рода шнореров[225] и бывших местных, уехавших, но не успевших толком закрепиться в Новом Свете. А потому до чего же славно, до чего упоительно топ-менеджерам из экспатриатов (особенно коллегам по шоу-бизнесу: не все же вовремя успели смыться в Жуан-ле-Пен или Дубровник) бывает собраться вместе в воскресенье с утреца на партию в софтбол, подобно тому как когда-то на Малабаре потомственные раджи — тоже ведь довольно узкий кружок — ходили, бывало, друг к другу в гости, чтобы под сенью тропической листвы сыграть в крикет.
Воскресный утренний софтбол в лесопарке Хэмпстед-хит — мероприятие неоспоримо приятное. Мало того, это своего рода ритуал.
Мэнни Гордон прикатил аж из самого Ричмонда — выехал в девять ноль-ноль, кинув в багажник ловушку для мяча и термос, заправленный мартини; на лысую макушку нахлобучил твидовую кепку, а к сиденью рядом с собой пристегнул старлетку, с которой провел прошлую ночь. Си Бернард Фарбер, живший в Хэм-Коммоне, заехал по пути за Элом Левином, Бобом Коэном, Джимми Грифом и Меиром Гроссом, которые поджидали у дверей студии Мери Квант на Кингз-роуд. А Mo Ганновер — тот с раннего утра переполошил весь штат отеля «Коннот»: не столько тем, что загремел с лестницы, сколько экипировкой: он был в фуражке, джинсах и футболке; в одной руке софтбол, в другой мемориальная, личная бита Бейба Рута[226].
Однажды на эту их воскресную сходку специально из Рима прилетел Зигги Альтер; хотите верьте, хотите нет, примчался ради одной только зарядки, которую способны дать эти девять иннингов!
Из Марлоу-он-Темз на своем двухместном спортивном «мазерати» прикатил Фрэнки Демейн. Лу Каплан, Морти Кальман и Сай Леви, как всегда, явились с женами и детьми. Монти Тальман, который, заведя двадцатилетнюю подружку, стал бдительно следить за здоровьем, повадился приезжать из Сент-Джонс-Вуда на велосипеде. В свекольного цвета спортивном костюме заметный издали, он частенько успевал сделать еще восемь-девять кругов по стадиону, прежде чем компания окончательно соберется.
Джейк чаще всего в лесопарк добирался пешком (благо он рядом — всего в шести милях от Трафальгарской площади), неся в хозяйственной сумке под свежим номером «Обсервера» бейсбольную ловушку и три бейгеля с копченой лососиной — чтоб было чем себя побаловать в перерывах. Некоторые из таких воскресных вылазок, как и сегодняшнюю — кто знает, быть может, на какое-то время и последнюю, — они с Нэнси предпринимали вместе, взяв с собой и детей: пусть тоже приобщаются — пока хоть посмотрят.
Вспомнилась воскресная игра 28 июня 1963 года. На момент ее начала расстановка сил была такая:
КОМАНДА ЭЛА ЛЕВИНА
Мэнни Гордон………шорт-стоп
Си Бернард Фарбер………2 база
Джимми Гриф………3 база
Эл Левин………центр. аутфилдер
Монти Тальман………1 база
Зигги Альтер………лев. аутфилдер
Джек Монро………прав, аутфилдер
Шон Филдинг………кетчер
Алфи Робертс………питчер
КОМПАНИЯ ЛУ КАПЛАНА
Боб Коэн………3 база
Меир Гросс………шорт-стоп
Фрэнки Демейн………лев. аутфилдер
Морти Кальман………прав. аутфилдер
Сай Леви………2 база
Mo Гановер………кетчер
Джонни Роупер………центр. аутфилдер
Джейсон Сторм………1 база
Лу Каплан………питчер
Джейка в числе пяти-шести прибывших либо с опозданием и с тяжкой похмелюги, либо заведомых чайников, посадили на скамью запасных. Определили ютилити-филдером, то есть на поле будут вызывать по мере надобности. Он сел с «Компанией Каплана». Стояло прекрасное, почти безоблачное утро, однако, оглядевшись, Джейк пришел к выводу, что вокруг слишком много жен, детей и прочих всяких кибицеров[227]. Но еще хуже, что рядом явно назревало возникновение сообщества, которое Зигги Альтер называл «клубом первых жен киношника» или «галеркой алиментщиц», — сборище этих дам, покуда вроде бы мирное, но явно чреватое чем-то неприятным, расположилось на траве позади «дома».
Сперва команда Эла Левина, потом компания Лу Каплана (обе состоящие в основном из мужиков под пятьдесят), изо всех сил втягивая екающие животики и тревожась за межпозвонковые диски (не говоря уже о потаенных страданиях от геморроя), высыпали на поле, чтобы размяться, попрактиковавшись в бросках и приеме мяча.
После чего на поле вышел Нат Шугарман, когда-то классный шорт-стоп, из-за коронаротромбоза переключившийся на амплуа судьи, и тоже, в общем, неплохого, кинул в рот таблетку и приказал: «Плэй бол!»
— Давай, пошел, бойчик!
— Победа или смерть! — проорал Монти Тальман, кинопродюсер.
— Тебе-то уже точно в гроб пора, — со скамьи напротив донесся язвительный выкрик Боба Коэна, которому как раз давеча пришлось, морщась, отсматривать никчемные кадры последнего фиаско Тальмана.
Мэнни Гордон, по-кошачьи собравшись, заслонял собой площадку базы, изо всех сил пытаясь выглядеть угрожающе, но внутри у него царил раздрай куда больший, чем обычно. Если сейчас он вылетит в аут, команда не слишком расстроится, потому что еще только самое начало игры, зато Лу Каплан, который встал на питчерскую горку в первый раз с тех пор, как ездил в Мексику разводиться, будет ему благодарен, а задобрить Лу было бы не так уж глупо: говорят у него вот-вот наклюнется контракт с «Двадцатый век-Фоксом» на целых три картины, тогда как Мэнни не давали ставить крупнобюджетный фильм с тех самых пор, как закончились съемки «Погони».
«Бол первый; с инсайда!»
А если у меня, раздумывал Мэнни, получится прорыв хоть на одну базу, то я потом вынужден буду весь день провести в обществе мерзкого лидера Джейсона Сторма (1-я база), приехавшего в Лондон снимать пилотный телефильм для проекта Зигги Альтера.
«Страйк первый, засчитано!»
Хоумрана я, конечно, никогда не сделаю, это исключено, но если произойдет чудо и я засандалю трайпл, что тогда? На третьей базе застряну с Бобом Коэном, еще одним кандидатом на вылет и прирожденным неудачником; уж с кем, с кем, а с ним Мэнни вовсе не хотелось светиться на людях, даже если и всего на один иннинг, особенно здесь, где кругом сплошные агенты и продюсеры.
Т-Т-ТРАХ! Черт побери, это же хит, может выйти прорыв! Да еще и двойной, о боже!
Игроки на скамье Эла Левина вскочили все как один и ободряюще завопили:
— Давай, парень, давай!
— Тряхни стариной, Мэнни! Быстрее! Двигай!
…И Мэнни, в чьем сознании запечатлелся только сердитый взгляд Лу Каплана (Прости, Лу, это не моя вина!), шустро пронесся мимо первой базы, с близоруким прищуром нацелившись на вторую и одновременно торопливо соображая, не следует ли походя выдать что-нибудь уничижительное по адресу Сая Леви (2-я база), который много лет назад, похоже, был виновником того, что Мэнни попал в черные списки.
Следующий по порядку у нас кто? — ага, Си Берни Фарбер, которого Лу Каплан когда-то забил в контракт с «Двадцатым веком» в качестве сценариста своей первой картины. Этот выполнил положенные телодвижения вполне прилично и даже не без изящества, передав мяч Джимми Грифу. Джимми засандалил куда-то ввысь и за фаул-линию, и за мячом пришлось бежать Mo Гановеру (кетчер), которого мучило сознание вины, потому что в следующую субботу Джимми улетает в Рим, а на воскресенье Mo уже договорился с его женой насчет того, чтоб вместе пообедать. Мяч Mo отловил, и это дало возможность Элу Левину осуществить хоумран, пропустив вперед себя еще и Мэнни Гордона. Монти Тальман пустил роллинг (мяч, прыгающий по земле) в сторону Гросса (шорт-стоп), спровоцировав тем самым третий аут, и нападающая команда перешла в оборону.
Команда Эла Левина, первый иннинг: хитов два, ошибок ноль, пробежек две.
Для зачина иннинга игрок компании Каплана Боб Коэн резким блистером на центр обеспечил возможность взять одну базу, зато Меир Гросс тут же промазал, тем самым уступив инициативу Фрэнки Демейну. (Аутфилдеры отходят подальше, подальше, подальше.) Третий мяч Фрэнки пустил высокой крутой дугой, то есть практически зафитилил свечу (мастера говорят «флайбол»), и мяч легко можно было бы взять, если бы Эл Левин в нужный момент оказался сзади слева, а не впереди справа, где ему было удобнее, умильно облизываясь, перемигиваться со старлеткой Мэнни Гордона, расположившейся поблизости на травке в платье от Эмилио Пуччи[228] — геометрически пестром и по самое некуда коротком. Из игроков обеих команд Эл Левин был единственным, кто на поле всегда выходил в шортах. Шорты обнажали эластичную повязку, начинавшуюся выше левого колена и доходившую почти до щиколотки.
— Ах ты какой бедненький! — проворковала старлетка, округлив при виде его повязки глаза.
Левин, втянув живот, небрежно откликнулся:
— В Испании заработал! — словно это редкостная награда, медаль, которую он бросил девушке посмотреть.
— Вот про пляж в Торремолиносе[229] мне не надо рассказывать. Ф-фу!
— Да нет, ну при чем тут… — нахмурился Левин. — Это меня шрапнелью, на гражданской войне, Бог ты мой! При обороне Мадрида.
В результате Демейнова свеча обернулась хоумраном, который, пыхтя, на последнем издыхании исполнил потный Боб Коэн.
Компания Лу Каплана, первый иннинг: хит один, ошибка одна, пробежек две.
За время следующих двух иннингов ни одной из противоборствующих сторон счет увеличить не удавалось, что заслуживает упоминания только в связи с тем, что Mo Гановер спекся, и мяч у него стал проскакивать между рук. Во втором иннинге Mo проворонил совсем уж легкую свечку, позволив Си Берни Фарберу, который и на ногах-то еле держался после курса очистительных процедур в «Форест миер гидро», где мучили неделю, а есть почти не давали, тем не менее украсть у него базу. А все из-за Шона Филдинга, юного выпускника Королевской академии драматического искусства, с которым в «Коламбии» заключили контракт, соблазнившись тем, что в профиль он похож на Питера О’Тула[230]. Не успела игра толком начаться, как вдруг жена Mo Гановера Лилиан, будто бы невзначай оказавшись у скамьи Эла Левина, явно напрашиваясь, пристроилась на травке рядом с этим самым Филдингом, и они тут же образовали парочку: стали шептаться, она пихала его локотком и хихикала; у Mo от этого, естественно, поехала крыша. Впрочем, недаром же когда-то Mo губил дни юности своей в ешиве. Теперь это ему давало возможность ловко тырить ветхозаветные сюжеты, густо замешивая на них сценарии так здорово пошедших у него ковбойских сериалов «Под седлом» и «Золотое дно», но не только: даже и сегодня, когда у Лилиан явно опять засвербило, потом и кровью добытое еврейское образование, на ценности которого… нет, на бесценности которого всегда так настаивал отец, в очередной раз сослужило ему добрую службу. Mo вспомнил Давид ха-Мелех[231]: И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. И написал в письме так: выставьте Урийу (на место) самого жестокого сражения, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер[232].
Аминь.
В третьем иннинге Лу Каплан, поднатужась, выполнил два хита подряд, но тут Mo Гановер, сорвав с себя кетчерскую маску, дал знак судье — мол, нужен перерыв — и, нервно теребя в руках мячик, зашагал к горке питчера.
— Да ладно тебе, — замахал руками Лу. — Не беспокойся, со мной все в порядке. Сейчас, отдышусь только.
— Да нет, я не об этом. Слушай, когда у вас там в Риме съемки начинаются?
— Ну, если с завтрашнего дня считать, то через три недели. А что, стряслось что-нибудь?
— Да нет.
— Нет-нет, ты уж скажи, мы ж кореша, какие между нами секреты?
— Да нет. Просто я тут смотрел, смотрел и подумал насчет Шона Филдинга. Такой видный парень! И обаяния море. На роль Доминго как влитой подойдет.
Тут они принялись шептаться, но игроки со скамейки Эла Левина восстали, подняли вопеж:
— Эй, эй, так не пойдет, играем!
— Ладно, погоди, Mo. Ну потом, потом!
Mo возвратился к базе успокоенный, потому что этот Филдинг, можно считать, уже все равно что в Риме. Пусть теперь сам выкручивается.
— Плэй бол! — командует Нат Шугарман.
Режиссер Алфи Робертс прежде никогда бы от Лу подвоха не ждал. Когда Лу Каплан подавал Робертсу, мячи обычно бывали простыми, и Робертс отвечал ему тем же, но сегодня забеспокоился, потому что в среду его агент прислал ему от Лу на прочтение материалы и… бац! — первая же подача Лу отправила Алфи рыть носом землю. Понял, не дурак, отметил он про себя. Значит, мой агент уже сообщил ему, что ни фига я не клюнул. С опасного места Алфи поспешил ретироваться: все-таки лучше подвести команду, чем получить трещину в черепе.
И снова на переднем плане Мэнни Гордон; одна база свободна, на первой и третьей по раннеру. Мэнни ухитряется провести дабл-плэй; все, смена караулов.
Над парком в небе разноцветие воздушных змеев. Влюбленные гуляют по дорожкам у воды и обжимаются на травке. На скамеечках посиживают старики, впитывают солнце. Няни с колясками, в них титулованные карапузы. Какой-то старый англичанин остановился и недоуменно смотрит на разыгравшихся америкосов.
— Это что — наши доблестные защитники с базы ВВС?
— Да нет, какие-то просто киношники. Это их вариант лапты.
— А что это за огромная палка, которую режет та женщина?
— Салями.
— В Хэмпстед-хите?
— Боюсь, что да, сэр. А однажды они тут вообще: установили как-то в воскресенье раскладной стол — прямо вон там! — выложили всякой колбасы, селедку на газете, черный хлеб горкой и целый, черт подери, бок копченого лосося. И виски! По десять и шесть за кварту, между прочим.
— Как, прямо здесь, в Хэмпстед-хите?
— При этом шампанское пили из бумажных стаканчиков! «Мумм», как я заметил. Кто-то из них какую-то премию, видите ли, получил.
Ближе к концу пятого иннинга команда Эла Левина вела 6:3, и тут на поле вышел Том Хант — на место второго бейсмена в компании Лу Каплана. Хант, актер-негр, был в городе недавно — приехал сниматься у Боба Коэна в «Отелло-Иксе».
Mo Гановер послал в левую сторону аутфилда ленивый флайбол, который сцапал в свою ловушку Зигги Альтер, но при этом упал и покатился, покатился… Он все катился и катился по траве, пока, наконец, не достиг позиции, из которой смог заглянуть под юбку Натали Кальман. И что-то он там увидал такое, от чего неожиданно пал духом: упустил мяч, побледнел и дал Гановеру спокойно дотрусить до второй базы.
Ну, дальше питчер мажет, причем четыре раза кряду, и Джонни Роупер получает «уок» — возможность шагом, не торопясь, пройтись до первой базы. Что приводит в движение Джейсона Сторма — к вящей радости целого выводка британских гомосеков, выстроивших своих собак на поводках прямо на линии первой базы. Собаки рвутся, скулят и ходят на задних лапах. Джейсон мастеровито запускает мощный мяч через инфилд и перемещается на вторую, заставляя пидеров с собачками тоже сдвинуться на одну базу. И как только у них это получается? — ведь мигом разглядели своего!
При двух аутах и счете 7:7 в конце второй половины шестого иннинга, Алфи Робертс был с поля удален (как ни пытался что-то возражать, но…), и команда Эла Левина продолжила игру с новым питчером. То был Горди Кауфман, сценарист, который на долгие годы угодил в черные списки и теперь разрывается между Мадридом и Римом. Разрываться-то разрывается, но контракты меньше чем по сто тысяч долларов не подписывает. С нарочитой прыгучей резвостью Горди взбежал на горку, и одновременно Том Хант впервые за игру взял в руки биту. Здоровенный черный Том Хант, который когда-то почти профессионально играл в далекой Флориде — о, это был боец! Но он чувствовал, что, если станет ловко зарабатывать очки, на него будут смотреть как на очередного тупорылого ниггера, которые только в спорте и хороши. Ну а, допустим, если станет мазать (хотя это потребовало бы от него куда больше актерских данных, нежели роль, на которую его взяли в «Отелло-Икс»), что тогда? Тогда по его милости эти толстые, хитрые, сексуально озабоченные жиды смогут ощутить себя крутыми мужиками, спортсменами не хуже гоев. Да и пошли они в задницу, решил Хант.
У Горди Кауфмана свои проблемы. Конечно, на Майорке у него роскошная вилла, за которой присматривают слуги-испанцы, двое его сыновей учатся в респектабельной британской частной школе, а сам Горди президент, единоличный держатель акций и единственный служащий компании, зарегистрированной в Лихтенштейне. И все же… все же Горди по-прежнему выписывает «Нейшн»[233], в уста римских рабов вкладывает инвективы по адресу апартеида и остроумные талмудические присловья, а когда на каком-нибудь левацком собрании из рук в руки переходит пушке[234], считает своим долгом вложить в нее чек на кругленькую сумму. Придется задать Ханту перца, подумал Горди, потому что, если я ему позволю, пускай слегка, меня переиграть, выйдет, что я нарочно подыгрываю негру, как снисходительный белый рохля. Но если он, избави Бог, заделает хоумран, я выйду бесхребетным либералом. Точно так же, как если я ему выдам уок, это будет типичным социал-демократическим соглашательством, которое только на первый взгляд представляет собой наилучший выход для обоих. Думал он думал, а в результате скрипнул зубами и в память о славном троцкистском прошлом взял да и засадил со всей дури крученый мяч Ханту в лоб. Хант бросил биту и, стиснув кулаки, двинулся к питчерской горке, хотя и не так быстро, чтобы игрокам обеих команд было не успеть разъединить противников, каждый из которых считал себя не только в своем праве, но и большим молодцом, ибо, преодолев безличные расовые предрассудки, сумел разглядеть в противнике личность и именно ей дать в глаз, пусть это и не приветствуется во время товарищеской игры в Хэмпстед-хите.
К концу решающего седьмого иннинга в клубе первых жен киношника началось шевеление: дамам показалось мало подкалывать бывших мужей издалека, они переместились на скамьи для запасных и даже к самому краю поля, где, совершенно забыв о том, что им как-никак все же оказано доверие, затеяли с бывшими мужьями совершенно неуместную перепалку. Когда, например, Меир Гросс вышел на позицию бьющего и его товарищи по команде закричали «Давай, парень, влупи им, врежь!», хорошо знакомый ему скрипучий голос перекрыл все прочие: «Влупи, Меир. Дай сыну возможность тобой гордиться, хотя бы раз в жизни».
Первые жены — о, это укоризна Божия. Они все еще в прошлом — неколебимо, неизменно. Столько лет прошло, а они до сих пор в ожидании Лефти[235]. Волосы их нынче, может, и поседели, подбородки стали двойными, шеи дряблыми, обвисли груди и выросли животы, но избави тебя бог подумать, будто, утратив молодость и красоту, эти клячи состарились духом. Подобно тому как когда-то они бились за мальчишек из Скотсборо[236], демонстративно порывали с родителями из-за мужей-евреев, посылали поклонников защищать Мадрид, ссорились со старыми друзьями из-за пакта Молотова-Риббентропа, агитировали за Генри Уоллеса[237], выходили на демонстрации в защиту Розенбергов и никогда, никогда, никогда не верили сенатору Маккарти… теперь они хлопают в ладоши в Клубах дружбы с Китаем, подписываются под петициями (чтобы руки, стало быть, прочь от Кубы и Вьетнама), а сыновей, снабдив бутербродами с печеночным паштетом, отправляют в очередной марш на Олдермастон[238].
Первые жены, которых бросили, помнят тяжкие годы, когда их мужья пробивались, помнят их неуверенность в себе, сомнения, унизительные отказы, квартиры без горячей воды, да потом еще и черные списки, — все это было при них, но они оставались верны. Они и теперь не изменились и не изменили, в отличие от мужей.
Каждая из этих семей рухнула под натиском собственного, внутри себя созданного урагана, но по большей части мужчины всего лишь разделяли позицию Зигги Альтера, которую он однажды емко сформулировал за покерным столом: «Прав ты или неправ, это все чушь собачья, на самом деле вопрос в том, кому охота стариться рядом с Анной Паукер[239], когда вокруг столько сдобных милашек, которых мы нынче можем себе позволить».
И вот они собрались тут на травке воскресным утречком — щуплые недоростки с безумными доходами и полным отсутствием принципов, все в группе риска по сердечно-сосудистым и раку легких, — и принялись бегать за неловко пущенным в небо мячиком, нисколько не стесняясь выглядеть смешно, лишь бы развлечь новых молоденьких жен и любовниц. Среди собравшихся и Зигги Альтер, написавший когда-то «проблемную» пьесу для «Группового театра»[240]. И Эл Левин, который некогда во время демонстраций швырял стеклянные шарики под ноги лошадям полицейских, а теперь сам держит лошадей, и две из них даже участвуют в самых престижных в Англии скачках на ипподроме «Эпсом-Даунс». Стоящий на питчерской горке Горди Кауфман, когда-то вздымавший над забитыми толпой тесными улицами Манхэттена знамя с лозунгом «¡No Pasaran!», теперь держит на зарплате специального человека, который следит за тем, чтобы пляж его виллы на Майорке случайно не осквернила нога испанца. А взмокший под кетчерской маской Mo Гановер, в юности учившийся в ешиве, а потом не спасовавший перед комиссией Маккарти, теперь прохлаждается здесь в годичном отпуске, оплаченном студией «Дезилю»[241].
Обычно мужьям удается избегать общества использованных жен. Их не увидишь в игорных залах «Белого слона», не встретишь ни в «Мирабели», ни в «Амбассадоре». Но стоит зайти на Брехта в «Театр на Шафтсбери», можешь не сомневаться: сев в середину второго ряда, ты, не оглядываясь, почувствуешь, как взгляд бывшей жены, угнездившейся в мешковатом хлопковом одеянии во втором ряду балкона, тут же начнет сверлить тебе затылок.
И уж конечно, можно смело ждать их воскресным утром в Хэмпстед-хите: придут как миленькие — ради одного того хотя бы, чтобы испортить удовольствие от игры. Причем не поздоровится даже такому игроку, как Эл Левин, потому что никакими хоумранами рты им не заткнешь.
— Смотри-ка, он тут прямо расцветает, — произносит знакомый голос со скамейки за спиной Левина. — Ему это нужно: игра, зрители… Особенно зрители: только на публике он способен изображать из себя мужчину.
Игра еле плелась. Во время восьмого иннинга Джеку Монро пришлось залезть в свой «мерседес», чтобы сделать инъекцию инсулина, и Джейк Херш, до того момента смущенно ерзавший на скамейке запасных, ступил наконец на поле. Херш (тридцати трех лет, бывший второй питчер сорок первой группы Флетчерфилдской средней школы) зашел с правой стороны ромба, опасаясь, как бы не скрутил внезапный радикулит. (Только бы не пришлось ловить мудреный мяч! Господи, на Тебя вся надежда.) Войдя в пределы ромба, изобразил небрежную походку, помахал жене, улыбнулся детям, и тут — глядь! — прямо в него со свистом летит со страшной силой пущенный мяч. В испуге Джейк сделал единственно разумную вещь — пригнулся. Раздавшиеся со скамьи оскорбленные вопли и стоны заставили его вспомнить, где он находится, и кинуться за мячом.
— Растяпа!
— Поц!
Раннеры со второй и третьей базы бросились к «дому», Джейк быстро запыхался, но все-таки в конце концов догнал увертливый мяч. Правда, только когда тот остановился, закатившись под скамейку, на которой сидела женщина, не спускавшая глаз с элегантной коляски.
— Извините, — сказал Джейк.
— Ох уж эти американцы! — пробурчала нянька, очередная какая-нибудь au pair girl.
— Я канадец, — машинально возразил Джейк, выковыривая мяч из-под скамейки.
Пока он там копался, противники успели выполнить три пробежки. Джейк покосился на Нэнси, но даже она не могла удержаться от смеха. Да и детям за него, похоже, стало стыдно.
В девятом иннинге счет вновь сравняли — 11:11; и на поле с некоторой опаской вышел еще один запасной, Сол Питерс, новый игрок компании Каплана. Последний удавшийся прорыв был на вторую базу, а в аут отправлен еще только первый раннер. При подаче Горди Кауфман озаботился тем, чтобы бьющий не смог применить «бант», то есть вместо удара не подставил бы под мяч вялую статичную биту, — для этого он швырнул мяч прямо в бьющего, то есть в Сола, а тот, забыв, что он в контактных линзах, выставил перед собой биту, спасая очки. Мяч стукнул в биту и отскочил — шлеп! — идеальный «бант»!
— Да беги же ты, шмок!
— Пошел! пошел!
Сол в испуге кинулся бежать, но биту при этом почему-то не бросил, как положено, а прихватил с собой.
Потом Монти Тальман позвонил домой.
— Кто выиграл? — спросила жена.
— Ну, мы, конечно. Тринадцать-двенадцать. Да это как раз не важно! Главное, сколько было смеху!
— Лучше скажи, сколько народу обедать притащишь?
— Восемь рыл.
— Восемь?
— Ну вот не смог я от Джонни Роупера отвязаться! Знает, гад, что будет Джек Монро.
— Понятно.
— Я только вот предупредить хотел. Бога ради, не вздумай спросить Сая, как поживает Марша. Они расстались. Кроме того, боюсь, что Мэнни Гордон придет с девицей. Ты уж не обижай ее, ладно?
— Еще что-нибудь?
— А, да! Если из Рима позвонит Гершон, а вся мешпуха[242] будет еще у нас, пожалуйста, не забудь: разговаривать с ним я буду из комнаты наверху. И, пожалуйста, не начни опять в четыре часа собирать бокалы и вытряхивать пепельницы! Не позорь меня. Будет этот поганец Джейк Херш, он такие штуки обожает — запомнит и потом месяцами будет меня осмеивать.
— А я разве…
— Да хорошо-хорошо, ладно. А, черт, вот еще что. Том Хант придет.
— Это который актер?
— Ага. Так вот, слушай: он очень обидчив, поэтому, пожалуйста, спрячь куда-нибудь куклу Шейлы.
— Куклу Шейлы?
— Если она войдет, таща за собой этого чертова негритоса, я со стыда сгорю. Спрячь ее. Сожги. Говорят, пробы Ханта на днях будут одобрены. Такие дела.
— Ладно, дорогой, хорошо.
— До встречи.
10
Во время посиделок у Тальмана Лу Каплан (тот, у которого договор с «Двадцатым веком» на три картины) поманил к себе Джейка, и они вместе вышли в сад.
— Знаете, как называются все эти хреновы сикусы? — с непонятным раздражением спросил он, поводя пальцем.
— Конечно.
— Фссс! — с одобрительной усмешкой выдохнул Каплан и вдруг ткнул наудачу: — Ну-ка, вот этот!
— Так это же чайная роза. Причем явно «Ина Харкнесс».
— А это?
— А это флоксы.
— Ну-ну. А то обманщиков я не терплю. Давайте сядем-ка вот здесь. Почему вы до сих пор еще не сняли ни одной кинокартины? Я тут краем глаза глянул вашу последнюю телепостановку. Вы гений, Джейк!
— Да ну?
— На вашем месте я бы сделал все точно так же.
— A-а. Ну, понятно.
— У вас есть стиль. Хватка. Кроме того, вы лихо управляетесь с камерами. Я слышал, правда, что от вас стонут актеры. Этакий вы будто бы гробер юнг, выражаясь по-нашему. Хочу кое-что дать вам прочесть. Если понравится, поговорю с вашим агентом. Если нет, и говорить не о чем. Годится?
Опять Джейк до двух ночи читал, думал, читал роман второй раз.
— Что ж, это обычный триллер, Нэнси. Но я бы мог из него кое-что сделать. Пожалуй, соглашусь.
— А где происходит действие?
— В Израиле. — И, почувствовав, что Нэнси напряглась, добавил: — Да тут всерьез-то не о чем пока и говорить, так что не переживай. Насколько я знаю, этот проект предложен на рассмотрение пяти режиссерам. И я среди них в лучшем случае, вариант под номером три.
Невероятно, но факт: в среду Каплан уже встретился за ланчем с агентом Джейка, и они сразу договорились об условиях. Право утверждать актерский состав Каплан, естественно, ему не отдал, зато сказал, что Джейк может сам нанимать сценариста.
— Может быть, — предложил Лу Каплан, — ваш знаменитый друг Люк Скотт сделает? С вас он по старой дружбе не запросит за сценарий миллион долларов…
— Нет, — отрезал Джейк. — С Люком это исключено. Абсолютно.
Соглашение было подписано и доставлено Джейку нарочным в понедельник, как Каплан и обещал. Оставалась одна закавыка — виза «Двадцатый век-Фокса», но через десять бесконечных, выматывающих нервы дней из их нью-йоркского офиса пришло сообщение, что Джейка утвердили.
— Ну все, — обрадовал Джейк Нэнси, — можно праздновать! — Этим они и занялись, а после, когда уже лежали в постели, он признался: — Я думал, так никогда мне шанс и не представится.
Спустя полмесяца, все еще не веря своему счастью, Джейк полетел в Израиль искать натуру, а заодно, если получится, и разузнать что-нибудь о Всаднике; может быть, откопать его израильскую жену, предположительно обитающую где-то в кибуце.
Самолет сел, и уже на трапе Джейка окутали дурманящие ароматы, ослепила яркость и голубизна; всего шесть часов назад расставшийся с лондонскими гуммозными тучами, Джейк воспарил. Это же Эрец Исроэл! Сион! Забросив чемодан в номер «Гарден-отеля» в Рамат-Авиве[243], присел к столику у бассейна пропустить стаканчик. Вокруг повсюду загорали немолодые туристы, стоптавшие ноги по экскурсиям. Среди них мистер Купер. Дородный, забронзовевший мистер Купер в надвинутой на глаза бейсболке, отгоняя мух свернутой в трубочку газетой, глубокомысленно разглядывал собственные ступни — сожмет пальцы ног, разожмет… В кресле расположился вольготно, глядит хозяином.
— Откуда приехали? — спросил он Джейка.
Джейк сообщил.
— А-га. И надолго сюда?
— На недельку. Ну, может, дней на десять.
— Дольше, стало быть, нет возможности. Это же Израиль! Чудо! Так вы, мистер Херш, бизнесмен? И какой у вас бизнес?
— Мусорный.
Ранним утром к Джейку в бунгало постучал коридорный: пришел полковник Эйтан, израильский партнер Лу Каплана. Кряжистый и мускулистый, с суровым, продубленным всеми ветрами лицом. Одет буднично.
— Шалом, — сказал он.
Мимо прошествовал мистер Купер с женой, одетой в коротенькие цветастые брючата.
— Ну что, мистер Херш, остаться здесь насовсем еще не решили?
— А вы?
— Ну, я-то слишком стар. Так что просто езжу сюда сорить деньгами.
Кинув на него презрительный взгляд, Эйтан пожал плечами. И только когда Джейк сел к нему в «форд»-универсал, Эйтан буркнул:
— Интересно, как звали этого человека прежде, когда он еще не был Купером?
— А вас, — ему в тон спросил Джейк, удивляясь собственной злости, — когда вы еще не были Эйтаном?[244]
— Вы скоро поймете: мы здесь уже не те евреи. Мы новые. Мы восстановили в евреях достоинство.
Проехали Рамлу, и дорога пошла петлять, то забираясь вверх, то ныряя в низину, вверх и вниз, пробираясь через каменистые горы, везде, где только можно, возделанные. Словно естественные выходы скальных пород, между холмами возникали разоренные арабские деревушки. На поворотах узкой крутой дороги у обочины попадались остовы бронированных грузовиков. То вдруг мелькнет сухой венок на почерневшей раме, то груда камней, обозначающая место, где водителя, запертого в кабине горящего грузовика, настигла мучительная смерть. Эти руины, разбросанные вдоль дороги, оставлены как памятник всем тем, кто погиб, преодолевая блокаду Иерусалима во время Войны за независимость, когда стратегические высоты Баб-эль-Вада и Кастеля (сперва древнеримского форта, впоследствии замка крестоносцев), господствующие над ближними подступами к городу, были в руках Арабского легиона[245].
— Кстати, послушайте, Эйтан, — ощутив вдруг неловкость, сказал Джейк, приходя во все большее смущение, — вы сами-то читали триллер, по которому будет фильм?
— Да.
— В сценарии все будет по-другому. Хочу, чтобы вы знали: я бы не поехал в такую даль ради того, чтобы изготовить вульгарную поделку.
— Мы нуждаемся в иностранной валюте, — уклончиво отозвался Эйтан.
Джейк рассказал Эйтану, что его двоюродный брат Джо Херш, которого некоторые называют Джесси Хоупом, тоже участвовал в первой арабо-израильской войне и даже, может быть, сейчас находится в Израиле, вот только Джейку неизвестно, где именно.
— Ну, страна у нас маленькая, но всех-то я ведь не знаю. Попробуйте через Ассоциацию американцев и канадцев в Израиле.
Но от клерка из Ассоциации никакого толку добиться не удалось.
— Половина англо-американских евреев, которые сюда приезжают, — сказал тот, — через два или три года покидают страну. Почему? Давайте смотреть правде в глаза: большинство из них происходят из довольно зажиточных семей, а поселиться здесь значит существенно снизить свой жизненный уровень. Другие начинают скучать по родным и близким. По мамочке, например.
— Вот это, — со значением ответствовал Джейк, — для Джо Херша проблемой никогда не было.
Увы, в Ассоциации никаких сведений не оказалось. Ни о нем, ни о его жене.
Во вторник Джейк поехал с Эйтаном в Акру смотреть возможные места для съемок. Арабский рынок: вонючие узкие улочки, над которыми поперек растянуты старые мешки — они дают тень, как для продавцов, так и для покупателей. Ослы, куры и козы сонно бродят по лабиринту ларьков и прилавков. Товары на прилавках жалкие: ржавые ключи от старинных замков, линялые ситцевые платья, рваные башмаки. По грязи носятся босоногие мальчишки. Повсюду мухи.
— Так жить их никто не заставляет, — упреждая вопрос Джейка, сказал Эйтан. — Многие из них владеют собственностью. А деньги зарывают в кувшинах в землю. Да ведь и нет на свете никаких «арабов». Ну что, например, общего у араба из Каира с иракским бедуином?
— Может быть, Иерусалим? — рискнул предположить Джейк.
— Общего между арабами только то, что они мусульмане. А мы должны научить их, показать, что это не так уж и плохо — быть арабом в Израиле.
— А может быть, — сказал Джейк, — проблема в том, что то, чему они хранят верность, находится вне их страны. Все равно как у моего нового приятеля мистера Купера.
В канадском посольстве сведений о Джозефе Херше не оказалось.
В среду с утра Джейк с Эйтаном поехали в Беэр-Шеву посмотреть отель «1001 ночь», тогда еще не достроенный. Примерно в получасе езды от Тель-Авива их универсал покатил через ухоженную, цветущую местность. Затем совершенно неожиданно оказалось, что они едут по пустыне.
— Здесь наша территория сто с гаком километров в ширину, — сказал Эйтан. — Когда-нибудь она станет нашей житницей.
Наконец машина остановилась в окрестностях Беэр-Шевы. Сощурясь от несомого ветром песка, Джейк с интересом рассматривал огромное здание, вырастающее, казалось, прямо из пустыни. К ним поспешил владелец, некий господин Ход.
— Я оборудую здесь лучший отель в Израиле, — сообщил он. — У нас будут площадки для гольфа, горячие источники, фонтаны — все, что положено. Скоро нам сделают самую большую неоновую рекламу в стране: «ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ». Я даже организовал общество под названием «Сыны 1001 ночи».
После обеда Ход принялся глушить бренди рюмку за рюмкой.
— Однажды, — рассказывал он Джейку, — я встретил в Беэр-Шеве испанца. Богатого. Он мне сказал, что в Мадриде он был антисемитом. Сказал, что не верил, будто евреи смогут построить свое государство, и ему подумалось: надо съездить, посмотреть собственными глазами. Ну вот, — говорит, — посмотрел. Увидел вашу страну — это ж просто чудо что такое! Но вы здесь не евреи, вы совсем не такие! Евреи в Испании бились бы только за свою семью и свой бизнес. Здесь вы совсем другие!
— Если пересечетесь с ним еще раз, — холодно ответил Джейк, — скажите, что некоторые евреи из Канады воевали не только за свою страну и не только за эту, но также и за Испанию. Как мой двоюродный брат, например.
Всю долгую дорогу назад в Тель-Авив Джейк притворялся спящим. Наконец Эйтан высадил его у входа в «Гарден-отель».
— Вы большой эстет, как я погляжу, а, Херш? Удивляетесь, почему у нас безвкусные отели, почему мы финансируем съемки чисто коммерческих фильмов со второразрядными актерами. А нам просто нужна валюта. Нужна, чтобы выжить.
— Да, — тихо отозвался Джейк. — Вы, конечно, правы. — И, вернувшись в свое бунгало, еще раз пролистал триллер, в конце концов все же снова придя к выводу, что с приличным сценарием и правильным актерским составом это будет хороший фильм: он в этот фильм внесет значительность, ведь он берется за него не просто потому, что уже, мягко говоря, не мальчик и самолюбие требует быстрей переходить к постановке фильмов.
Проснувшись, Джейк ощутил прилив решимости, даже веселья. Тут позвонил Эйтан.
— Ваш двоюродный брат, — сообщил он, — здесь проходил под именем Йосеф бен Барух. Он форменный сукин сын, что меня почему-то не удивляет. Его жена живет в кибуце Гешер-ха-Зив.
Позавтракав, Джейк взял такси и помчался по прибрежной равнине через Хайфу в Верхнюю Галилею, в горах которой у самой ливанской границы располагается кибуц Гешер-ха-Зив, который о ту пору никто не тревожил, кроме разве что контрабандистов, направлявшихся в Акру со свининой и гашишем.
Хаву он нашел в зале столовой. Она оказалась дородной дамой с черной шапкой курчавых волос, печальными черными глазами и шерстистыми ногами. Зажав под могучим локтем восьмилитровую жестянку с огурцами, она переходила от столика к столику, выкладывая на тарелку, стоящую в центре каждого, точно шесть соленых огурчиков к праздничному ужину. Предстоял пасхальный седер[246].
— Я двоюродный брат вашего мужа. Хотел с вами поговорить, если не возражаете.
— Он что, умер?
— Насколько мне известно — нет. А почему вы спрашиваете?
— Потому что от его родственников я никогда вестей не получала. И подумала, что, если он умер, может быть, придут какие-нибудь деньги. Что-нибудь для нашего сына.
Сыну, которого звали Зеев, было десять лет.
— А зачем вам в кибуце деньги?
— Здесь вообще больше жизни нет. Ради сына я хочу отсюда уехать.
— А вы… вы из Америки?
— Я из Терезиенштадта[247], а где до того жила, сама не знаю. — И она двинулась дальше разносить по столикам огурцы.
— Родственники прислали деньги. Меня просили передать их вам.
— Много?
Джейк почесал в затылке. Поразмыслил.
— Тысячу долларов.
— Тысячу долларов? — Она пожала плечами. — Но они же такие богатые!
— И сто долларов в месяц на содержание мальчика.
— А больше они дать не могут?
— Нет.
— А вы попробуйте. Поговорите с ними. Я дам вам с собой фотокарточку Зеева.
Они прошли к ее домику, в котором было три комнаты (считая вместе с детской). Оказывается, в Гешер-ха-Зиве уже не пытаются воспитывать детей централизованно, им позволено жить с родителями.
— Надеялись, что это поколение станет другим. Что дети будут избавлены от губительной опеки еврейской мамочки, но ничего не вышло. Родители все равно в детский дом просачивались, проносили вкусности. И если кто-то из детей простужался — мать тут как тут. Евреи! — закончила она грустно.
На каминной доске у нее стояла фотография Всадника, снятая году в 1948-м. Братец Джо в форме, верхом на белом скакуне.
— Этого коня он выиграл у сына мухтара[248]. Победил его в схватке.
Джейк спросил, были ли они тогда знакомы.
— Нет, но по рассказам я про то время многое знаю. Он был среди участников резни в Дейр-Яссине[249], несчастного для нас события. Некоторые говорят, он был там даже во главе какой-то из шаек, но это — кто знает? Сам он про это ничего не рассказывал.
В апреле 1948 года боевики Эцель и шайки Штерна[250] ни с того ни с сего напали на спокойную арабскую деревню Дейр-Яссин в западном предместье Иерусалима. Это был акт терроризма — арабам хотели преподать урок. Еврейское агентство отмежевалось от террористов, зато арабы стали использовать эту бойню для оправдания собственных жестокостей.
Вновь Джо там появился с третьим транспортным конвоем, направлявшимся в Иерусалим, тем самым, который понес тяжелые потери у Баб-эль-Вада. Множество сожженных машин так и оставили лежать у дороги — в напоминание.
— Это я видел.
— Тот конвой пробился последним. Привез курятину, яйца и мацу для Песаха, но надежды снова выбраться из Иерусалима уже не было. Йосеф присоединился к подразделению, воевавшему в Старом городе. Опять неприятности. На этот раз с «Нетурей карта». Ну, с этими… ортодоксами из ортодоксов — слыхали? Они до сих пор не признают государства, считают его самоуправством, ждут машиаха[251]. Один из этих седобородых пришел к нему и говорит: нельзя так поступать с детьми и женщинами — он имел в виду обстрелы и прочие ужасы. Предложил заключить с местными арабами особое перемирие, чтобы в их кварталах не воевали. Йосеф сказал, что, если старый осел выйдет с белым флагом, он лично его пристрелит. Вот прямо так — возьмет и пристрелит. Там было человек восемьсот набожных женщин с детьми — прятались в синагоге Йоханана бен Заккая[252], а арабы-то рядом, на другой стороне улицы! И когда раввины вышли с белой простыней, растянутой между двух шестов, кто-то с еврейских позиций взял да и выстрелил, одного из них ранил.
Всадника, который чудовищно пил, в Гешер-ха-Зиве не любили. Бывало, он вдруг исчезал — дня, этак, на три, на неделю: закатывал кутежи в Акре, где общался в основном с арабами на рынке. После всего, что потом случилось, нет никаких сомнений, что он был связан с контрабандой гашиша.
— Что вы имеете в виду? Что потом случилось?
— Ну, то есть после происшествия с Кастнером, — пояснила она.
В начале апреля 1944 года доктор Рудольф Кастнер, лидер общины венгерских евреев, установил контакт с гауптштурмфюрером Вислицени[253] из Sondereinsatzkommando Эйхмана и в условиях невообразимо мрачных и устрашающих договорился о выкупе на свободу тысячи семисот евреев за миллион шестьсот тысяч долларов. Выкупаемых еще предстояло выбрать из семисот пятидесяти тысяч тех, кого поэтому специально не предупреждали о том, что их ждут печи крематория и лишили тем самым возможности оказать сопротивление или бежать в леса. Среди тысячи семисот спасенных были и родственники Кастнера. Предпочтение отдавалось евреям влиятельным и из социальных верхов.
После войны Кастнер обосновался в Израиле. Много лет спустя в Иерусалиме появился какой-то помешанный, который стал поливать его грязью, на всех углах крича о том, что на самом-то деле Кастнер будто бы коллаборационист, чьи махинации привели к тому, что семьсот пятьдесят тысяч евреев в полном неведении отправились на гибель. А Всадник сидел в столовой кибуца пьяный и всех подзуживал — дескать, ну и что вы теперь собираетесь с этим делать? — как будто это было их проблемой. Как будто у них, как и у каждого в стране, от всей этой истории с обвинениями и воспоследовавшим судом не разрывалось сердце. Одни считали Кастнера воплощением всего гадостного и гнилого, что имело место в юденратах европейских городов, другие не соглашались: все ж таки время было ужасающее, и он спас столько жизней, сколько смог, а были и третьи — они говорили, что теперь вообще нельзя понять, чем руководствовались те, кто тогда действовал, так что пока лучше сидеть и помалкивать.
В 1953 году Кастнер подал в суд за клевету и выиграл процесс, но это была пиррова победа: его имя оказалось не столько очищено, сколько еще больше замарано, а что до Всадника, то он на следующее утро встал, завел грузовик и поехал будто бы на индюшачью ферму, но там не остановился. Грузовик потом нашли брошенным в Акре, а в Гешер-ха-Зиве Всадника больше никто никогда не видел.
В 1957 году состоялся еще один суд, который Кастнера оправдал полностью, но спустя несколько месяцев его прямо на улице застрелил какой-то венгерский еврей.
— Так, стоп. Минуточку, — прервал ее Джейк. — Вы хотите сказать, что все эти годы не видели его и не получали от него никаких вестей?
— Время от времени он появляется в Израиле, но не здесь. Понимаете, он ведь нас бросил еще за год до тех событий пятьдесят третьего. А весь пятьдесят первый пробыл во Франции. В Мэзон-Лафите[254], где его, как иностранца, официально тренером лошадей не взяли, и он работал нелегально, а по бумагам числился жокеем при частном лице.
— Он когда-нибудь говорил с вами о своих домашних? О Монреале?
— Только когда напивался. Говорил, что в смерти его отца повинны родственники, да и его они чуть до могилы не довели.
— Прямо так и сказал?
Она кивнула.
— А вы не можете вспомнить точные его слова? Они почти что довели его до могилы?
— Это было давно. Он пьяный был. Мы разругались. Разругались, понимаете? Йосеф не разрешил мне обратиться за немецкой компенсацией. Ой, гордый был такой! Не подступись! Не во всем, правда…
— Что вы имеете в виду — не во всем?
— Ну, только насчет того, чтобы не брать деньги у немцев, которые у нас же их и награбили — у кого ж еще-то? — но нет, нельзя, а вот у женщин их вымогать, это пожалуйста… — И, издав короткий, сухой смешок она погрузилась в горькие размышления.
— А зачем женщины давали ему деньги?
— Женщины. Их мужья, отцы… Теперь-то ни у кого уже нет причин бояться. Письма я все сожгла — все до единого. А уж родных своих, которые в Канаде, вы знаете, он таки ненавидел. Кроме того, он ведь лжец был каких поискать.
— А что за письма вы сожгли?
— Зачем вам все знать? Вас кто прислал тут разнюхивать?
— Никто.
— Лично я против Хершей ничего не имею, я им очень, очень благодарна за помощь, жаль только, что она такая крохотная.
— Да-да, я понимаю. Но может быть, он говорил что-то еще? Пожалуйста, для меня это важно.
— Все повторял, что, если бы Херши были в сорок восьмом в Старом городе, они бы первые замахали белым флагом.
— Ну уж, это совсем несправедливо!
— А я разве говорила, что справедливо? Вам сколько лет?
— Тридцать три.
— Вот скажите мне, что в этой жизни справедливо, а? Давайте. Ну, назовите хоть что-нибудь.
— Вы письма от него получаете?
— Открытки. Главным образом на дни рождения Зеева.
Из дальнейших ее слов явствовало, что запои Джо обыкновенно заканчивались в кибуце Выживших узников Варшавского гетто, который неподалеку от Хайфы, а уж они-то там пить горазды! В этом кибуце расположен музей, где хранятся архивы Холокоста.
Затем Хава выдвинула ящик комода и, покопавшись, достала папку. Среди всяких бумажек Джейк обнаружил пожелтевшую газету и фотографии, вырезанные из журналов. Розовощекая gemütlich[255] фрау Геринг выходит из магазина на Театинерштрассе. Суровые наследники фон Папена: старший сын по имени Адольф позирует, сидя на кожаном диване. «Зепп» Дитрих[256] — какой строгий дядька!
Кроме того, там оказались сильно потертые страницы из журнала со статьей о том, как Йозеф Менгеле, бывший студент-философ, а затем главный врач концлагеря Освенцим, жил-поживал себе спокойно в Мюнхене до 1951 года, а затем из Мерано, что в Южном Тироле, через перевал Решенпасс бежал в Италию, откуда с помощью общества «ОДЕССА»[257] перебрался сперва в Испанию, затем в Буэнос-Айрес, а в 1955, когда режим Перона рухнул, в Парагвай.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, нижеподписавшийся Миклош Нисли[258], врач, бывший заключенный номер А8450 к/л Аушвиц-Биркенау, утверждаю, что в своих показаниях я нисколько не отклоняюсь от реальности и ни малейших преувеличений не допускаю, являясь прямым свидетелем и невольным исполнителем деяний, осуществлявшихся в Аушвице.
Как старший патологоанатом лагерных крематориев, я выписал множество удостоверений о вскрытии и судебно-медицинских справок, которые я подписывал вытатуированным на мне номером. Заверив у непосредственного начальника, доктора Менгеле, я отсылал эти документы почтой по адресу: Berlin, Dahlem, Institut für rassenbiologishe antropologishe Forshungen…
Под монотонный аккомпанемент голоса Хавы, бубнившей про то, как дорого даже самое скромное жилье в Тель-Авиве, Джейк продолжал читать:
Доктор Менгеле (а именно он осуществлял медицинский отбор) дает знак. Вновь прибывшие выстраиваются в две колонны. В колонну слева становятся престарелые, увечные, слабые, женщины с детьми до четырнадцати лет. В колонну справа сильные здоровые мужчины и женщины…
Хава заварила чаю. Налила.
И вот они внутри. Хрипло звучит приказ: СС и зондеркоммандо — покинуть помещение! Немцы выходят, производят перекличку. После этого двери закрываются и освещение извне выключается. В этот момент слышится шум мотора подъехавшей машины. Это дорогой автомобиль, полученный лагерем от Международного Красного Креста. Из автомобиля выходят СДГ (Sanitätsdienstgefreiter)[259], и эсэсовец-охранник, выносят четыре зеленые железные канистры. Шагают по подстриженной лужайке, где через каждые тридцать метров над травой из земли торчат невысокие бетонные патрубки. Надевают маски противогазов…
— Ой, смотрите! — восклицает Хава. — Вот же она! Открытка. Всего месяца полтора как пришла. Смотри-ка ты, из Мюнхена!
— Он теперь большой артист, певец, а вы и не знали? — Впервые за все это время она улыбнулась. — «Джесс Хоуп, Музыка Дикого Запада и ковбойские песни».
11
Ах, Всадник, Всадник…
Не в силах уснуть, Джейк ворочался в постели, представляя себе, как Всадник скачет на великолепном плевенском скакуне. Под гром копыт галопом проносится мимо. Йосеф бен Барух. То есть сын Баруха — портового грузчика, торговца игровыми автоматами, деревенского силача, волка южных морей, старателя и поставщика контрабандного виски. Баруха, который смел с попреками обрушиться на зейду. «Евреи, я пришел. Евреи, это я, Барух! Ваш брат вернулся». Который вырастил сына в горняцком бараке в Йеллоунайфе. А сын потом бросал в лицо собравшимся в столовой кибуца Гешер-ха-Зив те же слова, которые он когда-то выкрикивал на Сент-Урбан: Ну, так и что вы теперь делать с этим собираетесь?
На следующий день ранним утром Джейк позвонил Эйтану.
— Я уезжаю сегодня, — сказал он.
— Но мне еще многое надо вам показать! Думал, вы пробудете здесь еще как минимум неделю.
— Нет, я решил отказаться от этого фильма.
— Почему?
— Это долгая история, к тому же вы все равно не поймете.
Вместо того чтобы возвращаться в Лондон, Джейк кинулся на первый самолет, рейс оказался в Рим, оттуда полетел в Мюнхен. Нэнси, к его удивлению, нисколько не расстроилась и даже вздохнула с облегчением. Он позвонил ей из аэропорта, и она сказала:
— Я с самого начала знала, что с этим начинанием что-нибудь да сорвется. Не переживай, подвернется что-нибудь получше.
Он в этом сомневался.
— Но что тебе понадобилось в Мюнхене?
Джейк объяснил.
— Да как ты его там отыщешь? — спросила она.
— Еще не знаю, но надо попытаться.
Тела не были беспорядочно разбросаны по всему полу, а лежали кучей, которая высилась до потолка. Потому что газ вытесняет сначала нижние слои воздуха, поднимаясь медленно и постепенно. Это заставляло людей карабкаться наверх, лезть друг на друга. В основании кучи оказались тела младенцев и детей, женщин и престарелых; наверху лежали сильнейшие. Тела, покрытые множеством царапин, свидетельствующих о происходившей борьбе, переплелись друг с другом и спрессовались. Носы и рты окровавлены, лица синие и распухшие.
Джейк прочесал все кабачки и музыкальные подвальчики в Швабинге[260], потом сделал заход по клубам, что ближе к Максимилианштрассе. От «Марценкеллера» в «Шуплаттер», оттуда к «Лоле Монтес», потом в «Мулен Руж», в «Бонго»… Джейк обходил погребок за погребком, пока тряские звуки аккордеона не начали лезть у него из ушей даже во тьме ночных притихших улиц. Ты в геенне, Джейк. Это же ад кромешный! Предел падения. Что делать? Поливать бензином, поджигать? Орать на прохожих? Убийцы, убийцы! Тем не менее шел и шел. Шаг, другой. Вдруг наткнулся на даму средних лет в чернобурке, торопливо извинился: Entschuldig mir — и тут же слегка смутился, подумал, а сойдет ли его идиш за немецкий? — тогда как надо было, не извиняясь, довершить начатое: по харе ее, по харе, пока не опомнилась, а после ногой под зад. Ненависть — это ведь отдельная наука. Учиться надо, тренироваться, вот и все.
Но нет, о канадском исполнителе ковбойских песен по имени Джесс Хоуп никто и никогда не слышал, разве что привратник подвальчика «Бонго» посоветовал заглянуть в клуб «Америкен вей» в бывшем гитлеровском Дворце искусств.
Ну ладно, почему бы и нет? Попал в ад, так хоть достопримечательности посмотри! Исследуй!
На входе Джейка встретил картонный ковбой. По пятницам, как было сказано в афише, вечером публику развлекает группа «Тьюн-твистеры Папаши Бёрнса».
Это взбодрило Джейка, и он встал в очередь к справочной стойке.
— Откуда прибыли? — спросил его военный, стоявший впереди.
— Из Иерусалима, — по наитию ответствовал Джейк.
— Кроме шуток? И как там житуха?
— Да замечательно.
Над стойкой плакат с объявлением:
ЭКСКУРСИЯ В ДАХАУ
Каждую субботу в 14–00 автобус
Осмотр замка и крематория
— Хоуп? Джесс Хоуп… — Администратор повторил имя, подумал, его улыбка сделалась лукавой. — А вы что — из военной полиции?
— Да ну, вот еще. Почему вы так решили?
Он так и прыснул со смеху.
— Вы его знаете?
— Он играл в «Бюргербройкеллере», но неделю назад его оттуда выгнали.
— За что?
— Это вы их спросите.
Этот «Бюргербройкеллер», еще один ресторан сети, обслуживающей американскую армию, оказался не больше и не меньше как той самой пивной, из которой Гитлер в 1923 году повел штурмовиков на захват баварского парламента. То есть в нацистском понимании это храм.
Джейк вошел перед самым закрытием и, щурясь от дыма, огляделся. В огромном зале оказалось множество свирепых воинов, которые, в полукоматозном состоянии нависая над столиками с клетчатыми скатёрками, слушали песню какого-то провинциального ветерана, несущуюся из музыкального автомата.
Под окном, где куст сирени, Аист клювом щелк да щелк, Вот и я — опять без денег, Возвращаюсь голым в полк.Да, менеджер действительно знал Джесса Хоупа — тот здесь играл, все верно, — но распространяться о нем перед человеком, чьи полномочия сомнительны, это уж нет, увольте. Даже если он и родственник. Возможно, если мистер Херш утром вернется, раввин…
— Кто-кто? — удивился Джейк.
— Капитан Мельцер. По субботам он здесь с утра проводит богослужения. И он знаком с Джессом Хоупом.
Как есть геенна, нижайший уровень. Самый внутренний круг. В пятнадцати километрах от Дахау, всего-то навсего! Вы не забыли «роллейфлекс» со сменной оптикой?
Тем не менее в отеле Джейк спал замечательно, а проснувшись, испытывал приятный голод. Булочки оказались вкуснейшие. Как и ветчина, как и яйца. Кофе — лучше некуда. Обслуживание — безупречное. Может быть, обедать пойти к Хумплмайру, попробовать их знаменитую гусиную печенку? Или прогуляться по «Английским садам»? Потом зарулить в Хофбройхаус…[261] Прямо в кровати Джейк стал листать телефонную книгу, посмотрел на фамилию «Геринг». Четыре адреса. Эйхманов, правда, не оказалось, зато Гиммлеров — полно!
«Привет, Хайнрих, что у нас нынче на повестке дня?»
«Глупый вопрос! Евреи, что же еще?»
Не было и десяти утра, когда Джейк снова появился в «Бюргербройкеллере» и заморгал в остолбенении, не зная, как реагировать: то ли возмутиться, то ли сронить слезу умиления при виде грустного тщедушного мыша в талите. Тем временем тот воздел ввысь священный свиток перед кустарным временным алтарем, устроенным в том самом месте, где Адольф Гитлер, вскочив на стол, выпалил свои первые два выстрела в воздух.
— Шма Исроэль! Слушай, Израиль, — запел армейский раввин. — Господь есть Бог наш, Господь един.
Потом Джейк и раввин Ирвин Мельцер вместе пошли пить кофе. Получивший в армии звание капитана, капеллан, оказывается, когда-то был раввином в Джорджии.
— Там, знаете ли, тоже были сложности, — нараспев, пугающе тонким голоском рассказывал он. — То и дело меня подымали среди ночи. Вставай, беги в больницу. Дорожные аварии одна за другой. У нас там главное шоссе на Флориду проходит — вы ж понимаете! — машины сталкиваются, и таки часто это машины евреев!..
Нет, в Англии он еще не побывал, но собирается.
— Ах, Лондон! Оливер Твист. Шерлок Холмс. Лиза Дулитл. Столетия, века литературы. Прямо живые картины перед глазами!
Наконец Джейк спросил его про Всадника.
— Очень трудная, мятущаяся душа, как мне это представляется. Решение проблем пытается искать в бутылке, но тоже ведь своего рода мыслитель, пытливый ум не без склонности к метафизике.
— В самом деле?
— Однажды он даже пришел ко мне на богослужение. Правда, все время ухмылялся, пьян был в стельку, но вдруг взял да и поставил меня в тупик. «Вы знаете, ребе, — сказал он, — а ведь вы правы! Господь есть наш Бог, и Господь един. Но знаете почему? Да потому что у Господа нашего внутри сидит ленточный червь и такую создает в нем голодуху, что он может шесть миллионов евреев сожрать за один присест. А если бы таких богов, как наш Господь, было два? Представляете? Это ж было бы двенадцать миллионов! Где бы мы их на тот момент ему взяли? Так что Господь, Бог наш, точно един, ибо двух таких мы бы просто не сдюжили».
— А вы, — слегка опешил Джейк, — что вы ему на это ответили?
— Я обратил его внимание на то, что бывают тайны, тайнами чреватые, и даже в богохульстве может укрепиться корень веры. Мне тоже не дано все знать, — сказал ему я, — потому что я в Его земном воинстве тоже ведь всего лишь рядовой.
— Но его это конечно же не удовлетворило?
— Нет. «Принято считать, ребе, — сказал он, — что в лагерях сопротивления не было, что наши люди шли как овцы на бойню, однако выжившие свидетельствуют: среди евреев распространено было возмущение как раз очень глубинного толка. Не против человека. Ибо чего можно ждать от других людей? Продажности, порочности, смертоубийства. Нет, возмущение против Бога. Святого Имени Его. Говорят, в Освенциме среди ортодоксальных евреев появились такие, кто впервые в жизни не постился на Йом Киппур. Таково было их отрицание Господа, Бога нашего, который Един».
Раввин заказал себе еще кофе.
— Послушай, добрый человек, — сказал ему я, — не вопрошай Всевышнего, или Он может призвать тебя к ответу.
— А вы не могли бы рассказать, какие тут приключились у Джо неприятности?
— Да говорят, гашишем торговал, но прямых улик не нашли, так что формально обвинений против него никто не выдвигал. Но вообще-то его здесь недолюбливали. Как наши, так и местные. Он тормошил людей, задавал вопросы. Особенно его интересовали дела семьи Менгеле — у них тут фабрика неподалеку, в Гюнцбурге. Словом, он из тех, кто норовит разбудить лихо, когда оно спит тихо.
А отсюда, — добавил он, — Джо перебрался в Баден-Золинген, где подрядился выступать на базе канадских ВВС.
Баден-золингенская база Четвертого авиаполка Королевских канадских ВВС располагалась в тихом и зеленом Шварцвальде, окруженном горами, густо поросшими тенистым сосновым лесом, в котором там и сям высились развалины замков, и все это в каких-нибудь пятнадцати минутах на машине от роскошного курорта Баден-Баден. Весна, как пришлось признать Джейку, очень здешним местам идет. По долинам и взгорьям вовсю расцветали яблони и груши со сливами.
Часового на воротах Джейку удалось уболтать, показав ему свой канадский паспорт, старое удостоверение сотрудника Си-би-си и на ходу придумав, будто бы он приехал посмотреть, не снять ли про их базу документальный телефильм. Короче, где тут ваш пресс-секретарь. Джейка направили к шеренге бетонных многоквартирных зданий — общежитиям для женатых, расположенным сразу за забором собственно базы. В вестибюле плакат:
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ О ЯДЕРНОМ УДАРЕ
Спуститься в подвал при первом предупреждении.
Не есть, не пить, не курить и жвачку не жевать, пока не будет обеспечена безопасность пищи, воды и т. д.
У старлея Джима Хенли щечки как яблочки, сам веселый и любезный, на шее черный диск — дозиметр, чтобы в случае ядерного удара сразу знать, какую дозу радиации схватил. У его напарника капитана Роберта Уотермана такой же.
— Послушайте, мы ждали вас только на следующей неделе!
— Правда?
— Ну да, ведь вы же из команды, снимавшей «Защитников свободы»?
— В принципе да. Но меня сюда прислали как бы на разведку. Остальные подзастряли еще на неделю или около того.
— Пойдемте в столовую, — предложил Хенли.
В столовой полным ходом шла вечеринка; все вращалось вокруг приписанных к базе школьных учительниц; Джейк с ними тоже мельком пообщался. Оказалось — провинциальные хохотушки откуда-то из Онтарио. Смущаясь, Джейк спросил первую девушку, к которой его толпой притиснуло:
— Как вам тут нравится?
— О, немцы удивительный народ, — радостно сообщила та. — Это и впрямь моя страна!
Джейк изобразил еще большую радость.
— Нам есть чему у них поучиться, не правда ли? — И ускользнул к стойке бара, где люди куда более серьезные пили, сидя под плакатом «БДИТЕЛЬНОСТЬ В МОДЕ КРУГЛЫЙ ГОД».
— Ах, да кому тут нужны ваши деньги, — отмахнулся Джим Хенли. — Просто скажите, чем предпочтете травиться.
Тут к ним подвалил майор американских ВВС, больше похожий на неудачливого страхового агента, чем на Стива Кэньона[262]; встречен возгласами восторга. Майор хватал себя за живот и за горло, показывал, что полон до краев, и притворялся, будто еле держится на ногах, но после серии ужимок и продолжительного балбесничанья в конце концов согласился полечить подобное подобным.
— Ну что, как провели сражение? — спросил его Хенли. (Американский майор участвовал в учениях объединенных войск НАТО на французской базе неподалеку.)
— Да в жопу! Не войну устроили, а черт-те что.
— А что не так? Все только на бумаге?
— Да не в том дело. Беженцев тут развели и всякого дерьма. А беженцы блокируют, на хрен, все дороги. К тому времени, когда только самой гребаной потехе бы начаться, тебя уже разбили. Уж лучше отпустили бы назад — туда, сражаться с гребаными гадами.
Они потеснились, впустив в свой кружок высокого, грубоватого на вид старлея с необычайно толстым загривком; заказывая очередную порцию выпивки, Джейк с интересом оглядел его.
— Он из контрразведки, — шепнул Джейку Уотерман.
— Из контрразведки? — И Джейк тут же с самым серьезным видом пристал к старлею с вопросом: какие, дескать, тут на гребаной базе завелись гребаные проблемы с гребаным шпионажем со стороны гребаных коммунистов.
— Это секретная информация.
Уотерман объяснил, что Джейк с телевидения Си-би-си, потом похлопал Джейка по спине и говорит:
— Полагаю, вы без меня знаете, что нашими «CF-104»[263] вам любоваться также не дадут — они тоже шибко секретные. Но стоит подъехать к воротам базы, имея при себе хороший бинокль, и вы сможете переписать все номера фюзеляжей, пока самолеты взлетают и садятся. Таким способом легко подсчитать, сколько у нас здесь самолетов и как часто они летают.
— Что на это скажете? — спросил Джейк контрразведчика.
— Без комментариев.
— А если хотите разузнать, как такой самолет построить, — продолжал Уотерман, — купите «Новости авиамоделизма». О! Смотрите-ка, к нам идет наш главный по защите от ядерного поражения. Если на нас скинут атомную бомбу, его обязанностью будет проследить, чтобы все, на хрен, хорошенько расслабились.
Джейк отвел контрразведчика в сторонку.
— Если это не секретная информация, расскажите мне, как у вас тут по части развлечений?
— Ну, у нас есть боулинг. Кино смотрим. Есть хоккейная коробка…
— А выступал у вас тут когда-нибудь певец по имени Джесс Хоуп?
— А что такое?
— Да я тут пару недель назад пересекался с ним в Мюнхене…
— Играли в покер?
— Н-ну, в общем да…
— Этот сукин сын затеял тут игру, которая длилась с вечера пятницы и чуть не до обеда в воскресенье. По моим подсчетам, когда он смылся, у него в карманах было что-нибудь около тридцати тысяч долларов.
Медленно, ровным тоном, Джейк сказал:
— Рад это слышать.
— Слушай, парень, по-моему, ты пьян.
— Пока нет. Уотерман! Плесните-ка мне еще.
— Запросто.
— Джесс Хоуп — это мой двоюродный брат.
— Ей-богу, я бы не стал этим хвастать!
— А я вот стал! — сказал Джейк. — Потому что он настоящий солдат, а не какой-нибудь картонный. Не какой-нибудь тупоголовый пень, которому главное досидеть до пенсии. Он сражался на Эбро. Ну-ка, угадай, где это?
— Вот ты у нас умный, ты и скажи.
— Это секретная информация.
— Эге! Да он и впрямь напился!
— Кто б мог подумать!
— Это в Испании. «На каменистой площадке, отторгнутой зноем у Африки и ставшей мишенью учебной стрельбы для Европы…»[264] А еще он воевал в Израиле в сорок восьмом. За Иерусалим. — И, подавшись ближе, Джейк осведомился: — Ну а это где? Угадаешь?
— Ну ты даешь!
— Этот клоун говорит, что он двоюродный брат того шулера, — объявил контрразведчик. — Джесса Хоупа.
— А вы знаете, почему он уехал из Израиля? Вот, у меня тут есть — читаю прямо с открытки, которую он прислал жене. Я цитирую, джентльмены. Когда Рубашова в тюрьме выводили прогуляться взад-вперед по двору, рядом с ним однажды оказался некий помешанный, тоже старый большевик, который все время повторял: «В социалистической стране такое было бы абсолютно невозможно»[265]. А у Рубашова не хватало духу открыть ему глаза на то, что они не где-нибудь, а в Советской России. Конец цитаты. Вы знаете, кто написал ту книгу, которую он цитирует в открытке?
Молчание.
— Ну так слушайте. Вовсе не какая-нибудь Мазо де ля Рош. А тоже летчик, старший лейтенант Арти Кёстлер[266]. Xaвep[267] Уотерман, мне требуется еще выпить.
— А не пора ли нам?.. — забеспокоился Хенли.
— Вы были на войне? — вскинулся Джейк.
Контрразведчик кивнул.
— Ну и как вам теперь нацисты в качестве союзников?
— Слушайте, да они с этим Хоупом и впрямь близнецы-братья! Говорят так похоже, будто одинаковыми горошками дрищут.
Тут вмешался Уотерман:
— Может, и есть среди немцев такие, кто когда-то думал, что нацисты это хорошо, но мне они как-то даже и не встречались.
— Ну да, они хотят изжить свое прошлое, — поддержал его Хенли.
— А знаете, если взглянуть на вещи шире, — вновь заговорил Джейк, — они ведь, в сущности, были не хуже других. Ну ладно, ну уничтожили шесть миллионов евреев или, допустим, пять. Да кому эти евреи были нужны? В сорок четвертом Йоэль Бранд предложил лорду Мойну выкупить миллион евреев за несколько грузовиков с продовольствием, на что его светлость отозвался совершенно недвусмысленно: «А что мне потом с миллионом евреев делать?» Куда их потом девать? Вот то-то и оно. А какова, джентльмены, наша главная проблема сейчас? Перенаселение плюс гребаная, черт ее дери, красная угроза. Шесть миллионов евреев к настоящему моменту наплодили бы еще шесть миллионов, да еще и — давайте уж смотреть правде в глаза — голосовали бы за коммунистов, причем в таком количестве, что те после войны пришли бы к власти в Италии и Франции. И что тогда? Ой, большой был бы гевалт! Вы бы тогда, ребята, по-прежнему базировались в Трентоне, Онтарио. В стране дождя и гнуса. Ни тебе рейнского вина, ни девчонок. Ни дополнительного довольствия.
— Да-a, меня нисколько не удивляет, что этот типчик Джесс Хоуп его братан, — проворчал контрразведчик.
— Дорогой сэр, я искренне полагаю, что вас должно удивлять все, что сложнее букваря, но это ладно. Не будем о грустном.
— Ну, ты, приятель, даешь! Я т-торчу!
— Налейте-ка мне еще, Уотерман.
— Все-все-все. Завтра-завтра-завтра. Давайте-ка лучше мы проводим вас в ваш отель.
— Ну что ж, гм… давайте. Пожалуй.
Однако, оказавшись в Баден-Бадене, Джейк обнял Уотермана за плечи и потащил к себе, чтобы вместе выпить еще.
— Уотерман, вы мне нравитесь. Вы такой остроумный! Интеллигентный! Стильный!
Уотерман добродушно осклабился.
— Скажите, а этот Хоуп действительно ваш брат?
— Нет. Я наконец вычислил, понял, кто он. Джесс Хоуп, известный также как Йосеф бен Барух и Джо Херш, это Голем. Вас это, конечно, удивляет, но…
— А кто такой этот… ну… Голем?
— Что-то вроде еврейского Бэтмена.
— А-а.
— Голем, чтоб вы знали, это тело без души. В шестнадцатом веке его вылепил из глины рабби Иуда бен Бецалель, чтобы он защитил евреев Праги от погрома, и с той поры он, как мне кажется, все еще странствует по миру, появляясь там, где им больше всего нужна защита. А что, Уотерман, в той игре вы много ему проиграли?
— Ну, пару сотен, что ли.
— И куда он отсюда направился?
— Во Франкфурт.
— Уотерман, у вас настолько острый ум и вы такой симпатяга, что я вас, пожалуй, посвящу в кое-что сокровенное, но вы уж не выдавайте меня контрразведке.
— Хорошо, давайте.
— Та команда из Си-би-си, которая приедет к вам на следующей неделе, будет водить вас за нос: они не собираются снимать никаких «Защитников свободы». А сколько в личном составе вашего авиаполка женщин?
Уотерман выпучил глаза.
— Это секретная информация?
— Ну, может, сто.
— Когда приедут телевизионщики, вы за ними присматривайте. На самом деле они собирают материал для фильма о лесбиянках в армии. Это правда, Уотерман, уж вы мне поверьте.
То, что Джо поехал во Франкфурт, могло означать, что, скорее всего, он будет на слушаниях по делу Роберта Карла Людвига Мулки, Фридриха Вильгельма Богера, доктора Виктора Капезиуса и других служащих лагеря Аушвиц-Биркенау.
— Но не мог же Менгеле присутствовать там все время!
— По-моему, он находился там всегда. День и ночь.
Доктор Менгеле — как, сидя в секторе прессы, узнал Джейк — был озабочен состоянием женского блока.
«…Там женщины частенько лакали из своих мисок как собаки; единственный источник воды был рядом с гальюном, причем этой же тонкой струйкой пользовались, чтобы смывать экскременты. Женщины подходили туда попить, некоторые пытались взять воды с собой, набирая в кружки и тарелки, а рядом другие узницы сидели в это время над дырками канализации. За всем происходящим наблюдали эсэсовцы, прохаживаясь взад-вперед».
Тела умерших обгрызали крысы, кусали они и спящих. На женщинах кишмя кишели вши.
«Потом появился Менгеле. Ему первому удалось избавить от вшей женский лагерь. Он просто взял да и отправил всех заключенных женщин в газовую камеру. После чего провел в бараках дезинфекцию».
Точно как Ханна, это позорище улицы Сент-Урбан, ходила когда-то от стола к столу на бар-мицвах, всем тыкая в нос фотографию Джо, останавливала незнакомцев на вокзалах и совала снимок в лицо испуганным пассажирам в аэропорту, так и Джейк не давал проходу репортерам, приставал к ним у здания суда и в близлежащих барах и ресторанах, у всех допытываясь об одном и том же: не встречался ли им на каком-нибудь из заседаний Всадник.
«Иногда работники специальной команды, выносившей тела, обнаруживали, что у кого-нибудь из детей сердце все еще бьется. Об этом докладывали, и ребенка пристреливали.
— А использовались ли какие-либо другие методы убийства детей?
— Я видел, как однажды ребенка отняли у матери, отнесли к крематорию № 4, имевшему две загрузочные топки, и бросили в горящий человеческий жир…»
Никто ни в суде, ни в барах и ресторанах Джо не видел. В ближайших кабачках и подвальчиках, которые Джейк на этот предмет обследовал, в числе выступающих музыкантов Джо тоже не обнаружился.
— Но не мог же Менгеле присутствовать там все время!
— По-моему, он находился там всегда. День и ночь.
Если бы Бог не умер, Его следовало бы повесить.
12
Свой первый фильм Джейк поставил в 1965 году, и еще один в следующем. В том самом, когда Люк получил премию в Венеции, Молли сломала лодыжку, у Ханны случился микроинсульт, а Джейк купил дом, который Нэнси присмотрела в Хэмпстеде. О Всаднике по-прежнему ни слуху ни духу. Той осенью Нэнси обнаружила, что вновь беременна. В апреле шестьдесят седьмого, когда она была уже на восьмом месяце, Джейку пришлось лететь в Монреаль. Рак, который уже три года как завелся в почке у Иззи Херша, прооперировали, однако он проявился снова, его опять укрощали скальпелем, но он пустил корни, пронизав щупальцами все тело.
— Что-нибудь сделать еще можно? — спросил Джейк доктора, лечившего отца.
— Ничего. Он вот отсюда и посюда в метастазах.
Преодолевая себя, Джейк вновь и вновь тащился в душную отцовскую квартирку с окнами на бензоколонку «Эссо», садился у постели усыхающего Иззи Херша и принимался ему рассказывать, как тот поправится и они вместе сходят на Всемирную выставку[268], да не как-нибудь, а по виповскому пригласительному, потом поедут в Катскиллские горы — только ты и я, вдвоем и обязательно к Гроссингеру[269] — куда ж еще-то! — но Иззи только смотрел на него огромными пустыми глазами. Джейк поведал ему, как уже его сын Сэмми (вот уж кто переживет нас обоих, паршивец мелкий!) часто спрашивает про зейду, однако и это не вызвало в голове, безвольно лежащей на смятой подушке, никакого отклика. Он заверил отца, что женат счастливо. Да, конечно, — прочитал он в глазах старика, — но на ком? На шиксе!
Смешаные браки — ГОВНО!
Сидя у отцовской постели, Джейк звал его приехать в Лондон и пожить у них. Вместе они станут ходить на стриптиз в Сохо, а там такие нынче коленца выделывают — в старом добром монреальском «Гэйети» ни о чем подобном даже и помыслить не смели! От Иззи Херша никакой реакции. Тогда Джейк забормотал что-то про старинные деньки, вспоминая на пробу то про «Сигары & Воды» Танского, то про летний домик в Шоубридже, но глаза отца смотрели куда-то внутрь, заставить его улыбнуться не удавалось. Джейк обещал подарить ему красивую трость, купить новый халат. Напомнил отцу об утренних субботних походах в синагогу, нес чушь об их пасхальных седерах, о том, как они впервые посетили парную баню… Но нет, в глазах отца ни одной искорки. В конце концов Джейк помог Иззи Хершу облачиться в халат, стараясь не смотреть при этом на его иссохшее тело: когда-то горделиво выпиравший отцовский живот стал теперь пустым мешочком, свисающим на хирургические швы, опоясавшие торс вкруговую. Поддерживая с парализованного бока, Джейк привел его в душную, заставленную мебелью гостиную к телевизору, где отец и сын вместе посмотрели шоу Джеки Глисона[270], и тут уж Иззи Херш от смеха прямо завывал, а его глаза сверкали.
— Ну, парень! Ох уж мне этот Глисон! Вот кретин чокнутый! Прямо аж до печенок достает!.. А в Лондоне он со своим шоу выступает?
— Нет, — раздраженно рявкнул Джейк и решился наконец спросить отца о матери и о том, почему они с ней развелись.
— A-а: капало, капало, да и прорвало плотину, — ответил на это отец, по-прежнему улыбаясь и не отрывая восхищенных глаз от Глисона.
— А ведь я его знаю, — выпалил Джейк.
— Ты… лично знаешь Джеки Глисона?
Теперь папин священный ужас перед Глисоном Джейку маслом по сердцу.
— А в жизни он что… и впрямь такой пьяница?
— И впрямь.
Иззи удовлетворенно улыбнулся и больше не проронил ни слова, пока не пошла реклама.
— У вас в Лондоне сериал «Золотое дно» показывают?
— Показывают.
— Он ведь канадец, ты знаешь, наверное. Этот Лорн Грин[271]. И к тому же еврей.
Затем с таким видом, будто предполагает нечто невероятное, спросил:
— А что, может, ты и его знаешь?
— Был момент, — ответил на это Джейк, — когда я мог его взять и не взял.
— Ты хочешь сказать, что мог бы ему… Лорну Грину, стало быть… дать роль… и не дал?
— Совершенно верно.
«Ты лжец», — прочел он в глазах старика.
— Он-то ведь миллионер теперь, сам знаешь. И все сам, своим горбом.
На экране же в это время Бобби Халл несся по испятнанной солнцем «Королевской автостраде»[272] в «форде-метеор». Машина для настоящих мужчин!
— А вот кого ты наверняка не знаешь, так это Джеймса Бонда. Ну, в смысле, как бишь его?
— А вот и знаю!
— Ну, и какой он? То есть в общении, в реальной жизни.
— Да самый обыкновенный, — мстительно процедил Джейк. И, не ожидая, пока отец вновь вперит взгляд в экран, опять его огорошил: — Он, между прочим, вовсю меня сейчас обхаживает, чтобы его следующий фильм ставил я.
— Ого, да это же небось какие огромные деньжищи-то!
— Скажи, ты бы тогда мною гордился?
— Про Джеймса Бонда? Хо-хо!
Вранья Джейк сразу устыдился и замолк, а когда Глисон кончился, помог отцу вновь улечься в постель, с которой тот не встал уже никогда.
— Наша беда в том, что мы не разговариваем друг с другом, — сказал Джейк. — Никак по-настоящему поговорить не удается.
— Да ну, зачем лишний раз ссориться!
Джейк помог отцу выпутаться из халата и осторожно опустил его на кровать, где несколько секунд тот лежал непокрытым — старик в не очень чистой майке и трусах — и глядел вверх с заискивающей улыбкой. Расправляя одеяло, Джейк краем глаза увидал отцовский член, крючочком выпавший из трусов. Как дохлый червячок. У Джейка открылся рот, яростный выкрик застрял в гортани. Много лет назад они с Рифкой вместе, бывало, вечером в пятницу подслушивали, прижавшись к двери своей спальни и зажимая ладонями рты, чтобы не хихикать, когда Иззи Херш, стараясь не топать громко, подходил в длинных кальсонах к кухонной плите и швырял в пламя шабата использованный презерватив, который коротко пшикал, после чего отец возвращался в свою кровать. У родителей были две одинаковые односпальные кровати под одинаковыми красными стегаными покрывалами. Что ж, в другое время и в другом месте, спохватился Джейк, этот член произвел меня на свет божий. Джейк наклонился и на прощанье поцеловал отца.
— Все нынче прямо как с цепи сорвались: и целуют меня, и целуют, — проворчал Иззи Херш иронически.
— Потому что любят!
— Да, фильмы про Джеймса Бонда — это, конечно, нечто. Вот уж и впрямь золотая жила. Видел небось, как у нас тут рекламируют последнюю серию?
— Да, — подтвердил Джейк, стоя уже в дверях. — Конечно.
— А! Погоди, Янкель!
— Что?
— Ты получаешь журнал «Плейбой»?
— Да.
— Когда тебе надоест очередной номер, можешь пересылать мне. Возражать не буду.
В коридоре Джейка перехватила теперешняя жена Иззи Херша Фанни — как раз поднялась из подвала с корзиной белья.
— Я люблю твоего отца, все это время он был мне чудесным мужем; уж я стараюсь окружить его заботой на высшем уровне.
— Я благодарю вас. И от Рифки тоже спасибо.
— Его хотели поместить в больницу для неизлечимых, говорили, что мне будет слишком тяжело с ним, но я сказала нет, пусть уж дома помрет.
— Ради Христа, он же не глухой! Может услышать.
— Хорошо, что вы приехали. У вас, наверное, дела идут неплохо.
— В каком смысле?
— Ну, потому что прилететь из Англии — это же дорого! А я так рада, что у вас дела идут и что мы друг другу так понравились. Я всегда буду рада видеть здесь и вас, и вашу жену… Я ведь не то что ваши тетки, лишним снобизмом не страдаю. А то смотрят на всех сверху вниз… — Она прервалась, подумала, как нерешительная лошадь перед прыжком через препятствие. — Быть еврейкой — это же еще не все!
— Спасибо, я передам Нэнси ваши слова. До завтра.
Следующим вечером — как раз был первый вечер Песаха — приехала Рифка с Герки и двумя их буйными перекормленными мальчишками. Ленни двенадцать, Мелвину еще только пять. Для седера Фанни установила в спальне раскладной стол, и вот уже Джейк в кипе, волнуясь, как бы она не сползла с макушки, встает и неуверенно задает четыре положенных вопроса. Повернувшись к лежащему на кровати отцу, возглашает:
— Чем этот вечер отличается от всех других вечеров? Тем, что в другие вечера мы едим либо хлеб, либо мацу, а сегодня только мацу. Тем, что в другие вечера мы едим любые овощи, а сегодня — горькие травы.
Глаза старика остекленели; он никак не реагировал.
Джейку вспомнилось, как в былые времена, когда подходил момент передавать крутые яйца, отец неизменно ухмылялся и спрашивал: «А вы знаете, почему евреи, празднуя Песах, окунают яйца в соленую воду?» — «Нет, папочка. Почему?» — «Потому что, когда они переходили Тростниковое море, мужчины вымочили в соленой воде свои яйца!»
Джейк продолжал:
— Во все другие вечера мы не окунаем овощи, а сегодня…
Звонок в дверь. Что-то рановато нынче Элиягу за бокалом вина пришел.
— Это доктор! — засуетилась Фанни.
Долгожданный врач-специалист. При этом не еврей, заметьте-ка.
— Разрешите вашу шляпу, сэр. Пожалуйте сюда, сэр. Благодарю вас, сэр.
Пока специалист осматривал Иззи Херша, все ждали в гостиной; голос врача, нечеловечески бодрый, ясно доходил сквозь стену.
— Так-так-так. Ну, выглядите вы не так уж и плохо. Сколько вам лет?
— Шестьдесят пять, сэр…
— Значит, год рождения ваш…
Помедлив, Иззи Херш снабдил его датой. Непостижимого зимнего утра в галицианерском штетле практически другого века.
— А сегодня у нас что за день? Сказать можете?
— Среда… или нет, нет… вторник…
— Не всегда удается нужное словечко подыскать, не правда ли?
Молчаливое, из гостиной невидимое согласие.
— Давайте мы с вами сыграем в игру. Согласны?
— Да, сэр.
— Назовите-ка мне, скажем… месяцы года.
— Январь… Февраль… Март…
Всеведущий Герки многозначительно кивнул Джейку.
— Проверяет, нет ли у старика завихрений.
Джейк нахмурился и сгреб бутыль пасхального вина, которую заранее предусмотрительно наполнил запретным коньяком «Реми Мартен».
— Глотать трудно? — осведомился специалист.
— Да, сэр.
Глупые глаза Фанни Херш зажглись гордостью.
— Когда заболел Бронфман[273], к нему при всех его миллионах вызывали этого же специалиста. Это профессор с мировым именем!
— Ну, наконец-то папе повезло, — улыбнулся Джейк, повернувшись к Рифке. — Те же руки, что щупали анус у Бронфмана, прикоснулись и к нему!
Рифка тут же вскочила с дивана и принялась выпроваживать сыновей: сходите, купите себе мороженого.
— Ага, ну-ка, повернем вот так… хорошо, отлично, — слышался голос специалиста. — А вы что, родственник Джейкоба Херша?
— Это мой сын. Он…
— О, правда?
— …приехал аж из самого Лондона навестить меня. Собирается ставить следующий фильм про Джеймса Бонда!
— Ух ты! — внезапно встрепенулся Герки. — Поздравляю!
— Он очень, очень хорошо зарабатывает.
— Тебе там, кстати, помощь не нужна? На кастинге девушек щупать.
Когда Рифка совсем было собралась занять прежнее место на диване рядом с Герки, нацелившись сплющить раскидистым задом ни в чем не повинную подушечку, Герки молниеносно сунул под нее руку, колом выставив вверх большой палец.
— Оп-па!
Рифка дернулась и, захихикав, навалилась грудью на стол.
— Идьёты чертовы, — прошипел Джейк.
— Я применяю психологию, а ты шмок! Если мы зайдем потом к нему в комнату, ломая руки, ему что, от этого легче будет?
Едва специалист вышел из спальни, Джейк сразу увлек его в переднюю.
— Мы незнакомы, доктор. Меня зовут Джейкоб Херш.
— Вы знаете, вашими работами на телевидении я каждый раз восхищаюсь.
— Спасибо. Послушайте, я знаю, что у отца весь организм пронизан метастазами… но… в общем, чего нам ждать в ближайшем будущем?
— Может быть, кровоизлияния в мозг. А может, сердечного приступа. С легкими у него тоже не все в порядке.
— Он думает, что поправляется. Ждет каких-то упражнений, терапии.
— Если хотите, я могу это организовать. Правда, наши сотрудники не любят работать с обреченными. Это на них действует угнетающе.
— Особенно угнетающе это действует на моего отца! — Морфий, как удалось выяснить Джейку, отцу пока не назначали. — Сколько ему осталось?
— До конца лета вряд ли дотянет.
Джейк ждал.
— Ну… Хорошо, если месяца полтора.
13
А ведь и от меня, думал Джейк в самолете, летящем обратно в Лондон, точно так же ничего не останется. От меня со всем моим домом. От Нэнси, Сэмми, Молли и младенца, который еще не родился. Вспомнилось, как за неделю до рождения Молли миссис Херш настаивала на том, что она приедет и поживет у них.
Наверху Нэнси напевала, укладывая Сэмми в кроватку:
Для всех, кто верит во Христа, И ночью свет сияет. А эта ночь для нас свята, Да будет радость всех чиста, Исус здесь пребывает…В зале нижнего этажа Сэмми строил дом из набора «Лего». За тем, чтобы он не отвлекался, следила бабушка.
— А ты знаешь, что ты за дом построил, цыпа моя? Этот дом называется «синагога».
Сэмми продолжал добавлять элементы конструкции.
— Мы там молимся, — настаивала миссис Херш.
— А, церковь!
— Нет, синагога. Ну, повторяй за бабушкой. Синагога.
— Синагог.
— Ах ты, моя прелесть! Да. Синагога.
Вот ведь племя-то какое новое эти дети смешанных браков! В декабре они кушают конфеты под елкой, а в апреле хрустят мацой. На этой стороне их уже не гонят, не попрекают тем, что они Христа убили, а на той не насмехаются над их выправкой англосаксов-протестантов, и в результате они приняты везде. Инвестируют в Иегову, а дивиденды получают за Христа. И с равным аппетитом уплетают как крестовые булочки на Пасху[274], так и халу в шабат.
Чертова Рифка, едва только ей представили Сэмми, мгновенно запустила руку ему в подгузник.
— О! Я смотрю, вы с ним уже справились, Джейк. Молодцы!
Затем им с Герки на экспертную оценку предъявили хнычущую Молли.
— А что ж это она у вас такая светленькая? — поджала губы Рифка.
— Ну, маленький я тоже был такой, — поднял брови Джейк, — не помнишь, что ли?
— А голубые глаза вообще у всех младенцев, — примирительно заметил Герки. — Известный факт, верно?
Много бокалов бренди спустя, когда Джейк, сопроводив гостей в отель, зашел к ним в номер, Герки вдруг сел рядом с Джейком и каким-то новым тоном — заговорщицким и вместе с тем снисходительным — вдруг шепчет:
— Ну что, родственничек, нам бы надо поговорить.
— Правда? Ну, давай.
Герки встал и, подойдя к двери спальни, убедился, что Рифка спит.
— Я должен кое-что тебе открыть.
Что такое? Может, Рифка подворовывает в универмагах?
— И что же это? — устало осведомился Джейк.
— А то, что сейчас уже все в порядке! Все, можно сказать, тип-топ!
— Ну, замечательно.
— Ты можешь вернуться домой! — Герки потрепал Джейка по щеке, глядя полными слез глазами. — Время лечит. Ты меня понял?
— Слушай, ты не можешь объясняться понятнее?
— Ну, ты ведь женился на шиксе. И родственники не сказать, чтобы запрыгали от радости. Но ты повел себя пристойно, не лез к ним, не пытался навязываться… в общем, не поехал с ней в Монреаль. А остался на время здесь.
— Чего-чего?
— А того, что некоторые из нас стали смотреть на это современнее, да и в любом случае… Видно, что она о тебе заботится, в доме чистенько, да и дети у вас теперь пошли. Ну, и я… вроде как поговорил с твоим отцом. В общем, короче говоря, все о’кей.
Сияя и лучась великодушием, он добавил:
— Это я к тому, что можешь возвращаться домой, Янкель.
— Да ты что, Герки! Я ведь не с горя тут. Мне здесь нравится!
— Слушай, ну оставь ты свое самолюбие! Самолюбие — это же глупо! Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Я же Герки, твой зять, сеструхин муж!
В отчаянии Джейк схватил бутылку бренди, налил себе еще.
— То есть ты хочешь сказать, — уточнил Герки, — что тебе и впрямь предпочтительнее жить здесь, чем в Монреале?
— Да.
— Ой, ну они же тут такие земноводные! Евреи и те здесь такие — прямо не подступись. Слушай, не смеши меня!
— Да нет, я абсолютно серьезно. Честно.
— К тому же в Европе все какое-то задрызганное, все старое. А дома мы можем всюду ездить… Вот ты, например, наверное, не знаешь, а ведь до Сент-Агаты[275] теперь всего час езды! Новый хайвей построили. На шесть полос!
Не очень согласованные между родителями системы воспитания вкупе с непоследовательностью попыток Джейка привить детям чувство социальной справедливости произвели эффект наложения или, точнее, вызвали некоторый временный разброд, в результате которого за два дня до Рождества, решая проблему сада, Джейк оказался в положении совершенно дурацком.
Когда в апреле 1966 года Нэнси в конце концов купила для них дом в Хэмпстеде, Джейк заехал посмотреть его по пути из Пайнвуда, где у него происходили съемки. Прошел по комнатам, толкнул последнюю стеклянную дверь, и — это ж подумать только! — перед ним открылось ничем не загроможденное чуть не бесконечное зеленое пространство. Поросшее колючими давно не стриженными кустами. С подернутым ряской стоячим прудом в середине (для размножения комаров, надо полагать) и проржавевшим «убежищем Андерсона»[276] в дальнем конце.
Сразу на передний план полезло гойское детство Нэнси — вывезенные из Онтарио трепетные воспоминания о том, как бабуля сбивала домашнее мороженое, как собирали малину, какое получалось из нее варенье и как старенький дедушка высаживал рассаду на грядки в парниках. «Глянь-кося, Нэнси, небо-то огромное какое!» Онта-ари-ари-арио-о! Городскую, вкусившую в Торонто эмансипации, мать вновь впрягли в сельскохозяйственную лямку, заставив лопатить свиной навоз и с радостным приветом кланяться каждому чудику меннониту, какой ни нарисуйся вдруг за забором участка. «Здра-асте, соседушка!» И тоном выше: «Чада, возрадуйтесь!» — это папа прибыл на уик-энд в черном «фордике» довоенной модели. Вырвался из непостижимых городских джунглей, где обувные фабрики принадлежат евреям, а ты все бьешься, бьешься, бьешься, продаешь, и все мало, все не потрафишь очередному мистеру Гольдштейну. Черт бы их всех подрал.
— Генри! — Это уже мать зовет сына. — Грядку закончил? Тогда беги, тебя уже рыбки в речке заждались.
— Ур-ра-ааа!
Лизнув Джейка в ухо, Нэнси обняла его, прижалась, вводя в сладостный мир их личной каббалы, и тут же все нарушила, заговорив о двулетниках и осенних долгоцветах, о травяных лужайках и каких-то еще, прости господи, миксбордерах.
В ужасе и смятении Джейк угрюмо напомнил ей, что он во всем этом не смыслит ни бельмеса: ведь он же вырос в городском дворе, скорее даже на свалке, где среди пробитых шин валяются арбузные корки, битые унитазы и панцирные сетки от кроватей. Однако не прошло и месяца, как уже Джейк стал самым ревностным в семье садовником, посчитав это своим режиссерским долгом — навести порядок в таком запутанном и богомерзком деле. Из универмага Джона Барнза он вышел нагруженный двухтактной бензокосой, садовыми ножницами, культиватором, кадками, граблями, опрыскивателем, семенами, тяпкой, совком и лопатой. На следующий вечер, едва Нэнси за дверь (пошла за покупками), они с Сэмми и Молли принялись сгребать и жечь осенние листья, расчищая свои угодья, свой — наконец-то — хэмпстедский надел, прямо как Ван Хеффин на Диком Западе в фильме «Шейн».
Джейк корчевал один никчемный с виду куст за другим, стриг рододендроны и, перекапывая землю, рубил какие-то похожие на метастазы корни с наростами. Их он выдергивал и складывал в тачку.
Однако Нэнси он всем этим не порадовал.
— Господи боже ты мой! — ужаснулась она. — Осенние листья, если они правильно сгниют, — осторожно принялась она объяснять, — могут стать ценным удобрением. А чахлые кустики, которые он корчевал, на самом деле были взрослыми кустами роз, аналогично и метастазные корни с раковыми утолщениями: они оказались не только не злокачественными, но и вообще клубнями пионов! Чертова шикса, думал при этом Джейк, внутренне весь кипя, деревенщина из Онтарио! Святого Тайного Имени Всевышнего ты не знаешь, высказываний рабби Акивы не изучала и понятия не имеешь, как надо избавляться от дибука[277], зато во всякой херне вроде этой — тут да, тут ты специалистка! С тем он, надувшись, удалился в гостиную изучать инструкции к только что приобретенным садовым инструментам. Этакий протестантский Талмуд.
Да только без толку. Нет призвания, и хоть ты тресни! Извернувшись, Джейк заявил, что у него и других дел хватает — в новый дом надо мебель подбирать, убранство всякое, — да и с детьми забот полон рот, так что лучше уж нанять садовника, чтобы приходил раза два в неделю. Но он же будет спустя рукава, заартачилась Нэнси. Презрев ее возражения, он настоял на своем. Главным образом потому, что хотел чувствовать себя хозяином, чтобы этот нанятый батрак был у него в подчинении и отчитывался лично перед ним, своим начальником. Но старый Том Пивное Брюхо, шотландский крестьянин, нанятый ими на эту должность, был так же хитер, как и морщинист, а классовое чутье у него было словно собачий нюх. В Джейке он вмиг распознал городского помоечника, который нипочем не отличит курчавость листьев от ложномучнистой росы[278], поэтому лишь терпел его и улыбался скупо. С Нэнси же вел себя совсем иначе. Уверенная в себе и осведомленная о предмете, с его точки зрения, она была приличной сельской дамой, попавшей в волосатые лапы жида, так что ее он уважал, с ней считался. Стоя у окна, Джейк с возмущением наблюдал, как они вдвоем обходят сад, словно два каких-нибудь зануды из романа Томаса Харди, и, наслаждаясь идиллическими пустяками, обмениваются гойскими секретами, которые, видимо, черпают в Протоколах Мудрецов компостной кучи.
Решив все-таки извлечь хоть какую-то пользу из присутствия на своей территории Тома, Джейк попытался использовать его как живой пример в деле укоренения в Сэмми чувства социальной справедливости. Когда сын, рано вернувшийся домой из школы, помчался через сад к нему, вопя и беснуясь по поводу того, что их команда выиграла крикетный матч, Джейк вдруг сказал:
— А вот у Тома внуки в частную школу не ходят, но от этого они ничуть не хуже тебя.
Сэмми пораженно замер.
— Я это всего лишь к тому, что твой дедушка бедный еврей, — продолжил Джейк куда менее уверенно.
За день до этого на школьном концерте из всей сияющей, радостной публики Джейк единственный сидел с хмурым видом, слушая, как Сэмми с остальными распевает:
Пастухи в вертеп вошли, Бога в ясельках нашли. Рядом Дева-Мать сидела, На Дитя Своё глядела. И светилось всё вокруг: Небо, горы, лес и луг.Следующим вечером после тяжкого дня в монтажной Джейк налил себе джина с тоником и пошел искать отдохновения в саду. Но там, как нарочно, в засаде таился хитрый старый гой — сняв пропотелую шляпу, как раз отирал пот со лба. И Джейка понесло обратно в кухню — ведь надо и работнику налить стаканчик того же! В результате разозлился. Ну не мог он, сам потягивая джин, работнику поднести пива: это бы шло вразрез с идеей равенства! И было бы плохим примером для Сэмми.
Но, даже несмотря на совместное с Томом распитие напитков, ощущение, будто в собственном саду он незваный гость, не покидало. Вот и сейчас: едва Джейк устроился в шезлонге, как Том принялся бешено что-то копать. Решил, что я уселся здесь следить, чтобы он не прохлаждался, подумал Джейк, и тут же, рубанув с плеча, уволил Тома, лишив старика еженедельных двух вечеров работы, — и все ради того, чтобы обоим не тратить нервы на этот классовый конфликт.
— А почему больше не приходит Том? — спросил Сэмми.
— Я уволил его. Он был лентяй, — брякнул Джейк, поздновато припомнив, что совсем недавно, укутывая Сэмми одеялом, объяснял ему, что нехорошо, просто даже неприлично жаловаться на то, что рабочие будто бы ленивы, как это делают некоторые взрослые.
— Таким людям, как дедушка Том, — сказал он тогда, — всю жизнь гнувшим спину на заводском конвейере, приходилось ради куска хлеба постоянно выполнять работу, которую они ненавидят. Естественно, им обидно, и работают они нехотя. Да ведь и в самом деле: для взрослого мужчины нет ничего хуже, чем день за днем заниматься нелюбимым делом. А вот если ты получишь хорошее образование, то, когда вырастешь, сможешь работу выбирать. Тогда тебя нельзя будет приставить к делу, которое выматывает душу. Поэтому к тем, кому повезло меньше, надо относиться внимательно и с сочувствием.
Неудивительно, что теперь Сэмми смотрел на отца озадаченно. Во все глаза.
— Да нет. Он не был лентяем. Просто он достал меня.
Впрочем, соседи Джейка продолжали пользоваться услугами старика Тома. Бывало, зайдет Джейк вечерком в местный салун, закажет большой джин-тоник — глядь, а за стойкой бара, покручивая сигаретку в дрожащих пальцах, сидит, с недоброй улыбочкой глядя в кружку, все тот же старина Том.
Ближе к зиме Том стал бывать на их улице реже. Сделался никому не нужен. Однако за пару дней до Рождества вдруг появился вновь.
Святки для Джейка никогда не были любимым временем года: елку в гостиной он воспринимал как афронт, сколько бы ни пытался заставить себя примириться с ее появлением. Стоит и пусть себе стоит. Как символ плодородия. Как дань языческим обрядам. У Нэнси есть на это право, да и у детей тоже — все-таки они суть порождение обеих традиций; но в полукровочном доме Херша и ритуалы получались половинчатые: елку здесь украшали лишь нейтральными межконфессиональными побрякушками. То есть на ее вершине, превыше всего и вся не красовался Йошка с нимбом над головой. И все же… все же, увешай ее хоть всю сплошь шоколадками и серебряным дождем, укрась цветными шарами, хоть даже натри сверху донизу куриным жиром, все равно перед Господом это будет рождественская елка. Не для того его предки переживали гонения при царе и бежали из штетла, чтобы у него, их потомка во втором поколении, окна в канун Рождества сияли, как у какого-нибудь недоброй памяти казака-черносотенца. Старушка Ханна, наверное, посмеялась бы над ним, высказала бы ему свое «фе». Что ж, ему бы, может, и хотелось с нею согласиться, но… это ведь дом и Нэнси тоже! Ведь у Молли и Сэмми зейда по материнской линии — обычный гой. Нетронутый Спинозой, не ведающий сложностей и загадок книги «Зогар» и напичканный интеллектуальными клише, свойственными его племени. Полагает известным, например, что в реслинге исход боев согласован заранее. Джейк ему поддакивал и так при этом бывал собой доволен, что даже хлопал себя по колену и громко хохотал.
Раздражающую эту елку в последнее Рождество он, как обычно, постарался выкинуть из головы, чтобы всецело раствориться в удовольствии ходить по магазинам с Нэнси. Все-таки, если смотреть на вещи объективно, праздник это всего лишь повод дарить любимым подарки и предаваться обжорству. В «Харродсе» они потребовали норфолкскую индейку и йоркширскую ветчину; в «Фортнуме» вдарили по черной икре и марочным винам. Копченую лососину (еще одна уступка экуменизму) купили у Коэна, после чего Джейк в который раз настоял на том, чтобы на столе все-таки был и печеночный паштет, за приготовление которого взялся сам, на всю кухню распевая Адон Олам[279] — громко, мощно, куда там электромясорубке!.. В общем, восславил Господа.
Сразу после похода по магазинам, всего за пару дней до Рождества в дверь позвонили, и Джейк в тапочках пошел открывать. За дверью оказался длинный сутулый полицейский с вымученно-вежливой гримасой.
— Извините, что побеспокоили, сэр. Но нынче ночью вас не обокрали?
— Нет. Совершенно точно нет, — заверил его Джейк, и, заглянув полицейскому через плечо, увидел машину и сыщика в штатском на заднем сиденье. А рядом с ним, кривясь в вымученной улыбке из-под мятой линялой шляпы, сидел морщинистый старый Том.
— Ба, да это же мой старый садовник!
— Что ж, хорошо, тогда все понятно.
И полицейский пояснил, что он бы не стал беспокоить Джейка, если бы этот человек не описал так подробно внутреннее убранство дома.
— Их сезон настал, — проговорил он, осклабясь. — Вы ж понимаете!
— Что значит — их сезон?
— Ну, вдруг — бабах! — зима. Погода жуткая. Работы нет. И надо как-то обеспечить себя хлебом и кровом на ближайшие месяцы. Вот они и прут гуртом в участок, признаются в квартирной краже, надеясь, что заботу о них до весны возьмет на себя государство.
— Постойте, сержант. Не исключено, что я ошибся! Вдруг он и впрямь что-нибудь стащил! Какую-нибудь мелочь, — решился пойти на хитрость Джейк.
Сержант стоял с непроницаемым видом.
— Может быть, вы зайдете? Я сбегаю наверх, проверю там.
Однако, по мнению Нэнси, для Тома Джейк ничего уже сделать не мог. Джейк не поверил, кинулся вниз опять к сержанту.
— Послушайте, начальник, — заговорил он, лучезарно улыбаясь. — Вы не могли бы просветить меня насчет законов?
— Я постараюсь, сэр.
— Сколько этому старику надо стащить, чтобы он получил три месяца?
— Если у вас что-то пропало, вы должны подать официальное заявление, — ответил тот, вынув блокнотик.
— Гм, — проговорил Джейк, отступив.
— Это ваш долг.
— Долг? Старому хрычу спать негде! Вы что, хотите, чтобы он замерз под забором?
— Это, сэр, вряд ли входит в мою компетенцию.
— А что же тогда в нее входит? — вдруг разъярился Джейк. — Разгонять демонстрации? Избивать выходцев из Вест-Индии?
— Успокойтесь.
На верхнюю площадку лестницы в ужасе выбежала Нэнси.
— Вот она — справедливость по-британски! — бесновался Джейк.
— А вы, стало быть, американец? — озадаченно осведомился сержант.
— Нет. Я канадец. Как ваша фамилия? — потребовал Джейк.
Тот назвался.
— Хо-хо, — развеселился Джейк. — Ха-ха! — Он фыркал и потирал руки, поглядывая на застывшую в ужасе Нэнси. — Ну, тогда да, тогда конечно! Все понятно!
— Что вам понятно? — в недоумении нахмурился сержант.
— Да все. Только вот имени я вашего не уловил.
— Майкл. Майкл Хор[280].
Много часов Джейк, устыдясь, просидел в своем чердачном убежище, прежде чем выйти на свет божий.
— Я знаешь, что вдруг подумал, — каясь, говорил он потом Нэнси. — Мы все со временем становимся в точности как наши отцы. Люк вступил в Клуб Гаррика[281], а я впадаю в идиотизм. Как я мог такое отчубучить?
14
Собрав фотографические причиндалы и прикинув, Гарри решился: какого черта, раз в жизни можно позволить себе такси! Проголосовал и дал шоферу адрес Академии изобразительных искусств в Фулэме.
Боже, какой паноптикум, дивился он, спускаясь с видом еще более заносчивым, чем обычно, в полуподвал, где слонялись другие ожидающие. Нынче, стало быть, сплошь отставники. Отставники и жители дальних окраин. Нагруженные камерами, экспонометрами, треногами, а некоторые даже с реквизитом для девицы.
В конце концов, к ним соизволил выйти ассистент профессора, корпулентный добродушного вида мерин.
— Привет, привет, привет. Модель, которую мы, невзирая на расходы, хотим вам сегодня представить, это мисс Анджела; ее сам Харрисон Маркс[282]снимал, и даже не раз. Девяносто девять — пятьдесят восемь — девяносто семь. Да, дорогие мои, девяносто девять! Так-то вот! Назад немножко сдайте, а то совсем места ей не оставили. Ждем от вас интересных идей. Анджела согласна сниматься в динамике, но… но с условием. Вы меня поняли, ребятки? Не фамильярничать! Так сказал ее молодой человек, а с ним я бы вам не советовал связываться. Ну, все усвоили, противные мальчишки?
Мисс Анджела, наряженная в прозрачный голубенький халатик, кружевной пояс с резинками и черные чулочки, вплыла в студию, села на табурет и обвела собравшихся мужчин безразличным взглядом. От сигарет отказывалась, попытки завязать разговор пресекала. Только Гарри удостоила легкого кивка.
— Ну что, как сладостная жизнь фотомодели? — спросил Гарри.
— Все чудненько. Живем себе. Спасибо.
Профессор в синем берете и шейном платке, черной бархатной рубашке, джинсах «ливайс» и сандалетах запрыгнул на сцену, чтобы предварить практические занятия лекцией с показом слайдов. Когда ассистент притушил свет и навел на экран первый слайд, профессор начал:
— Вот здесь мы видим, как вследствие устремленности тела вперед у модели напряглись мышцы, что и создает впечатление непреоборимого порыва. Следующий слайд, пожалуйста… Ах, это Стелла. Вот здесь опять можно видеть, как, стоит девушке выгнуть спину, мышцы начинают подтягивать полные груди вверх, что усиливает впечатление величавости и достоинства. А в данном случае ясно видно также и то, что основные линии, образующие контур тела, сходясь к центральной затененной области, обеспечивают хрупкий баланс между центробежными и центростремительными силами. Этот баланс визуально проявляется во взаимном равновесии пересекающих друг друга неправильных треугольников, которые, в свою очередь, подчеркивают угловатую легкость фигуры.
Окончание своей речи профессор адресовал, по-видимому, тем, кто посетил академию впервые, потому что в который раз поведал публике о своих трудностях и невзгодах, как прошлых, так и нынешних, о битвах с цензурой и о том, что за творческую свободу приходится платить постоянной тревогой и готовностью ко всему. Сообщил, что миром правит глупость и ханжество: ну в самом деле, о чем может идти речь, когда любой, в любом месте Британии может зайти на почту, оформить денежный перевод и выписать из свободной Дании все, что угодно, тогда как британские фотографы, в том числе и лауреаты всевозможных премий (такие, как он сам, например), лишены права конкурировать с зарубежными даже на местном рынке, не говоря уже об участии в экспорте, которое, между прочим, было бы очень в русле нынешней кампании «Поддержи Британию»[283]. Сообщив, что он автор книги, подписанные экземпляры которой можно купить в фойе за пять гиней, профессор продолжил:
— Подобно художникам прошлого, которые с незапамятных времен заметили, что изображение неприкрытой наготы является идеальным поводом для стереографии (то есть изображения рельефа и объема), нынешний мастер художественного фото смотрит на обнаженную натуру как на предмет, единственно заслуживающий рассмотрения на пути правильного раскрытия темы объема и игры светотени на телах сложной и неправильной формы.
Затем мужчины устремились вперед, таща за собой камеры, треноги и реквизит, и после короткой потасовки выстроились в очередь, тогда как мисс Анджела, сойдя с высокого табурета, встала под софиты.
— Будьте так добры, возьмите эту палку. Спасибо. Теперь замахнитесь ею.
Щелк.
— И еще раз.
Щелк.
— Ну, и еще разочек. Вы просто чудо!
Потом вперед выступает следующий, приседает, наводя камеру.
— Высуньте язычок. Потрепещите им.
Щелк.
— Да-да, вот так. Просто чудо.
Щелк.
— А нельзя ли халатик приспустить? И наклониться чуть вперед. Супер!
Щелк.
— Да. Вот так.
И еще один:
— Сделайте развратный взгляд. Еще развратнее. Смотрите так, будто я предложил вам нечто абсолютно непристойное. Вы просто прелесть. Чудесно.
Наконец, пришла очередь Гарри.
— У двух парней передо мной в аппаратах и пленки-то не было!
В ответ Анджела понимающе хихикнула, вытянула вперед руки, и Гарри надел на них наручники, после чего она стряхнула халатик на пол.
— Принять испуганный вид, да, солнышко?
— Да, ты вне себя, ты в жутком страхе, потому что… — тут Гарри к ней наклонился и зашептал на ухо, демонстрируя тем самым одну из своих особых привилегий, — потому что к тебе тянется кровавая рука Невилла Хиса! Или, если хочешь, Яна Брейди[284].
— У-у-у! — изобразив дрожь в голосе, протянула она.
15
Возможности снять фильм Джейк дожидался целую вечность и, когда с головой ушел в процесс кинопроизводства — мучился вместе с автором над сценарием, набирал актеров, снимал и (самое приятное) монтировал, — почти поверил в то, что его страдания оправданны, однако, закончив фильм и выпустив его на экраны, со всей очевидностью убедился, что картина не оказалась ни прекрасной, ни ужасной, а всего лишь так себе, более или менее ничего. Еще одна смотрибельная киношка в числе прочих. Та энергия, которую он и работавшие с ним затратили, те доллары (миллион двести тысяч, между прочим), которые они в это дело вбухали, можно было использовать с гораздо большей пользой, если бы на них построили жилье для бездомных и дали пищу голодным. За что, спрашивается, боролись?
Начиная в 1966 году работу над своим вторым фильмом (триллером), Джейк сознавал, что ему уже тридцать шесть и молодость ушла безвозвратно. Ему тридцать шесть, он профессионал, и не более. Казалось, впервые в жизни начал уступать микробам. Вдруг стали быстро разрушаться зубы. Откуда-то взялась изжога, а задний проход загородили геморроидальные узлы размером с вишню.
Сегодня в Британии 1 семья из 22 затронута болезнями сердечно-сосудистой системы.
СЕРДЦЕ
Что заставляет его биться?
В нас 60 000 миль артериального трубопровода.
И ведь затор может возникнуть где угодно!
Стояла зима, сезон для Джейка ненавистный, особенно в Лондоне, где нет ни солнца, ни снега, лишь низко нависающее серое небо. Когда-то зима для него была чем-то, что нужно вытерпеть, а там не за горами и весна, прихода которой он всегда с нетерпением дожидался. Теперь же он предпочел бы, чтобы время не летело с такой лихорадочной поспешностью. Весну он начал ощущать уже не как праздник, а лишь как очередной сезон, с которым следует так или иначе считаться. Нечто такое, что нужно употребить и перевести в разряд вещей бывших в прошлом. То, что под номером соответствующего года вписывается в гроссбух. «Весной 1967 года, когда отец лежал при смерти, я…» Пруста, которого он под разными предлогами так долго откладывал, нынче надо прочесть или выкинуть. Если он не увидит в этом году Афины, в следующем может оказаться слишком занят. Или болен.
Уже одно то, что он просто лежит в постели с Нэнси, всем телом сплетясь с нею и пальцами вцепившись в ее груди, наполняло его когда-то таким упоением, что в нем он видел даже более полное выражение их любви, нежели выпадающие иногда ночи страсти, — страсти, которой хватает так ненадолго. Но вот уже и здесь, как и везде, над ним нависает смерть. Лежа с Нэнси, все чаще он способен думать только о костях под распадающейся плотью. Когда жена, отяжелевшая, сонная, поворачивается поцеловать его, подчас доносится запашок гнильцы. Той, что въедается в стенки ее желудка и, уж конечно, его желудка тоже. СМЕРТЬ; СИМПТОМЫ: Маска Гиппократа, мертвенная бледность кожи, отечность, исчезновение пульса, падение температуры, ригидность. «Самый верный признак — начало разложения. Оно начинается через два или три дня и заметно по тому, что кожа на животе приобретает зеленоватый оттенок».
У Нэнси. У Сэмми. У Молли. У ребенка, который еще не родился. И у меня тоже.
К чувству подавленности у Джейка добавлялось что-то вроде внутренней оскомины — оттого, что все это, в сущности, невыразимо банально: ведь страхом старения и смерти страдает не он один, а все люди, от которых неумолимо уходит молодость. Пусть так, но кое в чем он от них разительно отличается. А именно своим счастливым браком. Ах, если бы, думал он иногда, если бы наш с Нэнси союз был тягостным, затхлым, испорченным обидами и злостью! Тогда я мог бы, как большинство знакомых киношников, искать утешения в объятиях всяких пустых девиц, ради забвения предаваться сексу без любви, некоторым образом себя этим изводя и уничтожая. Как Меир Гросс.
— Вот этого, Джейк, не надо! Думаешь, обманывать Сильвию мне очень нравится? Она хороший человек. Я к ней привязан. Каждый раз, как засандалю новенькой секретарше, мне от этого больно. Жуткую вину чувствую, прямо в дрожь бросает, а это мне очень вредно, ты ж понимаешь.
— Так зачем же ты тогда…
— Видишь ли, когда-то у нас это бывало каждую ночь, даже дважды за ночь, но теперь мы это делаем… ну, скажем, раз в неделю. При этом мы пыхтим, как загнанные клячи, долго держать эрекцию мне уже трудно, да и она, по-моему, давно не кончает. Одни звуковые спецэффекты. Но видел бы ты меня в койке с новой поклонницей! Опять я молодой. Крепкий. Прямо будто юношей становлюсь. Скачу как козлик! Может, я поступаю неправильно. Пусть так, Джейк, но ведь расплачиваться потом мне самому — мне, не кому-нибудь!
Меиру Гроссу доктор О’Брайен регулярно вкалывает полный зад гормонов, Боб Коэн, морщась и все на свете кляня, каждое утро выпивает стакан дурно пахнущей бурды, Си Бернард Фарбер пускает по вене какую-то венгерскую гадость, приготовленную из толченых шмелей. Зигги Альтера регулярно чистят в Форест-Миере. «Что до меня, — признался как-то раз Джейку Монти Тальман, — мне вообще секс дело десятое. Сказать по правде, говорю я куда больше, чем делаю. А если изменяю, то главным образом потому, что знаю: я ведь ей тоже надоел. Ч-черт, мы восемнадцать лет вместе, все мои истории она знает наизусть и может рассказывать лучше меня. Вот вообрази. Пригласили мы на обед новых знакомых, я начинаю что-то рассказывать и вдруг вижу, что глаза у нее стекленеют. А если она в настроении действительно злобном, так еще и подденет, упредит, наперед выдав, в чем соль. Не такой уж я сексуальный гигант, Джейк, я женщин никогда не доводил до экстаза, но мне нравится заставлять их улыбаться. Мне просто маслом по сердцу, когда их глаза загораются, а входить в „Белого слона“ я люблю с такими цыпочками, чтобы у всех от зависти аж глаза на лоб. О Господи, да ты и представить себе не можешь, какое удовольствие выйти куда-нибудь в свет с девицей, совсем новенькой, и чтоб она прямо плыла от твоих рассказов, просто кончала бы в момент кульминации. Есть, есть во мне такая слабость: люблю людей поражать. Это моя ахиллесова пята. Но Зельду-то чем я могу поразить? Пукнуть лишний раз в постели? Только начну анекдот рассказывать — сразу вжик, вжик: так и слышу, как она мысленно меня пополам пилит. Лжец, думает, все ты придумал, преувеличил, художник от слова „худо“. О’кей, верно, так оно и есть, но деньги-то я делаю хорошие, а годы летят, и что? Мне таки надо, чтобы об этом мне непременно напоминали каждый день?»
У Джейка особая проблема: из всех женщин он хочет только Нэнси. Уже и десять лет прошло, а она все еще возбуждает его в постели. Мало того. Ему нравится с ней разговаривать! Хорошо хоть, что киношники народ терпимый. Усвоили: Джейк верен ей не из жадности, не так, как легендарный Отто Гельбер, продюсер, который женился на женщине маленького роста только потому, что ей на шубу меньше норок понадобится, а принимая на работу секретаршу, смотрит не на сексуальную привлекательность кандидатки, а на то, чтобы ногти у нее были подстрижены и она действительно умела печатать. Вместо того чтобы, когда у жены началась менопауза, поменять ее на новую, Гельбер, ничуть того не стыдясь, машину и то год за годом водит одну и ту же. И вместо того чтобы завести любовницу, каждый вечер после работы в кабинете дрочит. А для возбуждения, как утверждает Си Бернард Фарбер, читает скабрезную книжку.
Лу Каплан, Эл Левин, Тальман и остальные из компании киношников, с которыми Джейк играл в бейсбол и покер, по большей части были старше его лет на десять; ну да, аморальны, их жены хищницы, тут он с Нэнси соглашался и понимал, почему она предпочитает на ночь почитать в постели, вместо того чтобы ходить на их приемы. Однако за остроумие, жажду жизни и способность из надежды пополам с хуцпой, этой особенной еврейской беспардонной наглостью, слепить фильм, Джейк прощал им все. А иногда даже бывал до глубины души тронут — например, когда наткнулся однажды на обычно неунывающего, кипучего Фидлера в баре «Тиберио», где тот сидел в час ночи безутешный, с землистым лицом и глотал таблетки.
— Я не могу больше! Эти попойки доконают меня!
— Зачем же ты на них ходишь?
— Легко говорить «зачем»! — возразил тот. — Ну хорошо, сегодня я рано смылся. И что толку? Пришел сюда. А тут-то я что забыл? Думал — так, на посошок выпью и побегу. Давно бы надо дома быть, в кровати.
— Ну, так иди же!
— Если бы я не сходил на ту вечеринку, у меня бы осталось такое чувство, будто я что-то упустил. Или что найдется гад, который скажет, что меня не пригласили. Вроде как скинули со счетов. Во что бы то ни стало надо мелькать рожей, вот ведь какое дело! — Он передернул плечами. — Куда я ни пойду, Джейк, такое ощущение, будто что-то от меня ускользает. Будто в другом месте веселья больше, а кинешься туда — ч-черт! — опять не угадал. И только следующим утром выясняется, что главные события произошли где-то вообще не там. На меня будто что-то давит. Такая частота пульса — доктора бледнеют! Вот что ты на это скажешь?
— Иди домой, Гарри. Тебе надо поспать.
— Ну, в общем, да, ты прав. — Он допил свое виски. — Э-э! Постой. Пошли со мной в «Аннабеллу»[285]. Там такие две девчонки будут!..
Джейк, по обыкновению, ответил отказом. Но это вовсе не означает, что он не подвергался время от времени искушению и после тяжкого дня не мог мило пофлиртовать с какой-нибудь зажигалочкой со стороны. Чисто забавы ради. Под стать Саю Леви, который к каждой женщине в ресторанах и на вечеринках устремлялся так, будто вот-вот с ума сойдет, до того ее хочет.
— Вон там — видишь сидит? Нет, вот за следующим столиком. У ней такие ушки, взяться бы за них да насадить! Розовым ротиком. Как считаешь?
Впрочем, Сай серьезно страдал, рвал на себе волосы, глаза все выплакал и даже снес много денег какому-то психоаналитику райхианского толка[286], пока не сподобился наконец развестись с женой. Труднее всего ему далось расставание с их одиннадцатилетним сынишкой, которого он обожал.
— А она мне: вот сам ему и скажи, это же твое решение! Сам и скажи ему. Ну и, в конце концов, я вызвал его в гостиную, запер дверь. Чуть не плача, говорю: Марк, есть вещи, которые по молодости ты понять пока что неспособен. Мужайся, малыш. Взял его руку в свои, глажу и говорю — дескать, вот, я ухожу от мамы, но это не означает, что я тебя не люблю. Я тебя обожаю! Мы будем с тобой видеться каждый уик-энд. Субботы и воскресенья — все твои. Ничем другим я их не занимаю. Весь к твоим услугам. Теперь второе. Твоя мать — прекрасная женщина. Но у взрослых — гм — свои особые проблемы, и, честно говоря, у нас с ней последнее время как-то не заладилось. Это не ее вина и не моя тоже. Мы решили, что для тебя будет лучше, если мы расстанемся, и ты не будешь расти в дурной атмосфере, как я когда-то, потому что мои родители — благослови их, Господи! — друг друга терпеть не могли и сделали мое детство несчастным. Они не были честны настолько, насколько честным я пытаюсь быть с тобой. Так что я ухожу, сынок. Я буду по-прежнему заботиться о твоей матери и о тебе. Сейчас я не жду от тебя понимания, прошу только, чтобы ты не осуждал. Люби меня, Марк, как я люблю тебя. Понимание придет к тебе позже… Потом я высморкался, заглянул ему в голубенькие детские глазки (хоть какую-то реакцию увидеть — эмоцию, что угодно), и говорю: вот, малыш. Вот так. Что скажешь? И знаешь, что он мне сказал? Спросил, нельзя ли ему сегодня лечь попозже: «Золотое дно» по телевизору!
Сам к себе Джейк был достаточно терпим и понимал, что ничего бы это не значило, пусть бы разок он и сходил налево, но каждый раз как подворачивался случай, просто не мог: слишком любил Нэнси, чтобы унижать ее. Не мог даже представить себе, как ее на вечеринке знакомят с другой женщиной — той, с кем он как-то вечером дал себе волю, — и эта другая женщина внутренне вся трепещет от переполняющего ее тайного знания. Нет, ему явно не хватало бесшабашности Мэнни Гордона, например, который даже злорадствовал, наблюдая за тем, как жена и нынешняя любовница мило чирикают друг с дружкой за обеденным столом, а потом где-нибудь в уголке шептал Джейку:
— Нет, ну какая я сволочь, а? И, таки знаешь, живу и не жужжу! Вот этим-то и хорош психоанализ!
Не хватало ему и ловкости, не говоря уже о той мощной теоретической подготовке, что имелась у Mo Гановера.
Годы и годы назад, читая со своим зейдой Гемару[287] (при этом они вдвоем щелкали фисташки из стеклянной миски, а скорлупу складывали в блюдечко), Mo узнал, что если из окна третьего этажа ты высунешь меч, а пролетающий мимо человек наткнется на него и будет им пронзен, то ты будешь… Виновен в убийстве? Не все так просто, говорит раббан Гамлиэль. Разве не был пролетающий человек обречен на смерть и без того? Важно и то, прыгнул ли он, уточняет рабби Элеазар бен Азария, или его столкнули. И в родстве ли вы, или это летит совершенно от тебя отдельный, самостоятельный человек? — задается вопросом многомудрый Раши[288].
Казалось бы, эти пустопорожние упражнения в ритуальном праве были никоим образом неприменимы к дальнейшей жизни, однако именно благодаря им Mo с ранних лет усвоил, что солнце истины сияет множеством лучей, так как истина объемна и многогранна. Поэтому, когда жена обвинила его в том, что люди видели, как он выходил из отеля «Парамаунт» в четыре пополудни под руку с явной шлюхой, он не преминул клятвенно заверить, возложив длань на голову сына, что своей Лилиан он не изменял никогда, а людям может показаться что угодно.
Ибо — (причем это он уже не с ней, а с самим собой спорил), — ибо изменить значит совершить прелюбодеяние, то есть познать другую женщину плотски, а когда ты лежишь в номере отеля «Парамаунт» в предвечерний час и она тебе по одному посасывает пальцы ног, это же совсем другое дело, даже если ты действительно стонал от наслаждения, поскольку — как первым вопросил бы раббан Гамлиэль — твой большой палец ноги, он что — может извергнуть семя? Нет. А мизинчик, даже если зацеловать его до полного помрачения твоего рассудка, может ли оплодотворить женщину? Опять нет. Можно ли на него намотать триппер и принести его в дом? — поинтересовался бы рабби Элеазар бен Азария. Да нет же! Это же вообще даже не половые органы!
А ведь и в самом деле, продолжал он свои рассуждения, если бы я даже позволил, чтобы мой член обсосали как леденец на палочке, я этим и то не нарушил бы верности, потому что, как сразу заметил бы Раши, это было бы оральным, а не вагинальным познаванием, которое — уфф! гора с плеч — не требовало от меня никаких усилий, а значит (кстати! — тут он как бы мысленную галочку на полях поставил) я этим не нарушил бы даже шабата!
К верности Джейка побуждало и еще одно соображение, несколько подловатенькое. Он считал, что пока хранит верность он, Нэнси тоже изменить не может. Но… но все-таки жаль, что ей никак не дашь понять, насколько иногда обременительна и какой тяжкой ношей ответственности может подчас навалиться гармония их необычайно счастливого брака. Во всех серьезных книгах, которые они читали, во всех фильмах и театральных постановках, что они вместе высидели, все только и вращается вокруг радостей и страхов, связанных со сладостью греха. Пустопорожнего секса среди бела дня с незнакомками. Экзистенциальных совокуплений в припаркованных автомобилях. Вокруг того, что «в наши дни» ты одинок даже в разгар многолюднейшей групповой оргии. И только зануды и бяки, наркоманы и прочие персонажи, рисуемые самой черной краской, по-прежнему держатся друг за друга.
Да что говорить! По-настоящему любить жену значит лишить себя всякого права на радостное негодяйство. Тем более что Нэнси, по всеобщему признанию, никак нельзя назвать сварливой, болтливой, приставучей или еще в каком-нибудь смысле противной, то есть, по-еврейски говоря, она не какая-нибудь йента, — нет, она истинный перл, настоящее прямо-таки сокровище. Так что у Джейка, счастливца Джейка, сама мысль о том, чтобы сходить налево, вызывала отвращение. Тогда как его приятели-киношники, счастливо-несчастные, могли себе позволить что угодно.
А их брошенные жены гуськом, след в след потянулись к Джейку в гости, чтобы поплакаться в жилетку. Ведь дети! Дети! Бетти Леви за его обеденным столом плакала просто навзрыд.
— Вдруг начал писать в кровать! Жалуется на кошмары. В школе вообще что-либо делать перестал!
— Да хрень все это, — уверял Джейка ее бывший муж. — Парень был бы в полном порядке, если бы она перестала капать ему на мозги и настраивать против нас. Ты не поверишь, но она подучила его спросить меня, как это так, что они должны мириться с черно-белым, когда у нас телевизор цветной!
Телевидение, кстати (в применении как минимум к двум развалившимся бракам), продемонстрировало возможности, о которых не подозревал даже Маклюэн[289]. Каждый четверг в урочный вечерний час у Лии Демейн стали собираться подруги, чтобы посмотреть на девку, с которой живет теперь Фрэнки, — как она поет и пляшет в своем собственном шоу. «Нет, вы когда-нибудь видели такую толстую, отвратную корову?» А с сыном Фидлера Бобби обратная ситуация: шесть недель ему не давали смотреть любимый сериал, потому что там играет папина шлюха.
Фрэнки Демейн, чьи дети уже выросли, вдруг почувствовал, что настало время честности, хотя бы перед самим собой.
— Ах, ну конечно, извне казалось, будто мы живем счастливо. Восемнадцать лет я страдал! Вот только не пойму зачем. Все дело в том, что я ненавижу сцены. Да и о детях приходилось думать. Ведь кем она мне была все это время? Мамашей! Ну да: у них даже имя общее — Ребекка. Да знаю, знаю, что люди говорят, за это можешь не волноваться. «Когда он болел, она так о нем заботилась! И ни одной жалобы!» Но суть-то в том, что, когда я заболевал, она радовалась — это ей давало чувство незаменимости. А с той поры как я начал новую жизнь с Сандрой, у меня вдруг исчезли проблемы с позвоночником. Значит, все годы — одна сплошная психосоматика?
Однажды вечером, вернувшись домой, Джейк обнаружил в гостиной плачущую Иду Робертс.
— Ведь я не возражаю, пусть себе уходит! В конце концов он волен распоряжаться своей жизнью. Но все это такая гадость, так унизительно, что я начинаю его ненавидеть. Стоит только вспомнить, как он притворялся, строил из себя заботливого отца, а сам при первом удобном случае мчался в Брайтон, и моя родная дочь предоставляла ему там кров!
Оказывается, Альфи Робертс не устоял перед студенткой Суссекского университета, соседкой своей дочери по съемной квартире.
— Кстати, я вам не говорила, нет? Он ведь теперь травку курит! Видели бы вы его при этом. Этот дебил еще и меня пытался приобщить. Говорит, что джин для печени куда вреднее. Нет уж, увольте. На сей раз я его назад не приму. Вы знаете, в таких случаях он всегда забывает забрать аудиосистему, и когда девица, к которой он сбежал, обнаруживает, что тот, кого она принимала за молодого барашка, на деле оказался старым козлом, он вдруг заходит попросить какую-нибудь пластинку или взять часть сигар, оставленных в ящике с увлажнителем. Короче, на этот раз я выкинула его вместе с его хай-фай-колонками и сигарами, к тому же предупредила: ты, говорю, смотри, свингер бродячий, не забывай колоться гормонами. Иначе позору не оберешься — небось сам знаешь!
Или вот, скажем, Си Бернард Фарбер. Он в шейном платке, замшевом жилете, приспущенных на бедра брючках от «Мистера Фиша»[290] и с болтающимся на животе кулоном, собственноручно изготовленным одной из его девиц. Разъезжает на «астон-мартине», который время от времени весь покрывается цветами — при помощи переводных картинок. Фарбер упросил Джейка, чтобы он отснял один из эпизодов фильма в недавно купленном холостяцком гнездышке Фарбера — квартире в Белгрейвии, где у него из повсюду напиханных бесчисленных динамиков непрестанно орут «Роллинг-стоунзы».
— Ты представить себе не можешь, какое счастье знать, что она больше не маячит сзади в просмотровом зале. Только что-нибудь одобришь, вздыхает: «Ой-ё-ёй!» Что такое? — говорю. Что тебе не нравится? По-твоему, тот дубль был лучше? А она: «Ну, это же твоя картина!» Нет, я теперь другим человеком стал! Просыпаешься утром, вскакиваешь, и душа поет! Как будто солнцем все залито. Я просто поверить не могу в такое счастье: ура, ее больше нет рядом в постели! А то лежит, что-то там ноет. Что ни утро, стоит к ней сунуться — нет, у нее месячные еще не кончились. Или вот-вот начнутся. Или как раз в разгаре. Ты знаешь, ей без меня, думаю, тоже будет лучше. Мы так и не породнились. У нас некратные частоты колебаний. Да и вообще, теперешняя молодежь права: надо плыть по течению.
Оно, конечно, да, возможно, но Сай Леви скоро обнаружил, что сидеть на жесткой диете это еще то удовольствие. Лу Каплана ждало удручающее открытие: оказывается, он дрыхнет с открытым ртом и оглушительно храпит. Фарбер же весь на нервах оттого, что вынужден носить бандаж, снять который он опасается. Боб Коэн, раздеваясь, торопливо сует теперь трусы в карман брюк — вдруг там коричневая отметина, которая оскорбит зрение юной барышни. Эл Левин, никогда не забывавший заранее принять таблетку дигиталиса, теперь притворяется, будто глотает нечто этакое — видимо, колеса. Как признался однажды Меир Гросс, «дико напрягает, что в моем возрасте я вынужден с утра запираться в ванной, чтобы ополоснуть вставную челюсть. Но показаться перед нею без зубов — в жизни бы не посмел!»
Джейку все дружно завидовали.
— И что ты такого сделал, что заслужил Нэнси? Ах, что за женщина!
Однако с течением времени их наигранная зависть перешла в неодобрение, пошли насмешки.
— Да ну! Джейк — скучный тип, — сказал однажды Тальман.
Лу Каплан провозгласил его обывателем.
А Си Бернард Фарбер так и вовсе обремизил, сказав однажды за покером, что от него исходят дурные флюиды.
Джейк даже засомневался: что, если они в чем-то правы?
«СЧАСТЛИВЫЕ» БРАКИ ПОДЧАС ПРОСТО ПРЕСНЫ
Мнение психолога
Вашингтон. Во многих случаях «счастливые» браки на поверку оказываются пресными, — говорит психолог из Национального института психического здоровья. Доктор Роберт Райдер, завершив серию исследований, в которых участвовало двести молодых пар среднего достатка, предостерегает от того, чтобы «совместимость характеров считать обстоятельством безусловно благотворным».
Не сказалась бы безмятежная семейная жизнь на них с Нэнси дурно — вот чего вдруг устрашился Джейк. Не сделала бы их обоих поверхностными, пустыми… Да и на детях это может отразиться не лучшим образом. Все, кем он восхищался, самые творчески активные, наделенные наиболее ярким воображением его приятели, все как один происходили из неблагополучных семей. Папа нуль, мама хищница. Их отчаявшиеся родители считали собственные жизни всё равно загубленными и в поте лица трудились только ради детей. Разведясь, соперничали за расположение своих чад. Ссорились, лгали и, сами того не желая, воспитали бунтарей. Художников по составу крови. Тогда как в их доме царит взаимность и гармония, а родители радуются общению друг с другом.
Что за поросль от нас произойдет? — беспокоился Джейк. Детство, проведенное в атмосфере столь благостной и спокойной, никакого роста стимулировать неспособно. В вате и под стеклянным колпаком может вырасти лишь ничтожество, бесхребетный олух, совершенно неподготовленный к реальной жизни. Ведь не станет же Сэмми воровать в супермаркетах! Не будет же Молли закатывать истерик! Они не бойцы, потому что в наркотизированном обществе люди одурманены с пеленок.
Англия, Англия…
К тому времени Лондон стал для Джейка почти родным, и все же чувства к этому городу он питал смешанные. Потому что это уже не был Лондон Биг-Бена, Шерлока Холмса и антисионистски настроенных энтузиастов лисьей охоты; не тот Лондон, что виделся ему в детских мечтах; не оказался он и светочем культуры, каковым Джейк всерьез почитал его в юности.
Медленно и неумолимо жизнь вытрясала из него обычную для провинциала плату за перемещение в столицу. В провинции он имел возможность безнаказанно чтить Лондон вкупе с его дарами. В Монреале, от негодования булькая и плюясь, мог соглашаться с Оденом в том, что доминионы это tiefste Provinz. Полнясь презрением ко всему канадскому, был заодно с доктором Джонсоном, находившим его страну местом холодным и непривлекательным. Подобно отцу, обвинявшему во всех своих несуразностях гоев, требуя с них платы за свои невзгоды, глупейшим образом Джейк возлагал вину за свои собственные промахи и обиды на Канаду. Впрочем, приехав в Лондон и найдя его куда менее совершенным, чем ожидал, мало-помалу он своего защитного покрова лишился. Чем большего внешнего успеха он достигал, питая ленточного червя амбиций, тем острее терзал его внутренний голод. Он предпочел бы, между прочим, чтобы захваленный выше крыши Тимоти Нэш, например, был своей репутации достоин и Джейкобу Хершу бессмысленно было бы даже пытаться стать с ним вровень. И был бы счастливейшим из смертных, если бы столичные артистические стандарты имели порог достижимости чуть повыше, чтобы у него по-прежнему сохранялась возможность перед кем-то преклоняться.
Поразмыслив в своем кабинете, Джейк осознал, что поводом для его раздражения был не столько Лондон или Канада, но более всего книги, фильмы и пьесы, на которых он возрос. Он отчетливо помнил, как годы и годы назад Джейк — еще тот, другой, вслепую устремившийся с улицы Сент-Урбан к какой-то неизвестной лучшей доле, — двинулся по пути интеллектуальных исканий, то и дело подкрепляя решимость книгами, которые воодушевляли его тем, что он, оказывается, не какой-нибудь уникальный уродец. Есть и другие, кто чувствует и рассуждает похоже. Однако прошло время, и та же либеральная, эмансипированная публика теперь не только раздражает его, но даже стала ему скучна. Романы, за которые он с такой надеждой хватался — как же иначе, ведь их так хвалят критики! — иногда оказывались забавны, но не сообщали ему ничего такого, чего бы он не ведал прежде. Напротив, они лишь подтверждали, хотя подчас не без изящества, его собственные ощущения. Короче, ни уму ни сердцу — не книги, а сплошное самолюбование. Все как у него и как у его приятелей. Неоперившемуся, зеленому канадскому мальчишке, каким когда-то был Джейк, такое чтение давало поддержку: приятно было собственные проблемы видеть изложенными на печатной странице; но с некоторых пор бесконечное обсуждение одних и тех же душевных терзаний, пусть и напоминающих его собственное сопереживание тем же мукам тех же мятущихся эгоистов, перестало что-либо навевать на него кроме скуки, скуки, скуки.
Литературы, которая когда-то была его утешением, стало не хватать. Что толку читать о чужом убожестве, о распущенности, пусть и складно описанной, или об алчности, понятой до глубин? Ну, докажешь себе еще раз, что твои недостатки не уникальны, но этим их все равно не оправдать, подобно тому как никаким смертям, происходившим в прошлом, не сделать твою собственную выносимее ни на йоту.
Ах, Всадник, Всадник, где же ты?
Джейк требовал ответов, жаждал какого-то откровения, чего-то необычайного, что давало бы незыблемую уверенность — как атомная бомба во времена, когда ее еще не изобрели. При этом он был сам себе до глубины души противен. В самом деле: его жизнь, начавшаяся в среде ортодоксальных евреев на люмпен-пролетарском дне городской Канады, по сию пору читалась как резюме еврейского интеллектуала-поденщика при попытке трудоустройства. Начать с того, что типичным воплощением банальности был уже его зейда — тихий еврей, любитель шахмат. А уличным дракам в его (уже Джейка) детстве, этому непременному атрибуту романов протестной направленности, не хватало всего одной истертой детали. Никто ни разу не сказал ему: «Эй! Вы зачем Христа убили?» С другой стороны, его мать и впрямь без конца повторяла: «Кушай, дэточка, кушай! Кто не ест, тот не имеет в себе жизни». Мать, обожавшая культуру, доходила в этом до исступления, отец же был у нее под каблуком. Со временем они развелись, и Джейк попал в разряд детей из неблагополучной семьи. В пятнадцать он был еще настолько ребячлив, что мог сказать отцу: «В синагоге полно лицемеров», а двумя годами позже сделался настолько оригинален, что провозгласил себя… «свободным от наследия гетто».
Если бы критериями нонконформизма служили не зыбкие и невыразимые словами тонкости, а свод писаных правил, обязательных для интеллектуала-неофита, Джейк в них легко вписался бы, сдал бы экзамен, как при вступлении в этакую новую ешиву. Конечно, он ведь совершил все правильные неправильности, даже женился на шиксе, словно проголосовал за кандидата, который хорош на сегодня, а завтра хоть трава не расти. Мало того, попав в тиски между моральными ценностями двух поколений, с одной стороны, переживал за гражданские права арабов в Израиле, а с другой — за ребят, которые страдают из-за того, что травка, которую они курят, плохо очищена.
Люк время от времени появлялся и исчезал, растворялся, будто выпадая из фокуса. То он только что из Рима проездом по пути в Голливуд, то отдыхает между двумя поездками в Нью-Йорк. Когда Люк в очередной раз вернулся из Малибу, они пошли вместе ужинать, при этом сперва как бы даже и не разговаривали, а разыгрывали скетч про свою дружбу, словно в старом кино. Обменивались анекдотами как картинками из пачек с жевательной резинкой.
— Поверь, я не преувеличиваю, — говорил Люк, — они там действительно так делают. Прежде чем сесть за покерный стол, снимают брюки. Все шестеро мужиков. А под столом девица, и она у них сосет — у одного, потом у другого, а они тем временем как ни в чем не бывало играют…
— Боже мой, Люк, во что мы превращаемся?..
— Давай смотреть на это вот как, бейби. Мы все плывем на «Титанике». Он тонет. И все мы с ним вместе. Но я хочу тонуть в каюте первого класса.
— И это все?
— Не успеешь оглянуться, как ты уже помер. — Люк смущенно повертел в руках очки. — Ну ладно, черт с ним, а ты во что нынче веришь?
— В то, что прославления «достойны те, кто истинно велик, — кто, в небо взмыв, достал почти до солнца»[291]. Верю в таких, как они, и таких как мы. Доктор Джонсон — да. Доктор Лири[292] — нет.
Вот такой я либерал, думал Джейк по дороге домой. Работал бы на «Дау Кемикл» и разрабатывал напалм, попал бы в записные приспешники зла; лечил бы в Африке каких-нибудь банту, был бы явным борцом со смертью… А так — ни то ни сё… Рядовой производитель поделок на рынке искусства.
Подобно почти всему тому, что Джейк читал либо смотрел на сцене или на экране (единственно для того, чтобы потом подвергнуть уничтожающей критике), его собственное творчество по его же оценке только на то и годилось, чтобы время от времени ему самому доставлять некоторое удовольствие. Занимать его время, давать определенный социальный статус. В результате всех ужимок и экивоков, морализаторства и позерства он сделался, как все его безмозглые дядья, поставщиком, провайдером, в конечном счете торговцем — и не более. Даже хуже. Торговцем с претензиями. Приложив к себе в качестве мерила критерий Нормана Мейлера, он не мог, не покривив душой, утверждать, что входит в число тех, кто пытается сделать здание выше хотя бы на дюйм-другой.
При этом нельзя не отметить, что бывали такие утра, когда он без всякой видимой причины просыпался безмятежно счастливым. Нэнси лежит рядом. По кровати прыгают Сэмми с Молли. Проснешься, спустишься в кухню, приготовишь вкуснейший завтрак и везешь их всех в машине на природу. Потом на полянке дурачишься, наслаждаясь солнышком и общением с семьей, но тут внезапно наползает беспокойство. За что мне такое счастье? Надолго ли? Боги дают нам взойти на гору исключительно для того, чтобы проще было сбросить с утеса. Так что смотри в оба, Янкель, тебе наверняка готовят пакость.
И вот уже он гонится за Сэмми, а сам не весел — он только изображает беззаботность, опасливо поглядывая на окружающий лес: не таятся ли там эсэсовцы с автоматами. Нет ли в траве ядовитых змей. Не падают ли с неба астероиды. Незаметно оттесняет хохочущих, веселящихся чад ближе к автомобилю, лихорадочно вспоминая, где у него монтировка — на случай внезапного нападения обкурившихся и обколовшихся «Черных пантер». Вспомните: как раз перед тем, как Освальд прицелился, Джон Фицджеральд Кеннеди казался счастливейшим из смертных. Да и Малкольм Икс[293] готовился выступить там, сям… Наверное, и Альбер Камю по дороге в Париж строил какие-то планы[294].
Все еще играя с детьми, но заботясь уже лишь о том, как бы скрыть обуревающие его страхи, Джейк пытается перехитрить мстительных гарпий. Ведь несчастья, которые они насылают, всегда неожиданны. Значит, если худшее вообразить, оно произойти уже не сможет, и Джейк специально разыгрывает в воображении сценарии, ужаснее которых нельзя представить.
Вот Нэнси обнаруживает в груди уплотнение. У Молли диагностируют порок сердца. Сэмми попадает в лапы сексуального маньяка. А у самого что? У самого ясно что: рак легких.
Когда Джейку бывало нужно куда-нибудь лететь, он приезжал в аэропорт до несуразности загодя и принимался слоняться поблизости от киосков, где торгуют страховками — просто так, чтобы убедиться, что никто не тащит туда деньги мешками. А в бумажнике среди кредитных карт держал особое уведомление: «В случае моей внезапной смерти я, нижеподписавшийся, заявляю, что хочу быть похороненным в целости. Никакие органы изымать для трансплантации ни при каких условиях не разрешаю».
НАПЛЫВОМ:
ВИД ЗДАНИЯ СНАРУЖИ. ДЕНЬ. ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ КРЕМАТОРИЙ В ГОЛДЕРС-ГРИН (тот, что напротив еврейского кладбища).
Дождь. Ветер в печально поникших ветвях деревьев. Где птицы не поют, так это именно здесь. Медленно подъезжает черный лимузин…
ПАВИЛЬОН. ДЕНЬ. КРЕМАТОРИЙ В ГОЛДЕРС-ГРИН.
В числе скорбящих НЭНСИ, ЛОРД СЭМЮЭЛЬ ХЕРШ с СУПРУГОЙ, МОЛЛИ с ГЕЙЛОРДОМ ИКСОМ — ее мужем, членом военного крыла организации «Черные пантеры», и ЛЮК СКОТТ. Остальные в большинстве своем КРЕДИТОРЫ.
КАМЕРА СЛЕДУЕТ ЗА ГРОБОМ, сделанным из дешевой фанеры (тонкой, едва удерживающей трупные миазмы). На крышке несколько вялых, помертвелых цветиков. Но на самом видном месте во исполнение последней воли усопшего к ГРОБУ прикреплен ПЛАКАТ, на котором написано:
ИННИ, МИННИ, МАЙНИ, МОЙ — КТО ИЗ ВАС ПОЙДЕТ ЗА МНОЙ?НОВЫЙ РАКУРС:
НА ПОДИУМ ВЗБИРАЕТСЯ ЛЮК СКОТТ. Ему под семьдесят, он в толстых старческих очках и длинноволосом парике до плеч, в ушах серьги, с худой сморщенной шеи свисает медальон.
ЛЮК (читает).
Ушел он зимой, глухой и постылой. Окоченели ручьи, аэропорты почти опустели. Под снегом памятники стали невесть кому; Во рту помертвелого дня ртуть просто рухнула, И как ни смотрите, чем ни мерьте, Страшно холоден, о, как темен был день его смерти![295]ОПЯТЬ НОВЫЙ РАКУРС
Когда ГРОБ начинает соскальзывать, исчезая в пламени, занавес на сцене раздвигается… за ним оказываются… СЕСТРЫ ЭНДРЮС.
СЕСТРЫ ЭНДРЮС (поют). Ба Мир Бист Ду Шейн…
НОВЫЙ НАПЛЫВ:
ПАВИЛЬОН. ОСОБНЯК ЛОРДА СЭМЮЭЛЯ ХЕРША в Белгрейвии. ГОСТИНАЯ. ВСЕ ПОТОМКИ ЯНКЕЛЯ ХЕРША в сборе. Едят. Пьют.
ЛОРД ХЕРШ. Послушайте, а что нам делать с пеплом нашего старпера?
МОЛЛИ. Может — маме?
ЛОРД ХЕРШ. Ни в коем случае. Каково будет при нем Луиджи! Он же трахаться не сможет, ты об этом подумала?
МОЛЛИ. Ну, мне-то он точно не нужен. А то ведь дети заикаться начнут! Кроме того, я от них скрываю, что они на четвертушку жиды. (Пауза.) Оставил бы себе. У тебя хотя бы кот есть. Глядишь, ему на сортир сгодится.
ЛОРД ХЕРШ. А что? Ценная мысль!
Входит НЭНСИ в полурасстегнутом почти прозрачном платье, под которым повсюду следы укусов, за ней слюнявый щетинистый официантиш-ка итальянец.
НЭНСИ. Ну что же ты, Луиджи. Скажи «здравствуйте».
ЛУИДЖИ. Дрысссь.
ПАВИЛЬОН. ДЕНЬ. КАБИНЕТ в ОСОБНЯКЕ ЛОРДА ХЕРША.
ЛОРД ХЕРШ сидит за письменным столом, заваленным кучами бумаг. Остальные собрались вокруг, у всех от алчности слюнки текут. ЛОРД ХЕРШ ладонью хлопает по столу, призывая к тишине.
ЛОРД ХЕРШ. Ради проформы мы должны сперва покончить с его последними желаниями. Таковых имеется… одно. (Читает.) Он хотел, чтобы его сын прочел по нему… кад… чего? (Не без труда дочитывает.) Кадиш! Оба-на! Кто-нибудь знает, что это такое?
МОЛЛИ. Это, случайно, не та жирная дрянь, которую он, бывало, стряпал на кухне? Лук для нее шинковал, еще там что-то…
ЛОРД ХЕРШ. Нет, то был печеночный паштет. (Раскрывает гроссбух.) Ладно, давайте разберемся с цифирью, хорошо? Перво-наперво у нас что? Сердце. На сердце самая жирная заявка была. Из больницы Святого Георгия — одна тысяча фунтов. Они говорят, что сердце у него какое-то особенное. Большое, что ли…
КАМЕРА ПАНОРАМИРУЕТ ПО ЛИЦАМ, НА КОТОРЫХ НЕТ-НЕТ ДА И МЕЛЬКАЮТ ПРОБЛЕСКИ РАСКАЯНИЯ.
ЛОРД ХЕРШ. Почки у папочки были так себе — за них дали всего сотню фунтов, а вот легкие и печень совсем никуда. Тут мы в пролете.
НЭНСИ. Ну, это понятно, а его роджер?
ЛОРД ХЕРШ. Вот, как раз следующим пунктом. Его роджер в конце концов удалось втюхать детской больнице. Сказали, что никому, кроме двенадцатилетнего пацаненка, такой не пришпандоришь… Всем все понятно?
Втайне от Нэнси — или Джейк только думал, что для нее это было тайной? — под кроватью он держал бейсбольную биту. Вступил в стрелковый клуб, чтобы получить разрешение на винтовку. Придумал даже, уходя спать, расставлять по всем ступенькам лестницы, ведущей в их с Нэнси спальню, тарелки и банки, чтобы, когда придут вандалы, он вовремя проснулся бы и смог защитить семью. Вот только не придумал, как эту меру обосновать перед Нэнси.
Нэнси, как он ее обожает! Иногда ни с того ни с сего, охваченный вечерним приступом радости и веселья, вдруг хватает ее и тащит куда-нибудь ужинать, а там заказывает роскошные яства и столь изысканные вина, что сам из всей их прелести может оценить только цену; за всем этим следуют коньяки и пылкие заверения в любви, в разгар которых он вдруг внезапно, неожиданно требует счет. А вдруг утечка газа?
— Боже мой, куда мы так бежим? — сперва удивляется, а потом и обижается Нэнси, решив, что ему с нею стало скучно.
ТАМ ГАЗ ОТКРЫТ! О Господи, как же она их не видит? Сэмми и Молли. Лежат, как безжизненные куклы в кроватках.
Да не безжизненные, а мертвые! Мертвые!
Ах, как мучительны бывали эти наваждения! Когда их поводом бывала не безопасность детей, смерть или второе пришествие немцев, порой он изводился просто оттого, насколько несправедливо зажато его поколение между двумя другими, одинаково яростными и своекорыстными. Старым поколением истеблишмента и новым хиппи. Между жирными старперами и пакостными засранцами. Поколению Джейка оказалась несправедливо, насильно навязана роль этакого Керенского. Не столь отвратного, как царь, и не такого кровожадного, как Ленин. Даже еврейская его часть, и та оказалась ни Богу свечка ни черту кочерга. Евреи, конечно, уже не те, кого, как стадо, гнали на бойню, но все же они еще стесняются мстительно выжигать арабские деревни напалмом.
За ценности, которые исповедовал Джейк, на баррикады никто бы не пошел — ну порядочность, ну терпимость, ну честь… Вместе с Э.М. Форстером он подымал за демократию два не слишком пылких тоста[296]. Вслед за Джорджем Оруэллом призывал смотреть на любую панацею, кто бы ни предлагал ее, с большой опаской.
Короче — либерал, что тут скажешь.
Он охотно проголосовал бы за легализацию легких наркотиков, но не мог сочувствовать шестнадцатилетнему балбесу, страдающему от невозможности достать коробку «Золотого акапулько»[297]. Будучи против пуританского гнета и за свободу всяческого траха, он не считал, что заниматься им надо непременно на сцене. С малолетства недолюбливая полицию, он все же не стал бы предлагать полисмену сэндвич из двух ломтей хлеба с раздавленной между ними какашкой. Полагая, что университеты и впрямь слишком тесно сотрудничают с военно-промышленным комплексом, он все же не считал, что, когда студенты разносят вдребезги результат двадцатилетнего труда их профессора, это является шагом к царству всеобщей любви. Ну да, Голливуд лжет, так же как и «Сатердей ивнинг пост», но все равно не хотелось бы, чтобы Молли чувствовала себя никому не нужной старой девой, если в четырнадцать лет не попробует группового секса. Когда реб Аллен Гинзберг, проповедуя непосвященным, утверждал, что вся история это вздор, первым Джейку вспоминался Геринг, у которого при слове культура рука тянулась к пистолету. В общем, Джейк все более явственно чувствовал, что его поколение истерически плющат две силы, два гиганта, швыряющие при этом друг в друга булыжниками полуправды — возмущенное, истово упертое в труд старичье и отвязно-игривый молоднячок.
Да и своя мешпуха не шибко радовала. Джейк очень опасался, что настанет день, и их всех разгонят, обвинив в тривиальности и провинциальщине. Всех этих чокнутых любителей дрянного старого кино, ностальгирующих по комиксам. Но их и мои боги не исчезли, не растворились, поразмыслив, заключил Джейк. Нет, разве что порастеряли былую силу. Страдают защемлением нерва, как Пауль Хорнунг. Или им руки скрючило артритом, как Сэнди Кофаксу[298].
Однако более всего пугали Джейка те, кто требует возмещения за обиды. Выжившие в концлагерях. Миллионы голодающих в Индии. Африканские заморыши. Спустя несколько месяцев после того, как вышел его первый фильм, пришло письмо из Канады.
УВАЖАЕМЫЙ РЕЖИССЕР
(это про жизнь и ее сложностей[299])
Мой вам совет как художнику — поставить свою цель ближе к людям, как это сделал Джордж Бернард Шоу во времена скромного начала своей карьеры. Которая теперь вздымает массы. Безработных. Несчастных, выкинутых на задворки больших дорог Северной Америки. В том числе и спящего Гиганта Канады — наших рыбаков и лесорубов. Да и бедных фермеров, между прочим.
Для поднятия духа читайте Лесорубы, про цирк и все такое, их здорово всех описал талантливый бродяга Джим Талли. Потом по его книжке «Подайте Жизнь» даже кино про этих нищих сняли, хотя и не в Голлевуде. А еще почитайте книжки, которые прославили Эптона Синклера. Медный Номерок, В Джунгле и т. д.
Годится также и Железистая Пята Джека Лондона. По религии лучше всего Золотой Сук Фрейзера. По психологии — Рик, Миф и Чувство Вины. А из журналов — «Фейт», но читать его нелегко и главное к тому, что там пишут, надо подходить без задней мысли[300].
Вам надо бы подумать о работе, которая даст возможность постигнуть новые направления современной мысли. Могу дать бесплатный совет. Идите в агентство недвижимости! Либо в Вашем городе, либо в Чикаго, Н.-Й., Ньюарке (который в Нью-Джерси) — там должен быть большой отдел по управлению собственностью в Трущобах. Такая работа дала бы Вам возможность глубже изучить жизнь.
Кредитные организации тоже годятся — там таких можно отыскать перлов! Как прожектором дорогу вам озарюют.
А можно и проще: что вам надо, так это меня и магнитофон, и мы такое кино забабахаем!
У меня есть рассказы, стихи, приключения и т. д. Думаю, для вас я то, что надо. Сам-то я во всем этом изскустве ни бум-бум. Но в универститетах бриллианты только тускнеют. Зато я двадцать пять лет в Чикаго прожил, ишачил на стройке. Образование-то всего три класса. В годы великой паники случайно исколесил тысячи миль. И в борьбе учился.
А возрастом я с 1893 года рождения, августовский. Работаю в Инглвуде (Британская Колумбия).
Удачи тебе, сынок. Твой до гроба, Стюарт Маккалэм.Джейк боялся китайских хунвейбинов и черных фанатиков, потому что знал: однажды они позвонят в дверь и спросят Джейкоба Херша, мужа, отца, домовладельца, инвестора, сибарита и поставщика призрачных фантазий, чтобы призвать его к ответу.
И чем дольше Джейк размышлял об этом, тем больше времени проводил в чердачном укрывище, исследуя бумаги Всадника.
Журнальную статью про доктора Менгеле — ту чуть не наизусть выучил.
Не единожды внутренним взором Джейк видел Всадника в Аргентине, в провинции Энтре-Риос, примерно там, где река Парана течет по аргентинской земле. Вот он легким галопом скачет на великолепном плевенском скакуне. Глухо стучат копыта. А в голове новые замыслы, планы отчаянных вылазок.
Однажды вечером, когда он укутывал Сэмми одеялом, мальчонка вдруг сказал:
— А Тиббетт в Бога верует! А мы — нет?
— Я — нет, но…
— И я тоже нет, — пропел голосок Молли с кроватки в нижнем ярусе.
— …это тебе самому решать, Сэмми.
— А ты во что веруешь?
Джейк чуть было не сказал «во Всадника», уже на языке вертелось, но, к счастью, успел себя остановить.
— Поздно уже. Поговорим завтра.
Выходя из детской, он встревожился, вдруг осознав, что уже не первый год потчует детей сказками про Всадника с улицы Сент-Урбан, перемежая ими рассказы о рабби Акиве, ламед-вавниках, Маймониде, Големе, Трумпельдоре[301] и Льве Троцком. Таков был его еврейский джентльменский набор.
Наливая себе выпить, Джейк подумал, что с тех пор как он отказался снимать фильм в Израиле (почудилось, что этот фильм противоречил бы всему, за что борется его братец), Всадник стал для него чем-то вроде морального цензора. Раздумывая над сценарием (у него выработалась привычка по многу дней взвешивать — браться, не браться), советуясь с Нэнси, споря с самим собой, колеблясь, читая и перечитывая, он наперед знал, что в конце концов его «нет» или «да» будет зависеть от того, каковы на этот счет им воображаемые требования Всадника. В течение всего производства — не важно, в кино или на телевидении, — высшей целью для него было потрафить Всаднику. Ведь где-то же он есть! Следит, выносит суждения.
Был когда-то защитником Джо, стал его верным адептом.
Книга четвертая
1
В первый раз Руфь позвонила наутро после того, как Джейка отстранили от производства его третьего фильма; только он сел завтракать, зазвонил телефон.
— Это Джейкоб Херш?
— Ну, я.
— Вы не могли бы сказать, где ваш брат Джо?
— А кто это говорит?
— Не важно.
— Нет. Извините. Я понятия не имею…
Женщина на том конце провода саркастически хихикнула, как будто именно такого двуличия она от Херша и ожидала.
— Честно, я не видел его много лет.
— Но ведь вы же его двоюродный брат, разве нет?
— Да.
— Тогда скажите мне вот что. Ведь вы происходите из старого франко-еврейского рода де ла Хиршей?
На это Джейк не мог не рассмеяться. И сразу об этом пожалел. Женщина начала всхлипывать.
— Мы вообще-то из Галиции, — сказал Джейк, чувствуя себя на редкость глупо.
— Ну ладно. Короче говоря, у меня неприятности. Джозеф собирался на мне жениться. А теперь он исчез. Вы меня понимаете?
— Разумеется.
— Я заканчиваю работу в полшестого. Паб «Королевский герб» у метро Финчли-роуд знаете?
— Знаю, конечно.
Джейк подозвал официантку.
— Мне, пожалуйста, бутерброд с яйцом и помидором.
— Его нет в меню.
— Я знаю. Но не могли бы вы мне все-таки сделать такой? Пожалуйста.
— Извините, сэр, мы не делаем бутербродов с яйцом и помидором.
— Но бутерброды с яйцом вы делаете? Правда же?
— Да, сэр, делаем.
— И с помидором бутерброды делаете?
— Да, сэр.
— Тогда, если вас это не слишком затруднит, не могли бы вы мне принести бутерброд с яйцом и помидором?
— Но мы не делаем…
— Знаете что. Давайте вы мне закажете бутерброд с яйцом и бутерброд с помидором. Я заплачу за оба…
Ох уж эти американцы!
— …а вы, вы же такая умница, сделаете мне из двух один комбинированный.
— Но ведь тогда это получится бутерброд с яйцом и помидором!
— Ну да, надеюсь.
— Бутерброда с яйцом и помидором в меню нет, я точно знаю. Если хотите, можете поговорить с заведующим…
— Ладно, черт с ним. Принесите мне просто двойной джин, пожалуйста. И тоник.
Кого он сейчас встретит, Джейк, естественно, не имел понятия. Но увидеть нечто, подобное Руфи, не ожидал точно. Этакая рубенсовская дама и настолько же большая, насколько смуглая, она несла перед собой могучий бюст, гордо выступая в мини-юбке, несмотря на то что годков ей было явно не меньше сорока. Кроткие карие глаза на мокром месте, брови выщипаны, на подбородке оспинки — там, где когда-то торчали волоски, с которыми она не всегда удачно боролась. Руфь села к столу, вздохнула и со стуком выставила на стол туго набитую сумку из искусственной кожи. Сказала, что работает в соседнем магазине одежды.
— Человек-то Джозеф хороший. Я это знаю. Но у него психологические трудности, и поэтому он врет. Не надо было моему брату вмешиваться.
— Можно я вам что-нибудь закажу? — спросил Джейк.
— Пепси-колу, пожалуйста.
Руфь была вдова с двумя детьми. Ее муж умер пять лет назад от сердечного приступа.
— И где же я теперь в моем возрасте найду себе приличного, уживчивого мужчину?
Руфь организовала читательский дискуссионный клуб, Джо нашел о нем объявление в «Джуиш кроникл» и пришел на первое же их собрание.
— Там было несколько женщин, и на всех на них он произвел большое впечатление. Одна прямо с ходу спросила, женат ли он. Какие бывают люди неприличные, да? Но Джозеф держался так, что у них быстро пропала охота задавать вопросы о его личной жизни.
Ну, это я могу себе представить.
— Когда все остальные разошлись, он задержался, и мы поговорили. Он очень хорошо разбирается в строительстве, но это, я думаю, вы сами знаете, и сразу обратил мое внимание на то, что кухонная стена сыровата. «Вам, — сказал, — надо бы поговорить с владельцем квартиры». Так я как раз и есть ее владелец, — говорю, — и мы над этим вместе похихикали. На той же неделе он зашел ко мне просто в гости.
Сонная официантка принесла Джейку его двойной джин и налила пепси-колу в стакан Руфи. Хотела было пустую бутылку унести, но Руфь за нее так схватилась, что с девицы даже сон слетел.
— Ах так, ну ладно, — чванливо процедила официантка.
— В тот же вечер он сообщил мне, что не женат и предложил выйти за него замуж, — сказала Руфь, отковыривая от бутылки из-под пепси этикетку. — Что ж, бывает и хуже, хотя и реже. Я сказала, что не могу так сразу, ведь я еще толком его не знаю, но он возразил, что, когда встречаются два человека, которые хорошо друг для друга подходят, в нашем возрасте даже лишний день не быть вместе это уже непростительная потеря. Ну я и подумала, — продолжила она, засовывая этикетку в сумку, — мол, вот человек какой: прямой, решительный! А еще он произвел на меня впечатление тем, какой он остроумный, спокойный и искренний. Потом Джозеф сказал, что будет ждать моего ответа не больше недели, потому что это ниже его достоинства — упрашивать женщину. Что ж, в общем-то он мне очень понравился, такой видный мужчина! Должна сказать также, что от меня не укрылось, как он подкован в философии и греческой мифологии. Но как мне было убедиться, что у него нет где-нибудь жены? Не надо мне было его спрашивать. Он так возмутился! «Какого, спрашивается, рожна я бы тогда стал вокруг тебя увиваться? Из-за денег? Так ясно же, что их у тебя нет совсем». Ну, не то чтобы совсем, — отвечаю. — Кое-какие есть все-таки. Он сказал, что, если мы поженимся, я смогу больше не работать. Чем сам он зарабатывает на жизнь, он не сказал, но по нем сразу видно: мужчина не из тех, кто пашет на других, такие сами на работу нанимают.
Я поговорила с братом (это была моя первая ошибка), и он сказал, что мне надо попытаться сперва хоть что-то о нем разузнать. Нельзя же невесть за кого замуж выходить. А я так боялась Джозефа потерять! Когда он снова ко мне зашел, я спросила, почему он до сих пор-то не женился, и он сказал, что всю жизнь искал такую женщину, чтобы была и умна, и в то же время красива и сексуальна. А у тебя, — говорит, — все три эти качества прямо на лбу написаны. Мне показалось, что он очень большой ценитель женской красоты, в смысле фигуры. Насчет себя я, честно говоря, сомневалась — смогу ли оправдать его надежды. И сказала ему, что, объективно говоря, я совсем не красавица. У меня шрамы на теле есть. Еще сказала, что не знаю, смогу ли удовлетворить его сексуально. Однако… — Руфь пару секунд помолчала, вертя в руках пустой стакан, — он мои страхи развеял.
— Хотите еще пепси?
— Да можно.
— Повторите нам еще то же самое, — сказал Джейк официантке. — Нет, секундочку. Давайте двойной джин и два пепси.
— Все же я опять сказала нет: одного секса для плодотворного брака маловато. Мне надо, чтобы мужчина привлекал меня духовно, интеллектуально и только потом уже сексуально. Мы ведь не животные, правильно я говорю?
— Ну да, конечно, не животные.
— Я же не могу ложиться в постель с мужчиной, с которым у меня нет понимания и общих интересов. Ну а он продолжал спорить, превознося роль секса. — Руфь глубоко вздохнула. — Ну, наподобие как в «Любовнике леди Чаттерлей». Начитанности у него не отнимешь, это уж точно. Но эта вот его упертость в красоту тела страшила меня. Да и то, как он любовью занимался — просто какой-то бешеный! Я говорю, надо подождать, но он сказал, что пока я не решила окончательно, будем продолжать отношения. В общем, увяз коготок — всей птичке пропасть.
В этот момент к ним приблизилась официантка с подносом, и Руфь, склонившись к Джейку ближе, прошептала:
— Бутылку из-под пепси не отдавайте!
Но на сей раз официантка, сделавшаяся вовсе недоступной, не предприняла даже попытки убрать бутылки.
— И сразу после этого вдруг — бац! — две недели о нем ни слуху ни духу. Ни гугу. Пропал напрочь. У меня даже сердце разболелось, да сильно так — это я честно говорю. Я подумала, уж не братец ли мой его напутал, но тот говорит, нет, вроде ничего такого не было. Потом неожиданно опять появился. Сказал, что ему пришлось внезапно съездить в командировку…
— В Германию? — спросил Джейк.
— Нет. Но он вообще очень много путешествует, вы ведь знаете.
— Это я знаю. А не говорил ли он, что бывал в Германии?
— Сказал, что заезжал ненадолго.
— А он сказал вам, что там делал?
— Нет, не говорил. В общем-то он сказал, что это была неожиданная командировка, а мне он не позвонил, потому что обиделся. Но в результате убедился, что без меня не может. Сказал, что пришло время серьезно поговорить о нашем будущем. Я, к вашему сведению, соблюдаю кашрут; мы с Джозефом это даже специально обсуждали. Он сказал, что сам кашрута не придерживается и не скрывает этого, но мне сказал, ладно, пусть у тебя будет кошерный дом, мешать он мне в этом не будет. Мне кажется, это с его стороны очень благородно. Вы не находите?
— Ну да.
— Хотя, — продолжила она, задумчиво отслаивая этикетки от обеих бутылок пепси, — ему, пожалуй, вообще все равно, что есть.
— Я как-то не думал об этом.
— Хотя мой брат с самого начала смотрел на Джозефа с подозрением. Брат у меня агент по недвижимости, ну и в строительство инвестирует. Вам дом не нужен?
— Нет, в данный момент нет.
— Вам даже не обязательно было бы к нему ходить. Но я вообще-то не из тех, кто навязывает услуги. Вот зайдет, например, в магазин покупатель, так я не пристаю к нему — купите это, купите то, лишь бы продать побольше, ведь это ужас какой-то! А как они торгуются! А мой брат — он очень честный, порядочный человек; в наши дни это большая редкость. Можно даже сказать, мой брат известен своей честностью! По роду своей работы он имеет дело с людьми и гордится тем, как всех насквозь видит.
Видящий всех насквозь брат Руфи встречался с Джо лишь однажды, навестил его на квартире в Эрлз-Корт[302] и сразу поделился с Руфью своей тревогой. Но когда на следующий день Джо пришел к ней, весь такой измученный и утомленный, и сказал, что ему позарез нужны деньги слетать в Израиль, чтобы поправить там свой пошатнувшийся бизнес, она сняла со счета, где копила деньги на новую квартиру, семьсот фунтов и одолжила ему.
— Как только он вернется, мы собирались пожениться. А вернуться он планировал, я точно знаю. Даже оставил у меня экипировку для верховой езды.
Потому что Джо, как она пояснила, прекрасный наездник. Дважды в неделю он тренировался в Ричмонд-парке.
— Но это было месяц назад, а потом — вот, получаю письмо.
Письмо оказалось из Ирландии. Едва Джейк увидел, что оно отправлено из города Голуэя, как сердце у него забилось: ведь там теперь обширное поместье полковника СС Отто Скорцени, который в 1943 году посадил свой «Физелер-156 Шторьх» прямо во дворе отеля, построенного на горе Гран-Сассо д’Италиа, что в Абруццких Апеннинах, и улетел оттуда с Муссолини. А 20 июля 1944-го, когда Штауффенбергу не удалось уничтожить Гитлера бомбой в «Волчьем логове», Скорцени силами роты СД захватил танковое училище, откуда поспешил в штаб армии резерва на Бендлерштрассе, где надел наручники на остальных заговорщиков. Потом были Арденны, где его люди, переодетые в американскую форму, просачивались через линию фронта и сеяли в войсках союзников неразбериху. А в 1947 году американский трибунал в Дахау оправдал его. После чего он через Испанию уехал в Южную Америку, а оттуда в Голуэй. Там их теперь что-то многовато стало. Этаких фермеров-джентльменов.
В письме Джо просил: пожалуйста, верь мне, я люблю тебя, но по личным причинам не могу сейчас вернуться в Израиль. Отправляюсь в Аргентину обсудить важные вопросы с международной проектной фирмой, тебе пришлю приглашение что-нибудь через полгода.
В Аргентину! Возможно, в провинцию Энтре-Риос. Где Аргентина встречает воды Параны и Уругвая!
— Он забрал у меня все сбережения. Что вы об этом думаете?
Джейк не посмел сказать, что он об этом думает.
— Я знаю, он любит меня. Скажите, это правда, что в Канаде ваша семья известна своей благотворительной деятельностью?
— Семья Хершей? Н-ну… гм. Наверное, и впрямь дают какие-то деньги. — И торопливо добавил: — Ну да, конечно. Жертвуют на Объединенный еврейский призыв, на ешивы, на Израиль… Сам-то я давненько дома не был.
— Ну хорошо. Он привирает, немножко красуется. Это не преступление, правда? То есть я хочу сказать, нынче как откроешь газету, везде сплошная водородная бомба. Я, конечно, против нее. Все эти бомбы враждебны тому, что Джордж Бернард Шоу называл жизненной силой. Какое мне дело, из аристократов вы или нет, из Франции или из Галиции? Мне Джозеф нужен. Я люблю его. А ваша семья для него прямо какой-то жупел. Он говорит, вы там все очень нетерпимы.
— Ну, в общем, да, узковаты. Не без этого. А теперь, Руфь, скажите-ка и вы мне кое-что. О том, что я двоюродный брат Джо, вы знаете, видимо, потому, что так он вам сказал. А вот не объяснял ли он, почему не хочет со мной увидеться?
— Уууу, — протянула она, — да вы меня за дурочку держите!
— Разве?
— Вы же с ним видитесь. Постоянно.
— Стало быть, он сказал вам, что со мной в контакте?
— Да.
— А о моей работе он с вами говорил?
— Какой такой работе?
Джейка подмывало спросить, не потому ли Джо избегает его, что больно уж низкого мнения о двоюродном брате.
— Он смотрел мои фильмы?
— Не знаю.
— Понятно.
Повисла гнетущая пауза.
— Что ж, как вернется, если вы с ним увидитесь, скажите ему, что за его квартиру я заплатила, а костюм для верховой езды забрала, — сказала Руфь, вставая. — Полежит пока у меня.
— Ну, если увижу… — промямлил Джейк.
2
Пососав карандаш, Блум в третий раз прошелся по счетам, хотя это уже вряд ли имело смысл. Если что, ошибку отыщет Гарри — уж это будь спок. Гарри молодец! А тоже ведь тот еще момзер! С некоторых пор Блум стал замечать, что Гарри то там, то сям некоторые цифирки меняет — подчас возникает подозрение, что после Гарри на листочках со счетами появляются следы подтирок, которых раньше не было. Потому что нет такого, на что Гарри не пустился бы, пусть даже просто чтобы лишний раз похихикать. Разве он, Блум, не видел собственными глазами, как на корпоративном пикнике в Брайтоне Гарри спрятал сумочку мисс Пински, тогда как знал, что у нее месячные, и не отдавал, пока у нее не проступило пятно и она в смущении не сбежала. А меня он ненавидит. Спрашивается: за что? За то, что я соблюдаю кашрут. Блуму даже приходится запирать нижний ящик стола, куда он прячет принесенные из дома бутерброды — с тех пор как Гарри, придя однажды в особенно игривое расположение духа, додумался подложить ему в бутерброд с курятиной кусок ветчинки. Сидел, молчал и ничего не говорил, пока Блум этот кусок не проглотил. То, что другие евреи веруют, ему как кость в горле. Хотя бы уважение имел!
— А вот скажи мне, Блум. Ты такой послушный набожный еврейчик, а вот ты знаешь, например, что Талмуд велит нам брать с неевреев больший процент, чем со своих соплеменников?
— Ну и почему нет?
— Ну и почему нет? Как хорошо быть прирожденным невеждой!
— Ты прямо как Гамаль Абдель на всех Насер! Чем ты лучше меня?
Больше всего Гарри любил изводить Блума подколками по поводу его дочери Авивы.
— Не понимаю тебя, Блум, — у тебя же никакой жизни нет! Дожить чуть не до старости, а счастья не попробовать — ну, если не считать за таковое шмат дольче виты[303] в Борнмуте[304]. Живешь так, будто и не родился. Женился на какой-то яхне[305]. Всю жизнь пенсы считаешь, а зачем? Чтобы сыграть для Авивочки свадьбу в «Гровенор-отеле»?
— Не пачкай ее имени. Мне даже думать тошно, что ты его изрыгаешь из своей мерзкой пасти!
— А разве ты не знаешь, что сладких еврейских цыпочек врачи нынче замуж не берут. Да им и вообще больше не играют шумных свадеб — таких, чтобы список гостей был пропечатан в «Джуиш кроникл». Блум! Они теперь спят с черномазыми!..
— Иди к черту!
— …а если и выходят замуж, то разве что в конторе муниципалитета, потому что в брюшке-то зреет уже!
— Знаешь, что я тебе на это скажу? Скажу, что ты совсем сбрендил. Платишь девицам, чтобы фотографировать их в голом виде! Тоже мне светский лев. Берегись, Джеймс Бонд! Подвинься, Рекс Харрисон![306] Дорогу коротышке Гарри Штейну, которому иначе как за деньги и девку-то себе не найти!
— А наверняка твоя Авива, чтобы не беременеть, гормональные таблетки жрет! На что спорим?
— Ой, посмотрите на него! Аж на морду стал красный! Твоими штучками меня не проймешь. Ты вообще кто такой? Дон Жуан? Йосл-поц ты, вот ты кто!
Вновь Блум пососал карандаш, поглядел с сомнением в бумаги, и тут как раз Гарри открыл дверь своей кабинки и позвал:
— Блум!
Гарри просмотрел счета, покивал, вдруг улыбнулся и говорит:
— Что ж, поздравляю!
— Это с чем это? — осторожно осведомился Блум.
— Ну как же: я слышал, Авиву приняли в Суссекский университет.
— Ну да. По баллам она проходит хоть куда — хоть в Оксфорд, хоть в Кембридж. Если уж вы заговорили об этом, господин выпускник школы для недоразвитых.
— Но пойдет-то она в Суссекский?
— Да.
— Хороший выбор! Этот университет славится свободой нравов, а ты не знал, что ли? Они там трахают друг дружку во все щели.
— По-моему, знаешь, чем это пахнет? Виноградом, который зелен.
— Ты что, не веришь? На, держи, — и он передал ему вырезку из газеты. — Это «Санди телеграф». Про то, что в Суссекском травку курят почем зря.
— Чего-чего?
— Травку. Да не ту, что на газоне растет. Имеется в виду марихуана. Наркотик. У девчонок от него бешенство матки начинается.
Блум аж затрясся.
— А знаешь, что увидели полицейские, когда вломились на вечеринку группы «Роллинг Стоунз»? Какой-то хмырь там девке в письку шоколадный батончик вставил и сосет! Но у студенток Суссекса другая специализация. Позиция «бутерброд»: девчонка в середине, а пацаны ей суют с обеих сторон.
— Я тебя когда-нибудь убью. Нож под руку подвернется, ведь засажу как нефиг делать.
Гарри благосклонно улыбнулся.
— Ну ладно, глянем пока, сколько ты тут ошибок напропускал, — и вышел в коридор.
А в коридоре, у двери, ведущей в исповедальню Отца Хоффмана, сидел человек.
— Пользуясь случаем, я бы хотел сообщить вам, — обратился к нему Гарри, — что мне очень понравился ваш первый фильм.
— Ну спасибо, — рассеянно пробормотал Джейк, уже вскочивший, чтобы проскользнуть к Хоффману.
Сестра Пински, стесняясь обратиться лично, оставила у Гарри на столе записку:
Кто хочет общаться, начитан, неглуп, Приходит к нам в частный читательский клуб «У Сандры, Вивьены и Руфи». В субботу 7-го там будет прием, Которого мы с нетерпением ждем: С восьми тридцати и до ночи Будем пить и болтать со всей мочи. Бутылку-другую с собою возьми, Печали забудь — с ними много возни; Наш адрес опять Лэнгли-хаус, Дорога на Белмонт, дом 22-й…и так далее, в том же духе. Вплоть до того, что зарифмован в приглашении был не только призыв тем или иным способом откликнуться, но даже адрес с почтовым индексом 8-го района Северо-Западного Лондона и номер домашнего телефона.
Подписано Сандрой Пински, Вивианой Голд и Руфью Флэм.
Что ж, почему бы и нет, — повертев бумажку в руках, пожал плечами Гарри.
— Ну что, — спросил Джейка Оскар. — Какие достижения?
— В общем, на данный момент похоже, что они выполнят условия контракта и все мне выплатят.
— А-га.
— А если так, Оскар, то будет здорово, если вы научите меня, как забрать деньги. Не хотелось бы утром их получить, а к вечеру чтоб половину отняли в виде добавочного налога; понятно, да?
— Да вам не обязательно даже… — заговорил Оскар, потянувшись к трубке настольного телефона, — для начала их даже и в страну-то ввозить не обязательно.
3
Для начала у Джейка были серьезные сомнения, снимать ли этот фильм вообще, но пропускать через себя поток сценариев, в большинстве своем бездарных, надоело. К тому же из-за беременности Нэнси то, что пришлось бы снимать за границей, он не рассматривал. Все обрыдло, все раздражало. И он сглупил: дал своему агенту себя уговорить.
С первого дня над будущим фильмом стояли не те созвездия. Не успели начаться съемки, как Джейк возненавидел сценарий. Жутко разругался с актрисой — сногсшибательно красивой, но пустенькой британочкой, которой предстояло исполнять главную роль. Она придерживалась макробиотической диеты, читала брошюрки по дзену и была абсолютно убеждена: чтобы пройти по дороге из желтого кирпича к всемирной славе[307], надо быть девушкой сверхсовременной. Все в ее мире было или суперским, или отстойным, а люди оценивались по тому, прикольные они или тормоза. Она была не прочь сняться обнаженной и сразу дала об этом знать Джейку, причем не один раз, а дважды (но, разумеется, только в том случае, если такая сцена будет «художественно оправданной»).
Первый день съемок у Джейка всегда шел со скрипом, а тут еще продюсер стоял над душой — с того самого момента, как Джейк взялся за видоискатель. День казался бесконечным, вымотал все силы, а когда кончился, оказалось, что снять удалось всего минуту, причем паршивенькую, что было ясно сразу, еще до завтрашнего отсмотра «потоков». Который происходил в полдень в просмотровом зале в присутствии продюсера, исполнительницы главной роли, ее агента и прочих; все были злобные, все в поту. Когда зажегся свет, никто не произнес ни слова, боясь высказаться не в масть продюсеру. А тот в дальнем углу уже что-то шепотом обсуждал с оператором-постановщиком, звездой и ее пронырливым агентом.
Объявив, что ждет всех на площадке через двадцать минут, Джейк вышел вон, чтобы немного передохнуть в обществе своих «генералов свиты»; многих из них он нанял для участия в проекте официально.
— Да плюнь ты, Янкель, не позволяй ему портить себе настрой! Он же известный гроббер[308].
В тот же день чуть позже, когда снимали сцену в ресторане, все пошло вразнос окончательно. Звезда, хлопая накладными ресницами, приклеенными вопреки возражениям Джейка, повернулась между дублями к нему и указала на массовку, торчавшую под жаркими софитами с полудня: отрепетировали — мотор — стоп, опять репетиция — мотор — стоп, раз за разом, только для того, чтобы она с едущей за ней следом камерой могла через эту толпу горделиво протиснуться, правильно произнеся свои три короткие реплики. Она повернулась и, чарующе улыбаясь все еще скрюченному у камеры оператору, говорит:
— Это что там у вас за уроды?
— Кто?
— Ну, эти рожи, что вы там собрали. Это статисты или гопники с большой дороги?
— Это мои друзья, — скрипнул зубами Джейк. — А куда это вы направились?
— А что, еще мало дублей?
Мало! Потом был и пятый, и десятый, и еще, и еще — к вящему озлоблению продюсера. Потом опять, и еще два раза, пока она не убежала в свою грим-уборную. Растерянный продюсер за ней.
Еще не было шести, когда агенту Джейка в офис доставили с нарочным письмо. Джейк отстраняется от съемок.
— Скажи ему, пусть не переживает, — сказал на это Джейк. — Я сам ухожу.
— Нет, не уходишь. Изволь в понедельник быть на площадке. Продолжай снимать.
— Не надо на меня давить!
Во вторник провели совещание, потом в среду второе, с адвокатами. В четверг удрученный агент пригласил Джейка на ланч, во время которого сообщил, что Джейка заменили другим режиссером.
— Их условия соглашения я отклонил. Стою на том, чтобы тебе выплатили весь оговоренный гонорар.
— Эх да ни фига себе.
— Если это дело выгорит, тебе нельзя будет подписывать контракт на следующий фильм в течение всего того времени, пока ты должен был бы работать над этим. Иначе деньги отберут.
Джейк рассмеялся.
— Что ты находишь в этом смешного?
— Вот черт, за то, чтобы я не работал, мне будут платить зарплату, больше которой я не получал никогда в жизни!
— Пусть это тебя особо не тревожит. Из режиссеров, с которыми я сотрудничал, нет ни одного, с кем подобное не случалось хотя бы однажды.
Ходить стало некуда, делать нечего (разве что с Хоффманом на пару прятать и перепрятывать деньги от налогового ведомства), и Джейк пристрастился долго спать, а потом бродить пешком, постепенно продвигаясь в сторону Суисс-Коттеджа, где наведывался в киоск «У.Г.Смита»[309], чтобы купить «Геральд трибьюн». Чуть ли не каждый день он проходил мимо магазина одежды, где работала Руфь. Обычно в таких случаях Руфь стучала по стеклу, отчего он дергался, сбиваясь с мысли. Она махала ему рукой, он махал в ответ, но через некоторое время эта пантомима удовлетворять ее перестала. Руфь повадилась подзывать Джейка к двери.
— От Джозефа ничего не слышно?
— Нет.
— Извините, конечно. Но ведь в том, что я спрашиваю, нет ничего дурного, правда же?
Или на другой день:
— Быстро. Гляньте вон туда. Да нет, через улицу. Видите даму, которая садится в «бентли» с шофером?
— Ну, вижу.
— Это кузина леди Коэн. Как ни придет к нам в магазин, просит, чтобы ее обслуживала именно я. С такими иметь дело — одно удовольствие. Не то что с какой-нибудь яхной из Голдерс-Грин, если вы понимаете, о чем я. Ну как, что новенького?
Джейк озадаченно хлопает глазами.
— Ну, в смысле, насчет Джозефа. От него есть что-нибудь?
— Руфь, я вас умоляю. Я с детства с ним не виделся. С детства!
4
За каких-нибудь пять минут до прихода няни — Руфь как раз ткнула за ухо пробочкой от флакона с духами — ее позвали в коридор к телефону. Звонила Сандра Пински. Увы, она все-таки не придет.
— Но почему? — огорчилась Руфь.
— Хочешь по правде? — Сандра не сдержала смешка. — Так-то я бы с дорогой душой…
— А-аааай, — простонала Руфь. — Ладно тебе!
— У меня с бойскаутами общий девиз: «будь готов!»
И много ты преуспела — благодаря твоей всегдашней готовности? Впрочем, вслух Руфь ничего похожего не произнесла.
— Ты что, не можешь позвонить своему доктору, чтобы он оставил рецепт в приемной? Зайдешь, заберешь.
— Да я звонила уже, но он торопился, как раз уезжал на уик-энд. Я ему: доктор, я же без таблеток осталась! Каких таких, говорит, таблеток? Ну этих, говорю. В таком случае, лапушка моя, — сказал он мне, — до понедельника я на вашем месте трусишки-то не снимал бы! — Тут она снова залилась хихиканьем. — Ведь вот же гад какой, а?
— У него должен быть в клинике заместитель. Надо же людям к кому-то обращаться, пока его нет! Найди его, спроси рецепт.
— Да есть, но он пакистанец. Ой, Руфочка, ну как можно? Я со стыда сгорю.
— Да ладно! — Подобную возможность Руфь отмела с порога. — Брось ты!
— Да и надеть мне нечего. А кстати: я оставила приглашение мистеру Штейну. В субботу придет. Ты с ним поосторожней, дорогая. Так по нему вроде не скажешь, но у него одно на уме.
— Ну, может, все-таки придешь?
— Приходи лучше ты ко мне. Будем смотреть «Мстительниц»[310]. Первую серию я видела. На той неделе еще.
— Ладно, поняла. До меня, как до жирафа. Ну пока, — сказала Руфь и повесила трубку.
На «Вечера дружеских знакомств» Руфь решила больше не ходить: во-первых, ей надоело изображать из себя двадцатисемилетнюю, да и выкаблучиваться перед якобы сорокапятилетними (ага, будто бы!) жалкими типами, большинство из которых давно разменяли полвека, надоело до полусмерти. Тем более что знать они хотят единственно, сколько ты стоишь в смысле приданого, а нет его, так давай сразу в койку.
Быстро глянув в «Джуиш кроникл», убедилась, что в галерее «Бен Ури»[311] нынче ничего нового; нет там сегодня и никакой лекции. Сходила через улицу, купила четверть фунта конфет и «Ивнинг ньюс».
Эти фильмы О КАНАДЕ не посмотреть НЕЛЬЗЯ!
Они могут ЛИЧНО ТЕБЕ помочь с началом НОВОЙ ЖИЗНИ
Ниагарский водопад. Дина Дурбин. Ну да, и Джозеф Херш, подумала она. Спасибочки.
У булочной Гродзинских[312] ее остановила миссис Френкель.
— Сегодня Голду опять в больницу увезли. Ты, наверное, видела «скорую» у подъезда.
— Нет, не видела.
— Выпадение матки, она даже ходить не может. Не понимаю: я думала, ей уже все вырезали.
— Это я не знаю! — сказала Руфь.
— Да уж, неизвестно, что лучше — состариться или умереть молодой. А куда это ты идешь? Вся такая нарядная!
— В Букингемский дворец, кушать латкес. Куда же еще-то? — и Руфь побежала к автобусу.
А что, подумала она, может, и впрямь в Канаде началась бы новая жизнь. Без этих вездесущих йент соседок, вечно сующих нос, куда не надо. Собрать чемодан, купить билет и понеслась! Прощайте, вешалки с платьями; с приветом, ежевоскресные чаепития в Эджвере, где жена брата каждый раз как с ножом к горлу: «Ну вот, прошла еще неделя, ты с кем-нибудь познакомилась?» В Австралию, в Канаду, в Южную Африку — куда угодно! Даже брат, который каждый день читает «Файненшл тайме», говорит, что в Канаде у нее было бы больше шансов. Он сам бывал в Торонто; там, между прочим, мэр еврей. И правительство там не жмет из тебя, как из лимона, последние соки.
А еще в Канаде Нельсон Эдди с Джанетт Макдональд снялись в фильме, припоминала Руфь. Вот только название ускользает[313]. «…Найдется ли десять отважных мужчин, надежных и смелых мужей…»[314] Да что там десять, одного бы найти!
К ночи у завода кончился завод. Чтобы закапывать в нос, лопаты не надо. Как вернулись с острова, не едим больше острого… Покачиваясь на сиденье автобуса, идущего от Чаринг-кросс к вокзалу Виктории, Руфь расстегнула туго набитую, полную всевозможных карточек и купонов сумку и убрала туда словарь омонимов, продолжая повторять про себя самые заковыристые: не вы, но Сима страдала невыносимо… и еще: в анкете сложной бедный граф не смог заполнить пары граф.
Вечер стоял отвратный: холод, дождь, — что ж, тем более кино посмотреть можно, подумала Руфь, присоединяясь к кучке людей, закрывающих зонтики перед входом в Кэкстон-холл[315]. Обежав глазами доску объявлений, Руфь уже знала, что на первом этаже занимается группа йогов, рядом Общество Шопенгауэра и Орден друидов (бррр!) — эти собираются раз в месяц. Канадская катавасия, как она и ожидала, оказалась в главном зале, где ей с трудом удалось отыскать свободное сиденье.
Собрал чемоданы и в путь. Делов-то! Двадцатый век на дворе.
Люди кучкуются, болтают, многие не первой молодости и не скрывают этого, но больше все-таки молодых, с маленькими детьми на коленях. С напускным равнодушием усаживаясь в кресло, Руфь предложила конфетку молчаливому мужчине по соседству и нервно осведомилась:
— А вам в Канаду зачем?
— Да здесь продвинешься, пожалуй!.. Пока начальник не помрет, сиди, жди.
— А вам? — повернулась она к мужчине по другую руку.
— Мне дико надоел Гарольд Вильсон.
— А наша семья здесь уже много поколений. Я просто так зашла, подружку ищу.
Кино, которое им показали, было о путешествии через всю Канаду, от Галифакса до Ванкувера. Цветное, с демонстрацией всех природных красот и чудес страны, а попутно диктор пылко нахваливал возможности, которые открываются здесь перед каждым. После того как в финальных кадрах фильма на крыльцо парламента в красном мундире и синих галифе взошел капрал конной полиции, свет вновь зажегся, и на сцену выскочил юркий улыбчивый малый из Департамента гражданства и иммиграции.
— Какая здесь сегодня публика прекрасная! Потрясающе! Я уже чувствую, что завтра утром ко всем инспекторам иммиграционной службы выстроятся очереди.
В ответ вместо криков «ура» осторожное покашливание.
— Канада нуждается в людях, причем именно в ТАКИХ, потому что люди нужны не всякие.
Понятно, дешифровала Руфь. Куда ни сунься, везде антисемиты.
— У нас много, много рабочих мест, которые просто плачут по вам горькими слезами — и это при том, что уровень жизни у нас один из самых высоких в мире.
Молодой человек вызвал на сцену троих экспертов, и те тоже радостно заулыбались, стараясь вызвать в аудитории прилив энтузиазма.
— Вам нужны неквалифицированные рабочие? — спросил какой-то мужчина.
— Вопрос на засыпку. Если имеется в виду девятнадцатилетний юноша, то, конечно, он всему научится, но если речь идет о мужчине сорока лет, причем о таком, который чаще сидел на пособии, чем работал… В общем, вы сами его вырастили, вы его и содержите, нам таких не надо.
— Вообще-то я инженер.
— Ну, в вас с первого взгляда виден профессионал, сэр. Я так и понял, что ваш вопрос носил отвлеченный характер.
— Но если в Канаде все так расчудесно, почему многие иммигранты возвращаются?
— На это отвечу я, — пустив петуха, отозвался самый молодой из экспертов и подмигнул первому ряду. — Тоска по родине. Плохая приспособляемость. Если вашей жене надо видеться с мамочкой каждый день, а по воскресеньям четырежды, то, уезжая в Канаду, лучше взять тещу с собой.
— А как там с безработицей?
— Три и девять десятых.
Раздался чей-то смешок.
— Ну да, я согласен, зимой уровень выше, но…
— А в тысяча девятьсот шестьдесят первом году у вас рецессии разве не было?
— Рецессии? Нет. Некоторое замедление роста — да. Но в настоящий момент у нас бум. Настоящий бум. Нам нужны люди, хотя и не любые. Нужны британские иммигранты.
— А что с медицинским обслуживанием?
— Это очень, очень хороший вопрос. У нас нет бесплатной медицины, но есть частные страховки, которые стоят очень недорого.
— Дело в том, что у меня четверо детей.
— Послушайте, если вы из тех, кто бежит в районную поликлинику с каждым чихом и проводит там весь день только потому, что это бесплатно…
В конце концов, Руфь тоже встала и тихим голосом начала:
— Вот мне, например, за сорок…
— Громче, пожалуйста.
— Я для знакомых узнаю. Им за сорок, и они работают в магазине одежды. Каковы их шансы устроиться на работу в Канаде?
— Это очень хороший вопрос. Я рад, что вы его задали. В общем-то если ваши знакомые мужчины, то их шансы… ммм… не сказать, чтобы очень хорошие. Ну, сами понимаете: пенсионные отчисления, то да се… А вот женщин многие магазины предпочитают брать на работу таких, у кого брачный возраст уже заведомо пройден.
— A-а, поняла, спасибо. Большое, большое вам спасибо.
5
Слегка этого стыдясь, Джейк тем не менее изменил маршрут — стал к «У.Г.Смиту» ходить другим путем, но иногда, задумавшись, сбивался на привычный. Однажды, недели две спустя, Руфь вновь его остановила. Не сможет ли он опять с ней в полшестого встретиться. Сможет, почему бы и нет?
— Пепси? — спросил Джейк, с любопытством ожидая, что она скажет.
— Нет. Лучше лимонад. «Канада-драй», если не возражаете.
На сей раз она была с сеткой, из которой торчал пучок сельдерея. Кроме него в сетке виднелись две консервные банки, причем с обеих этикетки уже содраны. Джейк заказал двойной джин с тоником для себя и лимонад «Канада-драй», после чего, откинувшись в кресле, приготовился слушать.
— Я помолвлена, — с гордым видом провозгласила Руфь и добавила со смешком: — Или вы эту страницу «Таймс» обычно пролистываете не глядя?
Джейк поздравил ее.
— Он очень, очень симпатичный мужчина. Очень начитанный, хорошо разбирается в политике. Читает «Нью стейтсмен» и «Трибьюн». Уже кое-что, не правда ли?
— Пожалуй.
— Поэтому, вы знаете, мне очень понадобятся деньги.
— Какие деньги? — сразу проснулся Джейк.
— Те семьсот фунтов. Которые у меня взял Джозеф.
— Но я-то тут с какого боку? — изумился Джейк, неотрывно следя за тем, как она старательно сковыривает этикетки от обеих бутылок «Канада-драй».
— Как с какого? Скажите ему, что мне нужны деньги. Мой Гарри в материальном смысле добился не многого. Этот аспект жизни его не интересует.
— Руфь, в последний раз вам говорю: я не видел его уже много лет.
— Ай, да ладно. Сколько можно — одно и то же!
— Боюсь, что вам придется поверить мне на слово.
— А может быть, эти деньги вернете мне вы?
— С чего бы это?
— Между прочим, Гарри смотрел ваш фильм, но, должна вам сказать, не очень-то он ему понравился. В нем, говорит, мало правды жизни. Говорит, что, когда вы изображаете жизнь рабочих, вы явно делаете так, чтобы богатые над ними смеялись. А еще, по его мнению, в вас чувствуется тяга к саморазрушению.
— А что ваш брат? Он насчет Гарри провел расследование?
— Гарри скрывать нечего. Его жизнь — открытая книга, от и до. Хотите знать правду про Джозефа — почему он дал тягу? Все просто: почувствовал, что я слишком хороша для него. Я бы не смогла долго с ним уживаться.
— Ну-у, я желаю вам с Гарри всего самого лучшего. Я…
— Этот ваш братец Джозеф… тоже мне французский аристократ! Весь проспиртован, еще немного, и синий станет. Он ведь пьяница неисправимый!
— Да мы, Херши, вообще-то все такие — саморазрушители, самоненавистники. У нас ведь вся семейка сумасшедших.
— Не знаю уж, что так исковеркало в детстве его психику. Да и от любви ко мне он, видимо, очень страдал, но…
— Вот уж это наверняка.
— Ах вот вы как! А на первый взгляд такой джентльмен, такой воспитанный! Какое вы имеете право так со мной разговаривать?
— Извините.
— Потому-то он тогда и уехал на две недели якобы в командировку. А на самом же деле в запой ушел. Что ж, я, слава богу, в нем вовремя разобралась. Зла на него не держу. Мне его просто жаль.
— Я передам ему это.
Победно улыбаясь, Руфь откинулась в кресле.
— Как я вас поймала, а?
— Да боже ты мой. Я имел в виду, если когда-нибудь увижу!
— Я поймала вас на лжи. Поганой, мелкой. Почему бы вам это не признать?
— Да черт вас подери, Руфь! Я его в глаза не видел больше двадцати лет уже!
— А меня он конечно же нарочно водил за нос.
— Увы, это так. Как это ни прискорбно.
— Ладно, не волнуйтесь. Бывает хуже, хотя и реже. Зато Гарри — уж какой привлекательный мужчина!
— Я очень рад за вас.
— Ну, еще бы! Однако на сей раз брат заставил меня поклясться, что я не буду судьбу испытывать. Никаких скоропалительных замужеств через две недели знакомства. Сказал, вроде как, прежде чем плюхаться, попробуй водичку, если вы понимаете, о чем я.
— Понимаю.
— Сирил говорит: попробуй сперва водичку, как, мол, там туфелька — по ноге ли? И он прав. Викторианские времена миновали, правда же?
6
Джейку некуда было ходить, нечего делать, зато платили за ленивое безделье будь здоров как. Плату эту он считал нечестной и ловко прятал в оффшор.
«Настанет день, когда ты сможешь мной гордиться, — сказал он когда-то отцу. — Я буду знаменитым кинорежиссером».
«Слушай, не засирай мне мозги, — отмахнулся тогда Иззи Херш. — Хочешь, чтобы я тобой гордился? Начни зарабатывать на жизнь. Прочно встань на ноги».
Вот поди знай, папа. Поди знай.
Джейк читал, по вечерам водил Нэнси в кино, а среди ночи вдруг просыпался и шел курить, ожидая, что вот-вот раздастся звонок междугородней, и ему скажут, что отец умер. Написал Ханне письмо, в котором рассказал о своей поездке в Израиль и, упоминая о том, как искал Всадника в Геенне, посетовал, что тот опять ускользнул. Привел в порядок свою библиотеку, разложил по годам и месяцам все старые номера «Энкаунтера». Купил и оснастил ярлычками стальной картотечный шкаф. Выполол в саду сорняки.
Он как раз снова разбирал бумаги, когда в дверь позвонили. Маленький, глумливо ухмыляющийся незнакомец представился как жених миссис Флэм.
— Хотите выпить? — гостеприимно осведомился Джейк.
— Так рано не пью.
Джейк налил себе джина с тоником. Гарри Штейн высморкался и огляделся с таким видом, будто все, что видит, хочет вобрать в себя. Ковер из магазина «Каса Пупо», кресло с подголовником от «Хила с сыновьями». Кухонная дверь приоткрыта, виднеется огромный сверкающий холодильник.
— Неплохо, — проговорил он. — Очень неплохо.
В кухню за кубиками льда Джейк не пошел, решил, что питье сойдет и теплое.
— Ах, Руфочке бы такую квартирку! Но нет, такую она не может себе позволить. Из-за вас, американцев, да озверелых рахманов цены на жилье повсюду взлетели за облака.
— Так вы, что ли, дом себе присматриваете?
Гарри ухмыльнулся.
— А не хотите снять на все лето? Мы, наверное, в Испанию уедем.
— Повезете ваши доллары Франко! — обрадовался Гарри.
Черт бы тебя драл, подумал Джейк и все-таки пошел в кухню за ледяными кубиками.
— А вы знаете, сколько политзаключенных до сих пор томятся в застенках франкистской Испании?
— Да я и сам фашист.
— Вот только дурочку валять не надо.
— Что вы хотите, Гарри?
— Слышите, самолет летит. Американский!
— Я канадец.
— День и ночь они летают у нас над головой с ядерными бомбами на взводе. Одна уже упала в Гренландии. Другая в Испании…
— Вы полагаете, на очереди Северо-Западный Лондон?
— А вы юморист.
— Послушайте, Гарри. Я тоже читаю «Нью стейтсмен». И все-таки — чего вы хотите?
Гарри прикурил сигарету, горелую спичку сунул обратно в коробок.
— А все потраченное за отпуск впишете в графу «накладные расходы»?
— Не исключено.
— А у меня вот подоходный налог вычитают прямо из зарплаты. Платят якобы тридцать пять в неделю, а домой приносишь двадцать шесть. А вы сколько?
— Это не ваше дело. Так чего же вы все-таки хотите?
— Семь сотен фунтиков.
— А, так вы сумасшедший!
— Просто скажите вашему двоюродному брату…
— Я уже говорил Руфи, что не виделся с ним много лет. И местопребывание его мне неизвестно.
— Я в этом сомневаюсь.
— Вы — что?
— Я могу передать это дело своим адвокатам.
— Чтобы взыскали?
— Надеюсь, вы понимаете, что в этой стране пособничество мошеннику столь же серьезное преступление, как и само мошенничество.
— О’кей, можете подавать на меня в суд.
— С другой стороны, если вы готовы уладить спор, не доводя до…
— Нет, не готов, Гарри. Если бы я даже захотел заплатить долг Джо, в настоящий момент у меня как раз туго с деньгами.
— А почему не снять с номерного счета в швейцарском банке?
— А вдруг там пусто?
— У нас разные понятия о том, что такое пусто. Вы со мной согласны?
— Н-ну, пожалуй, согласен.
— Руфь на ногах весь день — с девяти до пяти. Зарабатывает варикоз вен. Встает каждое утро в семь, вы не знали? Умывает и кормит детей, закидывает их в муниципальный детский садик и больше их до вечера в глаза не видит. А вечером надо еще белье оттащить в прачечную. У вас ведь есть стиральная машина?
— Ну, а как же. У нас и помощница по хозяйству есть.
— Неплохо. Очень неплохо.
— Я тоже так думаю. Что ж… — Джейк бросил взгляд на часы.
— То есть это ваше последнее слово, так? Вы не станете платить долг вашего брата?
Джейк кивнул.
— И вы совершенно не помните, чтобы мы раньше где-то встречались?
— Нет. Извините.
— Не стоит извинений. Меня вообще мало кто замечает. Привык уже, знаете ли.
Но и после этого Гарри в дверях замешкался.
— Вы сказали, у вас сейчас туго с деньгами, мистер Херш, и что, даже если бы вы захотели, вы не могли бы выкроить нужную сумму. Жаль, жаль. Потому что мне доподлинно известно, что в настоящее время вам каждый месяц платят больше, чем я получаю на руки за год.
— Кто это вам сказал?
— Я просто обратил ваше внимание на то, что вы солгали.
— И где же это мы с вами встречались, Гарри?
— То есть вы хотите сказать, что мы живем настолько в разных мирах, что нам уже и встретиться невозможно?
— Заметьте-ка, это вы сказали!
У Гарри порозовели щеки.
— А теперь все-таки скажите, каким образом вы посвящены — или думаете, что посвящены, — в мои частные дела?
— Поскольку вы солгали мне в одном, думаю, вы покривили душой и в отношении своего брата. И знаете, где в данный момент обитает Джозеф Херш. Или де ла Хирш. Знаете и покрываете его.
— Да вы просто сами не понимаете, о чем говорите!
Сразу после того, как Гарри вышел, Джейк заметил огромную круглую дыру, прожженную в обивке нового кресла от «Хила с сыновьями». Это надо же, каков стервец, подумал Джейк не без смутного восхищения. Ведь он это сделал нарочно!
7
Следующим утром почта доставила длинное ругательное письмо. Чего в нем только не было: Линдон Б.Джонсон, война во Вьетнаме, Барри Голдуотер, ЦРУ, убийство Малкольма Икс, общество Джона Берча, вкупе с более отдаленными по времени, но оттого не менее вопиющими проявлениями злокозненности Соединенных Штатов. Джейк передал письмо Нэнси и развернул «Таймс».
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ РАК
Совет по здравоохранению советует каждой женщине старше двадцати четырех лет каждый месяц проходить два необременительных теста на рак груди, поскольку от этой болезни каждый день умирает около тридцати женщин, что составляет одну пятую всех смертей от рака.
Чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, требуется всего несколько минут в месяц. Мы надеемся, что каждая женщина сделает это своей привычкой, вроде перестилания постели.
Нэнси была на восьмом месяце беременности и спать ложилась рано. Джейк тоже. Вдруг в три часа утра его разбудил телефон. Отец! — подумал он. Сказал «алло», но никто не ответил. Алло! Алло! На другом конце линии слышалось дыхание и ничего больше.
— Гарри, ты мудак!
Вновь засыпать Джейк поостерегся. Закурил сигариллу, вытащил из груды журналов и сценариев, высящейся на прикроватном столике, «Жизнеописания поэтов» Сэмюэля Джонсона и стал ждать. Через двадцать минут телефон зазвонил снова.
— А трубку снять не хочешь? — спросила Нэнси.
— Нет. Спи, спи, пожалуйста.
Утром по почте пришла брошюрка про ужасы фашистского режима в современной Испании. На ее обложке красовалась одна из карикатур Вики Вайса[316]. Сравнения с качеством материалов, предоставленных Джейку в испанской туристической фирме (о красотах и радостях Торремолиноса), брошюрка явно не выдерживала, но он все же нехотя поделился с Нэнси сомнениями: может быть, лучше переиграть на Лазурный берег? С грудным-то ребенком!
Зачем? Ну как зачем: молоко там неизвестно какого качества — вдруг не подойдет младенцу? Нэнси возразила, что младенца она собирается вскармливать грудью, как и прежде. Ну, это, конечно, да, но там во всё кладут оливковое масло, а дети его не любят. А не слишком ли дорог для нас юг Франции? Ну, как бы да, дороговат, но в Испании ведь почему дешево? Потому что там ужасно недоплачивают голодающим рабочим. Мало того: туризм это одна из подпорок, на которых держится коррумпированная диктатура. Ну надо же, а не поздновато ли воспитывать в себе такую сверхчувствительность, такую воспаленную социальную совесть? Других-то за подобные выверты он всегда нещадно высмеивал! Да, поздновато. Да, черт подери, высмеивал!
После дискуссии Нэнси из кухни перешла в спальню, а Джейк отправился на прогулку, Сэмми увязался за ним.
— Эй, — сказал Джейк, — глянь-ка, кто это на той стороне улицы? Малый в форме твоей школы!
Но посмотреть Сэмми не соизволил. Только спросил:
— Он за собой слона ведет?
— М-мм, нет.
— Тогда это не Роджерс.
После обеда Джейк уселся перед телевизором. Сперва новости, которые он всегда смотрел с сурдопереводом, чтобы, если вдруг оглохнет, кое-какие начатки языка глухонемых в голове уже имелись. Потом «Рожденные жить».
В студии Денизы Легрикс все стены увешаны ее картинами, и это творения удивительной силы: глядя на них, мало кто поверил бы, что художница родилась без рук и без ног.
Денизе Легрикс слегка за пятьдесят. Она улыбчива и остроумна, но, стоит заглянуть ей в глаза, в них видишь отблеск ее невероятной силы. Пока мы разговаривали, она вызвала по телефону такси, набрав номер ножом для резки бумаги, прижатым подбородком к плечу. Встретиться с ней мне было нужно для подготовки сегодняшней передачи. Ожидая, что возникнет неловкость, я заранее придумал несколько вопросов, чтобы с их помощью ее преодолеть. Это оказалось совершенно излишним. С ножом, зажатым правой подмышкой, балансируя вилкой на левой культе, она ела столь же непринужденно…
Гарри не звонил до двух ночи.
— Не отвечай, ну его, — поморщилась Нэнси. Однако Джейк уже схватил трубку.
— Гарри, если ты еще раз сюда позвонишь, я заявлюсь к тебе домой и оторву тебе башку на хер.
Никакой реакции. Но дыхание слышно.
— А если это не он? — спросила Нэнси.
— Да ну, глупости.
Джейк набрал номер Гарри. Гудки… гудки… Наконец прорезался Гарри:
— Алло, — да еще и голосом таким — нарочито заспанным и хриплым.
— Гарри, это Херш. Джейк Херш.
— Ну и чем я обя…
— Если не перестанешь звонить сюда по ночам, я тебя сдам полиции.
— Вы о чем?
— Ты меня слышал, Гарри.
— Что за безобразие!
— Гарри, я вот о чем подумал. Может быть, я живу в таком доме и зарабатываю по сравнению с тобой так много денег просто потому, что я умен и талантлив, а ты безмозглый болван и бездарь.
Последовала долгая мучительная пауза. В конце концов Гарри подал голос:
— Сомневаюсь.
— И тем не менее это так! — проорал Джейк. После чего повесил трубку, но тревога не отпускала. Да к ней еще добавился стыд.
— По-моему, тебе не надо было ему это говорить, — сказала Нэнси.
— Ну хорошо, не надо. Но я ведь уже сказал!
Телефон зазвонил снова.
— Вот видишь, это совпадение. Звонит просто какой-нибудь сумасшедший, который о нас и знать ничего не знает.
С этими словами Нэнси сняла трубку, сунула ее под подушку и сказала:
— Все. Всем спать.
Утром, когда они завтракали, явился полисмен (к счастью, не Майкл Хор). Оказывается, некий мистер Гарри Штейн жалуется, что посреди ночи его будили телефонными звонками угрожающего характера. От возбуждения раскрасневшись и чересчур спеша, Джейк объяснил, что, напротив, сэр, это ему всю ночь досаждали звонками, а он всего лишь предупредил мистера Штейна, чтобы тот от него отстал.
Откуда мистеру Хершу известно, что ему звонил именно мистер Штейн?
— Я рад, что вы задали этот вопрос. Потому что, — тут Джейк замялся, — когда я не был знаком с мистером Штейном, со мной никогда ничего подобного не случалось.
А еще какие-нибудь доказательства у мистера Херша есть?
Конечно. Но огласит их мистер Херш не сейчас, а в подобающий момент.
Что ж, как бы то ни было, не будет ли мистер Херш так любезен обещать, что не побеспокоит больше мистера Штейна?
Будет, будет, куда он денется!
Едва бобби за дверь, Джейк забрался на свой чердак и позвонил Гарри.
— Послушай-ка… Ну ты… прямо я не знаю… Хитрый ты жук!
— Да ну? Не может быть. А мне показалось, ты сказал, что я — цитирую — безмозглый болван и бездарь, конец цитаты.
Да подавись ты до смерти в сортире бумагой!
— К вашему сведению, мистер Херш, хотя и не материально, но интеллектуально я принадлежу к двухпроцентному слою сливок общества.
— Ха-ха. Крепко загнул. И кто это сказал?
— Менса.
— А что это такое?
— Латынь вам, стало быть, неведома. Я правильно понял?
— Так это же мертвый язык!
— Менса по-латыни значит стол. Так называется общество, что-то вроде круглого стола, и я к нему принадлежу; от поступающего туда требуется одно: чтобы уровень его интеллекта был выше, чем у девяноста восьми процентов окружающего населения[317].
— После всех этих твоих всхлипываний по поводу Испании ты, оказывается элитист! Мерзкий поганенький фашистик.
— Менса не имеет ни политической, ни религиозной направленности. В ней нет дискриминации по признаку расы, цвета кожи или социального положения. Если мы элита, то наша элитарность определяется не рождением, воспитанием или богатством, а базируется исключительно на внутренне присущей нам интеллектуальности.
— Так. Погоди, погоди. Минуточку. Ты пытаешься убедить меня, мелкого замухрышку, в том, что ты принадлежишь к интеллектуальной элите?
— Я утверждаю, что это научно доказанный факт.
— Да над тобой просто посмеялись, Гарри!
— Неужто?
— Сколько ты платишь за то, чтобы состоять в этом вашем дурацком клубе? Сколько с тебя содрали?
— Я прошел тест, доказывающий мою пригодность.
— Ну, если ты прошел, так это и мой сынишка Сэмми сможет. Причем с завязанными глазами.
— То есть вы были бы и сами не против подвергнуться подобной проверке?
— Ну… гм… конечно! Только вряд ли у меня на эту чепуху время найдется.
— А, ну понятно.
— Понятно ему! Хорошо, согласен. И где мне этот тест добыть?
— Я позабочусь, чтобы вам его прислали.
— Отлично. Ставлю десять против одного, что я заработаю баллов больше, чем это когда-либо удавалось тебе. Интеллектуальная элита, ё-моё!
— Я принимаю пари, мистер Херш. Значит, договорились?
— Конечно, договорились. Но уж, по ходу дела, не надо больше звонить среди ночи, ты понял?
— Я отвергаю это обвинение.
— Просто запомни, что я сказал.
— А насчет денег, которые ваш двоюродный брат должен Руфи, у вас никаких соображений не появилось?
— Нет. Все. Пока.
За завтраком Нэнси решила от разговоров воздержаться. Налила Джейку еще кофе.
— И что это со мной такое? — вдруг воскликнул он. — Куда ни ступишь, зыбучие пески!
8
Укажите, который из четырех пронумерованных рисунков подходит на свободное место.
Вставьте недостающее число.
Дополните следующий ряд:
SCOTLAND 27186453 LOTS 7293 LOAN 8367 AND ___
Зачеркните лишнее.
АЗЕТРИВЛОС
ОГЕЛОРРУМЕЛУС
НИВЕРИНЕНИУРАС
РЕАЛОПОЗИЛЛИЛООН
Боже, какой бред! Абсолютная ахинея.
Пока Джон занят переклеиванием обоев в коридоре, Биллу и Тони было строго-настрого приказано оставаться в саду.
Но мальчикам надоело играть в крикет, и они принялись искать, чем бы еще заняться. Побродив по саду, они нашли пару улиток и решили устроить улиточьи бега. Улитки были разных видов, и мальчики обнаружили, что одной больше нравится лезть вверх, а другой — ползти по горизонтали. Поэтому, чтобы дать обеим равные шансы, пришлось ввести в правила забега усложнения.
Обе улитки были одного размера и формы — то есть единственная разница между ними заключалась в том, что одной нравилось лезть вверх. Оказалось, что двенадцать часов она бодрствует, и за это время взбирается на три фута, потом двенадцать часов спит, сползая при этом на фут. Та, что ползает по горизонтали, естественно, во время сна не сползает, хотя режим сна и бодрствования у нее такой же, как и у лазающей улитки.
В результате мальчики нашли стену и поместили обеих улиток у ее подножия. В четырех футах по другую сторону стены устроили финишный створ в виде лакомого куста. Если стена была семи футов высотой, и обе улитки целеустремленно ползли к кусту, на каком расстоянии от куста следовало дать старт улитке, ползающей по горизонтали, чтобы у обеих были равные шансы?
Фи! Детская игра какая-то.
Вставьте в скобки слово, которое останется осмысленным, какие бы буквенные комбинации левого столбца ему ни предшествовали:
Художник шестнадцатого века Альбрехт Дюрер приобрел славу в веках благодаря своим гравюрам, но, похоже, он не был чужд и математике.
Работая над знаменитой картиной «Меланхолия», он вложил в нее познания как в астрономии и архитектуре, так и в стереометрии, о чем свидетельствует Магический Квадрат четвертого порядка, числа в середине нижней строки которого принято считать датой написания картины.
Хотя на самом деле числа от 1 до 16 на Магическом Квадрате видны достаточно отчетливо, мы сейчас предположим, что это не так и что Квадрат представляет собой то, что изображено на фиг. 10.
В каком году Дюрер исполнил свой шедевр?
И уж во всяком случае, вряд ли эти ребусы способны что-либо доказать.
9
Великий Инквизитор каждый год призывал Джейка к себе в офис, посылая уведомления о перерасчете налоговых выплат, и делал это уже седьмой раз с 1960 по 1966 год, в сумме истребовав за это время уже семь тысяч двести фунтов. И каждый раз надо срочно — уплатить не позднее чем через тридцать один день.
— Но сейчас-то я им зачем? — спросил Джейк Оскара Хоффмана.
— Ни о чем не волнуйтесь. Они пойдут на компромисс. Это они всегда так.
В офис Великого Инквизитора Джейка сопроводил Хоффман, и после обмена любезностями…
— О! — воскликнул Джейк, углядев на подносике для исходящих номер журнала «Танец и танцовщики». Я смотрю, вы тоже любитель балета!
— Есть немного.
— Как вы находите Нуриева в роли Ромео?
— Боюсь, что мое мнение не совпадает с большинством. Мне кажется, его перехваливают.
— Как здорово, что вы это сказали! Я и сам так думаю.
Инспектор, нескладный мальчишка лет двадцати с небольшим, просмотрел листы с отчетностью за первый год деятельности фирмы «Джейкоб Херш продакшнз лимитед» и вслух прочитал:
— На первом годовом собрании акционеров двенадцатого октября тысяча девятьсот шестидесятого года председательствующий объявил, что при обороте в десять тысяч фунтов получено прибыли восемьсот сорок один фунт девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Дивидендов решено было не выплачивать. Я правильно понял?
— Так ведь давно это было, вы ж понимаете.
— М-м? — промычал инспектор и поджал губы.
— Насколько я могу припомнить — да, так и было. Я в тот год на какую-то ерунду кучу денег выкинул.
— По документам судя, — вновь заговорил инспектор, сверяясь с разложенными перед ним бумагами, — платили вы в основном наличными, и всякий раз деньги уходили в Канаду.
— Я знаю, что любовь к родине в наши дни из моды вышла, — сказал Джейк. — Но сам-то я немного сумасшедший, поэтому считаю, что те канадцы, которым повезло жить здесь, где такой замечательный театр и балет, должны как-то помогать писателям, вынужденным сводить концы с концами дома. Я все еще надеюсь получить когда-нибудь хороший канадский сценарий, хотя вновь и вновь на этом обжигаюсь.
Оскар Хоффман заулыбался: видимо, оценил хорошего ученика.
— Я вижу здесь выплату аванса в тысячу фунтов некоему Жану Беливо[318], автору сценария, проживающему по адресу Форум Апартментс, ул. Сент-Катрин, Монреаль.
— А, помню, был такой оболтус. Лучше бы я с ним не встречался. Деньги пришлось списать. Черт-те что понаписал, а не сценарий.
— И еще: в том же отчетном году вы выплатили другой аванс — также тысячу фунтов — некоему Джону А. Макдональду[319].
— Он оказался пьяницей. Но я все же до сих пор надеюсь что-нибудь поставить по тому его сценарию, вот ведь как…
— Вы держите в Канаде секретаршу. Миссис Лору Секорд[320], проживающую в доме триста двенадцать по Онтарио-стрит в Монреале.
— Да.
— А знаете ли вы, — осведомился инспектор, освобождая от стягивающей резинки пачку счетов за рестораны и всевозможную выпивку, — что к накладным расходам по закону допустимо относить только такие траты, на которые компании пришлось пойти исключительно и всецело по соображениям деловой необходимости.
— Ну да, конечно.
— Однако же в тысяча девятьсот шестидесятом году вы к таковым причислили тысяча семьсот пятьдесят фунтов стерлингов, потраченных на развлечения.
— Подумать только! — качая головой, пригорюнился Джейк. — Если бы я тогда поместил эти деньги в какой-нибудь паевой фонд, я бы сейчас — ух! — горя бы не знал.
— Навскидку, какую долю из всего этого вы сейчас по-прежнему сочли бы тратами деловыми, а какую — личными?
— Минуточку, дайте сообразить… Пять процентов там, наверное, все же личных. Или…
Инспектор сурово набычился над горкой счетов.
— …ну, может быть, семь. Восемь это от силы.
И тут же на свет божий вынырнул счет из магазина «Викторианские вина» за февраль 1960 года на 81 фунт, в том числе и за сотню сигарет.
— Сколько из этих сигарет вы выкурили по необходимости, ради бизнеса? И сколько для личного удовольствия? Сколько было отдано друзьям, жене?
— Тут, знаете, очень тонкая грань. На самом деле ваш вопрос похож на одно место из Талмуда. Поэтому, с вашего позволения, я отвечу на него, как это положено в талмудической традиции, то есть новым вопросом. Если бы я вот прямо сейчас предложил вам сигарету, это было бы для удовольствия? Или по необходимости, ради бизнеса?
Инспектор, не отрываясь, смотрел в бумаги, но Хоффман кашлянул неодобрительно.
— По правде говоря, я просто не помню. Но ведь эти счета в шестидесятом году были приняты. Почему вы снова к ним возвращаетесь?
— Государственная комиссия по налогам и сборам не обязана раскрывать мотивы, по которым производятся перепроверки. Вот, кстати, кое-что очень типичное.
Типичным оказался ресторанный счет. Обед на четверых в «Ше-Люба» стоимостью в 21 фунт.
— Я приглашал продюсера с женой. Обсудить какой-то проект.
— Но согласитесь: жену-то вы брали с собой для личного удовольствия?
— Да нет же! Никоим образом. Она терпеть не может продюсеров. Но, раз он с женой, я тоже вынужден был взять с собой жену. А мы теперь что, будем рассматривать каждый из этих старых счетов по отдельности?
Молчание.
— Или вот, я вижу, в шестьдесят пятом фирма «Джейкоб Херш продакшнз» заключила субдоговор с зарегистрированной в Женеве швейцарской фирмой «Ворлд-Вайд» на оплату услуг режиссера Джейкоба Херша в размере семи тысяч пятисот фунтов в год… Хотя до этого вы брали себе еще больше.
— Мне очень стыдно. Это просто ужасно. Прямо локти себе кусаю. Мне не следовало этого делать!
— Полагаю, вы в курсе, что банковские счета за пределами страны — это для вас вещь совершенно противозаконная.
— Конечно, я понимаю. Но, боже мой, вы ведь не обвиняете меня в… уклонении от уплаты налогов?
— Сейчас мы вообще ни в чем конкретном вас не обвиняем.
— Так чего же вы тогда от меня хотите?
— Я обращаю ваше внимание на то, что примерно процентов девяносто пять этих так называемых накладных расходов на самом деле были вашими личными тратами.
— Да ну, быть не может!
Оттолкнувшись, инспектор вместе с креслом отъехал от стола, показав этим, что разговор окончен.
— Я еще поработаю над вашими счетами, — сказал он. — Потом свяжусь с вами.
— Вот это, наверное, будет самое правильное решение, — вступил в разговор Хоффман, впервые за все время раскрывший рот. — Мой клиент вам весьма благодарен.
— Благодарен-то я чертовски. Однако все это сильно попахивает Звездной палатой[321]. Я все-таки думаю, вам следовало бы раскрыть мне причину пересмотра моих отчетов.
— Методика работы государственной Комиссии по налогам и сборам не предполагает разглашения причин, по которым происходят перепроверки. Я скоро с вами свяжусь.
10
Следующим утром почта доставила ответ из недр Менсы:
Уважаемый сэр!
Благодарим Вас за Ваше интересное письмо от 19 апреля 1967 года.
Мы примем во внимание, что «по Вашему скромному мнению» общество, которое «дискриминирует» девяносто восемь процентов населения, можно считать «недемократичным»; с не меньшим интересом и некоторым сочувствием узнали мы и Ваше мнение о предлагаемых нами тестах, которые «измеряют не талант и самобытность, а только некоторые особые способности». Однако Ваше обвинение в том, что Менса распространяет «среди доярок и клерков, дантистов и продавцов» иллюзии величия, поощряя в них веру в то, что своим жалким положением они обязаны социальной несправедливости, а не собственным ограниченным способностям, мы решительно отвергаем. Откровенно говоря, нам кажется, что такого рода нападки свидетельствуют лишь о том, что кое-кому приятнее считать, что виноград зелен. Более того, если бы Вам действительно не хотелось иметь ничего общего с такой «сомнительной, самовлюбленной компанией», зачем же Вы тогда выполняли задания нашего теста?
В заключение мы хотели бы еще раз напомнить, что ни успех, ни неудачу с нашим тестом не следует принимать слишком близко к сердцу. Некоторая неопределенность присуща любым статистическим измерениям, а вдобавок, как Вы совершенно справедливо заметили, в строгости научного подхода к интерпретации данных есть сомнения…
11
— Да, Гарри. В чем дело?
— Хотел спросить, не появилось ли у вас каких-то новых соображений по поводу денег, взятых вашим братом у Руфи.
— Пошел на хер!
Одно за другим в самый дикий предутренний час к дверям Джейка подъезжали якобы вызванные им такси; приходилось разбираться с водителями, раз от раза становившимися все злее и агрессивней. Извиняться перед пожарными, клясться, что это не он их вызывал. Уверять рассыльного из «Харродса», что произошла ошибка и он не заказывал двенадцатифунтовый шмат жареной вырезки. Отказываться от бандеролей, присылаемых наложенным платежом, отправлять обратно книги и пластинки, якобы им в магазине выбранные. Рассыпаясь в извинениях, объяснять водителю «скорой помощи», что они оба жертвы розыгрыша.
— Да, Гарри. Что сегодня?
— Мне пришло в голову: вдруг вы передумали? Ну, насчет вашего долга, я имею в виду.
— Гарри, у меня нервы из стали. Но если это не прекратится, я вышибу тебе все зубы.
— Если не прекратится — что?
— Послушай-ка. Ты не думаешь, что и к тебе можно применить те же методы?
Три дня никаких бандеролей. Никаких звонков из Общества охраны животных и газовой службы. Следующим утром, как раз когда Джейк лихорадочно собирал сумку, зазвонил телефон. На проводе был снова Гарри.
— Ну что опять?
— Мы заключили пари. Я правильно понял?
Сказать, что Джейк смутился, значило бы ничего не сказать.
— И я все думаю, мистер Херш. Неужели вам еще не пришел ответ из Менсы?
— А, ты вот о чем. Слушай, я сейчас не могу говорить. Через сорок минут мне надо быть в аэропорту.
— Куда летите?
— В Канны. А тебе-то что?
— Да так. Неплохо. Очень неплохо.
— Я по делу, бывает и так. Не отдыхать еду. Причем завтра с утра обратно. Звони мне в полдень.
На взлете Джейк стиснул подлокотники кресла, повторяя про себя стандартные заклинания. По статистике самолет безопаснее, чем автомобиль. А «вэнгарды»[322] бьются вообще очень редко. И еще: у них непревзойденные двигатели «роллс-ройс».
Но заклинания не помогали. Никогда не помогали. Унять страх помогли два двойных виски, так что через полтора часа после вылета на нервы действовал только сосед, словоохотливый американец, торговец бумагами паевых фондов. Пришлось притвориться спящим.
Открыл глаза, чтобы заказать еще выпивки, и сердце вдруг ушло в пятки. Солнце, которое до этого все время было по правую руку, почему-то вовсю светило в левые иллюминаторы. Заложило уши. Теряем высоту!
— Не хотел будить вас, — заговорил американец, — но, на мой взгляд, мы, похоже, повернули обратно в добрый старый Лондон!
В динамиках щелкнуло и зашуршало.
— Дамы и господа, говорит командир экипажа. У нас некоторые технические проблемы, поэтому мы развернулись, чтобы произвести посадку в Париже. Посадка ожидается через тридцать пять минут.
Подошла стюардесса с напитками.
— Все будет хорошо, — ровным голосом пропела она. — Беспокоиться совершенно не о чем.
Но цвет лица у нее был пепельный.
Не верю, не верю, несколько раз повторил про себя Джейк. Такие дурацкие, бессмысленные несчастья случаются только с другими.
— Моя фамилия Ньюби, — сказал американец.
— Херш.
— Вы в Бога верите?
— Конечно. И всегда верил.
Нет, вы слыхали что-либо подобное?
— А я нет. Во всяком случае с некоторых пор. Я, знаете ли, в войну на Б-29 летал.
— Да ну?
— Сделал двадцать девять боевых вылетов и ни разу ни одного ангела не видал. Да и никто из наших ребят не видел.
— Может, они были в другом месте? Или летали выше.
— A-а, народ на это больше не покупается. Да ведь и в космос уже летают! Астронавты их тоже не видели.
— Ну, положим, русские, если бы и увидели, все равно б не сказали, — возразил Джейк.
Ньюби над этим подумал, взвесил.
— Послушайте, — привстав, проговорил Джейк. Он был уже весь в поту и дрожал как осиновый лист. — Мы все еще падаем!
— А как же. Ему же надо эшелон сменить! Надо полагать, переходим на десять тысяч футов.
Крылья все еще держатся. Причем оба. И двигатели вроде бы работают нормально.
— Зачем? — спросил Джейк.
— Если произойдет взрыв…
Типун тебе на язык, Ньюби!
— …можно будет хотя бы дышать без кислородных аппаратов.
В это время командир по громкой связи объявил, что для тревоги повода нет, пассажиров просят лишь потушить сигареты и пристегнуть ремни.
Джейк тут же заказал себе еще выпивки.
— Все будет хорошо, — пропела стюардесса.
— А я разве спрашивал?
— Беспокоиться совершенно не о чем, — как заведенная, продолжила она.
Неподалеку безутешно заплакала женщина. Кто-то громко молился.
— Когда-нибудь думали над тем, откуда мы тут взялись? — спросил Ньюби.
Не обращая на него внимания, Джейк принялся писать письмо Нэнси.
— На Землю нас какой-то высший разум высадил. Из другой галактики. Причем сразу трех рас. Белой, желтой и черной. Мы экспериментальный материал. Растем, как все равно в космической теплице. А им надо знать, кто крепче, какая раса верх возьмет, и тогда начнут заселять другие планеты.
Самолет заложил вираж, в иллюминаторах показались строения аэропорта Орли. Такие близкие и такие недоступные.
— Расчетное время прибытия в Париж — через восемь минут, — объявил командир.
Стюардесса шла по проходу между сиденьями, у каждого ряда повторяя, что все будет хорошо, а заодно предлагала пассажирам вынуть из карманов колющие и режущие предметы.
— Вот он — момент истины! — сказал Ньюби, поднимая бокал. — У вас как — ничего перед глазами не проносится?
— Заткнитесь Христа ради!
Еще одна стюардесса обратила внимание Джейка на то, что он сидит у аварийного выхода…
— Разве?
…и показала, как его открывать.
Произведя окончательный заход, самолет вышел из виража, мягко коснулся бетона и, немного не доезжая терминала, качнувшись, остановился. На площадке ждали несколько машин «скорой помощи» и пожарных, но пассажиры покидали самолет самым обычным образом, разве что все как пьяные.
— Правда же, было здорово? — вдруг вырвалось у стюардессы.
Ну, в общем, да. Джейк спросил ее, в чем была проблема.
— Кто-то над нами подшутил, — ответила та. — Но не принять мер безопасности мы же не можем!
Когда пассажиров собрали на безопасном расстоянии от самолета, командир экипажа объяснил:
— Мне сообщили, что на борту может находиться бомба.
Поскольку некий аноним, звонивший во французский центр безопасности полетов, сообщая о самолете, который будто бы может взорваться, точно указал номер рейса и время вылета, начальство в авиакомпании не могло не отнести ситуацию к разряду весьма опасных. Он сожалеет о причиненных неудобствах и т. д. и т. п.
На время, пока сотрудники службы безопасности обыскивают самолет, багаж пассажиров выгрузили на летное поле. Каждого попросили найти свои чемоданы и открыть для досмотра.
— А это что? — спросил Джейка проверяющий, указав на ничем не маркированные, похожие на пули штучки, оказавшиеся в коробочке из-под ленты для пишущей машинки.
— Это чтобы лечиться, — покраснев, ответил Джейк.
— Каким образом?
Народ начал на них с интересом поглядывать.
— Можно я вам кое-что скажу… гм… гм… наедине?
Они отступили в сторонку, при этом проверяющий железной хваткой держал Джейка за запястье.
— Это суппозитории.
— Говорите, пожалуйста, громче. Тут шум такой…
— У меня геморрой! Как у Карла Маркса, между прочим.
Остаток пути летели спокойно, но по прилете Джейка ждали неприятности еще худшие. Продюсер, с которым он должен был встретиться, не смог его дождаться и улетел в Нью-Йорк. Забронированный заранее номер в отеле успели отдать другому, и Джейку пришлось коротать ночь в душной и полной комаров комнатке какой-то захудалой ночлежки. В Лондон Джейк вернулся в расстроенных чувствах, страдая похмельем и с единственной мыслью: с каким наслаждением он бы убил Гарри Штейна!
В знакомом магазине одежды Джейк нашел Руфь.
— Мне надо немедленно повидаться с вашим новым приятелем. Вы можете мне сказать, где он работает?
Пожалуйста. В консалтинговой фирме Оскара Хоффмана.
— О нет! — Боже мой, этого не может быть!
— Почему нет?
Гарри согласился встретиться с Джейком в полдень в Сохо, в баре «Йоркминстер».
— Я тебя бить не буду, Гарри. Не буду тебе зубы вышибать. Хочу просто предупредить, что нанял адвоката. Буду добиваться, чтобы тебя привлекли за угрозы и вымогательство.
— Не представляю, о чем это вы говорите?
— Что, если бы кто-нибудь из пассажиров умер от инфаркта?
Гарри лишь крутил головой, изображая недоумение.
— Ах ты, извращенец, вонючка ты мелкая! — и Джейк схватил его за грудки.
— По-моему, это мне надо срочно бежать за адвокатом, — высвободившись, проговорил Гарри. — Потому что мне, например, ясно как день, что вам нужна помощь психиатра.
— Это ты псих, Гарри, а не я.
— Нет, я настаиваю: у вас явный параноидальный бред.
— Ну ты и фрукт! — сказал Джейк, заказав им обоим по следующей. — Ты не обычный мудак и извращенец. Я начинаю думать, что ты очень, очень редкостный образец. А теперь, мой психически больной дружочек, скажи-ка мне, давно ли ты работаешь у Оскара Хоффмана?
— Да десять лет уже.
— Так, значит, там мы и встречались?
— Конечно.
— И ты видел мои отчеты и знаешь, как обстоят мои дела?
— Ну-у, чтобы не прерывать разговор, я соглашусь с этим утверждением.
— И ты наверняка в курсе, что меня сейчас вовсю трясут инспектора налогового ведомства.
— Нет, — бесстрастно отозвался Гарри.
— Сколько ты получил за то, что сдал меня?
— Да ты, парень, и впрямь параноик.
— Гарри, бесстыжий ты самоучка, психиатрия это не только «пингвинские» книжки.
Глаза Гарри полыхнули злобой.
— Сколько ты получаешь за то, что стучишь на меня? Десять процентов?
— Я полностью отвергаю эти обвинения. Если соблаговолите заявить о них официально, будете иметь дело с моими адвокатами.
— Ты идиот и сволочь!
— Что касается интеллектуальных возможностей, то — как насчет письма из Менсы? Или еще не получили?
Джейк полез в карман, вытащил две пятерки и сунул их Гарри.
— На. Подавись.
— А с этого момента вы должны мне еще семь сотен фунтов.
— Это в каком же смысле «я тебе должен»?
— Вы получаете тысячу в неделю за то, что не делаете вообще ничего… — тут Гарри понизил голос —…причем даже не платите с этих денег налогов, о великий проповедник социализма!
Джейк побледнел.
— Вы же, кинозвезды, все такие принципиальные!
— Я не кинозвезда.
— А кто же вы тогда?
— Ну ладно, ладно. Но это шантаж. Ты отдаешь себе отчет в этом?
— Я бы это так не называл.
— Да и в любом случае это деньги не твои. Они принадлежат Руфи.
На сей раз по следующей им обоим заказал Гарри.
— Так заплатите ей. А не мне.
— Зачем ты хочешь на ней жениться? У нее что, еще деньги есть?
— Это ваш братец, альфонс-профессионал, хотел за ее счет поживиться, а вовсе не я.
— Стало быть, я должен поверить, что ты и впрямь любишь ее, так, что ли?
— Она вполне привлекательная женщина. — Гарри отвел глаза.
— Такой интеллектуал, как ты, представитель двухпроцентного слоя элиты, да к тому же симпатичный внешне и весьма начитанный, мог выбрать и кого-нибудь получше.
— А вот пытаться меня высмеивать — это ошибка, Херш. Не надо этого делать. Даже не пытайся!
— Не стоит так волноваться. Если я и не испытывал к тебе уважения прежде, то случай с самолетом меня многому научил. Господи, боже мой, как ты мог пойти на такое?
— Опять та же сказка про белого бычка?
— Колись, колись, Гарри. Ведь это же ты позвонил в службу безопасности полетов!
Гарри поднял бокал.
— Что, вздрогнули?
— Сколько вам лет?
— Тридцать восемь.
— И вот еще какой у меня вопрос тогда. Как все эти годы вы умудрялись оставаться на свободе?
— А кто сказал, что я все годы умудрялся?
— Да ну? серьезно? — вскинулся Джейк, глядя на него теперь не только с новым интересом, но даже с уважением. — А за что вас закрывали?
— У меня, знаете, время вышло.
— Давайте вместе перекусим. Угощаю.
Гарри заколебался.
— Мы можем это к накладным расходам отнести. В конце концов, хоть ты и гад, но ты же один из моих финансовых консультантов!
— Ну хорошо. Если на таких условиях, ладно.
Наугощавшись джином, заполированным вином и комплиментами, Гарри открыл, что нелады с законом у него начались еще в эпоху леди Докер и Гильберта Хардинга, когда продукты выдавали по карточкам, рулил Клемент Эттли[323], шла Корейская война и кинокомедии студии «Илинг продакшнз». Гарри Штейн, в то время начинающий бухгалтер, вычитал в «Ньюс кроникл» о том, что пропала (возможно, взята в заложницы) жена банкира, дама взбалмошная и стервозная. Полицейские обшарили в районах по соседству все кусты и прочесали откосы заброшенных железнодорожных путей, надеясь на лучшее, но ожидая телефонного звонка с требованиями похитителей. Или записки с указанием суммы выкупа.
Что ж, Гарри пошел им навстречу.
Если хотите видеть жену живой, вложите пять тысяч фунтов (однофунтовыми неновыми банкнотами) в портфель, который найдете в среду в 7 часов вечера у ворот кладбища Патни-Вейл. Обращаю Ваше внимание на то, что это не больше, чем Вы ежегодно жертвуете Консервативной партии или ежемесячно зарабатываете, эксплуатируя честный труд рабочего человека. За жену можете пока не беспокоиться. Такая старая потасканная кошелка меня сексуально не возбуждает, но имейте в виду, что она испуганна и страдает от холода. Попробуете обратиться в полицию — она умрет, и то же самое будет, если купюры окажутся мечеными.
К несчастью для Гарри, жена банкира нашлась в среду днем среди отдыхающих приморского отеля в Суссексе, и ничего с ней не случилось кроме временной потери памяти, что с женщинами на склоне лет иногда бывает, но Гарри о ее счастливом возвращении не знал (откуда?), и, когда он в среду в семь вечера проходил мимо ворот Патни-Вейла, его скрутили. Гарри яростно все отрицал, якобы не мог понять, за что к нему прицепилась полиция, но когда под нос сунули образцы его почерка, которые по глупости он сначала попытался уничтожить, пришлось заявить, что все это было шуткой. Все ж таки даму-то он не похищал, уж это точно, а деньги намеревался передать в фонд защиты Этели и Юлиуса Розенбергов.
Господин судья Делейни, рассматривая это дело в Олд-Бейли, стоял на несколько иной позиции. В то время как ее родные, убитые горем, бесконечными ночами сидели у телефона, не смыкая глаз, и в ужасе ждали хоть каких-нибудь вестей о родном человеке, этот юный пакостник и мерзавец, движимый злобой и алчностью, сделал все, чтобы усугубить и без того мучительные страдания ее домашних. Да ведь и впрямь, когда была получена эта отвратительная записка Гарри Штейна, мистеру Уоткинсу, который всего двумя годами раньше перенес инфаркт, пришлось предписать постельный режим и прием успокоительных.
— Меня просят принять во внимание безупречное доселе поведение обвиняемого, но больно уж его деяние отвратно, а главное, типично для того упадка, который мы наблюдаем в современном обществе. Дошло уже до того, что десять процентов — вы вдумайтесь! — десять процентов населения Англии дефективно либо умственно, либо физически. Множество людей просто недостойны того, чтобы быть гражданами такой великой страны. Что это? Отчего? Я вам скажу, что это. Это побочный результат слишком вольного воспитания! По моему мнению, с молодыми людьми вроде этого слишком носятся, а в результате страдает общество, потому что при любом послаблении они тут же норовят поживиться на счет уважаемого, приличного гражданина. Это неумная политика, очень неумная. И я хочу на его примере показать, как нужно каленым железом выжигать гниль. Мой приговор — три года тюремного заключения.
На что Гарри, перед тем, как его вывели из зала, ядовито улыбнулся и процедил:
— Благодарю вас, милорд.
К тому времени когда они выкатились из ресторана, пабы уже закрылись, и Джейк напросился к Гарри в гости — под предлогом того, что ему непременно нужно еще выпить: хотелось посмотреть, как тот живет.
В окна трехкомнатной полуподвальной квартирки доносились крики птиц из зоопарка, а состояла она из кухни, гостиной и спальни; повсюду валялось фотографическое оборудование, ванная служила проявочной. Кровать не убрана, простыни жуткие, на прикроватном столике липкая банка с вареньем, хлеб и нож. В кухонной раковине горы немытых тарелок. В гостиной плакат с изображением Че Гевары, рядом набросок голой Джейн Фонды. Гарри сходил, ополоснул пару стаканов и возвратился с полбутылкой скотча. Почувствовав со стороны Джейка неподдельный интерес, он даже прочитал ему одно из своих стихотворений:
ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ Обычный обор- мот без денег и сво- боды, он в клетке каждого завода каждой конторы каждый день но сам не сознает того; услужлив и любезен, он котик, о, возьми меня на ручки, мурлычущий, едва хозяин улыбнется. Но если обор- мот без денег и сво- боды покажет зубы или же насрет на видном месте, хозяин сразу руку к плети — где собаки? Сюда, ко мне! Червяк восставший должен быть раздавлен!Затем он — так уж и быть — показал Джейку некоторые из своих фоторабот. На одной из них была восточного вида девушка с огромными грудями — скованные в запястьях руки подняты, свисающие грубые цепи касаются нежной кожи.
— Надо же, у нее аж мурашки по телу! — заметил Джейк, для простоты сочтя удобным избрать шутливый тон. Взял следующую фотографию.
На этой тяжеленькая девица, ухмыляясь в камеру, сидела на корточках и, раскорячив ноги, тащила из-под себя змею, морду которой приблизила ко рту. При этом язык девица высунула так, будто это то ли змеиное жало, то ли она сейчас змею лизнет.
— Ах, Гершл, Гершл, чем, интересно, ты кончишь? — покачал головой Джейк.
Еще несколько часов спустя бутылку они осушили, разделив последние капли виски по-братски. Пьяный в дым, дурной, но веселый, Гарри болтал без умолку.
— Ты понимаешь, я-то ведь не такой, прикинь? А с тобой я говорю потому, что ты меня уважаешь! Ты заценил, что я не какой-нибудь нуль без палочки. Что пара книжек у меня на полке есть и на концерте я был. Хочу, чтобы ты проникся, каково мне было лет в двадцать. Чтобы прочувствовал, через что мне пришлось пройти. Я в смысле, черт, у кого бы, интересно, крышу не сорвало — или как ты там еще это назовешь. У меня же было шаром покати. Ни хрена за душой и великие перспективы получить еще больше того же самого ни хрена. А годы-то идут, часики тикают! А я ведь знал: я не такой, как все! Я знал, что мне кое-что причитается, мне на роду написано, и в этом моя главная проблема. Я не такой, как все. Не из этих, которые аж все трясутся, только бы их не уволили. Копят свои жалкие гроши, набивают по зернышку счета в банке, как хомячки какие. Вне себя от радости, если к зарплате вдруг прибавка в десять шиллингов. Нет, Гарри не таков. Гарри умеет шевелить мозгами, и в этом вся проблема, не так ли? Однажды — нет, ты послушай, — однажды подъезжает ко мне «бентли», там старый жирный пень, он опускает окошко и спрашивает, — да вежливенько так! — мол, не знаю ли я, как отсюда проехать к мосту Баттерси? Ну да, говорю, конечно, знаю, старый ты мудак, но ты сперва скажи мне, сколько заплатишь, чтобы снова стать таким молодым, как я, потому что тебе-то уж недолго осталось небо коптить, — что, чувачок, скажешь нет? — при всех твоих деньгах! Я думал, его прямо тут же удар хватит. А я на яхтенную выставку шел. Я не рассказывал еще? Про яхтенную выставку в «Олимпии»[324], а? Иду я, значит, на яхтенную выставку, а было это в январе шестьдесят первого года — если думаешь, что я вру, можешь в газетах справиться. Шел, думал купить себе подарок на тридцатилетие. Ха-ха — купишь там, как же! Но я все же кой-чего там себе присмотрел (между прочим, до сих пор храню с той выставки проспекты) и совершенно задурил башку продавцу с датой доставки. А стоила эта фигня тысячу фунтиков. И я прекрасно понимал, что, если даже пить и есть не буду следующие лет десять, все равно мне это дело не потянуть. Так что ни хрена я покупать не собирался. Ни яхт. Ни гоночных машин. Ни путевок в Монте-Карло. Хоть я и принадлежу к двухпроцентному слою сливок общества этой страны интеллектуально, а ты теперь и доказательством того располагаешь, — что, кореш? — скажешь нет? Несмотря на то даже, что я умнее тебя и это научно доказано (да и любого из вашей киношной хевры тоже), я ничего купить себе не мог. Потому что я насекомое.
Ну а дальше, — улыбаясь милым его сердцу воспоминаниям, продолжил Гарри, — он зашел в телефонную будку за углом, изобразил латиноамериканский акцент и поведал администрации, что в знак протеста против политики правительства по отношению к Кубе через тридцать минут у них на выставке грохнет бомба.
О, они к этому отнеслись очень серьезно, ты ж понимаешь! Только что, в октябре месяце, Хрущев стучал башмаком в ООН. Да еще и Кастро своей речью о философии грабежа, порождающей философию войны, поставил Нью-Йорк на уши. Нет, рисковать им было нельзя никак. И понеслось. Полицейские сирены. Пожарные автоцистерны. Такой начался тарарам! А все эти крутые богатенькие уроды со своими блядчонками — видел бы ты, как они забегали! Кинулись из здания, как ошпаренные крысы. Я наблюдал с другой стороны улицы и был в таком восторге — ух! — держите меня семеро! А там они всё кверху дном перевернули. Весь выставочный комплекс облазили вдоль и поперек, все бомбу мою искали. Не веришь, посмотри в газетах. Да у меня, кажись, где-то и вырезки сохранились…
12
На следующее утро Джейк отвез Сэмми в школу, после чего пошел искать Руфь в магазин. Но на работе ее не было. У ее старшего сына Давида температура вдруг подскочила до 39.
— А, это вы, — сказала она, открывая Джейку дверь. — А я уж обрадовалась, думала, доктор. Ага, сейчас… Держи карман шире.
— А что такое?
Руфь объяснила, что она наотрез отказалась одевать Давида и ехать с ним в клинику. Пригрозила доктору Энгелю, что напишет на него жалобу в Службу здравоохранения, если он не придет к ним на дом, и теперь она в ужасе, потому что он специально будет тянуть резину, а когда наконец явится, станет злиться и вредничать. Да у него и вообще, мол, характер скверный. Почти такой же, как у доктора Веста. Однажды Давид заболел, будучи совсем крошкой, у него тогда тоже температура была под 39 и рвота, и она еле упросила доктора Веста прийти осмотреть его. «Зачем, — пожал он плечами, — вы так трясетесь над ним? У него просто зубки режутся, вот и все». Но сутки спустя она все-таки собрала Давида (температура-то все растет!) и отвезла в больницу, а там у него обнаружили воспаление легких и положили в кислородную палатку.
В результате Руфь потребовала, чтобы ей отдали медицинскую карту, и перешла к доктору Энгелю. Похожий на сову доктор Энгель, осыпая все вокруг сигаретным пеплом, перелистал медкарту, стопку писем от больничной администрации, другие бумажки и говорит:
— Вы знаете, такие записи в медкарте очень хорошо подтверждают один диагноз.
— Какой же это, доктор?
Оказывается, невроз!
— Как будто эта их медицина, — возмущению Руфи не было предела, — эта их медицина такая уж и впрямь бесплатная! С нас же налоги ого-го какие дерут! Если доктору Энгелю не нравится бесплатная медицина, чего б ему не эмигрировать?
— А вы? — спросил Джейк. — Вам никогда не приходила в голову такая мысль?
— Еще не хватало! — обиделась она. — Гарри сказал, что вы уже согласны компенсировать мне украденное вашим братцем. Это правда?
— Вот, как раз чек принес.
— Чаю выпьете?
— А, спасибо, да. Руфь, если вы и впрямь так тревожитесь за сына, почему бы нам не вызвать моего доктора? Уверен, он придет тотчас же!
— Ну да, вам, если что, стоит только пальцами щелкнуть! Здорово, наверное, — пробормотала она как бы себе под нос, — жить такой жизнью, как у вас. Все схвачено, везде связи…
— Так что — звонить мне доктору или нет?
— Конечно, звоните! Чем мой Давид хуже любого из ваших деток?
— Где у вас телефон?
— Сейчас соседка со второго этажа по нему разговаривает. У вас есть шестипенсовик?
— Есть.
— Телефон там, в коридоре.
О’Брайен сказал, что будет в течение часа. Вслед за Руфью Джейк прошел на кухню, она открыла дверцу шкафа, чтобы достать чай в пакетиках, и тут, к своему удивлению, он заметил, что у нее все полки забиты штабелями консервных банок самых разных размеров и формы, и все без этикеток.
— Это еще что такое? — невольно вырвалось у Джейка.
— А, ерунда. — Она хихикнула. — Играть так играть! Я ведь упорная. Вы не знали?
Руфь провела его в свой «кабинет» — усадила в углу гостиной за карточный столик, заваленный свежеотлепленными этикетками от супов, сардин, лимонадов, шоколадок, пакетиков с чипсами и тому подобного. Здесь же лежали ножницы, клей, конверты и купоны для участия в разных конкурсах. Например, в последнем номере еженедельника «Ньюс оф зе ворлд» был объявлен конкурс «Найди мяч», в котором пять тысяч фунтов предлагалось выиграть тому, кто сумеет на фотографии, снятой во время футбольного матча, поставить крестик точно в том месте, где должен быть отсутствующий на фото мяч. Рядом купоны конкурсов «Ханс Золотой Шанс» и «Опаловый Блеск», купон «Угадай имя обезьянки» (состязания, объявленного фирмой «Брук Бонд»); купон из газеты «Дейли скетч», которая предлагала выиграть джекпот, собрав последовательность напечатанных в определенных ее выпусках картинок; «Пепси персоналити анализ» (что бы это ни значило) манил суммой в тысячу фунтов за что-то совсем простенькое, и так далее, всего не перечислишь.
— Вы не могли бы оставлять для меня этикетки? — спросила Руфь.
— Что ж, могу. А какие?
— Ой, любые, лишь бы участвовали в розыгрышах. Вы, кстати, пьете джин «Бифитер»?
— Вообще-то нет, но могу и «Бифитер» пить.
— Представляете, они разыгрывают спортивную машину! «Триумф». Принесете мне этикетки?
— Да. Конечно. А вы когда-нибудь что-нибудь выигрывали?
— Вы меня что, за дурочку держите? Вот брат, между прочим, тоже. Да конечно! Массу всего!
Карточный столик. Набор для выпиливания из фанеры. Обеденный сервиз. Упаковку баночек супа «Ханс». Путевку на семь дней в лагерь отдыха. И много, много, много других призов.
— А еще я однажды выиграла пятьдесят фунтов в тотализатор. Ну так как, Гарри станет хорошим папой для моих мальчиков?
— Он довольно сложный человек, Руфь. Вы не находите?
Но мальчикам нужен отец! Вот, скажем, Давид, ее старший. Он такой ранимый и нервный, что не может сдавать экзамены: завалил переводной экзамен в школу второй ступени и будет теперь ходить не в престижную «граммар», а в простецкую «модерн скул» вместе со всякой дворовой шантрапой. Сидни, младшенький, до сих пор сосет большой палец. И ничего не помогает! Хоть руку привязывай, хоть горчицей палец мажь. Зато ее племянник ходит в «Кармел колледж» — еврейскую частную школу в Уоллинг-форде. Не так уж плохо для парня, чей папаша вырос на Коммершэл-роуд и, кроме бесплатной еврейской школы, так ничего и не окончил. А в Великие праздники, поведала она Джейку, брат с семьей отдыхает в «Грин-Парк отеле» в Борнмуте.
— Вы этот отель видели? Он прекрасен! Причем так, что даже представить себе нельзя! Прямо Версаль какой-то!
— А, значит, и вы там бывали?
— Вы что, смеетесь? Я? «Так пусть они едят пирожные!» Кто это сказал, знаете?
Тут в комнату зашел Давид, и Руфь, извинившись, занялась сыном. Они говорили на повышенных тонах, Руфь ему за что-то резко выговаривала, Давид принялся хныкать, и Руфь захлопнула за ним дверь.
— Не хочет лежать в кровати. Но ведь сейчас придет ваш доктор! Я буду выглядеть идиоткой.
— А как у него сейчас с температурой?
— Да тридцать семь и две всего, — буркнула она.
Влетел О’Брайен, осмотрел мальчика и вышел из спальни со словами:
— Легкое воспаление миндалин. Мне кажется, лучше бы их ему удалить.
— Да неужто вы думаете, мы не записаны? Уже четыре месяца как на очереди! Доктор, может быть, с вашими связями вы могли бы…
— Бога ради, — вмешался Джейк. — Доктор О’Брайен очень занятой человек.
— Да все вы занятые люди! — хмыкнула Руфь, закрывая за доктором дверь. Потом взяла выписанный Джейком чек, внимательно еще раз изучила. — Ну, если считать, что его примут к оплате… — Она усмехнулась и продолжила: — То это Гарри надо за него благодарить. Он такой умница, но совершенно разочарован в жизни. Не будь он евреем, с его способностями он мог быть уже очень, очень богат.
— Почему-то Чарльза Клора[325] не остановило то, что он еврей.
— Да ну, в этой стране… Бросьте вы! Тут классовая система. У Гарри не тот акцент. И нет влиятельных бывших одноклассников. Если бы он, как вы, приехал из Канады, где все равно, из какого ты сословия, он высоко взлетел бы. Потому что ему бы не ставили в вину происхождение.
— А может, все дело в комплексе неполноценности?
— Вы хотите сказать, что принц Чарльз мог бы вступить в Менсу?
— Ну, принцу Чарльзу как бы и не надо.
— Вот! Сами же говорите! — обрадовалась она.
— Ну хорошо, но тогда почему бы вам вместе с Гарри не эмигрировать? Например, в Канаду. Может быть, ваши дети имели бы там больше шансов?
— Думаете, я эту возможность не изучила? Вот. Где-то у меня была их бумажка… — И она стала читать иммиграционную анкету. — «Были ли вы или кто-то из тех, кто выезжает с вами, когда-либо осуждены за уголовные преступления? Признаете ли, что совершали иные уголовно наказуемые деяния или проступки?» По-моему, в этом смысле с Гарри уже все ясно, нет?
Выдвинув ящик комода, Руфь достала ксерокопию вырезки из «Ньюс оф зе ворлд» десятилетней давности.
ФИЛЬМ ХИЧКОКА ПОДАЛ ИДЕЮ РЕАЛЬНОЙ ПОПЫТКИ УБИЙСТВА КИНОАКТРИСЫ
У двадцатипятилетнего бухгалтера, воспылавшего страстью к актрисе, под влиянием фильма Хичкока возникла мысль убить ее, испортив тормоза ее спортивного «триумфа».
Двадцатичетырехлетняя актриса Кэрол Лейн, которую мы знаем по фильмам «Доктор в доме», «Длинная рука» и другим, все же сумела переключиться на пониженную передачу и остановить машину, — сообщил государственный обвинитель, мистер Годфри Хейл. — И только поэтому трагедии не произошло, — добавил он.
Гражданин, которого мы видим на скамье подсудимых, это некий Гарри Штейн, проживающий в Северо-Западном Лондоне на улице Винчестер-роуд. Попытку убийства мисс Лейн, проживающей неподалеку от него на Сент-Джонс-Вуд-роуд, он отрицает и виновным себя не признает.
Мистер Хейл назвал положение обвиняемого незавидным.
Известно, что он никогда даже не встречался с мисс Лейн, однако страстью все же воспылал.
Несколько недель он мучил ее все более непристойными телефонными звонками, апофеозом которых стал разговор, в ходе которого он пообещал, что если он не сможет насладиться ее телом, то и никто не сможет.
Вечером 10 мая мисс Лейн оставила машину около своего дома на Сент-Джонс-Вуд-роуд.
На следующее утро она, как обычно, села в нее и поехала. На Финчли-роуд обнаружила, что с тормозами что-то не то. Остановив машину, вызвала представителя Автомобильной ассоциации.
После осмотра автомобиля инспектор АА пришел к выводу, что тормозная система была умышленно испорчена посредством…
— Он получил два года, — сказала Руфь, — а у нее что ни роль, то все круче и круче. Но Гарри собирается добиться пересмотра дела. Мы хотим восстановить его доброе имя.
— Но ведь это же, наверное, кучу денег будет стоить — через столько времени подавать апелляцию!
— Ну и что: это ж не Сирила деньги, а мои, — раздраженно отмахнулась она. — Мой дорогой братец убедил покойного мужа, что я дурочка, поэтому мое наследство под его опекой. Гарри прочел завещание и говорит, что там много к чему можно придраться. Мы собираемся его оспорить.
Бедный Сирил!
— А, вот еще что, Руфь. Теперь, когда я выплатил долг брата, мне бы хотелось забрать его костюм для верховой езды. И седло, если можно.
— Да только рада буду избавиться! — сказала она и пошла за вещами.
Увидев, как Джейк входит в дом с седлом через плечо и с хлыстом в руке, Нэнси всплеснула руками:
— Дети, дети, это же не папа! Это Бен Картрайт!
— Ха-ха-ха!
И только тут он заметил на полу в коридоре собранную сумку. Так и застыл на месте.
— Без паники! Схватки еще совсем слабенькие и редкие. Но ребенок появится довольно скоро.
Хлюпая носом, Пилар проводила их к машине, и Джейк с исключительной осторожностью поехал. Рассказал, как он отдал Руфи семь сотен фунтов.
— Не понимаю, зачем вообще было во все это вникать, — сказала Нэнси.
— Ну, мы ведь не стоим в очереди на жилье. И мой братец действительно ее надул.
— От этого Гарри у меня просто оторопь!
— Гарри — это несчастный случай, коему меня угораздило быть свидетелем. И что теперь делать? Сбежать, не сообщив своего имени?
— Пожалуйста, не хитри со мной.
— Просто я от этого насильственного безделья схожу с ума.
— Тогда поищи что снять. Найдешь материал, который тебя устроит, так и пропади они пропадом, эти деньги!
— Тебя послушать, все так просто!
— А что тут сложного?
— Да ничего, — сказал он и словно ношу сбросил. — Ты совершенно права!
13
Бен родился легко — вопя от нетерпения, выскочил уже назавтра, 10 мая 1967 года, с утра пораньше. Джейк, ликуя, побежал домой сообщить новость Сэмми с Молли, а детей, оказывается, и дома нет: Пилар увела их в кино. Он к Люку — отвечает секретарша: мэтр уехал в Канны. Повинуясь внезапному импульсу, Джейк позвонил в офис Хоффмана, спросил Гарри.
— Да. Штейн здесь.
— Это ты, что ли, бомбила бешеный?
— А кто говорит?
— Мы в Менсе приняли решение дисквалифицировать тебя за сексуальное извращенство. Чтоб не позорил остальных сливочных двухпроцентников.
— Так это, что ли, Джейкоб Херш?
Джейк пригласил Гарри на ланч, чтобы уже через полчаса пожалеть об этом. Шли себе через Сент-Джеймс-парк, грело солнышко, и вдруг Гарри завел очередную обличительную речь. Пришлось его затыкать.
— Да боже мой, Гершл, не наплевать ли тыщу раз на то, как высший свет уходит от налогов? Меня это совершенно не колышет. То же самое с тем, из каких доходов платит своему собачьему инструктору Мармадюк[326]. Ты оглядись — весна вокруг! Я снова стал отцом! Давай-ка мы с тобой отведаем шотландского лосося, свеженькой сочной спаржи да под бутылочку белого рейнвейна. И свежей клубники! Мне просто хорошо. Тебе-то разве не бывает просто хорошо?
— Иными словами, я должен быть вне себя от благодарности за столь щедрое предложение. Так нет же! Не люблю чувствовать себя объектом благотворительности.
— Гарри, мерзкий ты подонок, ну что мне с тобой делать?
— В этот самый миг, — гнул свое Гарри, — множество похотливых козлов, каждый из которых ничем не лучше меня, загорают на палубах собственных яхт в акватории Каннского залива; так и вижу: лежит себе этакий хмырь, зная, что внизу его ждет сдобненькая старлеточка и вся уже трепещет в ожидании возможности лишний раз отсосать. А я после нашего ланча вернусь в офис и буду потеть над его финансовыми отчетами.
— Ах, Гершл, Гершл, твое понимание хорошей жизни и мое — они ведь разные! Оставь Руфь в покое, очень тебя прошу.
— Что? — напрягся Гарри.
— Она не бог весть как умна, я понимаю. Но ты-то будь менч, Гарри. Ну хоть разок, для разнообразия.
— Я буду очень вам признателен, если вы перестанете встревать в мои личные дела.
— Ну, Гарри! Я думал, мы друзья.
Гарри сухо усмехнулся.
— Давай не будем. Тебе нравится слушать мои тюремные байки — это понятно. Я забавляю тебя, потому что мне хватает смелости делать вещи, о которых ты можешь только мечтать.
— Да уж, только и мечтаю, — отозвался Джейк, начиная злиться.
— Никакие мы не друзья. Ты никогда не пригласишь меня к себе в гости, потому что я недостаточно хорош для твоей жены. И настоящим твоим друзьям меня не представишь — это же невозможно, правда? Я для тебя вещь. Забавная штуковина.
— Ну хорошо, вызов принят. Как только Нэнси поправится после родов, приглашаю тебя на ужин.
— Ну да, чтобы сделать из меня посмешище, этакого неотесанного кокни.
— А ты знаешь, я ведь тоже не питомец Итона. Простой рабочий парень.
— Слушай, кореш, без друзей я как-то обхожусь, и очень неплохо. Да и вообще, почему я должен тебе верить?
— А почему нет?
— Потому что все говно как один.
— А если это не так?
— Ну, насчет себя можешь не волноваться. Ты-то как раз говно.
— Ой-вей! Нашел кого пригласить отпраздновать рождение сына! Я, видно, совсем спятил.
Однако они кое-как все же добрели до «Белого слона», а едва уселись, к столику подплыла бутылка шампанского в ведерке.
— Это я заказал, — с вызовом пояснил Гарри. — И я за нее заплачу. «Вдова Клико». Это достаточно приличная марка?
— Конечно, конечно! Спасибо тебе, Гарри! Я тронут. Я действительно тронут.
— Ладно, приятель. Ты-то уже принял пару стаканчиков. Так что не будем рыдать на грудях друг у друга.
— Ну, твое здоровье, дружище!
— И твое. А ты в школу-то парня — ну то есть в хорошую школу — уже записал?
— Слушай, брось, Гарри. Расслабься. Давай просто радоваться жизни!
Но Гарри уже не слушал. Глазами, полными злобы, шарил по соседним столикам. Конечно: сплошь гибкие девы в мини-юбках — смеются шуткам мужиков, которые по возрасту годятся им в отцы. Или куда он так напряженно смотрит? Ага, понятно: высокая, с волосами цвета воронова крыла девушка в обтягивающем платье от Эмилио Пуччи, проплывая в направлении дамского туалета, остановилась и с восхитительно непринужденной наглостью выщипнула ягодку из блюда на фруктовой тележке. Забросила в рот, промельком показав розовый язычок, после чего величественно кивнула: да, да, и в знак благодарности поднесла ладонь к груди.
— Мгновенно, мадам, не успеете оглянуться! — заверил ее официант.
И в тот же миг Гарри стиснул запястье Джейка.
— Ты не понимаешь! — чуть не плача, воскликнул он. — Мне так всего на свете не хватает, можешь ты это понять? А ведь для большинства вещей, в которых я так нуждаюсь, я и сейчас уже слишком стар!
14
В конце концов Нэнси и Джейк решили, что отдыхать в Испании непрактично, на юге Франции тоже, и решено было провести лето на полуострове Корнуолл. Через неделю после того как Нэнси вышла из больницы, Джейк отвез ее и детей в дом, который снял для них невдалеке от Ньюки. Пилар отправили вперед поездом, и она встретила их, стоя в дверях. Джейк провел с ними уик-энд, потом вернулся в Лондон, надеясь провести там не больше недели — надо было встретиться с адвокатами, посоветоваться с агентом и обсудить возможность постановки полуторачасового фильма для телеканала Би-би-си.
Вечер за вечером он возвращался в дом, забирался в свое чердачное укрывище, в одиночестве выпивал там и каждый день ждал — вот зазвонит телефон, и ему скажут, что отец умер. И Рита Хейворт уже не бросит принца Али-Хана ради Иззи Херша. Джейк скучал по Люку и досадовал, что они так отдалились. Пришло письмо от Дженни. В нем она рассказывала о Монреальской выставке и о том, что для развития национального кино в Канаде вот-вот организуют государственную студию. «Тут, похоже, начинают происходить удивительные вещи…» Ханна стареет, у нее кружится голова, стала неуверенно ходить. Последние открытки Джо (они же и первые за последние два года) пришли из Буэнос-Айреса. То есть оттуда, где — Джейк тут же сверился с атласом — река Парана впадает в Атлантический океан.
Джо Херш, Джесс Хоуп, Йосеф бен Барух, Жозеф де ла Хирш, единственный на всю улицу Сент-Урбан неповторимый Всадник, где-то ты теперь?
Попеременно раздумывая то над своим досье на Всадника, то над вдруг обретенным его костюмом для верховой езды, сшитым дублинской фирмой «Джошуа Монаган лимитед», и любуясь седлом «кентер дрессаж», зверски дорогим шедевром шорных мастерских «Клифф-Барнсби интернешнл», Джейк все пытался взять в толк, как столь изысканно экипированного Всадника угораздило связаться с такой простецкой теткой, как эта Руфь. Первая мысль — будто бы он польстился на ее деньги. Но получается, что это вряд ли возможно. Хотя ведь и Хава, если вдуматься, тоже не бог весть какая рафинированная дама. В отличие от тех элегантных девиц, которые когда-то вешались ему на шею во дворе дома на Сент-Урбан и с коктейлем в руке ждали, наблюдая, как Джо лупцует боксерскую грушу. Джо, спину которого затейливым узором испещрили шрамы и вмятины. Шрапнель? И кто, интересно, стукнул на него, кто в ответе за то, что его пожарного цвета «эмгэшка» оказалась перевернута и распатронена в лесу рядом с шоссе? Дядя Эйб?
Временами Джейк проваливался в сон, во сне Всадник хватал за грудки жителей кибуца Гешер-ха-Зив, будоражил их тем же вопросом, которым донимал всех на Сент-Урбан: «Ну, так и что вы теперь делать с этим собираетесь?» Ага, сидеть среди публики на суде во Франкфурте!
Менгеле не мог там присутствовать все время.
По-моему, он находился там всегда. День и ночь.
Джейку вспомнилось, как он сказал Уотерману: «Голем, к вашему сведению, это тело без души. Рабби Иуда бен Бецалель вылепил его из глины в шестнадцатом столетии, чтобы спасти евреев Праги от погрома, и мне кажется, что после этого он так и бродит по белу свету, являясь там, где им больше всего нужна защита».
Где-то он сейчас? — скачет, скачет… Всадник с улицы Сент-Урбан. Летит галопом, под гром копыт. Смотри в оба, Менгеле! Die Juden kommen![327]Вот придет Всадник и сдернет золотую коронку с треугольного пенька на месте одного из твоих верхних передних зубов. Щипцами. Нет, плоскогубцами! Ме-е-едленно.
Стряхнув с себя сон про Всадника, Джейк слез с кровати. Ноги свинцовые, горло саднит… Второе июня, пятница, утро. Нашел халат, повоевав с рукавами, надел и поплелся вниз, лишь один раз остановившись, чтобы, опершись о спинку кресла, звучно перднуть (какое облегчение!), после чего направился ко входной двери, где наклонился и, испытав мгновенный приступ головокружения, поднял утренние газеты. Прищурившись, прочел:
НАД СИНАЕМ ЗАНЕСЕН БРОНИРОВАННЫЙ КУЛАК
Египетский командующий, генерал Мортажи, издал приказ, адресованный всем подразделениям на Синае. В приказе, в частности, говорится: «Настал уникальный момент — момент величайшего исторического значения для всего арабского народа, которому в ходе Священной войны предстоит восстановить грубо попранные права арабов и отвоевать оскверненную и разграбленную землю Палестины…»
…при этом израильские военные, как явствовало из дальнейшего, разъехавшись в отпуска, загорают и нежатся на пляжах.
Ну, хоть войны пока нет, с некоторым изумлением уяснил для себя Джейк, бросил газету на пол и вновь устремился наверх. Где узнал еще много бодрящих новостей. Писая, внимательно смотрел на струю (давно завел сей обычай); вглядывался с надеждой, но и не без критической объективности. С кохонес[328], как он любил именовать про себя это чуть не молитвенное состояние отрешенной готовности ко всему. В то утро моча была ярко-желтой, лилась обильно, пенясь, а частично уловленная в баночку, напросвет выказала содержание слизистых нитевидных включений. Значит, опять пронесло. Еще день жизни без предательской розоватости, которая означала бы застойные явления в почках, камни или даже рак — то, что судьба уготовила отцу. Не заметно также и явной зелени, выдающей присутствие желчи. Либо — хас вешалом[329] — черноты, признака кишечного стазиса или меланобластомы.
Успокоенный, почти счастливый (прямо хоть в пляс иди!) Джейк снова свернулся калачиком в постели и задышал, погружаясь в сон. Стоп, стоп! Что-то там звенит. Нет, на сей раз не в голове. Что-то сугубо внешнее. Телефон!
— Да, — сказал Джейк, — кто это?
Собственный голос, искаженный заложенностью носа, показался ему чужим.
— Ты вроде уезжаешь сегодня на Корнуолл, — донесся голос Гарри. — Так вот, я хотел спросить, нельзя ли мне пока попользоваться твоей хатой?
На Корнуолл? А, ну да. Там Нэнси. И дети.
— А что сегодня за день?
— Пятница.
— Ах, пятница! Тогда а гутен шабес тебе, Гершл!
— Газеты видел?
Да; причем очень обеспокоен ситуацией вокруг Израиля.
— Можешь мне поверить. Беспокоиться совершенно не о чем!
— Гм, — удивился Джейк. — Это почему?
— Нефть.
— Слушай, дружище, давай не будем. Твои эти штучки слушать нет настроения.
— Американский Шестой флот там не зря пасется, это уж будь спок.
— Так ведь и русские не лыком шиты.
— Не беспокойся, американцы никому не позволят раскачивать лодку. Первичное вложение капитала в добычу одного барреля сырой нефти в день на Ближнем Востоке — сто девяносто долларов, тогда как в Венесуэле семьсот тридцать, а в Соединенных Штатах полторы тысячи.
— И что из этого, Гершл?
— Что из этого? Из этого — ЦРУ, Фейсал[330] и «Стандард Ойл». Ну, и…
— Гарри, они же провозгласили джихад!
— Ближний Восток, чтоб ты знал, это золотая жила. Если производить баррель нефти там, он стоит пятнадцать центов, а если в США, то доллар шестьдесят три.
— …и собираются истребить евреев!
— Вот уж это вряд ли. Израиль не колония, которую угнетают империалисты, а скорее колонизаторский форпост. Цитадель первопоселенцев. Уж их-то янки в обиду не дадут. Так я не понял, можно мне попользоваться твоей хатой или нет? Разгром я там не устрою и виски твое не выпью. Буду приносить с собой.
— Да ну тебя, отвали, Гарри! Я позвоню тебе позже. Сейчас вообще не знаю, смогу ли выбраться на Корнуолл раньше чем во вторник утром.
Вновь удалившись в ванную, Джейк вынул изо рта съемный протез, плюхнул в стакан, добавил горячей воды и таблетку полидента, после чего оскалился перед зеркалом. Ух, жуть какая! Как быстро дело-то идет! Эрозия песчаниковых скал! Да тут еще и PYORRHEA ALVEOLARIS (она же болезнь Рига или пародонтоз, как ее теперь чаще называют): в развитой стадии десны отслаиваются от зубов, становятся мягкими и синюшными, кровоточат; при этом зубы, понятное дело, выпадают.
Джейк принялся энергично чистить зубы, отплевываясь розовым.
Потом налил себе итальянского бальзама «Фернет Бранка»: ничто так не чистит язык, как эта горькая дрянь.
Вновь сел на кровать, подтянул колени к груди, развел ноги, отлепил серебряную фольгу от ненавистного суппозитория и, окунув его в вазелин, нащупал анус. Засунул с особо злобным, даже садистским чувством: где твоя, сцука, дырка? — н-на! Смазанные жиром пальцы скользнули по геморройной шишке величиной с вишню.
Потом еще раз принял душ и вставил протез. Выпил две чашки растворимого кофе, мельком проглядел «Таймс». Сразу за передовой статьей целая страница социальной рекламы:
ЗА ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ ВАМИ НА ОБЕД, ОТ ГОЛОДА УМЕРЛО 417 ЧЕЛОВЕК!
Чтобы без спешки, с удовольствием пообедать, нужен примерно час. С тех пор как вы уселись, по тот момент, когда вы доели десерт, 417 человек умрут с голоду.
Все дело в том, что население земного шара уже превысило ту численность, которую планета способна прокормить. Каждые 8,6 секунды в слаборазвитых странах кто-то умирает от болезней, связанных с недоеданием. Это семь смертей в минуту. 417 смертей в час и 10 000 смертей в день. Причем умирают по большей части дети.
Джейк смел со стола газету и стал звонить Нэнси на Корнуолл. К телефону подошел Сэмми.
— Это говорит начальник полиции, — тоном киноковбоя пробасил Джейк. — У нас есть сведения, что в вашем огороде приземлилась летающая тарелка.
— А, папочка! Тебе позвать маму?
Бен, которого Нэнси, видимо, положила в колыбельку, тут же взвыл.
— Алло.
— Боже мой, Джейк! Что у тебя голос какой-то замогильный?
— Да это от курева… Брошу, брошу.
— Ты где был так поздно?
— Ужинал с Джимми Блэром и продюсером, но на данный момент я не хочу больше про это ничего говорить, потому что в понедельник все может рухнуть.
— С тобой был Гарри?
От испуга у него сразу выскочило «нет», что было, конечно, ложью, но, если вдуматься… отчасти даже правдой.
— А почему ты так решила?
— И ты позволишь ему, пока ты здесь, распоряжаться у нас в доме?
— Нет. Да. Да какая разница?
— Я не хочу, чтобы он у нас в доме хозяйничал.
— О’кей, о’кей, меня машина ждет. Опаздываю. Позвоню тебе потом из студии.
На самом деле после того как Джейк расстался с Блэром и остальными в ресторане (предполагалось, что попозже он, возможно, присоединится к ним в холостяцкой квартирке Бернарда Фарбера в Белгрейвии), как-то само собой получилось, что сперва он подъехал к метро «Риджентс-парк», потому что только в присутствии злобного Гарри можно вытерпеть хвастливый бред Фарбера. Гарри пришлось разбудить и вытащить из постели.
— Давай вставай, Гершл! Поехали пить и веселиться. Девочки, шампусик — только скажи! Мы в развратном Лондоне живем или где?
— Ты-то, может, и да.
— Я? — Джейк не сдержал смешка. — Мы с Нэнси перед сном в постели книжки читаем. И на всякие такие штуки не подписываемся.
— Какие штуки?
— Одного из наших проконсулов, Си Бернарда Фарбера, только что увенчали лаврами. Он сподобился милости триумвирата. И возвращается теперь в империю Голливуд. Это его прощальная вечеринка.
— И что я должен надеть?
— Ой, да бога ради — что угодно! Главное, чтоб были темные очки.
У дома Фарбера раскинулось море машин — заполонили подъездную дорожку, двор и чуть не всю прилегающую улицу. Среди них «роллс-ройс», раскрашенный в психоделические цвета; несколько «феррари»; «астон-мартинам» — тем просто некуда было ткнуться, в два ряда вдоль тротуара парковались; а «ягуаров» модели «Е» и вовсе бессчетно. Свой «хиллман-минкс», и так-то не из дорогих, да еще и не очень новый, Джейку пришлось бросить за пару кварталов: ладно уж, зачем приличных людей позорить?
Юные красотки повсюду — облепив перила лестницы, они совершенно заслонили шикарную кованую решетку. Некоторые сидели на полу. Даже прижатые к стенке, они обегали глазами фойе, высматривая знаменитостей. И было кого высматривать! Одна, но зато настоящая, голливудская звезда, несколько знаменитых режиссеров, в том числе тот, который первым показал на широком экране лобковую шерстку. Из уст в уста шелестел слушок, что в доме Фарбера вот-вот покажется кто-то из «Битлов»: уже выехал! едет! будет с минуты на минуту! А кто уже бесспорно прибыл, так это человек, когда-то удостоившийся счастья поднести спичку к сигарете Жаклин Кеннеди. И еще один, сказавший Орсону Уэллсу: все, старик, дескать, амба, пора тебе на погост. Не говоря уже о первой из британских актрис, кого за голый сосок ущипнули не только на широком экране, но еще и особенно крупным планом.
Джейк, пребывая в чистой радости и счастье, был тих и незлобив, но тут Фрэнки Демейн пристал к нему по поводу Гарри: «Ты кого к нам привел, старик? Он реально крутой чувак или так себе?»
Гарри, в которого бесцеремонно ткнули пальцем, аж рот открыл. К такому юморочку не привыкший, он даже не нашелся что ответить. Кругом все чужое — поди, попробуй! Джейк вспыхнул.
— А что, только тебе крутым быть? Это же Штейн! Да знаешь, знаешь ты его — он из… — название фирмы Джейк ловко утопил в окружающем шуме и гомоне.
И мстительно стал водить Гарри от группы к группе, представляя его как продюсера. Навязывал девицам.
— Это Штейн, — говорил он. — Ну, Штейн, тот самый! Он собирается теперь и здесь кино снимать!
А Штейн, запущенный в среду красоток, общества которых так жаждал, не мог связать двух слов. И либо беспричинно и неостроумно хамил, либо проваливался в молчание. В конце концов к нему на выручку пришел Джейк.
— Пошли-ка отсюда на хрен, — сказал он.
Едва вышли, Гарри взбеленился:
— Ну ты что, старик, ну ты нашел момент! Только это я себе пизденку склеил!
— Гарри, я тебя умоляю! Не надо так говорить о женщинах. Меня это раздражает.
Лицо Гарри зажглось гневом.
— Ну ладно, ладно, хорошо, — пошел на попятный Джейк. — Если ты кого-то там склеил, где она?
— Где-где… Все равно в мою дыру ее не позовешь!
— Ну так зови в мою! Давай, хватай ее и тащи.
— Так поезд ушел уже! Немножко поздно ты предложил, не находишь?
Усталый, пристыженный, Джейк пригласил Гарри зайти выпить на посошок.
— Ага, конечно! — ухмыльнулся Гарри. — А потом, значит, тащись домой? Как раз и поспею к моменту, когда пора будет бриться и на службу.
— Да можешь и ночевать остаться.
— Комната прислуги, значит, нынче свободна? Так я понимаю?
Да и черт с тобой, Гарри. Шел бы ты лесом. Высадив его у метро «Риджентс-парк», Джейк доехал до «Белого слона», где проиграл тридцать пять фунтов в рулетку.
Ровно недельную зарплату Гарри.
Сквозь головную боль все это вспоминая, едва приехав на студию, Джейк снова позвонил Нэнси. Сказал, что сможет выехать в Ньюки в субботу в шесть утра, но в Лондон придется возвратиться к полудню понедельника, и получится, что в воскресенье днем надо опять за руль. Расстроившись, она говорила с ним сердито, но согласилась, что в таком случае ехать, конечно, вряд ли стоит: это будет сплошное авторалли, гонка на износ. Удовлетворенный, Джейк повесил трубку и поспешил в «Харродс», забегал от прилавка к прилавку, накупая всевозможных мяс, сыров, деликатесов и игрушек; все это упихал в машину и ринулся в ночь: надо, надо вместе с семьей справить шабат, как когда-то много лет назад это делал отец, будто снег на голову сваливаясь на них в их задрипанном Шоубридже — городишке, куда летом съезжалось все монреальское гетто; приезжал весь в арбузах и пакетах с вишнями, едва удерживая в объятиях свертки с кошерными колбасами и всяческие бутылки, детские ведерочки и совочки.
Ну что, понял, что такое жизнь, Янкель? Давай-давай, скажи — ты же такой умный!
Жизнь — это круг. Маленький такой кружочек, кикеле.
Приехав в Ньюки ранним утром, Джейк замолотил кулаком в дверь.
— Впусти меня! Впусти, тебе говорят! Это муж приехал! Сейчас же гони из постели черномазого дровосека!
Проспав до полудня, весь остаток субботы Джейк провел с Сэмми и Молли на пляже, не забывая следить за горизонтом и толщей вод: вдруг акула? А то и перископ германской подводной лодки!
Никто из отдыхающих на пляже жидом его ни разу не обозвал.
И ни один из пролетающих над головой самолетов не оказался «юнкерсом».
Дом, если что (вдруг пожар?), достаточно близко, заметишь сразу, поэтому спасти их он успеет точно — и Нэнси, и младенца. Ну, и Пилар, ладно уж.
А раз так, значит, в воздухе носится нечто действительно мерзопакостное. Смотри в оба, Янкель! Только зазеваешься, и как раз мордой лица под раздачу.
Уложив детей спать, они с Нэнси вместе пообедали, и он рассказал ей, что, хотя заранее на что-то рассчитывать и не стоит, но, в общем и целом, то, что его агент старается для него выцарапать, смотрится весьма многообещающе. А детали прояснятся в понедельник.
— Вот только девчонка у меня что-то дороговата, — усмехнулся в конце разговора Джейк. — Это надо же! В такую даль надо переться, чтобы трахнуть! Правда, в Плимуте я чуть обратно не повернул — вспомнил, что тебе-то ведь все еще…
— Да ладно, совсем-то уж неудовлетворенным я тебя в Лондон не отправлю.
— О-оо, — в ужасе прикрыл он глаза и даже по щеке себя хлопнул. — Развратница!
В воскресенье под вечер выехал в Лондон, пообещав не забывать пристегиваться и быстрее ста десяти километров в час не гнать, а уже ранним утром в понедельник сидел в просмотровом зале студии в Пайнвуде, рассеянно то ощупывая череп (не появилась ли где-нибудь зачаточная опухоль), то прикладывая ладонь к груди (не учащенно ли бьется сердце). Ждал Джимми Блэра и остальных, чтобы вместе глянуть уже отснятые кадры фильма. Глаза слипались, и он чуть было не заснул, но тут Сид Пэтмор распахнул дверь настежь и заорал: слышали? — только что передали, он в машине по приемнику поймал: война! Представитель Израиля заявил, что в ответ на агрессию Египта Израиль вводит в действие бронетанковые войска. На Синае началась яростная танковая битва.
Скоро в просмотровый зальчик набилось уже человек десять, курили одну за другой и, дыша перегаром, обменивались мнениями, слушая транзисторный приемник. На сей раз, подумал Джейк, чертовы египтяне заманят танковые колонны Израиля в глубь Синая, вмешается Иордания, ударит в направлении равнины Шарон, да и рассечет Израиль надвое — он там всего-то 12 миль шириной! Придется тогда Джейку в ополчение идти. Он просто вынужден будет драться. Как дрался Всадник.
И на прокаленном солнцем пятачке у реки Эбро.
И у шоссе, в теснине Баб-эль-Вад.
В Каире клялись, что сбили сорок четыре израильских самолета. На улицах уже танцевали. В газете «Ивнинг стэндард» страницу украшал заголовок: «Федеративная Республика Германия готова поставить Израилю двадцать тысяч противогазов».
— Вот времена! — взорвался Джейк. — Неужто сами-то они не видят? Это же черный юмор! — и скомкал газету.
Египетские военно-воздушные силы оказались сожжены на аэродромах; Иордания обезврежена. В баре студии Пайнвуд знакомые Джейку улыбались, угощали выпивкой.
— Ну, дали жару израильтяне! — начинает один.
— Просто блеск! — тут же вставляет другой, хлопая Джейка по спине.
Израильтяне купались в Суэцком канале и загорали на обоих берегах Иордана. Джейк знал, что и братец Джо тоже там, не может не быть — особенно когда дрались за Иерусалим. В надежде наткнуться на его фотографию Джейк покупал все газеты. Просматривал всю кинохронику, какую мог достать, и время от времени останавливал проектор, чтобы внимательнее всмотреться в кадр. Нет, опять не он. Зато на фотографии, напечатанной на первой странице «Дейли мейл», среди офицеров на совещании у Моше Даяна оказался Эйтан — тот самый полковник Эйтан! — стоит себе с молодцеватым, уверенным видом.
Эйтана Джейк не видел с того дня в Беэр-Шеве. Не пересекался и с супругами Купер. Эйтан, надо думать, воевал храбро, за спинами солдат не прятался. И где бы ни жил сейчас мистер Купер, он, надо думать, не поскупился и щедро помог военным усилиям Израиля. Как и все прочие Куперы повсеместно. Наведались по этому поводу и к Джейку. К стыду своему, Джейк заколебался. Моше Даян с его киногеничной повязкой через глаз и всем прочим, конечно, герой. Причем наш герой. И все-таки… все-таки одень этого заносчивого генерала, этого героя в американскую форму, назови Макартуром, назови Уэстморлендом, и Джейк бы его запрезирал. Нет, Джейк, разумеется, чек выписал, но как-то нерадостно. Будучи евреем старого типа, евреем диаспоры, он обречен был ощущать вину при любом раскладе.
Не успел он закрыть за сборщиком пожертвований дверь, зазвонил телефон. Междугородняя. Монреаль.
— Слушаю, — сказал Джейк.
— У меня тебе плохая новость, — послышался голос дяди Эйба.
— Отец умер?
— Скончался час назад.
— Понятно.
— На похоронах будешь?
— Вылетаю утренним рейсом. Сестра там?
К телефону подошла всхлипывающая Рифка.
— Он был такой хороший человек, — проговорила она. — Такой замечательный отец!
Они там, должно быть, все столпились в кухне вокруг висящего на стене телефона. Его тетушки, дядья, все кивают головами, плачут.
— В целом мире у него не было ни одного врага! — продолжила в том же духе Рифка.
И ни одного друга.
— Завтра увидимся, — сказал Джейк и повесил трубку.
Ему даже не пришлось собираться. Все было собрано, чтобы ехать в Ньюки. Джейк позвонил в «Эйр Канада» и только успел налить себе бренди, как его снова заставил дернуться телефонный трезвон.
— Ну что, твой друг Даян умеет исполнять приказы, не правда ли?
Бог ты мой, Гарри!
— Ты знаешь, где он только что опыта набирался?
— Нет, Гарри. Просвети меня.
— В Южном Вьетнаме! Ездил туда учиться применять напалм. У таких специалистов, как генерал Уэстморленд и вице-маршал Нгуэн Сяо Ки. А начинал когда-то рука об руку с британской военной полицией. В двадцатом, терроризируя арабов в деревнях.
— Гарри, горе ты мое, неужто участь еврейских детей тебя не заботит?
— Меня заботит участь детей рабочих, где бы они ни были, а реакция мне ненавистна, откуда бы ни пришла. Израиль поддерживал французов в Алжире в пятьдесят четвертом и поставлял оружие португальской администрации Анголы. Скажешь, израильтянам нужна радикальная земельная реформа? Они озабочены перераспределением собственности? Не смеши меня! Сионисты избавились от арабских феллахов и пойдут на все, лишь бы те не возвратились.
Оборвав словесный понос Гарри, Джейк сообщил ему, что едет в Монреаль; будет отсутствовать неделю. Да, да, можешь пока распоряжаться в доме, черт с тобой. Ключ оставлю под ковриком.
Джейк позвонил Нэнси, рассказал о случившемся и обещал, что позвонит из Монреаля сразу после похорон.
А все же Иззи Херш продержался дольше шести недель. В последний раз Джейк виделся с ним ровно два месяца назад.
15
Стакан воды с влажным ватным тампоном на краешке стоял на старом, дребезжащем комнатном кондиционере. Воду в стакане бабушка Джейка меняла потом каждое утро. Вода нужна душе ее сына — чтобы, если та в лихорадочных метаниях вдруг вернется, мучимая жаждой, могла бы утолить ее. В маленькой скромной квартирке покойного Иззи Херша было душно. Слишком много туда набилось людей. Пахло потом Хершей, постаревшими нездоровыми телами этих взъерошенных мужиков, что разговаривают с визитерами в крошечной коробочке гостиной. Тогда как вдова отца Фанни, бабушка Джейка, его сестра Рифка и тетушки принимали соболезнования в спальне, откуда рак, угнездившийся в почке, опутав тело Иззи Херша щупальцами, тащил и тащил его в могилу.
Чуть раньше, когда Джейк, совершенно изможденный после шести часов непрерывного потребления джина, вышел из самолета в аэропорту Дорваль, у таможенного барьера он сразу заметил Герки — тот нетерпеливо вышагивал взад-вперед.
— Как долетел? — вместо приветствия рявкнул Герки.
Джейк пожал плечами.
— Как семья?
— В порядке.
— Что жена — все такая же красотка?
Да пошел ты!
— Умер-то он легко. Хочу, чтобы ты знал это.
Когда уселись в его «бьюик» с кондиционированием воздуха, Герки вдруг озаботился:
— Галстук, смотрю, у тебя хороший. А то переодень…
— Чего?
— Мы же отсюда прямо к Пеперману!
А, похоронное бюро, понятно.
— Тебе же его там почикают бритвой! Положено, сам знаешь.
Шел бы ты к черту, Герки.
Бабушка в больших ботинках, с лицом дубленой кожи и животом как пустая, уже ненужная кошелка (и то сказать: четырнадцать детей выносила), дура Фанни, решившая перерыдать Рифку, и угрюмые, затянутые-перетянутые тетушки соообща стенали так, что их вопли, разносясь по залу прощаний, заглушали надгробную речь раввина. Родичи-мужчины (братья — родные, двоюродные и так далее, а также прочие племянники), стоя за их спинами, мрачно взирали на гроб, думая кто о чем: этот давно терпит приступы, о которых ему говорят, будто у него язва желудка, а тот и вовсе ждет уже результатов биопсии.
Всю свою жизнь Иззи Херш носил костюмы с чужого плеча, а ботинки покупал на распродажах; казалось, даже гроб теперь ему не совсем в размер. Словно он и его приобрел по случаю.
Раввин был краток:
— Мне не хватает слов, чтобы достойно выразить печаль, которую я с вами разделяю. Даже при том, насколько еврейский закон ограничивает круг тем, рекомендуемых для обсуждения скорбящими, я в своей речи, пожалуй, слишком скуп. Но почему? А потому, что скорблю вместе с вами по Иззи Хершу, который всю свою жизнь, все ее дни и годы каждой порой дышал еврейством, этаким настоящим идишкайт — многообразным символизмом нашего народа, — в чем поощрял и нас. Будем же хранить светлую память о его прекрасной, широкой и истинно еврейской душе, и пусть память о нем вдохновляет нас на то, чтобы стремиться превзойти его в том добром, что в нем было…
Пока ехали в лимузинах, женщины притихли, зато на кладбище у них словно открылось второе дыхание, и они сызнова начали причитать, уже нисколько не сдерживая рыданий. Бедняжке Фанни, чье положение в семейной иерархии стало теперь как никогда шатким — всего-навсего вторая жена плохо застрахованного, почти что нищего мужа, да еще и падчерица ее терпеть не может, а пасынок, так тот и вовсе чуть не иностранец, — больше всех нужно было выказывать усердие. Уж точно больше, чем тетке Софи, над которой сын, двадцатидвухлетний красномордый толстяк Ирвин заботливо держит зонт. Стоит в сдвинутой на затылок соломенной шляпе с пестренькой лентой и во все глаза смотрит на Джейка. Джейк пронзил его взглядом, и тогда Ирвин еще сильнее покраснел и отвел глаза, бровями изобразив мольбу и раскаяние.
Мужчины старшего поколения Хершей, родные и двоюродные братья Иззи, гуськом потянулись мимо могилы. Каждый по очереди почтительно брал с земли лопату и швырял на гроб очередной шмат мокрой глины. Шлеп. Шлеп. Все Херши казались теперь Джейку единой плотью, одним любимым и гибнущим телом. Как и оно, подвластные болезням. Слабеющие. Дрожащие, несмотря на солнечное пекло. Опять их полку убыло.
И вдруг закутанные в черное большие птицы защебетали, зачирикали. Всевозможные раввины, молодые и старые, чернобородые и гладко выбритые, закачались в молитве, задергали вниз-вверх головами, соревнуясь в благочестии. Потому что каждый ушедший на тот свет Херш — это щедрое даяние на этом. В честь каждого усопшего Херша будет оборудован кабинет раввина или откроется дополнительный класс в ешиве; какой-нибудь синагоге купят сефер тора, какой-то подарят Священный ковчег для хранения свитков, в очередной воскресной школе пополнится библиотека, а то и вовсе появится новый, полностью укомплектованный всем необходимым детский садик. Во имя вечной памяти такого-то…
— Ой-ёй! — рыдает Рифка.
— Иззи! Мой Иззи! — тут же вступает Фанни, еще громче и жалобней.
А вот Джейку даже слезу из себя оказалось не выдавить; какой-то он был весь иссохший, и каждый новый женский взвизг лишь заставлял его виновато ежиться.
Зато уж вернувшись во вдовью квартиру, нагретую в тот день словно духовка, у входа в дом ополоснувши руки, проголодавшиеся, мужчины сбросили пиджаки, ослабили ремни брюк и узлы галстуков, да и женщины по возможности рассупонились. Все заговорили разом, стали занимать места за столом против тарелок с крутыми яйцами, подносов с бубликами и луковыми круглыми булками и пошли накладывать себе лососину, жареную курятину и исходящие паром вареникес с картошкой, за которыми последовал яблочный пирог и всевозможные печенья, персики и чернослив, лимонад и диет-пепси. И снова Джейк почувствовал на себе пристальный взгляд чудовищного Ирвина. Застигнутый, тот опять похлопотал бровями, зарделся и выплюнул в кулак сливовую косточку.
Дядя Сэм включил транзисторный приемник, и насытившиеся Херши, окружив его, стали слушать, как звучит бараний рог у Стены Плача в Иерусалиме.
— Жаль, Иззи не дожил! — всплакнула бабушка. — Не услыхал, как трубят в шофар в Иерусалиме!
Тут же вмешался один из раввинов — стиснул ее испещренную старческими пятнами руку.
— Нельзя, нельзя так говорить! — упрекнул ее он. — Не вопрошай Всевышнего, или Он призовет тебя к ответу.
Вот и раввин Мельцер то же самое Всаднику говорил. У одного, что ли, раввина оба обучались? Главного спеца по банальностям. Или из ешивы их с одинаковым набором сентенций всех выпускают?
После трапезы мужчины, все как один в резиновых шлепанцах и небритые (кроме Джейка, который презрел сей обычай), застолбили себе места каждый в соответствии с личными нуждами — кто на диване или в кресле рядом с балконной дверью, кто ближе к кухне или рядом с туалетом. Когда оттуда вышел дядя Джек, Ирвин спросил:
— Ну как? Все вышло как следует? — и его плечи затряслись от смеха. Поймав неодобрительный взгляд Джейка, Ирвин смешался, пожал плечами и куда-то исчез.
— А ты заметил, что Шугарман, хазер[331] этакий, не был даже у Пепермана?
— Родителей твоей жены я там тоже что-то не видел.
Дядя Эйб, несущий столп и главный благодетель всей общины, тронул себя за небритый подбородок и пожаловался на то, что щетина в первый день просто ужас до чего жесткая!
— Но ничего: пройдет пара дней — помягчает, — заверили его.
— Вот и у меня так же, — вставил дядя Лу.
Дядя Сэм заметил, что речь раввина была не очень-то удачной, но дядя Морри не согласился.
— Речь раввина, — сказал он, — должна быть как мини-юбка. Верно же, Янкель?
Джейк по-военному отдал честь в знак того, что намек на Лондон от него не укрылся.
— Достаточно длинной, чтобы прикрыть что нужно, и достаточно короткой, чтобы возбуждать интерес.
Герки, из этого заключивший, что шутки дозволены, вклинился со сложно закрученным анекдотом про белого нищеброда, негра и еврея, причем рассказывал, по мере сил подражая говору негров захолустной алабамщины, а завершил анекдот так: «У меня какой? Дык четыре инча, пипл. — Да ну? Всего-навсего? — (Это уже еврей его переспрашивает.) — Дык… четыре инча — это до земли не хватат, а ты как думал?»
Дядя Морри отсмеялся, вытер уголки глаз платком.
— Ну, молодцом, молодцом, ребята! — одобрил он.
В тяжелом молчании Джейка усмотрели осуждение.
— Да ладно тебе, Янкеле, — хлопнув его по спине, примирительно сказал дядя Лу. — Если бы мы только что похоронили Морриса…
Тот обдал его испепеляющим взглядом.
— …а твой отец сейчас был бы с нами, уж он бы всех по части шуток превзошел!
— Вы совершенно правы, — сказал Джейк, расстроившись оттого, что его так неверно поняли.
— Тогда вот, слушай: специально для тебя, с этим вашим еще англоманским акцентом. Скажите, сэ-эр, как бы вы засунули шесть слонов в «хиллман-минкс»? Вот скажи мне как?
— Понятия не имею.
— Элементарно же, Ватсон! Трех на переднее сиденье и трех на заднее!
Джейк выдавил из себя улыбку и, подняв стакан, обратил взгляд на дядю Лу.
— А как, сэ-эр, вы разместили бы в той же машине шесть жирафов?
Пауза.
— А высаживаем слонов и — вместо них! — радостно выплеснул дядя Лу.
— Умно.
— Янкель, я тебя умоляю! Никогда! Слышишь? Никогда не теряй нюх на юмор. Я это взял за правило, и оно меня не подводит.
— Запомню, — сказал Джейк и улизнул на балкон, где Ирвин, всей необъятной тушей нависая над выводком еще не возмужалых родичей, держал около уха тихо бормочущий транзистор.
— Вилли Мэйз только что закатал хоумран, — объявил он. — В игру вводят Маккови.
Увидев Джейка, он сглотнул и повернулся к нему спиной.
Джейк решил отыскать Фанни, пока еще не накачался до полной одури. Та оказалась в тесной спаленке.
— Я могу для вас что-нибудь сделать? — спросил Джейк.
— Сядь.
Он сел.
— Ты знаешь, мы, бывало (ну, то есть когда уже поженились, конечно), как бы сказать… — она покраснела, — в общем, валяли с твоим папой дурака. Ты меня понял?
— Вы с папой — что?
— Ну, сам пойми. И я забеременела. Но он заставил меня кое к кому сходить.
— Зачем?
— Подумал, братья засмеют. В его возрасте, и вдруг ребенок…
— Мне очень жаль.
— Ты хороший, внимательный мальчик. Я бы приехала к тебе в гости в Лондон, если бы могла себе это позволить…
Джейк, ноги в руки, снова в холл, откуда стал наблюдать за Ирвином, который, оставшись на балконе один, облокотился о балюстраду. Засунул палец глубоко в ноздрю, яростно там покопался и медленно, ме-е-едленно, осторожно вытащил, как извивающегося червя, довольно длинную соплю. С сонным прищуром Ирвин осмотрел ее и вытер палец о перила.
Дядя Джек тем временем, роняя с сигары пепел, вовсю хохмил.
— Приехала в Канаду из Австралии парочка геев…
Тут Джейка хлопнул по плечу Герки.
— Мне надо кое-что с тобой обсудить, — сказал он и втащил Джейка вслед за собой в сортир. — Ты теперь как в денежном плане? На ногах крепок?
— Да я бы рад помочь тебе, Герки, — качнувшись, ответил Джейк. — Но у меня все в деле.
— Ты не так понял. Мне твоих денег не надо. Но у тебя дети теперь. И ты, конечно, хочешь обеспечить их будущее. Ты ж мой единственный зять, так что… в общем, хочу подкинуть тебе хорошую идейку.
— Ну, давай.
Герки весь аж светился, излучая самодовольство.
— Вот как ты думаешь, что сегодня самое ценное на свете?
— Еврейская традиция.
— Тебя твое пьянство знаешь, куда заведет? В никуда! — Герки выхватил у Джейка из руки стакан. — Я же серьезно, ну соберись ты Христа ради!
— Ну хорошо, ладно. Отсутствие рака почки.
— Я в смысле природных ресурсов.
— Золото?
— Ну, уже близко…
— Нефть?
Тайное знание Герки так и распирало.
— Сдаешься?
Ты что, не знаешь, что скоро помрешь, а, Герки? Но этого Джейк не сказал.
— Вода!
— Что?
— Аш два о! Смотри мне здесь. — Ловким движением кисти Герки дернул ручку сливного бачка. — И вот так же она течет везде, днем и ночью! А теперь возьми реку Фрейзера[332]. Ну, то есть к примеру. В нее без всяких очистных несколько раз в день сливается содержимое сотни тысяч унитазов.
— Согласен, Герки. Много в нас говна.
— Ага. И оно туда течет и течет. Канада имеет больше чистой воды, чем любая другая страна свободного мира, но даже при этом — есть же и предел какой-то!
Джейк забрал свой стакан обратно.
— Экстраполируем на десять лет и получаем — что? Получаем танкеры, целый флот танкеров, перевозящих не нефть как нынче, не какой-нибудь железо-марганцевый концентрат или хрена в ступе, а чистую канадскую воду, и куда же они ее, родимую, везут? А в загаженные американские города!
— И что?
— Смотри. Только теперь внимательно! — Герки снова спустил воду. — По всему городу все делают одно и то же. Но! Из этого бачка, как и из всех других, изливается одинаковое количество воды вне зависимости от того, сколько ее на самом деле надо. Мы-сель просекаешь?
— Стараюсь изо всех сил.
— Я называю их безмозглыми. Ну, в смысле, бачки такие.
— Слушай, Герки, ты меня утомил. Давай ближе к делу.
— Так я же и говорю: средний человек писает раза четыре в день, а вот какает только раз, поэтому этот ватерклозет — безмозглый: он рассчитан на поток воды такой мощный, чтобы каждый раз смывать кучу испражнений. В одном только Монреале каждый день попусту тратятся миллионы галлонов. Вот я куда клоню! Сейчас мы разрабатываем новый бачок, который давал бы достаточный поток для кала, но, когда писаешь, выпускал бы воды ровно столько, сколько нужно, чтобы смыть только мочу. Иначе говоря, изобретаем туалет с мозгами. Это будет самый большой прорыв со времен «Ниагары» Томаса Краппера! Как только снизим затраты и перейдем к производству, я думаю, нашими санузлами будут в обязательном порядке оборудоваться все новые здания. Я даю тебе шанс войти в лифт на уровне граунд-зиро. Что скажешь?
— Ты в самом деле мыслишь очень крупно, Герки.
— Конечно, надо идти в ногу со временем!
— Давай я просплюсь, а потом уж решу. О’кей?
— О’кей, но ты смотри, пока помалкивай.
За полчаса до появления первой вечерней звезды в нестерпимо жаркую квартиру вновь потянулись раввины в лоснящихся черных сюртуках. Этакая местная еврейская мафия. От высоких, с бородами, как веники, мужиков в широкополых черных шляпах до прыщавых юнцов с реденькой порослью на подбородках и в шляпах с полями поуже, но на них и такие казались огромными непомерно. Наконец явился их предводитель, маленький, тщедушный раввин Довид Польски; значит, вот кто будет вести вечернюю службу.
Вплотную к спине Джейка с молитвенником в руке стоял плоскостопый жирный Ирвин, пыхтел над ухом. Когда Джейк, задумавшись во время заупокойной молитвы, вдруг сбился, тяжкое дыхание Ирвина участилось — стало еще быстрей, — прервалось… и вдруг он как чихнет, и еще раз, обдав Джейку шею чем-то вроде холодной шрапнели. Когда Джейк возмущенно развернулся, Ирвин съежился, втянул голову в плечи. Взгляду Джейка предстали его выпученные глаза и потная красная физиономия над множеством подбородков. Прерванную молитву Джейк возобновил, но ему так и не удалось выбросить из головы Ирвина, который у него за спиной, изо всех сил кусая губы, старался не рассмеяться, да так тяжко старался, что казалось, у него вот-вот где-нибудь что-нибудь треснет. Как только молитва закончилась, Ирвин сиганул на балкон, зажимая мокрой ладонью рот и нос.
Раввин Довид Польски, которого семейство Хершей почитало как святого, тощенький узкоплечий старичок с бледным, даже пепельным лицом, водянистыми голубыми глазами и чахлой желтовато-седой бороденкой, закончив чтение, прошелестел тапочками к своему месту на диване. Этакий хитренький полевой мыш. Укоризненно бедный на фоне благополучной обеспеченности Хершей, в рубашке с засаленным воротничком, углы которого загибаются, и с потрепанными манжетами рукавов он теперь приходил каждый вечер всю неделю, вытирал рот огромным влажным платком и проповедовал Хершам, каждый из которых в его присутствии просто млел.
— Пришел ко мне однажды человек и попросил, чтобы я съездил в Нью-Йорк к цадику[333], спросил, что ему делать с отцом: отец умирает. Дал он мне денег на авиабилет, и я поехал в Бруклин, поговорил с цадиком, вернулся и сказал тому человеку, что цадик велел молиться — ты должен молиться каждое утро. Молиться? — переспросил тот человек. Ну да, каждое утро. Ну, он ушел и каждое утро перед уходом на работу стал читать молитвы, чего раньше не делал годами. Потом однажды утром он пошел на встречу с гоем, финансистом, жившим за городом, где отель «Маунт Ройяль». Ему с этим гоем надо было договориться насчет кредита на нужды бизнеса. Гой велел ему явиться в девять часов ровно. Тогда, мол, я постараюсь тебя принять, а вообще-то я человек занятой. Ну ладно. Но тот человек проспал, а когда встал, понял, что, если еще и на молитвы время потратит, опоздает наверняка. И не видать тогда ему кредита. Но все равно он молился, а когда добрался до отеля и пришел к финансисту в номер, гой был в ярости, он кричал, орал: это что такое! ты заставил меня ждать! Кто кому нужен — я тебе или ты мне? Тогда тот человек рассказал, что у него умирает отец и его цадик велел ему каждое утро молиться. Вот он и молился, поэтому опоздал. Ты хочешь сказать, спросил его гой, что даже с риском лишиться кредита и потерять свой бизнес ты все равно опоздал, чтобы ни одного утра не прошло без молитвы за отца? Ну да. В таком случае, сказал гой, дай мне пожать твою руку, потому что такому человеку, как ты, я могу доверять. Одолжить деньги такому человеку — истинное удовольствие.
Все Херши сидели и слушали, просветленные. Один Джейк был не со всем согласен и, ткнув локтем дядю Лу, говорит:
— Насчет того, что молитвы помогают при получении кредита — это мы поняли, но что потом сталось с его отцом?
— Вы знаете, в чем ваша проблема, молодой человек? Вы ни во что не вьерите!
И раввин Довид Польски, видимо имея в виду Джейка, продолжил:
— Иногда молодые люди оспаривают закон. В нем, дескать, совсем нет здравого смысла… сплошные предрассудки… Вы такого рода молодых людей тоже знаете, я уверен. Почему, например, — они спрашивают, — мы не должны есть дары моря?
Дядя Лу не преминул шепнуть Джейку:
— Это он о твоей сестре Рифке с ее диетой из морепродуктов.
— Каких еще…?
— Да как увидит продукты, съедает их целое море!
— Почему, — вопрошал в это время раввин, — мы не должны есть крабов или омаров? Отвечаю вопросом: почему гои так разбегались по психиатрам? Что ни утро, они бегут к очередному психоаналитику. Отчего это? Так вот: недавно научно доказали, даже в журнале «Тайм» об этом статья была, что, если будешь есть морских гадов, можешь просто-напросто сойти с ума. Вот они все и психеют.
— Джейк! Это тебя, — сказал дядя Джек, протягивая трубку аппарата, установленного на кухне.
— Кто?
— Начальство! — ответил тот, преувеличенно подмигнув.
— Пожалуйста, закрой дверь с той стороны, — попросил Джейк, прежде чем поднести трубку к уху.
Это была Нэнси, заботливая, полная сочувствия.
— Я ждала звонка вчера весь вечер. Что же ты?
— …Да нет, честно-честно, со мной все в порядке.
— И совершенно не обязательно передо мной бодриться…
— Что меня больше всего смущает, так это то, что все это похоже на семейный праздник. Я совсем не страдаю. Чудесно провожу тут время.
Целыми днями до поздней ночи Джейк сидел с Хершами, удобно зажав между ног бутылку «Реми Мартена», и так его удивляли и радовали все их выходки, каждый жест и слово, что он не мог даже толком скорбеть по отцу. Чувствовал себя младенцем в колыбели и уж никак не сиротой. А еще он ощущал себя этаким Рипом ван Винклем[334] навыворот, вернувшимся в прежний, невинный и упорядоченный мир, который он ошибочно считал давно исчезнувшим. Мир, в котором все ходят под Богом, внимательно во все дела вникающим. Где всё, Им задуманное, крутится без сучка и без задоринки. Где нужен даже Холокост, потому что в конечном счете он и привел к созданию Государства Израиль. Где слова «Джентльмены, за Королеву!» означают тост за Елизавету II, а не начало дискуссии о творчестве Энди Уорхола[335]. Где баян был музыкальным инструментом, а не устройством, применяемым, чтобы пускать по венам героин; травка была просто травой — ну, в крайнем случае приправами для куриной лапшички; да и лагерь — всего лишь местом, где отдыхают на природе бойскауты. Ощущение оказалось потрясающим: Джейку даже не верилось, что после стольких лет, стольких передряг и безобразий, после Дахау и Хиросимы, революции в России, космических ракет, ДНК, уличной преступности, заказных и всяких прочих (вплоть до совершенно бессмысленных) убийств, еще существуют на свете невесты в белых платьях, которые с сияющими лицами идут под венец, чтобы потом ее, цацу этакую, еще и сняли для странички светской хроники, как она стоит, позирует с добычей — смешным узкоплечим и толстозадым оболтусом в смокинге. В этом мире еще остались тетушки, продающие билеты благотворительной лотереи, и дядюшки, доказывающие свою правоту ссылкой на «Ридерз дайджест». От франко-канадцев, как от низколетящих самолетов, искажающих телевизионную картинку, тут просто отмахиваются. Ну их! НЕ ТРОГАЙ НАСТРОЙКУ, ПОМЕХА СЕЙЧАС ПРОЙДЕТ. Здесь тетушки все еще звонят друг дружке каждое утро, чтобы рассказать, например, какое печенье она собралась печь. Или кто какой сдал экзамен и кому какую сделали операцию. Здесь кошмар — это когда двоюродного брата пригласили на кидуш бар-мицвы, а на обед не пригласили. Здесь образец слога и красноречия — проповедь раввина. В искусстве здесь никто не смыслит ни бельмеса, все расфуфыренные, разъевшиеся, а уж со вкусом у всех атас полнейший. Но зато в их самосогласованном мирке есть порядок! Он работает!
Поскольку извне никто обычно не удостаивает их славы и почестей, они правильно делают, когда сами друг друга прославляют на благотворительных обедах в синагоге — например, по очереди провозглашают друг друга Человеком года, награждая по такому случаю пышно изукрашенными памятными плашками, которые вешают над баром в парадном зале. Мало того! Бог явно интересуется судьбой каждого из этих наших Хершей, каждому уделяет время, оказывает внимание. Здесь помолиться значит быть услышанным. Здесь даже смерти нет — положено пролежать под землей какой-то срок, да и только. Потому что когда-нибудь (это им раввин Довид Польски точно обещал) в рог вострубит Машиах, и все как один они восстанут, после чего возвратятся в Сион, град Давидов. Их даже и хоронят с палками в гробах, чтобы — как сказал когда-то Барух — у каждого был шанс прокопать себе путь к Богу раньше соседей.
Позвонив Ханне в Торонто, Джейк вынужден был сперва преодолеть заслон в виде Дженни.
— А ты там что, сидишь шиву с этими лицемерами?
О Боже!
— Я так думаю, что при одном упоминании моего имени они крестятся. Ну, то есть фигурально выражаясь, — сказала она, хихикая над собственной шуткой.
Сказать ей, что ее имя вообще ни разу не упоминалось, Джейку не хватило духу, и тут вдруг — бац! — на проводе оказался Дуг.
— Хочу объяснить тебе, почему я не прислал цветы.
— Так ведь вроде и не положено, — устало отозвался Джейк.
— Не в том дело. Ты же знаешь, я выше этих всех этнических табу. Вместо цветов я послал чек от имени твоего отца в «Общество поддержки инвалидов и сирот» в Ханое.
— Правда?
— Эти деньги пойдут на приобретение протезов рук и ног для детей, искалеченных во время бомбежек.
— Я знал, что, как дойдет до дела, вы сделаете именно то, что нужно. А можно я теперь поговорю с Ханной?
— Янкель, это ты, что ли?
— Как поживаешь, Ханна?
— Прими мои соболезнования. Ты, конечно, знаешь — мы с твоим отцом не очень ладили, но это было так давно, и он как-никак твой отец, так что прими мои…
Потом она спросила про Нэнси, про младенца и потребовала фотографии Сэмми и Молли.
— Я хотела сама приехать в Монреаль, но ты ведь знаешь, как Дженни относится к Хершам. Она бы мне и денег на дорогу не дала. Вот напугала! Да я бы автостопом, говорю, как эти хиппи…
— Да что ты, Ханна, я бы прислал тебе денег на дорогу, ты же знаешь, но…
Его остановило то, что он побоялся, не будут ли старшие Херши высокомерно ее третировать.
— Да понимаю, не объясняй. А ты сюда на денек не заедешь?
— Я бы с радостью, Ханна, но там ведь маленький. Нет, правда, я…
— Ладно, ладно, ничего. В следующий раз, хорошо?
— И тогда мы сходим вместе на хоккей.
— Слушай, а ты знаешь, что Рыжий Келли[336]стал депутатом парламента? Большой начальник теперь.
— Кто-кто?
— Что ты кто-ктокаешь? Защитник из «Кленовых листьев». Помнишь, за него еще Имлах[337] с детройтскими «Красными крыльями» долго торговался.
— Так он теперь депутат парламента?
— Aqui está nada.
— Aqui está, Ханна.
— A ты думал! Канада жива еще! Потому что все пьем пиво Карлинга. Как там Люк?
— Да по-прежнему.
— Вы оба хороши. Всыпать бы вам ремня! И когда вы наконец помиритесь?
Мать принимала Джейка дома, кормила обедом. Сказала, что очень опечалена смертью отца. Он же не виноват, что для нее оказался недостаточно интеллигентным. А для простой какой-нибудь женщины мог быть вполне подобающим мужем. Покончив с этой темой, она спросила:
— Как там мой новорожденный?
— Новорожденный Нэнси? Прекрасно!
— Вновь и вновь его как магнитом тянуло на улицу Сент-Урбан, и он слонялся там, в который раз проходил мимо облупленной стены дома, в котором когда-то обитали Ханна, Арти, Дженни и где, пусть не так долго, жил Всадник. Не раз заворачивал за угол в знакомый переулок. Задрав голову, смотрел на то окно, за которым когда-то была комнатка Дженни; тогда это окно светилось далеко за полночь: там Дженни, не жалея сил, корпела над уроками, читала книжки, которые должны были увести ее с этой улицы, освободить от каждодневной каторги на трикотажной фабрике «Лорел Нитвер», чтобы ей выйти, наконец, из-под опеки занудных Хершей.
— Ты знаешь, что она там с таким усердием изучает? — покосившись на это ее окошко, сказал ему однажды отец. — Латынь. Представляешь? Мертвый язык!
Сквозь пролом в заборе Джейк осмотрел двор, где когда-то Всадник устроил себе что-то вроде спортплощадки и разминался под взглядами восхищенных девиц. Девиц, надо сказать, действительно клевых. Джейк вспоминал, как они с Арти подсматривали из окна спальни и однажды увидели, как Джо, потемнев лицом, сильно ударил незнакомого мужчину под дых.
Вдруг во двор выскочил темноглазый смуглый мальчуган, подбежал к забору и встал перед Джейком.
— А ну вали отсюда, дятел!
Да, вот здесь все и жили — Додик, Арти, Гас и я.
И стылая могила говорит, насколько детское мгновенье кратко[338].
Только что Арти, Додик, Стэн и Джейк здесь собирали утиль, учились распознавать силуэты самолетов, и тут же, чуть ли не на следующий день, война закончилась. Вернулись домой сыновья соседей.
— Что вы оттуда для себя вынесли?
— Как что? Многому научились.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ГИТЛЕР МЕРТВ? — вот что тогда занимало умы. Естественно, помимо ожидания, когда наконец отменят ограничения военного времени и упразднят карточки. Однажды зверски холодным субботним вечером в дверь постучал какой-то человек. Кожаная кепка, слезящиеся глаза, нос в замысловатом узоре вен. На лацкане наградные планки. Вместо одной руки обрубок (подогнутый рукав заколот огромной булавкой), в другой, здоровой, календарь ветерана и фотопортрет Черчилля работы Юсуфа Карша[339] в окладе из желтой жести с окошком в виде буквы V.
— Не купите? Всего по пятьдесят центов штука.
— Нет, спасибо, — сказал тогда мистер Херш.
Инвалид со значением перевел взгляд воспаленных глаз на свои регалии.
— Вы про высадку в Дьеппе[340] слыхали? — дернув культей, недобро прорычал он.
Джейк умоляюще глянул на отца.
— А вы слыхали про «Беттер-бизнес-бюро»?[341]— парировал мистер Херш. — Я это спрашиваю потому, что они нас всю дорогу предупреждают, чтобы мы, то есть законопослушные граждане, не покупали всякой ерунды у калек, которые утверждают, будто они ветераны войны.
— Ах ты, еврейская твоя морда!
Мистер Херш захлопнул дверь.
— Вот видишь, каковы они, если копнуть. Все! Все без исключения. Вот так-то, Джейк!
— А ты его руку видел? Может быть, он ее как раз при Дьеппе и потерял!
— А на шнобель его ты не посмотрел? Он же пьянчуга! Единственное, с чем он постоянно сражается, так это с бутылкой. Хочешь объехать Иззи Херша на кривой козе — держись за роги крепше!
Н-да-а, похолодел вдруг Джейк, вспомнив садовника Тома и то, какими глазами смотрел на него тогда Сэмми. Что Иззи Херша, что его сына Янкеля на кривой козе… Ох, не объедешь!
Джейк попытался было навестить старых приятелей, но те, кого удалось разыскать, оказались пугающе неприветливы и колючи.
— И что это наш знаменитый режиссер здесь делает? Чегой-то он забыл в нашей деревне? — паясничал Гинзбург.
Арти же сперва похвалил фильм Джейка, но после третьей рюмки отыграл полный назад.
— Если бы ты, когда мы были пацанами, спросил меня, я б никогда на это дело тебя не выбрал. Стэна — это еще туда-сюда.
Он имел в виду насмешливого, подъебистого Стэна Танненбаума, с которым Джейк учился в одном классе Флетчерфилдской средней школы. Стэн теперь сам стал профессором, ходит, на индейский манер обвязав длинные сальные волосы лентой и с болтающимся на пивном животике оберегом.
— Я в этой стране ведущий авторитет по Шекспиру и свой предмет обожаю, но вот ведь какое дело: Шекспир, знаешь ли, внушает скромность и смирение. Так что я не льщу себя надеждой, будто могу что-то добавить. А вообще, теперь столько всякого хлама пишут! Вот взять хотя бы твоего приятеля Люка Скотта. Это я так, к примеру.
Горди Ротман, еще один одноклассник, который бросил преподавание и занялся корпоративным правом, настоял, чтобы они встретились в баре «Бургатель».
— …Сказать по правде, деньги гребу лопатой.
Он счастливо женат, двое детей, дом в престижном Вестмаунте, а к этому всему еще и то, что он называл «лачужкой» в штате Вермонт — на случай, если вся эта заваруха с франко-канадцами добром не кончится.
— И лишь одна у бойчика мечта… — Горди порылся в атташе-кейсе и вытащил заламинированную в пластик кожаную папку. — Вот хочется мне, чтобы мою пьесу поставили.
— Это ты, в смысле, хочешь сказать, что написал… э-э-э…
— Да чёрта ли ты тут пыжишься! Пока ты не стал знаменитым, кто бы о тебе услышал?
— Никто.
— Я разослал рукопись по агентам в Нью-Йорке и даже в Лондоне, но они конечно же слышать не хотят о произведениях, где действие происходит в Канаде. В этой игре все решают связи — что ж я, не понимаю, что ли? Поэтому такой человек, как ты…
— Я прочитаю, Горди. Но у меня высокие требования, так что…
— Нашел чем пугать: у меня тоже. Но ведь не каждому же быть Джеймсом Джойсом! Я это к тому, что ты небось тоже хотел бы ставить как Хичкок или там… как Феллини… — Внезапно он разозлился, бросил на Джейка свирепый взгляд. — Я знал тебя тогда, когда ты был никем. Здесь ты больших надежд не подавал. Как, ч-черт возьми, ты ухитрился просочиться в кинорежиссеры?
— Спал с нужными людьми, — ответил Джейк и подмигнул.
После ежевечерних молитв в квартиру устремлялись утешители. Смутно знакомые троюродные родственники, бывшие соседи, коллеги по бизнесу. Они говорили об отелях в Майами, сравнивали цены, говорили о раввинах, сравнивали шарм, но прежде всего все поражались чуду Шестидневной войны и с опаской следили за ходом дебатов, разгоревшихся после нее в ООН. Один раввин — из пригородных либералов — хотел, чтобы победа Израиля была увековечена новым праздником, этакой современной Пасхой.
Каждого нового гостя дядя Лу ошарашивал одним и тем же вопросом:
— Какие танки были у египтян на Синае?
— Как какие? Русские.
— Ответ неправильный. У русских танков броня крепка. Кроме того, они быстры. А эти тупо стояли, ждали, пока разбомбят.
Когда гости восхищались подвигами израильских ВВС, дядя Лу подкалывал их, пугая неминуемо надвигающимся сбором денег.
— Никогда еще на полях военных действий, — страшно довольный собой, повторял он, — горстка избранных не бывала в столь неоплатном долгу перед столь многими евреями[342].
Дядя Джек всех уверял, что знает точно: в Йемене египтяне применили газ только затем, чтобы испытать его, готовясь травить евреев.
— Зато израильтяне использовали напалм, — возразил Джейк.
— Джейка послушать, что бы мы ни делали, все плохо. А что они делают, все первый сорт. Да ты хоть знаешь, что они уже и крематории в Каире подготовили для нашего народа?
Один дядя Сэм победе Израиля не удивлялся. И всем напоминал, что это ведь евреи переломили ход Второй мировой войны. В битве при Тобруке[343].
А дядя Эйб в который раз повторял:
— Нет, представляете? Они выстояли против пяти арабских стран! В одиночку! Уж тут точно без божественного вмешательства не обошлось; даже закоренелый скептик должен признать это исполнением завета Бога с Авраамом!
Однажды вечером к ним забрел Макс Кравиц, в заскорузлых руках держа фуражку таксиста. Макс стал весь седой и сморщенный.
— Ты хоть помнишь меня-то? — пристал он к Джейку, прижав его к стене.
— Да помню, а как же.
— Что? Ты хочешь сказать, что через столько лет меня еще помнишь?
— Да. Конечно, помню.
— Смотри-ка ты… А я тебя — нет! — этакой победной точкой закончил беседу Макс.
Пришел засвидетельствовать почтение и Арти, давно ставший уважаемым дантистом. А еще Арти приобрел славу балагура. Все о нем говорили: такой шутник, ну такой шутник! Причем расскажет, этак, что-нибудь смешное, а начнешь хохотать, вдруг шасть тебе к разинутому рту — весь приникнет, глаз-рентген, носом водит, и в такой ужас придет от того, что там увидел и унюхал, что и улыбка у него сразу вянет, превращаясь в гримасу жалости. И уже на следующее утро ты распростерт в его кресле, мычишь бессильно да ручками-ножками сучишь. Так и просверливал себе лукавый хитрован Арти путь наверх сквозь моляры и резцы Хершей — одному съемную челюсть сварганит, другому золотую коронку приладит, и в итоге вселился в двухэтажную квартиру в престижном Виль-сан-Лоране.
Неделю они соблюдали траур по усопшему Иззи Хершу, каждый вечер квартиру наполняли довольно беспардонные раввины, проводились совместные молитвы, а потом приходили гости. Для Джейка самым приятным временем было начало дня, когда за протяжным завтраком изнемогающие Херши, борясь с дремотой, делились воспоминаниями о детстве, о школе, о первой работе, о столкновениях с франко-канадцами.
— Они такие недалекие! — говорила тетя Малка, недоуменно подымая брови. — Была у меня одна знакомая, так я ей в пятницу анекдот расскажу, а она только в субботу, посреди церковной службы расчухает, и давай смеяться!
— А что сепаратисты?
— А что сепаратисты? С ними надо бороться путем планирования семьи. Чтоб не плодились, как кролики!
Внезапно в квартире потемнело — это Ирвин перекрыл необъятной тушей проем балконной двери. Около уха, как всегда, бормочущий транзистор.
— Арни засадил «птичку» на пятнадцатом. Теперь он всего на две отстает от Каспера.
— Ну, Арни! Во дает!
— А что же Никлаус?[344]
— Время покажет.
Джейк кое-как все же перевел разговор на брата Джо и его отца Баруха.
— Когда Баруха перетащили сюда, ты только представь: его сын в жизни не видал банана. Наш папа дал ему банан, так он его стал с кожурой есть!
Дядя Эйб, улыбаясь сладостным воспоминаниям, со смешком сказал:
— Барух еще на судне бандитствовал. У какого-то чужого еврея украли кошелек. Искали, все перевернули, нет как нет. При высадке у подножья трапа поставили двоих полицейских, чтобы они досматривали ручную кладь. А Барух эдак вразвалочку спускается, и сумка у него уже открыта — смотри не хочу. Жует яблоко и в ус не дует. А деньги из того кошелька как раз в яблоке-то и были.
— Барух — да-а! Такое вытворял!
И в этот миг Джейк, приехавший, чтобы вместе с Хершами оплакивать отца, — мало того, успевший за время траура стать к ним ближе, чем когда-либо, почувствовал, что должен защитить честь Всадника, раз уж сам он отсутствует. Без всяких предисловий Джейк повернулся к дяде Эйбу и в двух словах напомнил о последнем визите Джо в Монреаль — о том, как его поджидали в машине около дома на Сент-Урбан какие-то люди, о раскуроченной «эмгэшке» в лесу и о Дженни, которая с тех пор их всех на дух не переносит.
— Это ведь вы сдали его, не правда ли, дядя Эйб?
Дядя Эйб покраснел как рак.
— Ты о чем это лопочешь, пьяный полудурок?
— Все, что я хочу, это чтобы вы ответили прямо.
— Ну, так вот тебе мой ответ! — И, влепив Джейку полновесную пощечину, он вышел из комнаты.
— Вот-те на… — Джейк, совершенно ошарашенный, пытался с улыбкой смотреть на лица, ставшие вдруг враждебными. Ему будто говорили: да-да! это тебе еще мало досталось!
В комнате воцарилась душная тишина.
— Вот послушай, — подал голос дядя Лу. — Я расскажу тебе про девчонку, которая отказывалась пользоваться колпачками, потому что не хотела у себя в детской иметь венецианское окно.
— Своими идиотскими анекдотами ты достал уже, дядя Лу!
— Перебрал, перебрал пацан. Ну и ананас тебе в задницу.
Глядь, и Рифка с ними — сидит, кулак ему показывает.
— Ты сюда раз в год приезжаешь, а как приехал, с утра до ночи пьешь и ссоры затеваешь. А потом — фьюить! — опять улетел. Кому ты такой тут нужен-то?
Мигом пробудившийся к активной жизни Герки тоже встрял:
— Куда, кстати, подевался фильм про Джеймса Бонда, который ты якобы должен был снимать? Тоже мне, шишка на ровном месте.
— Ушел-ушел-ушел! — Не выдумав ничего остроумнее, Джейк возмущенно удалился на балкон и унес с собой бутылку бренди.
К несчастью, на балконе оказался Ирвин. Гороподобной тушей занимая полбалкона, он громко пыхтел, карманными щипчиками подстригая ногти[345]. Под злобным взглядом Джейка он вскочил и ретировался, сложными движениями бровей пытаясь вымолить прощение.
— Эй! Мудак! Ты словами что-нибудь сказать можешь?
— Ну могу.
— Так давай! Говори уже.
Ирвин подумал, повращал глазами. Ненадолго остановил взгляд на резервуаре с бензином возле заправочной станции «Эссо» напротив дома. Почесал в голове и посмотрел после этого на ногти. В конце концов сказал, напирая на каждое слово:
— Ты сколько зайцев поймать-то хочешь?
Тьфу ты, пропасть! — про себя выругался
Джейк и поплелся назад в гостиную, где при его появлении все друг от друга так и отпрянули. Перед тем, видимо, шептались.
— Послушайте, — взмолился Джейк, — ведь мы же все умрем…
— Ты это к чему? — нахмурился дядя Сэм.
— …да сядь ты, сядь, глупый ты человек, я не заразный. Черт, ну вот зачем я только сижу тут с вами? Я же во все это не верю. Зачем было пытаться вас умаслить?
— Из уважения к отцу.
— Да никогда я отца не уважал.
— Опаньки!
Я любил его, про себя добавил Джейк, но им бы он этого не сказал ни за что.
— Не прошло и недели, как он умер, — взвизгнула Рифка, — а он его уже не уважает! Вы слышите? Вы все слышите?
— Ну, дорогая, он же не оставил денег! А раз так, чего ради напрягаться?
— Какой же ты мерзкий! Скотина. Женившись на шиксе, ты разбил его сердце!
Шлепая тапками, вернулся дядя Эйб.
— Мне не следовало бить тебя. Прости, Джейк.
— Нет. Вам, черт побери, действительно не следовало бить меня. А что следовало, так это дать прямой ответ на мой вопрос.
— Неужто ты не можешь, — голос дяди Эйба звучал устало, — хотя бы извинение принять как джентльмен?
— Это вы подсказали, где им найти Джо?
Вздохнув, дядя Эйб увлек его в кухню и затворил за ними дверь.
— Ты что, там, в Лондоне встречался с Джо?
— Думаю, он сейчас в Южной Америке. А я с ним не встречался с детства.
В глазах у дяди Эйба промелькнуло облегчение. А может, Джейку это только почудилось.
— Тебе повезло, значит. Потому что он мерзавец.
— Это надо бы обосновать.
— Ты-то своего двоюродного брата обожаешь. Я правильно понимаю?
— Может быть.
— Джо действительно был на гражданской войне в Испании. Воевал в интербригаде. И это ему, конечно, зачтется, но…
— А еще в Израиле в сорок восьмом. Прорвался с последней автоколонной в Иерусалим.
— Прекрасно. Замечательно. — Дядя Эйб улыбался, но как-то двусмысленно. — И если этого достаточно, чтобы ты сделал из него себе героя, то давай на этом и остановимся, хорошо?
— Нет. Не хорошо.
— Ах ты упрямый какой. Ну ладно. В сорок третьем он приполз к нам на карачках, хвост между ног, потому что влип в неприятности с гангстерами. Гнал машину без оглядки всю дорогу от Лас-Вегаса.
— В какие неприятности?
— Да ничего особенного, Джейк, ничего героического. Мелкая дребедень. В основном с букмекерами. Он увлекался азартными играми, но этим многие грешат. Не платил долгов. О’кей, не он первый. Но кроме того, он был еще и жиголо. И шантажист. Тянул с женщин деньги, иногда даже женился ради этого. Ты помнишь женщин, которые приходили во двор дома на Сент-Урбан?
Джейк кивнул.
— Так вот: по большей части это были девицы не слишком строгих правил, ночные бабочки, чьи мужья пребывали за морем на фронте. Но среди них была одна вестмаунтская штучка, которую он встретил, кажется, на конской выставке, а через нее познакомился кое с кем еще из, так сказать, высшего общества — опять, конечно, со всякого рода искательницами приключений. Все ж таки Джо был типчик колоритный. В кино каскадером работал. Профессионально играл в бейсбол. Да и на лошадь его посади, скакать умел как никто. Но ко всему тому был хулиган — вот же в чем горе-то! Без образования. Амбиций пруд пруди, гордыня так и распирала. Начал засиживаться в «Маритайм-баре», заводить шашни с замужними женщинами. Они его одевали, давали деньги, а если мало, он брал кредиты, а поручитель кто? Я, кто ж еще-то. Когда он сбежал из города, мне пришлось его долгов заплатить больше чем на две тысячи долларов.
— После той драки в «Паледоре» вы навели на него людей. Вы предали его.
— Что называется, слышал звон. Это вовсе не так было, Джейк. Твой братец страдал большим самомнением. Закрутил роман с женой одного крупного начальника, причем человека действительно большого и уважаемого, вдобавок из влиятельной семьи. У женщины были проблемы с алкоголем, она под этим делом на Джо и запала. Да и благоразумием как минимум не отличалась. Как муж из города, в доме Джо. А дом из лучших во всем квартале. И уж с пустыми карманами Джо оттуда не выходил. Пропали драгоценности, что-то из фамильного серебра. Муж пришел на Джо посмотреть. Предложил ему деньги, но, видимо, мало. Они поссорились. Джо ударил его. И сам испугался, но дело сделано. Ну, и муж той женщины решил проучить его. А что ему было делать — и так уже в посмешище превратился! Короче, нанял каких-то головорезов, чтобы они с Джо за него поквитались.
— В Израиле я виделся с женой Джо, — сказал Джейк, думая этим ошарашить дядю Эйба.
— А, с женой… То есть с одной из них. Есть и другие.
— Он ей сказал, что это родственники виновны в смерти его отца и в том, что его тоже чуть не убили.
— Это он сказал. Говорить он мастер. Лжец по составу крови.
Рассказал Джейк дяде Эйбу и о материалах по Менгеле, обнаруженных им в кибуце. О деревне Дейр-Яссин, о деле Кастнера и о том, как после безуспешных поисков Всадника в Мюнхене и Франкфурте он пришел к выводу, что Джо отправился выслеживать Йозефа Менгеле в Южную Америку. Рассказал (правда, сразу же пожалев об этом) и о Руфи.
Сперва дядя Эйб в изумлении качал головой. Потом расхохотался.
— Де ля Хирш! — повторял он. — Это надо же! Молодец!
— И ничего я тут смешного не вижу. Да и рассказы ваши о его беспутстве меня ничуть не убеждают. Это вы сдали его, дядя Эйб!
— Да уж лучше бы я. Мне это было раз плюнуть!
— Но, боже мой, зачем?
— Ты понятия не имеешь, как недалеко здесь было до расовой резни. В те годы положение было не то, что сейчас. Призывы Á bas les juifs красовались на всех заборах. Молодые парни прятались по лесам, потому что не хотели умирать на «еврейской» войне. Их спросить, так хоть бы и всех нас отправили в печи. А теперь у них хватает хуцпы твердить о том, как они обожают сионистов. Сепаратисты твердят, будто бы они не более чем сионисты в собственной стране, и евреям поэтому следует их поддерживать. Вот это — через мой труп, Янкель. Дай им сейчас независимость, завтра разразится банковская паника. Кто виноват? Конечно, евреи, и начнутся здесь для нас опять веселенькие времена. Слушай-слушай, ты-то живешь не здесь! В твоем изысканном мирке, где сплошь киношники, писатели да режиссеры, действительно не так уж важно, кто там из вас еврей, кто черный. Господи прости, чуть не сказал «негр»! Твоя-то жизнь укрыта за семью заборами, мой юный друг. А мы здесь существуем в реальном мире, который — заявляю со всей определенностью — сегодня много лучше, чем был в дни моей молодости. Я это признаю, я радуюсь этому, но я и помню. Еще как помню. И я настороже. Твой зейда, мой отец, приплыл сюда в трюме, чтобы сделаться уличным торговцем. Он не говорил по-английски и ходил на цыпочках в страхе перед гоями. Я стал исключением, одним из первых в своем поколении, кто поступил в Макгилл, но и там единственному еврею на курсе тоже было несладко. Те времена были не то что нынешние. В мое время мы побаивались, еще как побаивались. Покупать недвижимость в районе Маунт-Ройяль нам не разрешалось — от нас, видите ли, плохо пахло! В отели пускали далеко не во все, в загородные клубы тоже, а в университетах на прием евреев была просто квота. Я по сей день помню, как вез Софи на прогулку в горы, мы тогда только что поженились, она была на четвертом месяце беременности. У меня спустило колесо, и я пошел пешком за две мили в отель, чтобы оттуда по телефону вызвать ремонтников. Ага, размечтался. На воротах надпись: евреям и собакам вход воспрещен. Как закрою глаза, Янкель, так и вижу перед собой эту надпись. Зато сегодня я «Советник Королевы». Член попечительского совета школы. На мой юбилей в синагогу приезжал мэр и ходил там в кипе. То же и министры из Оттавы. Теперь между евреев есть и судьи. Что ты! — сегодня есть евреи даже среди членов Университетского клуба! Целых трое уже.
— И вы на это купились, да?
— Купились — нет, но это греет, а как же. Вот мой Ирвин, например, уже и представления не имеет, что такое антисемитизм. Ты знаешь, он очень умный мальчик, тебе следовало бы с ним пообщаться поближе. Очень серьезный, да и старших уважает, не то что некоторые в его возрасте — они нынче все на наркотиках, я в курсе. Я ведь в Макгилле лекции читал. Сын уличного торговца, каково, а? Я им рассказывал о талмудическом законе, и эти ребята — боже мой, господи! — еврейские дети, я так и вижу их, они выше нас ростом, большие, здоровые, девочки такие, что просто глаз радуют, одеты как американские принцессы, мальчики с машинами, и вот я смотрю на них и думаю про себя: нет, все-таки нам есть чем гордиться, мы тут хорошо поработали. За это стоило побороться. И чего же они хотят, наши еврейские детки? Они хотят быть черными! Лерой Джонс (или как там его теперь называть положено) да этот еще их безумный Кливер[346] твердят им, что евреи гады и сволочи, и они от души рукоплещут. Мехайе![347] Хотя ведь на идише они теперь ни бэ ни мэ; владеть французским — вот что считается круто. У них от сочувствия к угнетенным франко-канадцам сердца разрываются. Ну-ну. Всего два поколения назад те самые франко-канадцы горели единственным желанием — проламывать жиденятам головы. Ну а уж коли их тянет не к черным и не к франко-канадцам, то к эскимосам. Бедные детки спать не могут, всё переживают, до чего им стыдно перед индейцами. Поэтому наши еврейские дети ходят, обвязав головы лентами на индейский манер. И курят травку. Им совершенно надоело бремя белого человека. Да и долго ли мы были белыми? Каких-нибудь пару поколений назад кем мы были? Жидами пархатыми и никем больше.
Черт знает в кого превратились! Что для них Израиль? Форпост империализма. О Второй мировой войне только и знают что про Хиросиму и прекрасный город Дрезден, который мы, мерзавцы этакие, злобно изничтожили. Да что с нас, филистеров, вообще взять? Ты знаешь, я тут встретил одного еврейского подростка, сына Бернштейна. Едет в клоунском наряде на мотоцикле, а на башке немецкая каска. Я говорю, как не стыдно? А его девица: что вы, мистер Херш, это же мы стебаемся! Что вы нервничаете? И давай петь про Гарлем, про цорес[348] бедных эскимосов, про безнадежную храбрость благородных индейцев… Про Вьетнам, про Кубу… А я им: слушайте здесь — вы, может, думали, это перед вами кто другой, а это — не-ет, это всего лишь Абрам Херш. Я вполне себе благонамеренный дядька. Я не в ответе ни за одно из перечисленных вами мировых зол. Все, что у меня есть, я заработал. Не я изобрел напалм. И в жизни никого не линчевал. А в том, что вы не черны и тем прекрасны, а всего лишь еврейские детки, я вам сочувствую. Но мне куда интереснее мысли рабби Акивы, чем хохмочки председателя Мао. И этот пишер[349], этот птенец желторотый разевает клюв и давай пищать про то, что они, дескать, поколение любви, что они за мир, они друг другу цветочки дарят. Чего только не узнаешь, верно, Янкель? А я, говорю, по-вашему, что — из поколения ненависти? Поколения поджигателей войн? И когда бегал за девчонками, я им, значит, не цветы дарил, а ядовитые колючки в нос совал? Нет, говорю, вы мне тут голову морочить бросьте. А тот парень за свое: когда у нас рок-концерт, народу собираются тысячи, со всей округи, и никаких эксцессов. А я ему: слушай, шмок, когда я иду что-нибудь праздновать в синагогу или на концерт слушать Моцарта, мы ведь из зала тоже не с битами в руках выбегаем, всех вокруг принимаясь метелить. Почему же вы так изумляетесь, когда ваши концерты не приводят к уличным беспорядкам? Что тут особенного? Но его попробуй уйми. Я, говорит, еще ничего: я ведь по улицам с надписью «FUCK» на лбу не расхаживаю! А если отдрочу, то сразу чувствую себя виноватым. И с мужиками целоваться не стал бы. Я ему: ф-фу! А он: хотя их тела красивы! Особенно если черные. Когда они купаются голыми, на их задницах солнце так и сияет. Слушай, — говорю, — ты, цуцик! Ты думаешь, я так и родился толстым, лысым и с больным сердцем? Разве не был я когда-то молодым и разве ты не будешь старым? Или мы не из одного и того же теста?
Ох, как он меня разозлил! Это было нечто. Зато уж мой Ирвин таки имеет голову на плечах. — Сказав это, дядя Эйб постучал по дереву. — И ногами тоже крепко упирается в терра фирму[350]. Должен еще раз напомнить тебе, Янкель: здесь наш дом. Мы тут живем, а ты нет. Я респектабельный гражданин. Моя дочь удачно вышла замуж, живет, ни в чем не нуждаясь. Матери звонит каждый день, и мне звонит в офис. Мы обожаем своих внуков. Когда-нибудь Ирвин найдет себе хорошую девушку и женится (благослови его Господь), и у нас будут еще внуки. Я их воспитал — Ирвина и Дорис, — и, когда придет день, они меня похоронят. В шуле я надеваю отцовский талит, потом его будет носить Ирвин, потом его сын и сын его сына. Это нормальная жизнь, и мне она нравится. И я не одобряю таких в жопу раненных Хершей, которые везде скитаются, а появившись дома, начинают ехидничать и провоцировать раздоры. Не тронь, говорят, говно…
— Это вы о Джо? — спросил Джейк. — Или обо мне?
— Я тебя с ним не сравниваю. Ты добрый еврейский мальчик. Загляни в свое сердце, Янкель, и найдешь там много идишкайт.
— Не надо меня вербовать, пожалуйста. Во всяком случае, таким способом. Потому что, как бы ни были вы все тут благопристойны и милы, честь семьи Хершей взялся защищать все-таки не кто иной, как Джо, а вы, при всем вашем самодовольстве, этой ноши на себя взвалить не захотели. Поэтому мое сердце все-таки с ним.
— В Парагвае?
— Хотя бы.
— Ну ты и поц! Тогда позволь мне кое-что спросить, хоть ты и записал меня заранее в злодеи. Что сделал Джо для своей жены? А для Ханны? Для Дженни? Или для Арти? Я, самодовольный филистер, взял их всех под свою опеку, когда они ходили в рванье, когда у Арти была полная голова вшей. Я платил за их жилье и оплачивал счета врачей. Я заставил Арти выучиться на дантиста и, должен признать, не жалею об этом. Потому что он стал приличным человеком — человеком, на которого вся община смотрит с почтением.
— Вот не надо только на меня общиной давить. Потому что вы, такой уважаемый первый сын уличного торговца, были одним из тех столпов общины, чьи подписи стоят под полным раболепия письмом в «Стар», где говорилось, что вы перевернете все вверх дном, но непременно найдете тех, кто избил франко-канадского студента.
— Да, виноват. А он святой: все, что он сделал, это избил ни в чем не повинного мальчишку и оставил его валяться без сознания на мостовой.
— Когда Дженни уезжала из Монреаля, она сказала, что не примет больше ни гроша от дяди Эйба и парочку ругательных эпитетов еще добавила. Вот почему это?
— Почему? Потому что она шлюха и злоречивая дрянь, которая ненавидит нас. Ты что — и этого еще не понял?
— Но все же именно вы сделали так, что Джо чуть не убили и выгнали из города, дядя Эйб. Вы это знаете, и я это знаю.
— Моя совесть чиста. Единственное, что иногда мешает мне заснуть, так это изжога.
— Понятно. Короче, разговор впустую.
— Янкель, давай кое-что проясним. Мы о ком говорим-то? Мы говорим о шантажисте. Мы говорим о шулере, о двоеженце и лжеце. Мы с пеной у рта спорим об альфонсе. О человеке, который мотается из страны в страну, меняет имена, и у него явно для этого есть причина. Де ля Хирш! — усмехнулся он. — Йозеф Менгеле! Щ-щас! Парагвай-шмарагвай… Послушай, не надо бросать в меня испепеляющие взгляды. Джо это Голем. Это Бар-Кохба. Это банда «Маккавеев» вся в одном лице. Говоришь, он рыскает по джунглям, ищет Менгеле? Ну, в принципе кто-то ведь и Эйхмана поймал. Но пусть он даже и найдет его, что толку? Сколько лет будет уже этой гадине? Шестьдесят? Семьдесят? Ну, найдет его Джо, ну, зарежет. И этим что, справедливость восстановит? Нет, сэр, ни в малой мере. Этим он подставит под удар евреев Асунсьона, только и всего.
— Подобно тому, как здесь он подставил под удар вас?
— Ну ладно, хорошо. Сам напросился, так и получи. Насколько я знаю твоего братца, если он действительно ищет Менгеле (во что я ничуть не верю), если он выследит этого нациста и поймает, — кричал дядя Эйб, стуча кулаком по столу, — он не убьет его! Нет! Он его будет шантажировать!
На дворе было по-прежнему душно. Но ощущалось приближение дождя. Ирвин с зонтиком в руке стоял, облокотившись о семейный «кадиллак», ждал родителей, чтобы везти домой. Стоит, лижет сложно отформованное, двугорбое из трех шаров слепленное мороженое. Один шар клубничное, другой шоколадное, третий с фисташками. На глаза надвинута бейсбольная кепка «Go, METS, Go!» Предплечья обожжены солнцем, красные как у рака. На локтях вместо шишечек ямки. Одет в тонкую желтую футболку, сквозь которую светят соски. Огромный живот свешивается на клетчатые бермуды.
Джейк подошел с грозным видом.
— Пососать хочешь? — спросил Ирвин и от смеха весь заколыхался.
Джейк ударил его по руке, вышиб мороженое. Заляпав «кадиллак», оно сползло на мостовую.
— Говори, в США сколько штатов?
— Сорок восемь.
— Пятьдесят, обалдуй.
— Ну, пятьдесят…
— А ну, перечисли!
— Че-его?
Джейк занес ногу и со всей силы припечатал Ирвину по пальцам ноги каблуком.
— Орегон, Айдахо, Северная Дакота, Небраска, Вайоминг, Иллинойс, Мичиган, Нью-Йорк, Северная Дакота…
— Северную Дакоту ты называл уже! — рявкнул Джейк и саданул ему локтем в ребра.
— …значит, Южная Дакота, Вермонт, Нью-Гемпшир, Техас, Невада. Сколько это получается?
Джейк шмякнул его ладонью по щеке.
— Аризона, Калифорния, Юта, Нью-Мексико, Миссури, Майами, Джорджия, Флорида, Алабама.
Чуть не заваленный спиной на капот автомобиля, еле удерживая равновесие и выпучив глаза, Ирвин начал трястись всем телом.
— Канзас, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Аляска…
Тетя Софи вышла из подъезда, остановилась и вскрикнула.
— Что тут происходит? — в ужасе выдохнул дядя Эйб.
— Неужто и впрямь дед приплыл сюда в трюме, Барух умер в нищете, а Джо невесть где скитается всего лишь для того, чтобы эта медуза, эта сопля поганая, этот недоразвитый фанат бейсбола, этот кусок говна, этот ваш сынок унаследовал землю?
Резко повернувшись, Джейк зашагал прочь, изо всех сил подавляя рвотные позывы и молясь об одном: только бы не блевануть, пока не завернул за угол.
16
Когда в нижнем ящике письменного стола Джейка обнаружились любовные письма Нэнси, то-то было смеху! («…Я никогда еще этого не делала, вообще ни с кем…») Ты с-смотри, а? Ну, аристократка! («…всегда принимала меры предосторожности, потому что ни от одного из них не хотела бы родить ребенка…») Какая проникновенность мысли! Какие высокие, просто заоблачные чувства! Будто она не такая, как другие, будто ее главное сокровище не спрятано у ней между ног.
Как следует покопавшись в ящике, Гарри добыл какие-то листки — видимо, из сценария.
КРУПН. ПЛАНОМ: ГЕНЕРАЛ РОММЕЛЬ подносит к глазам бинокль.
С ТЧК. ЗРЕН. РОММЕЛЯ (через бинокль): Песок, камни, беспорядочно отступающая Восьмая британская армия тащится по барханам.
Так, пару страниц пропустим…
ПАВИЛЬОН: БЛИНДАЖ, В КОТОРОМ ВОССОЗДАНА ОБСТАНОВКА ДЕТСКОЙ. МОНТИ на коленях, по пояс голый. Сжимается от страха и вожделения при виде МАЙОРА ПОППИНС, которая входит, одетая в шапочку медсестры, бюстгальтер и пояс с чулками; на ногах высокие ботинки на пуговках.
Интересно! Очень интересно. Если этот урод втихаря тешится такого рода фантазиями, какое он имел право изображать превосходство, даже отвращение, когда Гарри, доверившись ему, показал некоторые из своих фоторабот? А он ведь насмехался! Да еще и свысока, погань этакая. Тогда как Гарри был с ним откровеннее, чем с кем бы то ни было. Доверился, подставился, раскрылся! Перед этим ублюдком высокомерным. Который улыбался так покровительственно и самодовольно, что у Гарри возникало желание треснуть его по зубам штативом. У него-то все схвачено! Красавица жена. Трое детишек. Дом в Хэмпстеде. Номерной счет в швейцарском банке. Сволочь он! Сволочь! — вдруг разъярился Гарри, почувствовав, что ни минуты больше не может находиться в этом доме.
На улице шел дождь. Что ж, Гарри, тебе опять в атаку — за Англию, на добычу пизды. Прошелся по нескольким кафешкам на Кингз-роуд и Кенсингтон-Черч-стрит, пытался воздействовать обаянием, но безуспешно. Когда завернул на Финчли-роуд и кое-как мимо швейцара протиснулся в бар «За сценой», — все, все, закрываемся! — на душе была безнадега и уныние.
Девица, которую он сразу заприметил, на рожицу была, конечно, не фонтан — голубые мутненькие глазки, светлые неухоженные волосы по плечам… но фигурка явно ничего. Сидит одна, в пальцах бычок самокрутки, сиськи обтянуты свитером, мини-юбка. Тот, кто с ней был раньше, ушел, не допив кофе и оставив несъеденную ватрушку.
— Не знаю, как даже и сказать-то на самом деле… — смущенно начал Гарри. — Потому что вы мне, наверное, не поверите.
— Это правилно, пожалста, — согласилась она.
Что за акцент? Немецкий, что ли.
— Я кинорежиссер.
Она хихикнула, похоже, где-то витая.
— Понимаете, — спешил закрепить успех Гарри, присаживаясь на пустой стул рядом с нею.
— Вы не приглашались. Эй, я не вспоминаю, когда я…
— Дайте мне две минуты, а потом как скажете, меня сразу тут не будет, — сказал он и даже показал, щелкнув пальцами: — Вот так. — И, вынув экспонометр, направил на нее, внимательно на него глядя. — Ого, да вы абсолютно прекрасны!
— Тик-так, тик-так…
— Я весь вечер искал и вот теперь я, без сомнения, нашел.
— Тик-так, тик-так…
— Да поймите же, я действительно кинорежиссер, вот ведь в чем дело. Смотрите! — и он сунул ей кредитную карточку.
— Джейкоб Херш, — прочитала она вслух совершенно равнодушно.
— И вот еще это.
Не без усилий, щурясь и помаргивая, она прочитала рецензию на последний фильм Джейка. Тщательно осмотрела его профсоюзный билет. Опять взялась за вырезку из газеты, стала читать снова — на сей раз медленнее, шевеля губами, а самокрутку рассеянно вручила Гарри. Притворившись, будто глубоко затягивается, Гарри расплылся:
— Ка-айф!
— Ну? Что вы хотите?
— Давайте отсюда свалим и зарулим ко мне. Посидим, выпьем. Это недалеко, — сказал он и привстал.
Но девушка не поддавалась.
— Вы не актриса?
Вроде кивнула? Нет. Похоже, просто носом клюнула.
— Но такая красивая! Класс.
— Я студент. Учу английский. И помогаю по дому. Au pair girl.
— Нет, это надо же! — покачав головой, Гарри шмякнул кулаком в ладонь. — Кто бы поверил?
— Поверил? Чему?
— Что молния ударит дважды в одну точку.
— Я не понимаю.
— Элке Зоммер! Она тоже работала помощницей по хозяйству, причем, вы знаете, прямо здесь, в Хэмпстеде. Ну, то есть до того момента, как ее заметили.
На сей раз, когда он взял ее за руку, поднимая из-за стола, она не противилась.
— Но вы же понимаете, я ничего не могу обещать, — не умолкал Гарри. — Ваш английский не так уж плох, то есть на самом деле он очарователен, но есть пассажи, которые я бы хотел, чтобы вы мне прочитали. Вы согласны?
— Почему нет? — ответила она, пожав плечами.
На улице, в полном восторге от своего успеха, с бьющимся сердцем, Гарри вдруг говорит:
— Пройдитесь! Пройдитесь чуть впереди меня.
— Зачем?
— Делайте, как я сказал. Пожалуйста.
Она поплыла впереди.
— Потрясно. Абсолютно потрясно, — одобрил Гарри, догнал ее и взял под руку. — Ну, пошли!
17
Положенной недели траура Джейк не высидел, улетел на день раньше из-за дурацкой, постыдной и ненужной ссоры с родичами. Воспоминание о ней было мучительно. Ох, как мучительно! Болтаясь в синем небе над Лабрадором в самолете, летящем в Лондон, временами задремывая, Джейк несся над рифленой стальной Атлантикой, но мыслями снова и снова возвращался к спору с дядей Эйбом — уж теперь бы он по-другому, все бы сказал как следует!
Англия заявила о себе болью в ухе, воздушными ямами при снижении и непременной грядой гнусной облачности на подлете. В Хитроу он вышел мрачнее тучи, хотя впереди, уже завтра, ждала поездка на Корнуолл, Нэнси и дети.
В доме горел свет. Неужто он забыл?.. «Ах нет, там, видимо, Гарри, черт бы его… — подумал он, — …черт бы его взял-то», — и повернул ключ.
В коридоре сладковато пахло какими-то воскурениями.
Войдя в гостиную, увидел девицу. Мутненькие голубые глазки. Жидкие светлые волосы. Лошадевата. Она вышла в гостиную из кабинета и от неожиданности замерла, но тут же нарочито непринужденно наклонилась, подняла с полу шаль и прижала к грудям. Следующие несколько секунд он потом вспоминал как стоп-кадр: оба замерли и только смотрели друг на друга. Джейк раздраженно, с нетерпением, девушка — прислонившись к дверному косяку и застыв, будто ожившая картинка, предваряющая главный разворот «Плейбоя».
— Да? — сказала она.
— Это мой дом! — раздраженно бросил Джейк. — Моя фамилия Херш. — После чего, словно в подтверждение права собственности, швырнул на диван дорожную сумку, про себя подумав, что ведет себя агрессивно, можно сказать даже жлобски, как какой-то из героев А.Д. Кронина — был у него такой тиран-папаша, который тоже, возвращаясь в дом, всех там гонял[351].
Девушка удалилась в кабинет, оттуда послышалось хихиканье, шепот, после чего появился обеспокоенный Гарри.
— Слушай, ради бога! Надел бы хоть что-нибудь.
Гарри стал натягивать брюки, идиотически при этом ухмыляясь.
— Ты должен был вернуться только завтра…
— Я передумал.
Надев штаны, Гарри схватил Джейка за рукав и умоляюще прошептал:
— Я ей сказал, что я киношник. Режиссер. Не выдавай меня, ладно, Джейк?
Тут снова вышла она, встала в дверях, на сей раз вся завернутая в шаль.
— Хочешь ее трахнуть? — шептал Гарри. — Она насчет этого сама не своя. Сделает все, что душе угодно.
— В данный момент, Феллини, я сам не свой насчет одного. Насчет выпить. — И, резко развернувшись, рванул, шагая через две ступеньки, к себе в комнату, причем споткнулся только раз.
Коварный Гарри послал к нему Ингрид с подносом. На нем «Реми Мартен» и бокал.
— Вы сердитесь на нас, — сказала она.
— А вы наблюдательны.
— Вы интеллектуал?
— Что-то вроде.
— А в доме ружье держите.
Значит, Гарри водил ее на экскурсию в его укрывище. Эта немецкая сучонка видела фотографии на стене. Фрау Геринг, семейство фон Папенов, «Зепп» Дитрих…
— Имею на то причины, — сказал он. — А теперь будьте добры, куда-нибудь все это поставьте и уходите.
Сексом от нее просто разило, тогда как от него столь же явственно разило смертью. Непонятно зачем он вдруг добавил:
— Я собираюсь принять ванну.
— Какие причины?
— Для ружья или для ванны?
— Ружья.
— Ну а вдруг я собираюсь стрелять! Например, в каких-нибудь немцев. Может быть, даже в вас. Кто знает?
Ингрид вдруг захихикала, тыча пальцем, но не мужские его стати ее рассмешили. А трусы, в которых он перед нею стоял. Когда-то белые, они были все в синих разводах. Пилар сдуру сунула их в стиральную машину вместе с джинсами Сэмми, и джинсы их покрасили.
Разозлившись, Джейк дернул ее за шаль, которая тут же свалилась. После чего, чтобы девица не подумала, что он совсем уж сухарь какой-нибудь или ханжа, Джейк походя потрепал ее по груди, потом сердито сунул ей руку между ног. С вызовом на него глядя, она его руку там зажала. Джейк, к собственному удивлению, ответил тем, что со всей дури ущипнул ее. Ее сразу начала бить крупная дрожь. В общем, не успел он оглянуться, как она уже стояла на коленях, и ее голова сновала вверх-вниз над его причинным местом. Имея в виду обескуражить ее, заставить это дело прекратить, Джейк стал изображать надменное равнодушие, хотя пульсирующая эрекция его выдавала. Тем не менее он все-таки нашел в себе силы проговорить:
— Идите, возвращайтесь к Гарри, прошу вас. Он, должно быть, уже заждался.
В половине шестого утра Ингрид вышла на улицу и двинулась в сторону дома; шла неуверенно, заметно пошатываясь, на ходу всхлипывала. За нею полз автомобиль, и она уже приготовилась отшить очередного приставалу, но это оказались не повесы, горящие желанием ее подклеить, а патруль полиции, возвращающийся после прочесывания парка в поисках эксгибиционистов.
— Девушка! С вами все в порядке?
Первоначальный ее сбивчивый рассказ, то и дело прерываемый слезами, впечатления не произвел. Обычный пьяный бред. Сержант Хор готов был отмахнуться: девицы, шляющиеся в этот час по улицам в расстроенных чувствах, чуть что, все норовят нести чушь про сексуальное насилие, особенно если они и тебя боятся. Подъехал ближе к тротуару и остановился, не глуша мотор. Его напарница по фамилии Эверетт пригласила девушку в машину и усадила рядом с собой на заднее сиденье их белого «ягуара». Превозмогая усталость, попросила девушку начать сначала. Какое там! Та вновь понесла околесицу, истерически подвывая и временами переходя на немецкий.
— А повторите-ка еще раз — как, говорите, его звали? Ну, того, другого, — спросил сержант Хор, бросив многозначительный взгляд на напарницу, которая все-таки вытащила наконец записную книжку.
— Херш его звали.
— Вы употребляли наркотики?
— Niemals![352] Я — нет.
— Вы — нет. А они?
Ингрид умолкла, истерику сменил трезвый расчет, и после паузы она объявила, что чувствует себя уже гораздо лучше, так что вполне сможет дойти до дома.
— Да ну, нам же не трудно. Мы подвезем вас. Но может быть, вы согласитесь сперва заехать на чашечку чая к нам?
18
В половине одиннадцатого утра Джейк с Гарри предстали перед магистратским судом, что на Грейт-Мальборо-стрит. Гарри обвинялся в изнасиловании и содомии, кроме того, в хранении наркотика каннабис. Джейк обвинялся в изнасиловании, а также в пособничестве и непресечении содомии; вменялось ему и хранение наркотика. Оба виновными себя не признавали. Против того, чтобы их выпустить под залог, инспектор сыскной полиции Мэллори, назначенный расследовать дело, возражений не имел, и суммы определили в тысячу фунтов для Джейка и две пятьсот для Гарри. Чтобы полиция успела собрать улики, Мэллори попросил отсрочить слушание на восемь дней. На это Его Милость тоже согласился. После чего Джейк, совершенно ошарашенный событиями, с молниеносной быстротой сменяющими друг друга, удалился вместе с Гарри в паб на другой стороне улицы.
— Вот теперь-то мы и посмотрим, какой из тебя друг, — сказал Гарри.
Джейк озадаченно на него уставился. Он-то и забыл уже, что есть такой Гарри на белом свете.
— Поглядим, друг ты мне или нет. А то, может, возьмешь да сбежишь.
— Без паники. Сбегать я никуда не собираюсь.
— Дай что толку? Это было бы крайне неразумно, кореш. Потому что ты влип по самое некуда. Так же как и я, впрочем.
— Вот еще! Пришел, а вы там милуетесь, — не согласился Джейк. — Я же был сторонний наблюдатель.
— Ку-ку! Ку-ку! Ты где?
Джейк мысленно уже где-то витал.
— Какое унижение! — сказал он. — Я оскорблен до глубины души.
— Ой, какие мы чувствительные! Ничего же еще даже не начиналось. Тебе еще многое предстоит увидеть.
— Ну, ты и гад.
Прищелкнув языком, Гарри помотал пальцем перед пепельно-серым лицом Джейка.
— Да-да! Многое еще увидишь. Потому что гад-то не я. А ты. Если бы не ты, напарничек хренов, ничего бы вообще не случилось.
Джейка начала бить дрожь. Руки пришлось спрятать.
— Если бы ты не выкинул ее из дома, она бы никогда в полицию не пошла. У ней бы повода не было. Если бы ей разрешено было остаться до утра, как она ожидала, а потом бы она спокойно с нами позавтракала, любой полицейский, любой судья в этой стране над ней бы просто посмеялся, сказал бы: иди-ка ты, милая. Но мы ж такие чистенькие, мы не хотим, чтобы она пачкала наши девственные, блин, простыни, правда?
— Еще чего!
— Лучше вот так, да?
Но Джейк опять где-то витал: заново переживал момент, когда еще толком не проснувшийся, раздраженный, разбуженный громкими голосами и непрестанным лаем соседской собаки, он надел халат и стал в недоумении спускаться вниз, где обнаружил Гарри, вступившего в перепалку с сержантом Хором.
— Слушай, Гарри, а зачем они забрали тюбик с вазелином? — вернувшись в реальность, спросил он.
— Затем что на медосмотре у нее из задницы взяли мазок и в этом мазке чего-нибудь да найдут. Но уж точно не Северо-Западный морской путь.
— Ты принуждал ее, а, Гарри?
— Ее принудишь! Она сама кого хошь затрахает. Но это никого не волнует. Потому что содомия это преступление, даже если все взрослые и всё по согласию. Тебя жена может за это посадить. Или она тебя через черный ход не пускает?
— Иди к черту.
— Поедешь, стало быть, теперь к ней, да? Что ж, поздравляю. Желаю всего самого-самого.
На это Джейк сказал, что свяжется с Гарри завтра утром. Надо бы вместе переговорить с адвокатами.
— Они будут подбивать тебя на то, чтобы сделать меня козлом отпущения. Если вздумаешь согласиться, я из тебя в суде кишки выпущу. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты сел.
— Не сомневаюсь.
— Мне ведь терять нечего, сам знаешь.
По дороге в Ньюки настроение Джейка прыгало: его то бросало в страх, заставлявший съезжать на обочину и отдыхать, опершись лбом о баранку в ожидании, пока пройдет тошнота, то накатывала беззаботность, даже веселье, когда ему удавалось почти убедить себя, что с ним вообще ничего не случилось. Уж очень все произошедшее было абсурдно.
Нэнси, всю ночь обрывавшая домашний телефон, пытаясь до него дозвониться, была в бешенстве.
— Где ты был, Джейк?
— В тюрьме.
Свою речь он заготовил заранее.
— В университете мы, бывало, играли в игру, которая называлась «Ценности». Мы ставили перед собой моральные дилеммы. Вот, например, одна из тех, что мне запомнились. Ты идешь через мост, останавливаешься у перил и видишь, что кто-то тонет. Абсолютно незнакомый человек. Не исключено, что ты можешь его спасти. Но если ты к нему прыгнешь, ровно столько же шансов пойти ко дну с ним вместе. Больше на мосту никого нет. Так что, если решишь уйти, притворившись, что ничего не видел, никто, кроме тебя, об этом знать не будет. Вот что ты сделаешь?
Затем он признался Нэнси, что соврал ей: Гарри все это время имел доступ к дому, и в ту ночь, когда Джейк вернулся из Монреаля, тоже был там. А с ним девица, которую он подклеил в каком-то баре. Гарри и эта девица предавались всяческим сексуальным игрищам, в которых сам он конечно же участия не принимал, но спустился к ним выпить, и что-то там эта девица ляпнула, что его дико возмутило. В приступе ярости он ее буквально физически вышвырнул из дому. А та в отместку пошла в полицию и накатала заяву. Джейк рассказал, в чем обвиняют его и в чем обвиняют Гарри. Заверил жену, что совершенно безвинен и дело против него, а может, и против Гарри в магистратском суде непременно лопнет. Все это должно произойти через восемь дней, но там будут репортеры, об этом будет писать пресса, поднимется непристойнейшая шумиха, и им придется все это как-то выдерживать.
Нэнси плакать не стала. Не стала и укорять. Совершенно спокойно сказала лишь:
— Думаю, нам надо срочно возвращаться в Лондон.
— Но ты с детьми могла бы и остаться. Может, так было бы лучше.
— Нет.
Еще он сообщил ей, что Гарри во всем винит его, и признал за этой точкой зрения кое-какую, пусть вывернутую, но правоту. Сказал, что оплатит защиту Гарри, но как только дело закроют, больше к нему на пушечный выстрел не подойдет. Он обещает.
— Дело может зайти и дальше магистратского суда, Джейк. Думаю, тебе надо быть к этому готовым.
— Что ты! — вскричал он в ответ. — Этого не может быть!
— Кроме того, если это попадет в газеты, тебе лучше написать матери, пока она не прочла где-нибудь сама.
Вспомнилась Канада. Что ж, рассказал жене о похоронах отца, невероятно уже давних и далеких, будто на той стороне Луны, о ссоре с дядей Эйбом из-за Всадника. После чего единственный раз она дала ему понять, насколько хрупко ее спокойствие.
— А знаешь, ведь это его ты должен за все благодарить. Если бы не Джо, никогда бы тебе не встретилась ни эта Руфь, ни…
— Стоп! Не надо! — запротестовал он в смятении.
— Извини.
Рассвело. Да и сборы уже были закончены.
— Мы можем выехать, как только встанут дети, — сказал он. — Мне спать не нужно.
Следующим вечером Джейк впервые встретился с Ормсби-Флетчером. А утром в дом явился инспектор Мэллори с двумя полицейскими, один из которых был фотограф, и Джейк поспешно выслал из дому Нэнси с детьми. Учтивые подчиненные Мэллори прощупали и вымерили дом весь до последней пяди. Фотографировали, обсуждая с Джейком, какую лучше поставить выдержку, какую диафрагму и т. п. — ведь он же как-никак специалист! — а Джейк всех угощал выпивкой.
— У меня для вас хорошая новость, — дружелюбно сказал ему Мэллори.
— Какая?
— Вообще-то не положено вам это выдавать, но шила в мешке не утаишь. Мы нашли немного каннабиса у нее в комнате. Она клянется, что это Штейн ей дал, но… — Он пожал плечами. — Это может не подтвердиться.
— Да уж надеюсь! — с жаром отозвался Джейк.
— Вы как-то слишком переживаете, мистер Херш. На мой взгляд, вам особенно бояться нечего.
— Правда? — осторожно проронил Джейк.
— Вам не повезло, что вы связались со Штейном. Это преступный тип. За ним очень нехороший хвост тянется. Вы знали об этом?
— Не думаю, что нам стоит вдаваться в детали дела.
— Да не беспокойтесь. Я неофициально. Кроме того, у Штейна дома мы марихуаны не нашли.
— Гарри не курит травку.
— Может, и нет. Но он мог держать ее для девиц. Он парень с закидонами, знаете ли. Любитель пофотографировать.
— М-ммм, — протянул Джейк.
— Вообще-то я думаю, травку надо бы легализовать, как вы считаете?
— И чем скорее, тем лучше.
— А вы сами ее пробовали?
— Мне не следует обсуждать с вами такие вещи.
Мэллори обиженно нахмурился.
— Я вам скажу только одно и больше ничего говорить не буду, — сказал Джейк. — Гарри не насиловал эту девицу.
— Может быть, эту он и не насиловал, — согласился Мэллори и встал. — Ну, не смеем больше вас обременять.
— Жаль, что мы не встретились при более приятных обстоятельствах, — сказал Джейк.
— Удачи вам в суде.
И все это так дружелюбно, так обволакивающе вежливо, убаюкивающе культурно, что Джейка не могло не охватить ощущение благостного спокойствия, которое тут же улетучилось, как только он увидел, что вместо того чтобы сесть в машину и уехать, Мэллори зашел сперва в один соседний коттедж (тот, где жила Старуха Сохлая Пиздень), а затем, просидев у нее битый час, стал звонить в дверь другого — к Кларкам.
С Ормсби-Флетчером Джейк и Гарри встречались каждый день, иногда просиживали до вечера, размышляя то над полицейскими материалами, то над своей версией случившегося, которую за время, оставшееся до слушания в магистратском суде на Грейт-Мальборо-стрит, должен был в письменном виде подготовить Ормсби-Флетчер.
Неприятности начались с самого начала слушания. Едва барристер, выступавший в качестве общественного обвинителя, открыл заседание, сообщив, в чем обвиняются Штейн и Херш, как его перебил Ормсби-Флетчер.
— Ваша Милость, — начал он, обращаясь к судье, — как вы, вероятно, знаете, мой клиент кинорежиссер, человек известный и поэтому особенно уязвимый в отношении слухов и сплетен. Поскольку я имею основания надеяться, что дело против него дальше этого суда не пойдет, я прошу вас объявить слушание закрытым, что допускается пунктом вторым части четвертой уложения о магистратских судах от тысяча девятьсот пятьдесят второго года.
Но Его Милость на это не поддался. Можно сказать, ухом не повел.
— Боюсь, что не смогу удовлетворить ваше ходатайство. По установившейся традиции суды проводят предварительные слушания публично, и в данный момент я не вижу причины отступать от обычной практики.
Заканчивал вступительную речь барристер обвинения уже без помех. Затем секретарь суда зачитал внесенные в протокол показания свидетелей. Ингрид подписала свои, инспектор Мэллори свои; потом то же самое сделали сержант Хор и полицейский врач. Все они были предупреждены о том, что им придется выступать свидетелями также и в Олд-Бейли, если делу дадут дальнейший ход.
Гилбрей, коллега Ормсби-Флетчера, представлявший интересы Штейна, заявил о невиновности своего клиента и о своей готовности защищать его в судах всех инстанций. Затем Ормсби-Флетчер, изобразив нетерпение, вновь храбро пошел в атаку.
— Ваша Милость, — сказал он. — Позволю себе обратить ваше внимание на то, что в нашем распоряжении вообще нет дела, по которому моего клиента можно было бы привлечь к ответственности и которое оправдывало бы потерю времени и сил на этот суд. Свидетельства, на которые опирается обвинение, безосновательны и слабы. Даже если предположить, что девушку изнасиловали, ничто не указывает на то, что мой подзащитный был чем-либо иным кроме как ошеломленным наблюдателем. Конечно же такие свидетельства не могут быть для вас достаточными, чтобы подвергнуть моего клиента дальнейшему суду и связанным с ним расходам и волнениям.
Но Его Милость соглашаться не спешил.
— Как вам должно быть известно, — сказал он, — мне совершенно не обязательно иметь неколебимую уверенность в том, что ваш подзащитный насиловал Ингрид Лёбнер. Для этого требуется гораздо более серьезное исследование дела, каковое только и может дать соответствующие доказательства, а вот уже по ним должен вынести свой вердикт суд присяжных. Мне же требуются лишь такие свидетельства, которые, если я сочту их достаточными, дадут мне возможность дать санкцию на привлечение обвиняемого к суду. Насколько я в данный момент представляю себе это дело, так я и должен поступить, если обвиняемый не убедит меня либо сам, либо с помощью вызванных им свидетелей, в том, что имеющиеся у меня свидетельства недостаточны.
Однако обвиняемый Херш хранил молчание. Никакого заявления не сделал. Никого ни в чем не убедил.
— Мой клиент, — сказал Ормсби-Флетчер, — заявляет о своей невиновности и будет продолжать защиту.
— Очень хорошо. — Теперь Его Милость повернулся к Джейку. — Ваше дело будет рассматриваться на очередной сессии Центрального уголовного суда.
19
Прежде чем Джейк и Гарри действительно оказались на скамье подсудимых в зале № 1 суда на Олд-Бейли, официально именуемого Центральным уголовным судом, прошло больше трех месяцев. И вот наконец октябрь, четверг, половина третьего дня. Собственно скамья стояла в восьмиугольной выгородке со стенами из стекол в черных деревянных рамах, выгородке настолько обширной (примерно четыре на пять метров), что обвиняемых там поместилось бы человек двадцать. Сидишь, смотришь на судей.
Председательствующий, господин судья Бийл, сидел за судейским столом. Но не в центральном кресле, которое стояло под торжественной палладианской аркой с двумя полуколоннами по бокам, гербом Эдуарда VII наверху и Мечом правосудия, вверх клинком подвешенным посередине, потому что центральное кресло по традиции предназначалось лорду-мэру Лондона, как старшему в любом составе судей. Облаченный в парик с буклями, господин судья Бийл занимал кресло рядом с центральным, попирая огромным задом зеленую бархатную подушку.
Подобающе мрачный, отделанный дубовыми панелями судебный зал № 1 при ближайшем рассмотрении оказался на удивление маленьким (примерно 13 на 17 метров), но благодаря этому слушания там ведутся в приглушенном спокойно-разговорном тоне, кричать и напрягаться не приходится. Пониже возвышения судьи стоит стол секретаря, а еще ниже нечто вроде оркестровой ямы для персонала суда. Слева от ямы места юристов: ближайшие к судье — прокурорские, подальше, около загородки с обвиняемыми — для адвокатов защиты. Представителем обвинения на процессе был мистер Перегрин Паунд (Советник Королевы), которому ассистировал мистер Генри Фрейзер. Защиту представляли сотрудники адвокатской фирмы «Ормсби-Флетчер & Ко» сэр Лайонель Уоткинс (Советник Королевы) и мистер Гай Харрингтон со стороны обвиняемого Херша, а также мистер Уильям Коукс и мистер Джулиан Фаулер (сторона обвиняемого Штейна). Справа от углубления для судейских стоят скамьи для должностных лиц и прессы, а правее скамей прессы — ложа присяжных. В зале также имеются места для публики, которую пускают и на балкон; входить и выходить зрители могут беспрепятственно.
Секретарь суда огласил обвинения, предъявленные Гарри Штейну: содомия, изнасилование, непристойное посягательство и хранение наркотика каннабис.
— Гарри Штейн, — оторвав наконец глаза от бумаг, проговорил он, — вы признаете себя виновным или нет?
— Нет, не признаю.
Джейкобу Хершу было предъявлено обвинение в пособничестве и непресечении содомии, в непристойном посягательстве, хотя и менее злостном, и тоже в хранении наркотика каннабис. Он также виновным себя не признал.
— Да будет мне позволено доложить Вашей Милости и членам жюри присяжных, — тоном ворчливого папаши произнес традиционную первую фразу обвинительной речи мистер Паунд, — что в деле имеется письмо и несколько страниц киносценария, с которыми, мне кажется, я должен ознакомить суд, так как буду на них ссылаться в своей вступительной речи.
Господин судья Бийл это ему позволил, и он передал экземпляры страниц сценария «Храбрых Бриттов» присяжным, а затем зачитал вслух.
После чего Перегрин Паунд вкратце описал, как именно Штейн познакомился в кофейном баре «За сценой», что на Финчли-роуд, с Ингрид Лёбнер, девушкой-иностранкой, работающей помощницей по хозяйству (так называемой «au pair girl») и, применив обман, уговорил ее отправиться с ним вместе в дом Херша, расположенный в наиболее престижной части Хэмпстеда и представляющий собой коттедж из девяти комнат с огороженным двором и садом.
— Обещая девушке, что «с глупостями лезть не будет», Штейн даже уверял ее, будто в доме будет присутствовать его супруга. С самого начала он усыпил бдительность потерпевшей тем, что представился признанным кинорежиссером Хершем, для вящей убедительности показав ей вырезки из газет.
Тут мистер Паунд, извинившись, сказал, что вынужден несколько отвлечься.
— Хотелось бы обратить внимание уважаемых присяжных на то, что «au pair» это не совсем то же, что простая местная прислуга. Обычно это вполне благовоспитанная девушка из респектабельной семьи среднего достатка, приехавшая в нашу страну изучать язык. Для сокращения расходов она живет в какой-нибудь семье, оказывая помощь хозяйке, которая содержит ее в доме как родную. Кавалерственная дама Джоан Викерс, избранная в парламент от Консервативной партии по округу Давенпорт и уже много лет являющаяся… — мистер Паунд слегка замешкался, — …являющаяся настоящей Жанной д’Арк всех au pair, как раз давеча говорила об опасностях, подстерегающих на чужбине наивную, неопытную и оторванную от родного дома барышню.
Мистер Паунд приостановился, чтобы оглядеть присяжных поверх бифокальных очков.
— Когда они с мисс Лёбнер вошли, Штейновой супруги (в кавычках), естественно, дома не было, однако он заверил девушку в том, что та вскоре к ним присоединится. А пока предложил коктейль и то, что она поначалу приняла за сигарету, но на самом деле это был наркотик. Он показал ей сценарий, отдельные листы которого я вам зачитывал. Девушка воспротивилась, говоря, что не может произносить слова роли, которая потребует от нее предстать в одном лифчике, поясе с чулками и сапожках. Штейн уговаривал. Читайте так, раздеваться не обязательно, — сказал он.
Однако твердость мисс Лёбнер, — продолжал объяснять мистер Паунд, — оказалась подорвана алкоголем и наркотиком, так что вскоре она уже читала Штейну роль, одетая лишь в трусики и лифчик.
Но даже и при этом, — сказал мистер Паунд, — она бы не пошла ни на что большее и, когда он стал физически ее домогаться, оказала сопротивление. Пригрозила, что будет звать на помощь. Тогда он поставил на проигрыватель пластинку Фрэнка Заппы «Под пьяным соусом» и включил звук на полную громкость. Выражение лица Штейна стало зловещим. В руках появился жокейский хлыст. Он предупредил мисс Лёбнер, что, если отхлестать ее мокрым полотенцем, следов на теле не останется. Вдруг выяснилось, что ее одежду он спрятал. Но и тогда, несмотря на испуг и воздействие наркотика, она продолжала отвергать попытки Штейна совершить с нею половое сношение. Она сопротивлялась так, как только могла в создавшихся обстоятельствах, что полностью подтверждено ее медицинским освидетельствованием. Добившись желаемого, Штейн, казалось бы, успокоился. Она надеялась, что он уснет и она сможет отыскать одежду и сбежать. Но тут, к вящему ее ужасу — вообразите! — является Херш, и прерванные было игрища принимают еще более неприятный оборот.
Игрища эти мистер Паунд живописал во всей красе, обратив внимание присяжных на тот факт, что человек, который держит дома седло и хлыст, наездником никогда не был. Он сообщил, что Херш, схватив мисс Лёбнер за волосы, насильно втиснул эрегированный пенис ей в рот и туда эякулировал. А Штейн, которого присутствие Херша еще больше распалило, подвигнутый к дальнейшей эскалации извращений, проник в тело мисс Лёбнер per anum[353].
Преступниками этих мерзавцев делает уже одно то, — заключил он, на миг дав волю чувствам, — что мисс Лёбнер заставили сопровождать Штейна в чей-то дом, соблазнив участием в кинопроизводстве. Какая наивность, скажете вы. Да, но такая мечта характерна для многих привлекательных молодых девушек. И уж конечно, мисс Лёбнер шла в этот дом со Штейном не затем, чтобы ее избили, изнасиловали, а напоследок, грубо говоря, употребили через зад, да еще и держали потом взаперти до пяти утра. И кто? Двое мужчин, каждый из которых по возрасту годится ей чуть ли не в отцы.
Первым свидетелем, приглашенным стороной обвинения, был милейший, дружелюбнейший инспектор Мэллори.
— Что, — спросил его мистер Генри Фрейзер, — сказал вам Херш, когда вы сообщили, что ему предъявят обвинение в пособничестве и не-пресечении содомии?
— Он сказал: «И сколько мне за это светит?» Я ответил, что от семи до пожизненного.
— А на это он что сказал?
— Сказал, что раньше ему казалось, будто британский закон превыше всего ставит материальные ценности, и в подтверждение привел великое ограбление поезда[354], за которое участники получили по тридцать лет, но теперь, дескать, выходит так, что на всем этом острове нет ценности дороже, чем задница мисс Лёбнер.
Мало-помалу дошли до второго визита Мэллори в дом Херша.
— Вы тему каннабиса в разговоре затрагивали? — задал вопрос мистер Фрейзер.
— Да.
— И что он сказал?
— Я спросил его, не считает ли он, что этот наркотик следует легализовать. Он сказал да, и чем скорее, тем лучше.
В ходе перекрестного допроса мистер Харрингтон спросил:
— Вы нашли в доме Херша наркотик?
— Нашли — в окурках трех самокруток.
— В ходе обыска находили ли вы каннабис либо следы этого наркотика в ящиках стола, на полках или где-нибудь еще?
— Нет.
— Не может ли быть так, что найденные вами окурки остались от сигарет, принесенных в дом самой мисс Лёбнер?
— Да. Такое возможно.
Затем сэр Лайонель Уоткинс с нарочито скучающим видом задал вопрос, который должен был сразить инспектора Мэллори наповал.
— Вы сказали, Херш говорит, что каннабис следовало бы легализовать. И чем скорее, тем лучше. А не могло ли быть так, что вы сами навели Херша на такой ответ, предположив, что травку в близком будущем легализуют?
— Нет. Я этого не делал.
— А вот скажите: когда вы пришли к Хершу в дом с фотографом, вы предупредили его должным образом? Довели до его сведения, что все им сказанное может быть обращено против него, или же скомкали предупреждение, сказав, — тут он насмешливо изобразил свойскую манеру инспектора, — что это мы, дескать, так, между нами, приятель, неофициально, а?
— Я предупредил его.
Сэр Лайонель улыбнулся. Кивнул.
— Ну что же. Пока все, инспектор.
Вызванный на свидетельское место сержант Хор подтвердил показания Мэллори и рассказал о препирательствах, которые ему пришлось вести со Штейном в дверях. Полицейский врач показал, что мисс Лёбнер, когда ее привели к нему, была в состоянии психологического шока и что при осмотре обнаружены следы как вагинальной, так и анальной пенетрации. Введение пениса в задний проход облегчали с помощью вазелина.
— Как вы думаете, было ли проникновение насильственным?
— Могло быть и насильственным. Но не обязательно.
— Потрудитесь, пожалуйста, объяснить.
— Задний проход узок. Если член большой и эрегирован сильно, это само по себе способно вызвать разрывы тканей.
В ходе перекрестного допроса мистер Харрингтон спросил:
— Были ли на теле мисс Лёбнер кровоподтеки, царапины, какие-то иные свидетельства борьбы?
— Таких повреждений заднего прохода, которые давали бы возможность считать насильственный характер проникновения несомненно установленным, не обнаружено. С другой стороны, на ее предплечьях имелись явные гематомы. На внутренней стороне бедра у самого входа в вагину было тоже что-то вроде небольшого синячка. На левой ягодице обнаружен еще один синячок.
— Не мог ли последний из упомянутых синяков появиться в результате любовного шлепка?
— Мог, но тогда этот шлепок должен был быть довольно сильным.
— Вы сказали, она была в состоянии шока?
— Да.
— А вам не кажется, что это естественно? Особенно если учесть, что ее, обкурившуюся наркотиком, в полшестого утра задержала полиция, которая и настояла на скрупулезном осмотре ее интимных мест?
— Возможно.
Следующей к присяге привели в качестве свидетельницы Старуху Сохлую Пиздень.
— Что необычного происходило в доме Херша в ночь с двенадцатого на тринадцатое июня? Может быть, вы что-то слышали или видели?
— Я слышала громкую музыку.
— «Под пьяным соусом» Фрэнка Залпы?
— Это я не знаю, — сказал она и поджала губы.
Пригласили и хозяина дома, в котором жила Ингрид Лёбнер, — некоего мистера Унгермана; он заверил суд в том, что она вполне благонамеренная особа. Однако в ходе перекрестного допроса сэр Лайонель сразу же установил, что хотя мисс Лёбнер живет у Унгерманов всего три месяца, уже как минимум четыре раза она не ночевала дома.
— Можете ли вы сказать, курит ли она каннабис?
— Нет. Во всяком случае, насколько мне известно, нет.
— Вы сказали, что иногда она что-то жжет в своей комнате вечерами. Что бы это могло быть?
— Не знаю. Благовония, возможно.
— А вы не знали, что так часто делают, чтобы скрыть запах каннабиса?
Мистер Паунд заявил решительный протест, и сэр Лайонель снял вопрос.
Затем к присяге привели Ингрид.
— Ваш отец участвовал в войне, мисс Лёбнер?
— На войне он был медиком. На русском фронте. Там был ужасно. Они не имел зимней одежды.
— Был ли он членом нацистской партии?
— Никогда, — с жаром отвергла она такую возможность. — Я Хершу говорил. Мой отец не одобрял.
— Вы говорили Хершу, что ваш отец дантист?
— Да.
— Что он на это сказал?
— Херш сказал, что в таком случае на войне он, видимо, имел работы доволно много — с евреев золотые коронки драть.
Ингрид рассказала, как Штейн заманил ее в дом Херша, где принялся пичкать алкоголем и наркотиком. Появление в доме настоящего хозяина было, по ее признанию, полной неожиданностью, и она немедленно обратилась к нему за помощью.
— Что сказал Штейн, когда вошел хозяин?
— Он сказал: «Хочешь ее? Она насчет этого сама не своя. Сделает все, что душе угодно».
— А что сказали на это вы?
— Ничего. Я была очень испугана.
— И что произошло потом?
— Штейн послал меня к Хершу в спальню с бренди на поднос.
— В чем вы были одеты?
— Ни в чем. Я была голый.
— Но это как-то не совсем обычно, вы не находите?
— Но ведь одежду он куда-то спрятал! — обиделась Ингрид.
— Кто?
— Штейн. Он принуждал меня. Он меня запугал: говорил, Херш очень крутой и сердитый. Сказал, он может сделать из меня звезду, но ему для этого надо сперва посмотреть, на что я похожа голый. Сказал, чтобы я старалась ему угодить, иначе они оба будут очень злой.
— И вы угождали?
— Но он же спрятал одежду! — воскликнула она. — А в руке держал мокрый полотенце. И уже один раз меня им ударил. Пугал, что следов не останется. Я подумала, надо выиграть время. Не хотела, чтобы он снова делал мне больно.
— Что произошло, когда вы вошли в комнату Херша?
— Он был в белье, прикинь? В трусах — белых с синими разводами. Я спросила, зачем ему винтовка.
— А откуда вы узнали про винтовку?
— Меня Штейн водил смотреть на нее. И сказал, что в этом доме лучше быть послушный девочка.
— Понятно. И что Херш сказал, когда вы спросили его, зачем ему винтовка?
— Говорит, может быть, собирется стрелять немцев. Может, меня. Кто знает.
— Что было потом?
— Он схватил меня за волосы и повалил на кровать. А потом заставил меня взять в рот.
— Принудил вас к феллацио?
— Это значит сосать хрен, да?
Мистер Паунд неодобрительно покачал головой.
— Да, — после паузы сказал он.
— Да. Так правилно.
— Вы сопротивлялись?
— Я слишком боялась.
— Вы кричали? Звали на помощь?
— У меня же рот был занят, прикинь? Как кричать?
— Что потом?
— Я говорю ему, вы что это, прикинь? Ведете себя, будто я вам животное! Он сказал, это потому, что я добрый. Твой отец еще не так бы моего отца разуделал, если бы тот ему на войне подвернулся.
— А потом что было?
— Он стал пьяный. Захотел спать. Уходи, говорит. Иди вниз. И делай все, что хочет Гарри, а то смотри у меня.
Подошло время перерыва.
— Господа присяжные, — сказал господин судья Бийл, — едва ли я должен особо предупреждать вас, что вам запрещено с кем-либо обсуждать дело, а если кто попытается с вами о нем заговорить, сообщайте мне.
В пятницу в 10:30 Ингрид продолжила показания. Сообщила суду о седле и о том, для чего Гарри его приспособил. Сказала, что он вознамерился ее фотографировать и грозил физическим воздействием.
— Что Штейн делал потом?
— Заставил меня лечь на ковер лицом вниз.
— А потом что произошло?
— Запихнул свой хрен мне в задницу.
— Вы сопротивлялись?
— Ну естественно. Болно же! Но у него в руке был конский хлыст.
— Как долго это продолжалось?
— Не помню. Мне кажется, я отключилась.
— Когда вновь появился Херш?
— В четыре утра. Это я помню.
— Он был одет?
— Он был в халате, но у него все было видно.
— Что было видно?
— Его халат был без пояс. И распахнут.
— Что он делал?
— Он очень сердился на Штейна.
— За что?
— Не за то, что тот сделал со мной. Это ему было похер. — Она спохватилась, вспыхнула. — Извините меня, Ваша Милость.
Махнув рукой, господин судья Бийл дал знак продолжать.
— Свидетельница не вполне владеет английским, — пояснил мистер Паунд. — Она не понимает, какие слова считаются нецензурными.
— Продолжайте, пожалуйста, мистер Паунд.
— Да, Ваша Милость. Так на что же он тогда сердился?
— Из-за винтовки. И седла. Особенно из-за седла. Он утащил Штейна в другую комнату и там кричал на него, а когда Штейн вышел, отложил седло в сторону.
— А не было ли у вас возможности воспользоваться их отсутствием и сбежать?
— Так ведь одежды нет! И у них ружье. И конский хлыст. Да и вернулись они довольно быстро, прикинь, да?
— А что было потом?
Сперва Херш был очень добрым. Налил всем выпить. Сел со мной рядом и ни к чему меня особо-то не принуждал, взял только за руку и положил ее… ну, туда, на этот его…
— Пенис?
— Да. Так правилно. Но потом его настроение изменилось. Спросил, состояла ли я в гитлерюгенде. Я сказала, что слишком поздно родилась. Он стал смеяться. А я сказала, что мой старший брат состоял в гитлерюгенде — ну и что, это же такая чепуха! А мой папа на войне спасал евреев. От этого он стал смеяться еще больше. Подумал, будто это ошен смешно.
— Вы знали, что Херш еврей?
— Да мне-то что. Какая разница?
— Отвечайте да или нет, пожалуйста.
— Нет, я не знала. Но потом он мне сказал. А я говорю, вы такой симпатичный, кто мог подумать? Ну, он на вид-то непохож, прикинь? Может быть, мой английский был не правилно. Но он лицом стал ошен, ошен сердит.
— И что произошло потом?
— Он толкал меня. Пихал. Схватил меня ошен, ошен сильно вот здесь. — Она показала на запястье. — И велел Штейну дать мне одежду и выставить вон.
— Что потом?
— Штейну это не понравилось. Он сказал, лучше держать меня в плен до утра. Я имею следы, сказал он. Херш тогда и его пихнул. И закричал: не хочу больше видеть ее здесь ни секунды.
После чего Штейн, несмотря на все свои опасения, все же выдал Ингрид ее одежду, и она убежала.
— Это был коссмаар! — сказала она и разрыдалась.
Получив доступ к потерпевшей, сэр Лайонель Уоткинс действовал быстро и безжалостно. Первым делом выяснил, что мисс Лёбнер, оказывается, и раньше частенько засиживалась в кафе «За сценой» до полуночи. Прижав ее к ногтю тем фактом, что полиция обнаружила некоторое количество наркотика у нее в комнате, он спросил, как же это возможно, чтобы она не распознала его сразу, как только ей предложили.
— А в комнате это был не мое, — открестилась она. — Одна сокурсница у меня его оставил со своим спальный мешок. Я даже и не знал, что там.
Уоткинс также добился от нее признания в том, что она не сама пошла в полицейский участок, а была задержана и доставлена в патрульной машине. Затем, внезапно:
— Мисс Лёбнер, вы контрацептивные таблетки принимаете?
Она бросила взгляд на мистера Паунда.
— Мисс Лёбнер, вы поняли мой вопрос?
— Да.
— Да, вы поняли мой вопрос или да, вы принимаете таблетки?
— Да. Таблетки. Я их принимаю.
— Вечер двенадцатого июня благодаря таблеткам был безопасен с точки зрения зачатия? Или нет?
— Н-не помню.
— Странно. Казалось бы, это должно было быть для вас крайне важно.
Далее сэр Лайонель спросил, почему Ингрид не швырнула в окно какую-нибудь вазу и не кричала, не звала на помощь? А могла ведь и стулом в окно. Почему, оставшись одна в гостиной, не выбежала на улицу голой, чтобы не подвергнуться столь грубому надругательству?
Видно было, что этим он ее потряс, и свидетельское место девушка покинула, прижимая к глазам платок. Затем слово взял мистер Коукс, защитник Штейна. Мистер Коукс выразил сочувствие членам жюри присяжных, приличным людям, которые и так уже наслушались всяких непристойностей, особенно в показаниях потерпевшей мисс Лёбнер, чье неуверенное владение литературным английским значительно уступает ее же знанию словесного ряда, который принято ассоциировать со сточной канавой.
— Обвинение, предъявленное Штейну, — сказал он, — всегда было из тех, которыми легко бросаться, но чрезвычайно трудно доказывать. Так, например, в противоположность тому, что вы только что услышали от моего ученого собрата, факт изнасилования вовсе не подтверждается медицинским освидетельствованием потерпевшей. Вас пытаются уверить в том, что над мисс Лёбнер надругались, изнасиловали и держали в неволе, но с точки зрения защиты больше похоже на то, что она радостно и добровольно пошла со Штейном в дом Херша, а затем…
Мысли Джейка куда-то разбежались, и он витал в облаках, пока у барьера не встал сэр Лайонель Уоткинс, худощавый мужчина с суровым лицом, и не начал речь, посвященную уже его защите. Главный упор сэр Лайонель делал на том, что мисс Лёбнер все выдумала, и у нее на это были причины. Если конкретно, таких причин у нее было две.
— Когда она попалась полицейскому патрулю, она была в состоянии опьянения наркотиком, что является проступком, за который ее могли немедленно выслать из страны. Кроме того, она опасалась гнева своего работодателя, поскольку это был, как мы только что слышали, не первый и даже не второй случай, когда она не ночевала дома, и работодатель уже предупреждал ее, что больше прощать не намерен, если она, конечно, не представит доказательств того, что ее отсутствие было вызвано причиной вполне уважительной.
Речь сэра Лайонеля лилась плавно, ее периоды вздымались, как волны прилива, которые, обдав присяжных брызгами ярости, отступают и неизбежно накатывают вновь правильно выверенными крещендо.
— Когда ее выгоняли из дома Херша, последними ее словами были: «Я тебя урою, мерзкий козел! Вот увидишь, урою!»
Сэр Лайонель сел на место, и Джейк взбодрился, надежда окрепла; он уже так и купался в жалостливых взглядах присяжных. Этот оболганный Джейкоб Херш — он же наш: буржуа, свой брат колонизатор (пусть даже и еврей), а на него ополчилась какая-то гнусная девка-иностранка. Чутье подсказывало Джейку: пронесло, пронесло, но тут на свидетельское место вызвали Гарри, и, когда он еще только шел по проходу — землистое лицо, застывшая презрительная усмешка, — Джейк ощутил перемену ветра. Сам все понял и, ужаснувшись, аж передернулся.
Мистер Коукс ободряюще улыбался, пытаясь добиться от Гарри естественности и спокойствия.
— Не могли бы вы рассказать нам в точности, что произошло, когда вы зашли в бар «За сценой» на Финчли-роуд?
— Я сел за столик, заказал кофе, и тут ко мне подсела эта пташка, в умат обкуренная. Ну, поболтали.
— А вы девушке сообщили, — многозначительно посмотрев на Гарри, продолжил мистер Коукс, — кто вы такой?
— Я ей не говорил, что я Джейкоб Херш. Ко мне и так женщины липнут. Мне их особо-то убалтывать не надо. Или писать им письма на бланках палаты общин, как Джон Профьюмо[355].
У господина судьи Бийла даже руки затряслись. Обвинитель мистер Паунд выпрямился в кресле и просиял; наклонился к своему помощнику, прошептал что-то ему на ухо, тот улыбнулся, прикрыв рот ладонью.
— Мой вопрос был…
— Я сказал ей, что моя фамилия Штейн.
— И что было потом?
— Да не предлагал я ей никаких ролей! Я пригласил ее домой выпить и повеселиться.
— И что было потом?
— Она от нетерпения аж подсигивала, вот что было потом.
— Но она ведь действительно читала вслух сценарий, который — вот… и нам предоставлен. Или нет?
— Ну, мы там играли… Разные были игры.
Применение силы Гарри отрицал напрочь. По его словам, мисс Лёбнер участвовала в их развлечениях с большим энтузиазмом. Конским хлыстом он ее ни разу не ударил.
— Хотя она и просила меня. Вы ж понимаете, из них многие это любят. Особенно те, что, кровь из носу, рвутся непременно в кинозвезды. Ну очень это их возбуждает!
— Я буду вам премного благодарен, если вы прекратите в своих ответах отклоняться от того, что именно происходило между вами в доме.
Нет, никакой содомии он мисс Лёбнер не подвергал.
— Ну да, она просила меня, умоляла, но я не по этой части. Я же не принадлежу к так называемому обществу. Это они там в своем Итоне все как один младшеклассников в попу употребляют.
Встал мистер Паунд, пришла его очередь допрашивать Гарри. Ух, в куски бы порвал, да как-то даже и жалко! Первым делом он обратил внимание обвиняемого на то, что медицинское освидетельствование показало наличие следов спермы в заднем проходе мисс Лёбнер.
— Ну, понимаете, уж так она меня просила, так умоляла, что я попробовал. Потыркался, потыркался, но нет, так и не смог себя заставить.
— Ага, значит, вы не предавались с мисс Лёбнер содомии, несмотря на то что она настойчиво вас об этом просила?
— Не-ет! А я и доказать могу: когда Джейк — ну, в смысле Херш — опять сошел к нам вниз, она ему и говорит: «Эй ты! Твой приятель говорит, что черный ход не по его части, а ты что скажешь?»
Джейк, чья очередь давать показания была следующей, готов был провалиться сквозь землю.
— А скажите, пожалуйста, — спросил затем мистер Паунд, — при каких обстоятельствах мисс Лёбнер от вас ушла?
— Да я же говорю, мы хотели по-нормальному, потом еще и завтраком бы накормили, но она вдруг в панику вдарилась. Сказала, что ей позарез надо домой — пока хозяин не проснулся, а с нами она бы встретилась завтра вечером.
— То есть она выразила желание вернуться?
— А то! Сказала, что такого оттяга у нее не было с того раза, как она кувыркалась с парочкой цветных из Вест-Индии.
Что ж, пришлось мистеру Паунду перейти к вопросу о перепалке с сержантом Хором.
— Скажите, верно ли, что, когда сержант Хор пришел вас задерживать, вы встретили его словами: «Отвали, казак! Только попробуй мне, подсунь какого-нибудь тухлого сена!» Он это верно передал?
— Ну, что было, то было, чего уж там. Против истины не попрешь.
— Значит, так вы ему и сказали?
— Да. Кое-какой опыт имеется, вы ж понимаете!
Мистер Паунд нерешительно заозирался. Повернулся к господину судье Бийлу за наставлением и руководством. Вскочив с места, вмешался и мистер Коукс:
— Ваша Милость, разрешите мне переговорить с клиентом? Я его предостерегал уже, но…
— А что с присяжными? Из зала удалять будем? Или не надо?
— Не надо, Ваша Милость.
— Хотите переговорить с ним здесь или внизу?
— Здесь, Ваша Милость.
Подойдя, мистер Коукс вполголоса напомнил Гарри, что о его предыдущем тюремном опыте присяжные не знают; о нем их известят только после того, как они вынесут свой вердикт, да и то лишь в том случае, если его признают виновным.
Возобновив допрос со стороны обвинения, мистер Паунд спросил:
— Вы сказали, что играли с мисс Лёбнер в какие-то игры. То, что вы спрятали ее одежду, тоже было такой игрой?
— Нет. Этого вообще не было. Ей никто не мешал уйти в любой момент.
С независимым видом покидая свидетельское место, Гарри и пары шагов еще не сделал, а Джейка уже как обварило отвращением, хлынувшим из ложи присяжных.
Когда его самого призвали давать показания, он был в отчаянии, чувствовал, что все рухнуло и спасения нет.
— Скажите, ваш приезд домой, — спросил его сэр Лайонель, — в тот день, двенадцатого июня, был запланирован?
— Нет. Я должен был прилететь на следующий день.
— Откуда прибыли?
— Из Монреаля.
— Что вы там делали?
— Ездил по семейным делам.
На уточняющие вопросы Джейк ответил, что присутствовал там на похоронах отца и, как требует того религиозная традиция, неделю вместе с родственниками соблюдал траур.
— Что произошло, когда вы вошли в дом?
— Боюсь, что я застал Штейна и мисс Лёбнер врасплох.
— Было ли по мисс Лёбнер видно, что она действует по принуждению?
— Нет. Определенно нет.
— В чем она была одета?
— Она была голая.
— Это ее смущало?
— Нисколько.
— Штейн предлагал вам эту девушку? Сказал ли он: «Хочешь ее? Она насчет этого сама не своя. Сделает все, что душе угодно».
— Нет. Не говорил.
— А потом что было?
— Она пришла ко мне в спальню с коньяком на подносе.
— По вашей просьбе?
— Нет, по собственному желанию.
— Вы с ней говорили о винтовке?
— Нет. Не говорил.
— Что происходило между вами в спальне?
— Она затеяла ласкать мой пенис, но я сказал ей, что устал. Что хочу принять ванну. И отослал ее вниз.
Далее Джейк сообщил, что, когда он проснулся и спустился в гостиную, было четыре утра.
— А почему проснулись? Услышали какие-то неприятные звуки внизу?
— Проснулся от головной боли. А снизу слышался смех. Стоны удовольствия. Больше ничего.
Сцену ссоры с Гарри из-за винтовки и седла с ходу проскочили. Про халат Джейк сказал, что не помнит, был он подпоясан или нет.
— Вы были все еще под впечатлением похорон?
— Совершенно верно.
— Как встретила вас внизу мисс Лёбнер?
Джейк помешкал. Закусил губу.
— Она крикнула: «Эй ты! Твой приятель говорит, черный ход не по его части, а ты что скажешь?»
— И что же вы ответили?
— Ответил какой-то дурацкой шуткой. Не помню.
— Что было потом?
— Сел на диван. Она села рядом.
— А потом что?
— Она принялась поглаживать мой пенис.
— А вы что делали?
— Ничего.
Повисла пауза.
— Я был усталый. Это расслабляло.
— Что произошло потом?
— Она перевозбудилась. Я остановил ее.
— А потом что?
— Она обиделась. Мы поссорились. Вдруг я почувствовал, что сыт всем этим по горло. И я настоял на том, чтобы она ушла.
— И что, вы грубо с ней обошлись?
— Вовсе не грубо. Ну, может, пихнул ее…
— И что было после этого?
— После этого она сказала: «Я тебя урою, мерзкий козел».
Рабочий день подошел к концу, и мистер Паунд отложил перекрестный допрос Херша на утро понедельника.
С тех самых пор, как они вместе предстали перед магистратским судом, Гарри начал отслаиваться и шелушиться, а теперь и вовсе облез. Кожи совсем не стало, сплошной оголенный нерв. Весь долгий мучительный уик-энд, почти совсем бессонный, Джейк то уходил, то снова возвращался в квартиру Руфи, где обосновался Гарри.
— Ты смотрел на меня так, будто я говна кусок, — сетовал Гарри. — Закончив давать показания, я на тебя, дружочек ты мой, глянул. Гляжу и по глазам вижу: ты такой же, как и все они. Гарри Штейн для вас все равно что кусок говна.
У Руфи, чьи ресурсы, изначально не бог весь какие великие, давно исчерпались, глаза постоянно были на мокром месте.
— Имейте в виду: если этого человека посадят за решетку, я буду ходить в черном весь срок, до самого дня, когда выпустят. И каждое утро вся в черном я буду стоять у вас под дверью.
— Так, может, меня и дома-то не будет, Руфь! Нас же, не ровен час, обоих в тюрьму упрячут.
— Я уже побыла раз вдовой. Не хочу больше! За что мне? Бог не допустит, чтобы я стала вдовой второй раз!
Гарри разваливался на части. Лицом стал темен, на губе выскочил герпес. То принимался поносить Джейка, угрожать ему, то вдруг успокаивался, являя светлую сторону натуры, страдающую душу. Настроение его ежеминутно менялось, и утомляло это несказанно.
— Если меня признают виновным, а тебя нет, я откажусь от теперешних показаний. Скажу, что это ты заставил меня трахнуть ее в зад.
— Но это же будет ложь, — устало отозвался Джейк.
— Ой, вы его только послушайте! Смотри какой! А ты там не врал?
— Врал. Как партизан на допросе.
— Ты что, с ней вовсе кайфа не словил?
— Словил, Гарри. Словил.
Тут Гарри вдруг заговорил фальцетом:
— Она и впрямь вам положила руку на хер?? Ой, положила, положила, Ваше Гнуснейшество! Это ведь так расслабляет! — Расслабляет это, да? Очень это расслабляет?
— Гарри, умоляю, заткнись.
Но когда Джейк приуныл окончательно, Гарри без всякой злобы вдруг говорит:
— Ладно тебе, кореш, не переживай. Для тебя завтра все это кончится.
— С чего ты взял?
— В конечном счете значение в этой стране имеет только класс, каста, социальный уровень. А черного сословия в нашем деле двое. Я да Ингрид. — Он потрепал Джейка по волосам. — Кстати, помнишь тот день, когда мы в «Белом слоне» пили шампанское?
— Помню. Неплохо посидели тогда.
— Чтобы отпраздновать рождение сына, из всех твоих многочисленных знакомых ты выбрал меня.
— Да, — солгал Джейк.
— Ты еще говорил, что не все сволочи. Что ж, вижу: ты не сволочь. Ведешь себя как друг. Обещал — сделал.
И вновь без всякого перехода его внезапно обуяло негодование.
— Вот, взять хотя бы синяки у ней на руке, из-за которых нас теперь посадят. Я их ей, что ли, насажал? Нет. Это твоя работа. Если бы ты вдруг ни с того ни с сего не взбрыкнул, кто бы нас в какой суд поволок?!
Спать в ночь на понедельник Джейк даже не пытался. Лежал в постели рядом с Нэнси и курил одну за другой, цедя коньяк.
— Моя жизнь состоит словно из каких-то отдельных сегментов, — рассуждал он вслух. — Когда я в Монреале, даже не верится, что есть какая-то еще другая жизнь здесь, с тобой и с детьми. В суде мне кажется, что я так и родился на скамье подсудимых, и ни прежде никакой жизни не было, ни после ничего не будет. А когда лежу здесь с тобой, не могу себе представить, что завтра придется утром опять плестись в суд.
Который как раз завтра, не ровен час, вынесет обвинительный приговор.
— Они с меня там прямо шкуру живьем сдирают, Нэнси. Такое унижение! Еще никогда я не бывал так основательно унижен.
— Завтра к вечеру все это кончится.
— А ложь! Господи, боже ты мой, мы же там все лжем! Адвокаты, Гарри, я, Ингрид эта самая… Все непрерывно лгут! Это что-то невероятное.
Утром он отвел Сэмми в школу; пока шли, все время держал за руку. Вернулся в дом за Молли, повел в школу ее, по дороге рассказывая про рабби Акиву. Сегодня он опять не разрешил Нэнси присутствовать на суде. Запретил строго-настрого.
Ормсби-Флетчер приехал на своем черном «хамбере».
— К обеду жду, — сказала на прощанье Нэнси.
— Да-да. Конечно. Увидимся, дорогая.
Дверь приоткрылась, выскочила голова миссис Херш.
— Удачи тебе, кецеле!
— Спасибо, мам.
В 10:30 Джейк вновь принес присягу, и мистер Паунд начал перекрестный допрос.
Который шел, в сущности, хорошо, но Джейку все вдруг обрыдло. Возмущение и нервы его доконали.
— Вы рассказали нам, — говорил в это время мистер Паунд, — что, когда мисс Лёбнер принялась поглаживать ваш пенис, вы находили это… — он сделал паузу, пытаясь вспомнить правильное слово, — находили это… расслабляющим. Так?
— Да.
— Но вероятно, феллацио вас бы еще лучше… расслабило, нет?
— Я не позволил ей взять в рот.
— Вопрос был задан не так.
— Если мы в данный момент, — закипая, ответил Джейк, — обсуждаем сексуальные удовольствия сами по себе, абстрактно — что ж, могу сказать, что я не считаю феллацио чем-то предосудительным.
— Но не с мисс Лёбнер?
— Нет.
— Потому что она немка?
— Потому что она меня не привлекает.
— Вы курили когда-нибудь каннабис?
— Предпочитаю джин. У моего поколения чисто алкогольные традиции. Наверное, дело в этом… вкусы разные… времена…
— Но вы когда-нибудь его курили?
— Да, курил, — резко бросил Джейк. — Один или два раза.
Суммируя в заключительной речи доводы обвинения, мистер Паунд пышным и цветистым слогом заклеймил общество вседозволенности, обращая внимание присяжных на то, что подобные инциденты подрывают важнейшие устои той системы, в которой все они воспитаны, и она непременно рухнет, если не найдется кто-то достаточно здравый, чтобы положить конец всем этим безобразиям. О показаниях Гарри и его манере держаться отозвался с издевкой.
— Дело Штейна, — сказал он, — настолько просто и очевидно, что даже жалость берет. Мелкий разочарованный неудачник, явно непривлекательный для женщин, он силой навязывал свои грубые знаки внимания беззащитной невинной девушке. Лгал ей, усыплял ее бдительность наркотиком, а под конец даже и бил. Штейн лишен преимуществ хорошего образования и воспитания. Рискну предсказать, что мой ученый коллега скоро на этом и сыграет, и даже споет вам этакую пошленькую песенку о несчастном детстве его подзащитного, как будто оно дает кому-то право на сексуальное насилие и содомию. Защита попытается заставить членов жюри присяжных поголовно прослезиться, им расскажут о том, что, хотя государство через систему здравоохранения и снабдило его бесплатными очками, оно почему-то отказалось предоставить ему в пользование женщин. — Тут мистер Паунд выразил свое сочувствие и сожаление, поцокав языком. Покачал головой. — А время между тем на дворе такое, и такой оно дышит вседозволенностью, что куда наш обвиняемый ни сунься — в кино ли на фильм для взрослых или в Сохо в стрип-клуб, всё и везде говорит ему: бери! — все для тебя, на все имеешь право. Даже на то, чтобы потворствовать своим самым пакостным пристрастиям. Как вы знаете, Штейн ведь у нас еще и фотограф. А любимая тема его фотографий — это вам также известно — голые девки в цепях. Именно девки, ибо кого еще найдешь в убогих подвальчиках Сохо на роль подобного сорта натурщиц? Как тип, Штейн хорошо знаком мне, я таких навидался. Это сброд. Плавучий сор, который носится по сточным водам общества потребления. Кружит по улочкам Сохо, по темным переулкам этого когда-то великого города, и даже в непосредственной близи к колонне Нельсона вы найдете толпы таких вот Штейнов, бесцельно слоняющихся у киосков с порнографией и витрин стрип-клубов…
Переключившись на Джейка, мистер Паунд напомнил присяжным о его богатстве и еще раз привлек их внимание к седлу и конскому хлысту, которые он держит у себя, при этом не будучи наездником.
— Вы, господа присяжные, будучи людьми здравыми и практичными, обязательно спросите себя: зачем? Для какой такой надобности?
То есть Херш, по его мнению, в этой гнусной истории как раз главный злодей и есть, ибо:
— …кому больше дано — ведь понятно же! — с того больше и спрашивается. В данном случае мы имеем дело уже не с озлобленным мелким человечком (каков Штейн), обделенным долей материального пирога на празднестве жизни. Нет, он хорошо образован, успешен, талантлив, женат, имеет троих детей. Живет в красоте и роскоши и приятельствует с кинозвездами, посещая с ними лучшие рестораны Мэйфера. Давайте вот еще под каким углом взглянем. В избранной им области он настолько успешен, что его годовой заработок выше, чем у премьер-министра нашей страны. Но зачем же, зачем — должно быть, спрашиваете себя вы, — зачем человеку, казалось бы осыпанному всеми щедротами этого мира, ронять себя, опускаясь до подобных извращений? Уважаемые господа присяжные, позвольте я вам объясню. Мое предположение состоит в том, что этот чудовищно высокомерный и заносчивый человек, к тому же привыкший воплощать в условной реальности всяческие фантазии, на сей раз возжелал перенести в реальность приемы своей профессии, попытавшись манипулировать реальными людьми как режиссер, ставящий порнографические сцены собственного сочинения.
Преисполненный самодовольства, мистер Паунд одарил улыбкой сэра Лайонеля Уоткинса. Сэр Лайонель кивнул, отдавая должное на совесть выполненной работе.
Под конец мистер Паунд высказался в том смысле, что Херш, как те купающиеся в деньгах поп-звезды, что загораются и гаснут на небосклоне шоу-бизнеса еженощно, видимо, решил, что один закон существует для него, а другой для всякого быдла, каковым презрительным словечком ему подобные именуют простых богобоязненных граждан. Напомнил мистер Паунд еще раз и о медицинском освидетельствовании. Акт содомии все-таки был. Мисс Лёбнер, как бы ни была она очарована Штейном и каким бы расслабленным не сделался в ее руках Херш, наркотиком-то все ж таки была же одурманена! Изнасилована-то все ж таки была же! А значит, долг присяжных состоит в том, чтобы признать Штейна и Херша виновными в том, что им инкриминируется.
Встав на защиту Штейна, речистый мистер Уильям Коукс поблагодарил присяжных за внимание, заверив, что нисколько не сомневается в их очевидной проницательности. Но и просветил кое в чем.
— Вы здесь не для того, чтобы судить эротические вкусы Штейна. Делать художественные фотографии обнаженного женского тела, господа присяжные, это не преступление. Их печатают даже в цветном приложении к «Санди таймс»! Нравится нам это или нет, но румянец смущения, который когда-то окрашивал щеки молодых людей, едва они услышат слово «секс», давно ушел в прошлое.
Он объяснил им, что вовсе не обязательно одобрять действия Штейна, чтобы вынести решение о его невиновности. Он не участник конкурса на звание Мистера Обаяние. И не за нравственные качества он под суд попал. Неразборчивость в половых связях, сколь бы ни была она отвратительна присяжным (она и ему неприятна), сама по себе преступлением не является. Штейна обвиняют в содомии, изнасиловании, непристойном посягательстве и хранении наркотика, что чревато для него очень серьезными последствиями, если он будет признан виновным. Так что, если имеются разумные сомнения, виновным его признавать не следует.
— Уважаемые господа присяжные! Вас тут просили поверить, будто мисс Лёбнер насиловали, мучили и держали взаперти. Ну надо же, какой кошмар! И как же до такого ужаса дошло? С ней среди ночи познакомились в кафе, и она радостно пошла в дом Херша, ожидая подвергнуться… о нет, не приставаниям, ни боже мой!.. а кинопробам!
Следующим у барьера встал сэр Лайонель Уоткинс. Он начал с того, что тоже стал поучать присяжных.
— Господа присяжные! Этот уже и так несправедливо опозоренный человек попал на скамью подсудимых не за то, что владеет коттеджем в Хэмпстеде. Это было бы возможно, если бы он приобрел свой дом незаконно, но он заработал его собственным трудом и талантом. Точно так же он находится здесь не потому, что обедает в фешенебельных ресторанах или вращается в гламурном обществе. Он сюда попал всего лишь по невезению, на которое наложилась цепь непредвиденных случайностей. Не вернись он на день раньше из Канады, не нарвался бы на приятеля, развлекающегося в его доме с податливой особой. Что осложнилось еще и тем, что эта особа вызвала у него вполне понятное чувство отвращения, и в гневе он ее вышвырнул из дома. Не сделай он этого, она бы не написала заявления в полицию, из-за которого он и стоит теперь здесь перед нами, будучи невинной жертвой мстительных фантазий безнравственной девицы.
Далее сэр Лайонель сосредоточился на показаниях мисс Лёбнер, не оставляя от них камня на камне.
— Давайте вспомним, как эта стыдливая мимоза, эта невинная овечка в полон попала? — предложил он. — Ее что — насильно втиснули в машину и увезли? Напали и скрутили в темном переулке? Может быть, под конвоем к дому доставили? Нет. Она вышла из кафе со Штейном под ручку.
Он напомнил присяжным о свидетельстве Унгермана и о наркотике, который найден у нее в комнате. Еще раз подчеркнул, что против Херша нет улик, а посему обвинить его можно разве что в глупости, поэтому присяжным следует немедленно снять с него все обвинения.
Господин судья Бийл, пошуровав в бумажках, высказался в том смысле, что он сочувствует присяжным, которым пришлось, как он выразился, отыскивать иголку истины в нагромождении противоречивых свидетельств, подобном стогу сена. Кто-то здесь, очевидно, лицемерит. Но кто?
— Вынося решение по этому вопросу, я бы просил вас не позволять себе поддаваться эмоциям и не руководствоваться предрассудками того или иного сорта. А напротив, подумать непредвзято и прийти к выводу, основанному на здравом смысле.
Напоследок он вновь кратко прошелся по всем обстоятельствам дела, освежая их в памяти присяжных.
— Если вы, всё взвесив и обдумав, придете к выводу, что «Да, все это подозрительно, похоже, они это сделали, но мы не вполне уверены», то к обвиняемым будет применено то, что в английском законодательстве именуется преимуществом сомнения, и ваш вердикт должен быть «невиновны». Бремя доказывания вины лежит на стороне обвинения. И приведенные обвинением доказательства должны полностью вас убеждать. Наверное, излишне напоминать, что при рассмотрении дела вы не должны исходить из того, что если человек попал на скамью подсудимых, значит, он заведомо совершил что-то дурное. Обвиняемый считается невиновным, пока в суде не будет доказано обратное.
Настало время ланча, и суд удалился на перерыв, а когда в 14:30 все вернулись, у присяжных уже был готов вердикт.
Секретарь суда встал и задал вопрос:
— Господа присяжные, вы достигли между собой согласия?
— Достигли, — ответил старшина присяжных.
— Тогда каково ваше решение по обвиняемому Джейкобу Хершу — виновен он или невиновен в потворстве и непресечении содомии?
— Невиновен, Ваша Милость.
— Каково ваше решение по обвинению его в непристойном посягательстве?
— Виновен.
— Вы считаете, что обвиняемый Джейкоб Херш виновен, и этот вердикт подтверждают все члены жюри?
— Да.
— Считаете ли вы его виновным или невиновным в хранении наркотика?
— Невиновен.
— Это единодушное решение?
— Да.
— Обвиняемый Джейкоб Херш, вы признаны виновным в непристойном посягательстве на мисс Лёбнер.
Затем перешли к обвинениям, предъявляемым Гарри.
— Каково ваше решение по обвиняемому Гарри Штейну — виновен ли он в содомии?
— Виновен.
— Виновен ли он или невиновен в изнасиловании?
— Виновен.
— Виновен ли он или невиновен в хранении наркотика?
— Невиновен.
— Это единодушное решение?
— Да, с этим вердиктом согласны все.
— Обвиняемый Гарри Штейн, вы признаны виновным в содомии и изнасиловании мисс Ингрид Лёбнер.
Перед приговором для дачи показаний о личности подсудимого на свидетельское место вызвали Лукаса Скотта.
В результате краткого опроса было установлено, что он сын сенатора Джеймса Колина Скотта, кавалера ордена Британской империи и что по окончании колледжа Верхней Канады он обучался в Университете Торонто и окончил отделение английской литературы с отличием. Он драматург, работает для театра и кино. Лауреат премии генерал-губернатора по литературе, некоторое время он был гугенхаймовским стипендиатом и является автором сценариев нескольких фильмов, получавших фестивальные призы. Срывающимся голосом Люк поведал о том, что знает обвиняемого уже двенадцать лет. Они на паях снимали квартиру в Торонто и вместе прибыли в Англию. Обвиняемый человек на редкость доброго нрава, образцовый муж и отец, а также верный и преданный друг.
— Я не могу себе даже представить, — дрожащим от гнева голосом говорит Люк, — чтобы он был виновен в чем-либо, что ему приписывалось в этом суде.
Джейк остолбенело наблюдал, по временам так даже чуть ли не со смехом, потому что все это происходило не с ним. Ну не его же они сейчас к чему-то там приговорят!
— Обвиняемый Херш, хотите ли что-нибудь сказать, прежде чем вам будет вынесен приговор?
— Нет, милорд.
Господин судья Бийл тяжко вздохнул. Посмотрел в свои записи. Жестом подозвал секретаря суда к себе, и они пошептались. Господин судья Бийл кивнул и прочистил горло.
— Вы показали себя полным идиотом, Херш. Вы человек, которому все дано, явно неглупый и талантливый, а стоите тут перед нами в полном бесчестии. — Он сокрушенно покачал головой. — Безрассудство и дичайший эгоизм довели вас до того, чтобы встать на один уровень с человеком явно злокозненным, вследствие чего вы подставили под удар и семью, и собственность. Как, черт возьми, вас вообще угораздило связаться со Штейном?
Джейк молчал.
— Если я сегодня не отправляю вас в тюрьму, что может оказаться и ошибкой, так это только из жалости к вашим домашним. Не к вам. Я не сомневаюсь, что ваша жена и дети уже и так от вашего безрассудства настрадались. И я не вижу, каким образом заключение вас под стражу могло бы улучшить общественный климат. Напротив. Это бы только усугубило страдания, выпавшие вашей семье. Вы принимали участие в деяниях, которые могут вызывать только отвращение, Херш, но я, пожалуй, дам вам шанс. Надеюсь, это послужит вам уроком. Я приговариваю вас к штрафу в пятьсот фунтов, сверх того вы оплатите судебные издержки.
Помолчав с таким видом, будто у него болит зуб, господин судья Бийл добавил:
— Когда-нибудь мы узнаем, не сделал ли я сейчас глупейшую ошибку. Вы понимаете меня, Херш?
— Да, милорд.
— Обвиняемый свободен.
Гарри не привел в Олд-Бейли никого, кто поручился бы за его благонравие. Сказал, что у него нет друзей. Поэтому секретарь суда без долгих рассуждений пригласил инспектора Мэллори, чтобы тот сделал сообщение о прежних судимостях Штейна. Три года за попытку шантажа в 1952-м. Еще два года за попытку предумышленного нанесения тяжких увечий молодой даме в 1957-м.
— Вы мерзавец, Штейн. Мало того — смутьян самого предосудительного свойства. На мой взгляд, нам надо было бы завести какой-нибудь такой отдаленный остров, чтобы ссылать туда людей, подобных вам. Не в том смысле, что с глаз долой и живите как знаете, а чтобы уберечь от вас общество. Потому что от вас исходит опасность, вы постоянная угроза окружающим. Я отдаю себе отчет в том, что завтра же утром меня станут поносить за это в либеральной прессе, и все же, сдается мне, людей вроде вас не стоило бы выпускать на свободу вовсе — они как выйдут, сразу идут кого-нибудь грабить или мошенничать. Список ваших судимостей — прекрасный пример того, как разлагающе действуют на вас и вам подобных чересчур мягкие приговоры Уголовного апелляционного суда. Думаю, политика, с некоторых пор принятая там в отношении таких, как вы, — то есть людей, которые во что бы то ни стало стремятся вести преступную и развратную жизнь, — в корне неправильна. Мое мнение таково, что теперешним серьезным ростом преступности и особенно преступности на почве сексуальных извращений мы в немалой мере обязаны установившейся в недавнем прошлом практике чересчур мягких приговоров.
Получив от секретаря суда какие-то бумаги, господин судья Бийл огласил во всех малоприятных деталях перечень прошлых криминальных подвигов Гарри, после чего приговорил его к семи годам лишения свободы.
Гарри открыл рот; закрыл. Опять открыл рот, но ругательство замерло у него на губах: что проку сотрясать воздух. Джейк схватил его за руку. А стоявший по другую сторону конвойный уже взял за другую.
20
С тех самых пор как суд начался, Джейк перестал просматривать почту. Ни о ком ничего не хотел знать, не то что переписываться. В результате письмо от Дженни лежало нераспечатанным вместе с остальными.
На следующий день после вынесения судьей Бийлом приговора Нэнси предложила поехать на недельку куда-нибудь на природу, взяв с собой младенца, а Сэмми с Молли оставить на миссис Херш. Джейк не согласился.
— Мы тогда вообще на мели останемся. Я должен искать работу.
Однако каждый раз, когда звонил его агент, Джейк просил Нэнси говорить, что его нет дома. И в те сценарии, что приносили ему на дом, тоже не заглядывал. Вместо этого целыми днями сидел в саду под сенью конского каштана на скамейке, смотрел, как играют Сэмми с Молли, по утрам решал газетные кроссворды, а вечерами жег опавшие листья. И слабо отбивался от миссис Херш.
— …когда я почувствовала боль справа под мышкой, сразу же, конечно, побежала к доктору Берковичу — ну, ты ведь помнишь, это тот, который мне делал биопсию по поводу груди. Он сказал, что особо полагаться на то, что почувствуешь уплотнение на ощупь, не следует. А тут еще обнаружился распухший лимфатический узел, но доктор Беркович сказал, что он там уже три года такой. Но ты же не слушаешь, Джейк!
Когда приходил Люк (а приходил он чуть не каждый день), Нэнси присылала к ним Пилар с напитками на подносе, а миссис Херш с детьми изгонялась в сад, чтобы два старых друга побыли наедине. Но каждый раз — или это Нэнси так только казалось? — говорил один Люк, а Джейк сидел в полной прострации. Однажды ближе к вечеру, когда Люк уже ушел, Джейк вышел в кухню и говорит:
— Люк дал мне свой новый сценарий. Хочет, чтобы я с ним поработал.
Как обрадовалась в ту ночь Нэнси, когда Джейк включил прикроватную лампу и действительно прочитал сценарий — весь, до конца!
— А что — не так уж и плохо, — нехотя проворчал он.
— Твой энтузиазм просто поражает!
— Но я же этого момента годами дожидался, сама знаешь. Мечтал об этом. С тех самых пор, как он взял другого режиссера ставить ту пьесу, я сказал себе: придет день, когда этот гаденыш сам прибежит ко мне. Прибежит с рукописью в руке, потому что без меня ему никуда, а я ему скажу: да пош-шел-ка ты…
— Ну? Так все теперь хорошо, да?
— Да нет. Совсем не хорошо. Потому что Люка режиссеры рвут на части. И я ему вовсе не нужен. Это он просто из жалости.
— Ты не менее талантлив, чем любой из них, — произнесла она механически.
— Разве?
— Ну хорошо, ладно. Ты-то сам как считаешь? Ты талантлив? Самонадеянности тебе не занимать, это я знаю. А вот чего я не знаю, так это вправду ли ты прекрасный режиссер, потому что случая проявить себя тебе так ни разу и не подвернулось.
Джейк испуганно захлопал глазами:
— А я думал, мой первый фильм тебе понравился.
— Да, как первый фильм он был хорош. Фильм молодого режиссера. Но лучшего ты ничего с тех пор не сделал.
— Понятно.
— Слушай, Джейк, ты уж выбери наконец! Я могу тебе быть женой, а могу нянькой. Ты только скажи, чего ты хочешь.
— Ну, ты даешь!
— Я со многим мирилась, сам знаешь. Большой радости это не приносило. И я не собираюсь весь остаток жизни скорбеть по Гарри. Или читать в постели книжки, пока ты там на чердаке астральным образом общаешься со Всадником. Даже детей это все уже достало. «Не мешай папочке, он в депрессии». «Не проси это сделать папочку, у него проблемы». Мне не хотелось бы строить на этом их воспитание.
— И что я должен делать?
— Если сценарий хорош, надо ставить фильм. Ты должен это сделать ради нас всех.
— Что-то я не заметил, чтобы из-за моего сибаритства вы терпели лишения. Все эти годы я, кажется, неплохо кормил семью.
— Я вышла замуж не потому, что ты способен меня обеспечить. Были претенденты и побогаче тебя. Я вышла за тебя, потому что полюбила.
И снова Джейк принялся читать сценарий. Дошел лишь до страницы десять, и тут Нэнси безутешно заплакала. Попытался обнять, но она отстранилась.
— Так ты что — прямо вот в этой кровати?
— Да не трахал я ее!
— Вы были в кровати вместе голые. Я, знаешь ли, газеты все-таки читаю. А если бы и не читала, имею достаточно подружек, которые всегда позвонят, расскажут. Вот знал ты, например, что Натали каждый день ходила в Олд-Бейли? И Этель тоже!
— Я там никого не замечал. У меня были заботы поважнее.
— Ну так что, ты ее прямо на этой кровати?
— Всё, я больше не отвечаю ни на какие вопросы. У меня эти вопросы уже вот где сидят!
— И прямо тут она у тебя в рот брала?
— Да, Ваша Милость. Нет, Ваша Милость.
— Прекрати издеваться!
— Да, она взяла в рот, но я отпихнул ее.
— Что ж, она хорошенькая…
Он сухо усмехнулся.
— Ты щупал ее груди?
— Да.
— У нее-то еще детей не было!
— Ну Нэнси, милая, ну пожалуйста!
— А между ног ты ее трогал?
— Нет.
— Лжец.
— Там Бен плачет. Возьми его на руки.
— Ведь каждый раз, как в ресторан придем, смотрю, ты женщин так и ешь глазами!
— Что ж я — не мужик, что ли? Америку открыла.
— Так ты и мне предлагаешь ходить, глядя мужикам на ширинки?
— Там Бен кричит.
— Или мне, может, в блондинку перекраситься? Белый парик надеть?
— Прошу тебя, займись Беном.
— А с чего это, интересно, Гарри вообще решил, что тебе захочется ее трахнуть?
— Видишь ли, я его каждый вечер за девицами посылал. Самому-то мне — где уж. А теперь тебе все-таки лучше бы сходить к Бену, кецеле, а то дождемся, что мать придет.
— Как ты ужасно к матери относишься! Конечно, она тебе больше не нужна. Что, интересно, будет, когда ты решишь, что и я тебе больше не нужна?
— Бога ради — займись — пожалуйста — Беном!
— Вот! Смотри! — вдруг крикнула она, с такой силой дернув ящик трюмо, что он вылетел и грохнулся об пол. — Вот! И вот! И вот!
В ящике оказались письма от Гарри, в которых он во всех порнографических деталях описывал то, что Джейк, по его словам, выделывал с Ингрид. Гарри подробно рассказывал, как они с Джейком вместе посещали Си Бернарда Фарбера — искали себе свежую пизду. А когда он выйдет из тюрьмы, писал Гарри, они непременно должны переспать втроем, и уж он ей так отлижет, так отлижет, что она всякого сознания лишится, но он не будет почивать на лаврах, а перевернет ее да так задвинет в зад, что только тогда она поймет, что такое настоящий мужчина и в благодарность возьмет у него не только в рот, но и в горло. А в следующий раз он придет с хлыстом. И принесет с собой наручники. Все для нее — чего не сделаешь ради прекрасной дамы! Если отхлестать женщину мокрым полотенцем, следов не остается. Не веришь? Спроси у Джейка.
— Господи, Боже ты мой, я убью его! Да как ему на волю все это удалось переправить? Им же там позволено одно письмо в неделю.
Покачиваясь на краю кровати, Нэнси кормила Бена и тихо плакала. Несмотря на то что в комнате было темно, она сидела к нему спиной, чтобы ему не видна была ее грудь. Зато ее спина была восхитительна.
— Это все ложь, Нэнси. Он психопат, сама знаешь.
— Да. Но будь это даже и правдой, ты все равно сказал бы, что это ложь!
— Ну, в общем, да.
— Тебе пришлось бы!
На следующий день Люк не пришел, зато впервые после окончания судебного процесса Джейк отправился на прогулку и, бездумно слоняясь по улицам, дошел до Суисс-Коттеджа. Как вдруг в витрину магазина готового платья изнутри постучала Руфь.
Ну что ж, зашли в паб «Королевский герб» (видимо, их любимый), и Руфь сразу принялась сковыривать очередную этикетку с бутылки лимонада. А заодно поведала о том, какой ей повстречался чудный, чудный, чрезвычайно милый и интеллигентный человек. Он увлекается классической музыкой и к тому же потрясающий знаток иудаики.
— Но есть одна проблема, — помолчав, печально продолжила она. — Он неисправимый онанист. Приводит женщину в неистовство, затем сам себя удовлетворяет, а ее оставляет в состоянии просто ужасном. Прямо жуть какая-то!
— Руфь, ваша интимная жизнь меня больше не интересует.
— Вот здорово! Ничего себе. И это после всего того, что мы вместе претерпели!
— Не хочу больше про это слушать.
— Он говорит, что оргазм совершенно не обязателен. Важна только прелюдия. Дескать, это все равно, как когда лезешь на гору — не обязательно брать вершину, достаточно глянуть вверх и убедиться, что до нее рукой подать. Что вы по этому поводу думаете? Только честно.
— Если честно, Руфь, я думаю, что это не смертельно. А теперь, — объявил он, решительно поднявшись, — разрешите откланяться.
Когда Джейк пришел домой, Нэнси сказала, что звонил Люк. Он приглашает их обоих на ужин.
— Нет, я устал. Сходи без меня.
Пришлось ей перезванивать, отменять.
— Бедный Люк. Он, конечно, ничего не говорит, но я уверена: ему смертельно хочется знать, что ты думаешь о его сценарии.
Ну, пусть помучится.
— Может, сам ему позвонишь?
— Завтра.
Но назавтра Джейк не позвонил, и Люк вечером не пришел.
— Ну ты бы хоть позвонил ему, сказал, что прочитал!
Сэмми и Молли в детской вдруг разодрались. Раздался дикий вопль:
— Мамочка, мама!
— Иду, золотце мое, иду! — отозвалась миссис Херш.
— Вот всегда ты так: только человек к тебе со всей душой, ты его тут же мордой об стол! — прежде чем выйти из гостиной, бросила напоследок Нэнси.
Наливая себе выпить, Джейк вдруг подумал: а что, если Всадник — там, где он есть сейчас, — прочел про суд над младшим братиком в газете?
С очень серьезным видом явился Ормсби-Флетчер — тугой воротничок, поджатые губы, черный атташе-кейс. Они с Джейком совещались за закрытыми дверьми больше часа, после чего адвокат вышел из дому, пристегнулся к своему черному «хамберу» и опять уехал.
— Представляешь? — поделился новостью Джейк. — Гершл подает апелляцию.
— На каком основании?
— Ну, для начала, утверждает, что каждое утро, перед тем как ему идти в суд, мой доктор одурманивал его наркотиками. Кроме того, Руфь моя любовница, чем и объясняется то, что я положил на ее счет семьсот фунтов. А еще Ормсби-Флетчер, получив от меня взятку, нарочно плохо защищал его в суде. Он хочет, чтобы Ормсби-Флетчера исключили из коллегии. — Отсмеявшись, Джейк покачал головой. — Я Люку уже позвонил. Завтра придет.
Люк с Джейком сидели в саду до вечера. Подав им бутерброды, Нэнси удалилась наверх кормить Бена. Когда она опять выглянула из кухонного окошка, Люк уже ушел. Ушел и с ней не попрощался.
— Вы что — поссорились?
— Нет. Я даже сказал ему, что сценарий мне понравился.
— Но с оговорками?
— Да, — припечатал Джейк.
— Так ты ставить по нему что-нибудь будешь?
— Я не знаю даже, что буду делать завтра. Планирую проснуться, а что дальше — неизвестно.
— Так ты, стало быть, отказался?
— Я сказал, что мне нужно время, чтобы подумать. Не приставай ко мне, Нэнси.
С утра они всей семьей набились в автомобиль, повезли миссис Херш в аэропорт. Она держалась, пока они с Джейком не оказались наедине у паспортного контроля.
— Когда ты был ребенком, тебе нужна была моя любовь и защита, а теперь, когда я становлюсь старой, мне понадобится твоя.
— Я все сделаю, что смогу, мам.
— Да я понимаю, ты поможешь мне бороться с болезнями и старостью, дашь мне все, что можно купить за деньги, но мне требуется нечто иное. Я же не дурочка. Я женщина гордая и интеллигентная. Разве не так?
— Так, так, мам.
— Так что деньгами ты со мной не обойдешься.
— Я понимаю.
Ее лицо исказилось, хлынули слезы, она сгребла Джейка и принялась покрывать его лицо поцелуями. Как мог, он старался реагировать соответственно, но ей в тот момент все было мало. Внезапно миссис Херш отпихнула сына от себя и, тяжело дыша, вперила в него гневный взгляд.
— У тебя тоже есть дети, Янкель, — объявила она с упреком. — Тоже есть… — Повернулась и пошла за барьер. Он стоял, ждал, но она так и не обернулась. Даже не махнула рукой.
А потом в Лондон прилетел Додик, преуспевающий Додик Кравиц. Перед ланчем они с Джейком гуляли вместе по Кингз-роуд, поглядывая на девиц в мини-юбках и высоких сапожках.
— Ой, ну кто может винить тебя! И как ты тут вообще выдерживаешь? — удивлялся Додик. — Когда кругом сплошные голописьки в мини-юбках. К тому же таких коротких, что если у ней туда тампакс вставлен, так от него веревочка длинней подола. От одного этого можно тихо сбрендить. Идешь тут по улице, руку вниз опусти, так они сами в толпе все места об нее оботрут.
Поесть зашли к Альваро[356]. По заведенному с некоторых пор обыкновению Додик заказал им обоим по двойной порции белужьей икры, а себе к ней рубленые яйца с луком. Потому что на самом деле Додик к черной икре был равнодушен, и специально смешивал ее с яйцом и луком, чтобы на вкус получавшаяся каша походила на печеночный паштет.
— Эти их юбчонки — Христос всемогущий! Как вспомню, на какие ухищрения приходилось пускаться, чтобы заставить телку задрать платье! И в киношку с ней сходи, и бутербродами накорми — да на одно мороженое бешеные бабки уходили! А продвигаешься — вершок туда, два обратно. Месяц ее со всех сторон обхаживаешь, мозги пудришь, у самого уже яйца болят, но уж зато посмотрел, на чем у ней чулок держится. А насчет большего — чтобы пальчик ей, к примеру, туда присунуть, — это и думать забудь. Эх, молодежь! Да разве нынешние пацаны знают, что такое настоящая борьба? Только с девицей встретились, а у ней юбчонка и так уже еле лобок прикрывает. Приподыми, да и суй.
Заказав вторую бутылку «Вдовы Клико», Додик принялся громить современную литературу и киноискусство.
— Если уж на то пошло, когда до этого дела доходит, я нормальный традиционный еврей. Мне, чтобы наслаждаться сексом, надо… ну, что ли… немножко виноватым себя чувствовать. Когда Марлен у меня в первый раз отсосала, мне было буквально стыдно за нее. Да она еще и в губы сразу давай целоваться, а у самой весь подбородок в сперме. Ф-фе! — он скривился. — А ты чего такой весь? Я тебя смущаю?
— Да нет, ну что ты.
— М-да-а. Когда она в первый раз взяла у меня в рот, я подумал, — ну, парень, ну ты счастливчик, Додик: тебе в жены досталась и впрямь горячая штучка. Это же было что-то в самом деле необыкновенное. А теперь какую книжку ни открой… или в кино тоже: прямо в первой главе или в первой сцене у них с этого все только начинается. Весь мир теперь только хрюк-хрюк, чмок-чмок… И зачем я, спрашивается, женился? Что у меня в жизни есть такого хорошего? И весь секс для меня насмарку. Нет, правда-правда. Вся эта новая фигня с откровенностью в искусстве отнимает у меня главный цимес. Стыда больше нет, вины… Связанной с наслаждением некоей стыдной тайны.
— Я понимаю, Додик, всем этим ты хочешь мне сказать, чтобы я воспрял: все, мол, нормально — пострадал, так уж и поимел зато, но ведь по правде-то ничего ж не было! Никакой такой оргии не было вообще.
— В таком случае ты еще больший мудак, чем я думал. После всей этой передряги с судом ты хочешь мне втереть, что при этом ты ее даже не оттрахал?
Джейк кивнул.
— Надеюсь, кроме меня, ты больше никому этого рассказывать не будешь. Потому что я-то тебя знаю с детства. То есть я помню, что ты всегда был шмок. Но другие-то ни за что не поверят!
— А ты мне веришь?
— К сожалению, да. Но, ты знаешь, виной от тебя так и смердит. Да и вообще, у тебя вид, как у подогретой кучи говна.
Когда Додик склонил голову, прикуривая сигару, Джейк обратил внимание на довольно обширные уже залысины по бокам. Да и бачки у него седые. И большие, темные мешки под глазами.
— Что Нэнси? Небось всю плешь проела? — спросил Додик.
— Ну, скажем, не очень довольна.
— Купи ей шубу.
— Да бога ради, Додик, она не из той категории женщин.
— Ну что с тобой делать! Художник хренов. Сидишь на мели?
— Да ничего, справлюсь.
— Когда я в Торонто сел на мель, ты меня выручил, помнишь? Сколько тебе надо?
— Что, если я скажу «десять тысяч долларов»?
— Ну, придется мне тогда тряхнуть кошельком с мелочью.
Джейк недоверчиво усмехнулся, но Додик тут же достал чековую книжку.
— Как я рад, что мы снова с тобой увиделись! — чтобы заполнить паузу, сказал Джейк.
— Ха. Конечно, хорошо снова увидеться с тем, кто одолжит тебе десять кусков. На, держи, — сказал Додик, придвигая к нему чек. — А вот скажи-ка мне, чем помог тебе твой так называемый лучший друг Лукас Скотт, эсквайр?
Джейк рассказал ему о сценарии Люка и о сомнениях, которые в связи с этим сценарием у него возникли.
— Сделай, сделай. Если он хорош, надо сделать. А потом скажешь ему, чтобы уматывал.
Джейк рассмеялся и предложил шлифануть это дело рюмочкой бренди, но Додик отказался. Нет, всё, бренди уже не для него. От бренди у него теперь бессонница. Принесли кофе, он запил им какую-то таблетку.
— Слушай, Янкель, а что, если мне устроить вечер встречи одноклассников? На тебя я могу рассчитывать?
— Конечно. Но зачем тебе?
— Я дал задание секретарше разузнать про всех, кто учился с нами в одном классе. Из всех ребят я единственный стал миллионером. Вот пусть они теперь ко мне придут и охренеют.
С чеком Додика в нагрудном кармашке пиджака Джейк почувствовал, что к нему возвращается жизнь, бодрость и даже некоторая беззаботность. После суда такое ощущение посетило его впервые. А когда рулил в сторону дома, вдруг осознал, что больше не надо собачиться с матерью.
И с адвокатами!
И с Гарри!
И господина судью Бийла он с утра не увидит! Да и к Люкову сценарию уже не так привязан. Захочет сказать «да» — о’кей, надумает отказаться — тоже не велика беда, можно обналичить чек Додика. Суд позади, Янкель. Ты вел себя совсем не плохо. И Нэнси от тебя не уходит. Да не может она от меня уйти! Когда Сэмми явится из школы, надо с ним быть подобрее. И на Молли тоже постараемся не раздражаться.
Нэнси Джейк обнаружил на кухне.
— Вот это называется цветы, — сказал он. — Они тебе.
— О! — воскликнула она явно не без удовольствия.
— Если даже Додик Кравиц поверил мне, ты-то почему не можешь?
— Да я верю по большей части.
Прихватив картонку со скопившейся почтой, Джейк сел за кухонный стол. Счета, журналы, банковский баланс. Письма от актеров, сценарии, какие-то приглашения. Когда что-то попадалось совсем уж несуразное, читал жене вслух. Один раз она громко рассмеялась.
— Ты сказала, что вышла за меня, потому что полюбила. А сейчас еще любишь?
— Да.
— И я тебя тоже.
Потом он достал из конверта письмо от Дженни, стал его равнодушно читать, иногда кивая, а она смотрела, как он переворачивает страницы, и вдруг краска отлила у него от лица. И задрожали руки, как у старца. Он застонал. Поднял на нее умоляющий взгляд, но говорить не мог.
— Бога ради, Джейк, что случилось?
— Джо погиб.
— Ах, мне так жаль… Правда жаль.
— Он умер больше двух месяцев назад. А, ч-черт! Проклятье.
Подойдя сзади, чтобы потрепать его по волосам, Нэнси обнаружила, что он весь в поту.
— Закрой-ка лучше дверь.
— Дети в саду, — сказала она. — Ничего. — Сходила, налила ему бренди.
— Он умер больше двух месяцев назад. Эх, Джо, Джо. А я так много у него хотел спросить.
— Я знаю, дорогой.
— Все это время канадский консул в Асунсьоне искал способ связаться с Ханной.
Встал, потоптался, подошел к окну, посмотрел на Молли в песочнице. Сэмми рыскал в высокой траве с куклой-бойцом; под влиянием папиных рассказов он этого бойца называл Всадником.
— Как это случилось? — спросила Нэнси.
— Что?
Она повторила вопрос.
— Самолет разбился. Говорят, он занимался контрабандой сигарет. Оказывается, в Парагвае многие этим кормятся. Там на американские сигареты нет пошлины. Они их импортируют миллионами и по ночам самолетами переправляют в Аргентину, Бразилию и Боливию. Приземляются на неприспособленных полях. Он сгорел чуть не весь.
— Бедная Ханна.
— Его тело было даже не… Ну почему Джо? На белом свете столько всякой шушеры, шпаны, без которой я прекрасно бы обошелся!
Она передала ему чашку кофе.
— Осталась небольшая страховка. Ханне дадут пять тысяч долларов. Его документы нашли в комнате отеля в Асунсьоне.
Низко склонившись, Джейк уперся лбом в крышку стола. Нэнси подошла сзади, стала массировать ему шею.
— Он разбился где-то между Мату-Гросу и Бразильским нагорьем, невдалеке от реки Параны.
Жеребец ржет и пятится, так что Всаднику приходится его пришпорить. В конце концов все же сбивается на шаг. Тут горы расступаются, и, выехав из чащи, Всадник обозревает поросшую кустарником долину, пытаясь отыскать еле различимую тропу, уходящую в джунгли между Пуэрто-сан-Винсенте и пограничным фортом «Карлос Антонио Лопес».
— Между прочим, — сказал Джейк, вставая, — если верить Симону Визенталю, который в Вене руководит «Центром еврейской документации», занимающимся поиском нацистских преступников, когда доктор Менгеле бежал из Буэнос-Айреса и отправился в Сан-Карлос-де-Барилоче, где многие из них живут в шикарных виллах у подножья Анд, так совпало, что некая израильтянка в это время навещала там свою мать. Обе побывали в Освенциме, и доктор Менгеле эту израильтянку стерилизовал. И однажды вечером в танцевальном зале местного отеля она внезапно лицом к лицу столкнулась с Менгеле. Он, естественно, не узнал ее, потому что таких, как она, через его руки прошли тысячи. Но заметил на ее левом запястье номер. По воспоминаниям очевидцев ни тот ни другая не произнесли ни слова. А через несколько дней та израильтянка отправилась с экскурсией в горы и не вернулась. Прошло несколько недель, прежде чем ее тело нашли в глубокой расселине. Что ж, в горах такое случается, — пожимая плечами, говорили полицейские чины.
— Постой, Джейк. А что, если он был всего лишь тем, кем его все считали, то есть торговцем контрабандными сигаретами.
— Не знаю. И никогда уже теперь не узнаю, как же ты не понимаешь! — вскричал он.
— Ну что ты, что ты… — в испуге повторяла она.
— Визенталь пишет (у меня где-то есть наверху его книга), что еврейская община Асунсьона многие годы жила в страхе. Многим приходили анонимные письма. Им угрожали, что, если Менгеле будет похищен, в Парагвае ни одному еврею не выжить… Черт, кто может в этом разобраться? Знаешь, есть люди, которые не понимают, почему Е = mc2, и это их раздражает. А я так вовсе ничего не понимаю. Всё, я пошел наверх, — бросил он и взялся за картонку с почтой.
— Но с тобой все в порядке?
— Конечно.
Отворив дверцу шкафчика, взял с полки досье на Всадника и раскрыл.
ЛЁВКА: Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту… Опоздал я на один час, и вахмистр берёт меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и ещё под суд меня отдаёт. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за Турецкую войну.
АРЬЕ-ЛЕЙБ: Это со всеми так делают или только с евреями?
ЛЁВКА: Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем…
Открыв первую страницу, Джейк к заголовку — «Всадник, настоящее имя Джозеф (Джо) Херш. Родился в горняцкой лачуге в Йеллоунайфе, территория Юкон. Зимой. Точная дата неизвестна» — добавил: «Погиб в авиакатастрофе 20 июля 1967 года между Мату-Гросу и Бразильским нагорьем невдалеке от реки Параны».
Что теперь будешь с этим делать? — спросил внутренний голос.
Плакать, что еще остается. Слезы, которых ему было не выдавить из себя на похоронах отца, на которые даже намека не было, ни когда господин судья Бийл объявил приговор Гарри, ни когда уезжала мать, текли теперь ручьем. Текли из самой глубины души, сдавливали горло и струились по щекам. Он всхлипывал и стонал. Дрожа, опустился на диван. Плакал по отцу, чей член выпал тогда из трусов как дохлый червячок. Тот член, которым создали меня. Гниет теперь в непомерно большом сосновом гробу. Плакал по матери, достойной гораздо более любящего сына. Плакал по Гарри, злобствующему в тюремной камере и несомненно замышляющему месть. Плакал по Нэнси, у которой от родов весь живот в растяжках. И она теперь из-за этого стесняется заниматься любовью при свете. Плакал, потому что Всадника, его наставника, его воплощенной совести, больше нет.
Если, конечно, думал Джейк, наливая себе еще бренди, я сам теперь не стану Всадником. И не посвящу себя поискам виллы с решетками на окнах, глядящих на еле заметную тропу в джунглях между Пуэрто-сан-Винсенте и пограничным фортом «Карлос Антонио Лопес», что на реке Паране. Если сам не стану Всадником мщения. Если! — вмешался вдруг другой, куда более здравый голос: — Если он вообще существовал.
Зачем он возвращался в Монреаль? «Приехал трахнуть меня», — говорила Дженни. «Если он действительно охотится за этим нацистом и найдет его, — кричал дядя Эйб, — он его не убьет, он его будет шантажировать!» Что, если Всадник это лишь кривое зеркало, и каждый из нас в него смотрится, ища в нем оправдания себе?
Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства.
Пусть не будет у тебя других богов передо Мной.
Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что вверху на небе, и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Господь, твой Бог, Бог-ревнитель, карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения у тех, кто ненавидит Меня…
Нет, нет, не то, не соглашался Джейк. Вытащил из шкафа седло Всадника и швырнул перед собою на пол. Упав на ребро, оно покачнулось и упало. С явственным стуком тяжелой металлической массы.
Джейк ринулся к нему, перевернул, и, прощупав внутренность, нашел карман. «Так вот где он прятал пушку!» В кармане действительно оказался револьвер, и сердце Джейка испуганно забилось. Джейк вынул его, охватил ладонью рукоять. Фу, подумал он, и, весь от него отстранившись, положил на стол, направив от себя. Налил себе еще бренди и стал рассматривать оружие. Про такие вещи он не знал почти ничего, но даже на его неопытный взгляд револьвер был явно старинный. Возьми же его, трусишка! Ну ладно, сжал влажной ладонью рукоять, поднял, направил в окно.
Смотри в оба, Менгеле! Die Juden kommen.
Затем, перед самим собой красуясь храбростью, Джейк, скрипнув зубами, взял да и прижал дуло ко лбу.
Поц, ты ж так поранишься!
Хочу понять, кто я есть, сказал он когда-то отцу. Выяснение отняло годы, но теперь стало ясно. И кто же? Ну, во всяком случае, не Гедда Габлер[357]. Может быть, Аарон?
Теперь Джейк направил револьвер на темнеющий на фоне выцветших обоев квадрат, где раньше висела фотография «Зеппа» Дитриха. Прицелился, зажмурил оба глаза да и нажал на спуск. Раздался страшный грохот, револьвер, как живой, дернулся, однако в стене, на удивление, дыры не появилось.
Нэнси бросилась вверх по лестнице, ворвалась в его укрывище.
— Джейк! Джейк! — а у самой слезы прямо фонтаном.
Он схватил ее в объятия, прижал к себе, потом стал объяснять.
— Смотри, — сказал он и снова поднял револьвер. Уже гораздо увереннее.
Выстрелил в стену еще раз. Даже глаза не закрывал. Грохот ужасный, но дырки нет.
— Палит холостыми. Это пугач, бутафория. Сувенир, оставшийся у него от каких-нибудь киносъемок.
Налив себе еще бренди, Джейк опустился на диван.
— Эту рюмку допью, и всё, хочу немного поспать. Все нормально, Нэнси, честно-честно.
В шесть она его разбудила.
— Люк звонил. Приглашает на ужин.
— Скажи, что придем.
— Правда? — боясь поверить, переспросила она.
— Да правда, правда.
По причинам сентиментального характера встретились в «Ше-Люба». Джейк объявил Люку, что хотел бы с его сценарием поработать. Люк якобы безмерно обрадовался. Как и Нэнси, как и сам Джейк. Однако их совместное веселье было вымученным, этакая хрупкая скорлупка, пляшущая в стремнинах сомнений.
Хотя Джейку льстила их радость по поводу его запоздалого возвращения в земную юдоль, но внутренне он все еще был со Всадником. Он рассказал им о еще одной весточке, найденной в груде бумаг — письме от Ханны.
— Она не верит, что Джо погиб. Надеется, что у него просто опять конфликт с полицией, и катастрофа инсценирована, чтобы избежать ареста и получить страховку. Деньги от которой она не трогает. Держит на особом счете, ждет, что Джо за ними кого-нибудь пришлет.
Люк устало опустил бокал. Нэнси хмуро поигрывала вилкой.
— Это абсурд, конечно, — закончил Джейк.
Они расстались, договорившись встретиться завтра за ужином, чтобы детально обсудить сценарий. Впервые после суда в ту ночь Джейк и Нэнси, стесняясь друг друга, занялись любовью.
В кошмарном сне он сам был Всадником. По сюжету сна выходило, что это он, Джейк, и был Всадником с улицы Сент-Урбан, гарцующим на белом скакуне. Это он прибыл, чтобы плоскогубцами сорвать золотую коронку с треугольного пенька на месте одного из верхних передних зубов Менгеле. Не торопись, поме-е-едленней, командовал он себе и вдруг проснулся в поту.
— Вот и приплыли! — вырвалось у него вслух.
Лежащая рядом Нэнси пошевелилась.
— Ничего, это я так, — тихо сказал Джейк. — Опять тот сон. Спи, спи.
Осторожно, чтобы не разбудить Нэнси, он выскользнул из постели, накинул халат и, втянув живот, протиснулся между кроватью и колыбелькой.
Оказавшись в своем чердачном укрывище, достал из шкафчика досье на Всадника, нашел страницу с записью «погиб в авиакатастрофе 20 июля 1967 года», перечеркнул ее и сверху написал: «предположительно умер». Затем вернулся в кровать и заснул глубоким сном, прижавшись к Нэнси.
Примечания
1
Здесь: то-то же (идиш). (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)2
Гершель Энгельберт (Герш) Лайонс, Уильям Говард (Уилли) Мэйс, Ричард Пол (Ред) Смит — известные бейсболисты.
(обратно)3
Модести Блейз — придуманный писателем Питером О’Даннелом и художником Джимом Холдауэем персонаж популярной колонки комиксов — девица, в юности создавшая на Ближнем Востоке международную банду. Разбогатев, она перебирается в Англию, где принимается работать на спецслужбы. Впервые появилась в лондонской газете «Ивнинг стэндард» 13 мая 1963 года.
(обратно)4
Начало покаянной молитвы.
(обратно)5
Олд-Бейли — традиционное название здания центрального уголовного суда, расположенного в центре Лондона.
(обратно)6
Бернард Лоу Монтгомери (1887–1976) — британский военачальник, герой Первой мировой войны, во время Второй мировой успешно воевал против Роммеля в Северной Африке, участвовал в высадке союзников в Нормандии, отражал германское контрнаступление в Арденнах.
(обратно)7
КГБ появился в 1954 г. Во время войны Берия возглавлял НКВД.
(обратно)8
Бар-мицва — религиозное совершеннолетие мальчика (наступает в 13 лет).
(обратно)9
Здесь: дорогой мой (идиш).
(обратно)10
Уилт Чамберлейн (1936–1999) — знаменитый в свое время баскетболист.
(обратно)11
Помчались! (исп.)
(обратно)12
Уильям Горацио Пауэлл (1892–1984) — американский актер.
(обратно)13
Джон Уильям Бауэр (настоящее имя Джон Кишкан (р. 1924) — знаменитый хоккейный вратарь.
(обратно)14
Гектор «Той» Блейк (1912–1995) — один из самых влиятельных хоккейных тренеров в истории НХЛ.
(обратно)15
Мери Квант (р. 1934) — британский дизайнер модной одежды.
(обратно)16
Возможно, имеется в виду Уилли «Глазастик» Смит, ударник группы «Мадди Уотерз».
(обратно)17
Дэвид Фрост (р. 1939) — британский тележурналист и комедиограф.
(обратно)18
Имеется в виду дело Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти, деятелей рабочего движения в США. Они были обвинены в грабеже и убийстве и казнены в 1927 г. Их процесс стал символом беззакония и политических репрессий. Позднейшие исследования показали, что Ванцетти был действительно ни при чем, а Сакко как раз виновен в том, что ему инкриминировали, но судом его вина доказана не была.
(обратно)19
Уильям Чайлдс Уэстморленд (1914–2005) — командующий американскими войсками в Южном Вьетнаме во время Вьетнамской войны.
(обратно)20
Очень… Настоящее кино (фр.).
(обратно)21
Блиц — укоренившееся в Британии именование того периода Битвы за Англию, который сопровождался бомбежками Лондона — с 7 сентября и почти до конца ноября 1940 г.
(обратно)22
Маргарет О’Брайен, она же Анджела Максин О’Брайен (р. 1937) — голливудская актриса, прославившаяся в возрасте пяти лет.
(обратно)23
Роберт Янг, Дороти Макгуайр — голливудские актеры, пик популярности которых пришелся на сороковые — пятидесятые годы прошлого века.
(обратно)24
Освальд Мосли — лидер британских фашистов. После запрета фашистской организация к концу лета 1940 г. Мосли поместили в тюрьму. В 1943 г. он был выпущен на свободу.
(обратно)25
Обычно так называли пикирующий бомбардировщик «юнкерс» Ю-87.
(обратно)26
«Микиз шелтер» — подвалы на Брашфилд-стрит, стихийно превращенные в бомбоубежище. В начале «блица» там скапливалось до 10 000 человек в страшной тесноте и антисанитарии. По инициативе некоего Мики, который создал там комитет самоуправления, власти усовершенствовали это убежище. «Тилбери шелтер» — еще одно импровизированное убежище в промзоне района Степни. Официально вместимость убежища оценивалась в 3000 человек, но в некоторые ночи скапливалось и по 16 000.
(обратно)27
Гарри Поллит (1890–1960) — генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании.
(обратно)28
«Меч Сталинграда» — усыпанный драгоценными камнями двуручный меч, изготовленный для передачи в дар защитникам Сталинграда от короля Георга VI. На Тегеранской конференции премьер-министр Черчилль передал его Сталину.
(обратно)29
Стандартный пороговый срок пребывания в стране без визы.
(обратно)30
Котик (идиш).
(обратно)31
Суровая и действенная мера (фр.).
(обратно)32
Имеется в виду серийный убийца и некрофил Джон Реджинальд Халлидей Кристи (1898–1953), совершавший свои преступления в Лондоне конца 40-х — начала 50-х годов.
(обратно)33
Дурачок (идиш).
(обратно)34
Альберто Гершунофф (1883–1950) — аргентинский писатель, журналист и поэт. Его семья, спасаясь от погромов, перебралась из России в Южную Америку в 1889 г. Через два года его отца зарезал местный гаучо.
(обратно)35
Мориц (Цви) де Хирш, или барон Мориц фон Хирш ауф Геройт (1831–1896) — немецко-еврейский бизнесмен и филантроп. Основал еврейские сельскохозяйственные колонии в Канаде, Аргентине и Палестине.
(обратно)36
Йозеф Менгеле (1911–1979) — немецкий врач, проводивший бесчеловечные опыты на узниках Освенцима. От заключенных получил прозвище Ангел Смерти. После войны скрывался, бежал в Аргентину. Когда израильтяне вывезли оттуда Эйхмана, счел убежище небезопасным и перебрался в Парагвай, затем в Бразилию. Утонул в результате инсульта, случившегося во время купания.
(обратно)37
Один из самых известных в мире универсальных магазинов.
38 37
(обратно)38
Ламед-вавники — 36 тайных еврейских праведников нынешнего поколения, благодаря которым Всевышний откладывает конец света. Ламед-вав — тридцать шесть (иврит).
(обратно)39
«Хамбер» — ныне исчезнувшая марка дорогих английских автомобилей.
(обратно)40
Ньюгейтский календарь (с подзаголовком «Кровавый регистр злодеев») — первоначально ежемесячный перечень казней, составлявшийся смотрителем Ньюгейтской тюрьмы. Содержал жизнеописания известных преступников. Весьма популярный в свое время образчик нравоучительной литературы XVIII–XIX веков.
(обратно)41
Лорд Джордж Гордон (1751–1793) — шотландский аристократ и английский политик. Будучи членом парламента, выступал за предоставление независимости американским колониям. Принял иудаизм и, в частности, за это подвергся репрессиям.
(обратно)42
Израиль Липски (1865–1887) — еврейский иммигрант. Обвинен в убийстве соседки посредством вливания ей в глотку азотной кислоты. Обстоятельства его обнаружения (под кроватью убитой и с ожогами полости рта той же кислотой) были весьма очевидны, и все же доказательная база многим показалась недостаточной; видные деятели еврейской общественности и даже члены парламента ходатайствовали об отмене приговора, однако Липски все-таки был повешен.
(обратно)43
Проституток (фр.).
(обратно)44
Оздоровительный комплекс.
(обратно)45
Фаршированная рыба (идиш).
(обратно)46
Гарри Гордон Селфридж — основатель сети магазинов. Во времена написания этой книги, собственно, сети еще не было, но был огромный магазин на Оксфорд-стрит, который открылся в 1909 г. Но и тогда у Селфриджа уже был отдел, где торговали кошерными продуктами.
(обратно)47
Хью «Бинки» Бомонт (1908–1973) — английский театральный менеджер и продюсер; Дональд Албери (1914–1988) — английский театральный импресарио; Джозеф Артур Рэнк (1888–1972) — кинопродюсер, основатель мощного британского кинообъединения «Рэнк организейшн».
(обратно)48
«У Любы» (фр.) — дорогой русский ресторан в Лондоне.
(обратно)49
«Пайнвудские студии» — главная киностудия Великобритании.
(обратно)50
Ангина Венсана — язвенно-некротический гингивит. Гнойничковое воспаление десен.
(обратно)51
«Оливер!» — британский мюзикл по роману Ч. Диккенса «Оливер Твист», написанный Лайонелом Бартом. В СССР был известен по фильму, получившему шесть «Оскаров».
(обратно)52
Лорен Бэколл (урожденная Бетти Джоан Перски) (р. в 1924 г.) — американская киноактриса и модель.
(обратно)53
«Национальным фильмотеатром» раньше назывался комплекс, специально созданный для показа классики киноискусства. Теперь его название «Британский институт кино в Саутбэнке».
(обратно)54
Достоевский написал «Преступление и наказание» в 45 лет.
(обратно)55
Фу-Манчу — злодей-азиат из американского фантастического фильма ужасов «Маска Фу-Манчу» (1932), снятого по мотивам приключенческих романов Сакса Ромера.
(обратно)56
Дуг Хейвард — дорогой лондонский портной.
(обратно)57
«Не все кандидаты проходят» — название стихотворения У.Х. Одена.
(обратно)58
Здесь: хлюст (букв. макаронина) (идиш).
(обратно)59
Выпускавшийся во время войны для армии походный примус.
(обратно)60
Перец Рахман (1919–1962) — еврей из Львова, с начала войны вступивший в антигитлеровское сопротивление в Польше, захвачен немцами, посажен в концлагерь. После раздела Польши попал в советский лагерь. После нападения Гитлера на СССР воевал в польской армии, в конце войны оказался в Англии. Покупал доходные дома в Лондоне, сдавал квартиры. Настолько прославился немилосердным отношениям к квартиросъемщикам, что в английском языке даже появилось слово «рахманизм».
(обратно)61
В шестидесятые годы получила скандальную известность некая Синтия Албриттон (р. 1947) — рок-н-ролльная фанатка, которая, чтобы привлечь к себе внимание знаменитых музыкантов, еще в школьном возрасте просила своих кумиров позволить ей снимать с их членов (по возможности эрегированных) гипсовые оттиски для коллекции.
(обратно)62
Журнал для мужчин, основанный в 1965 г. в качестве британского ответа американским «Плейбою» и «Пентхаузу».
(обратно)63
Фарук I (1920–1965) — король Египта с 1936 по 1952 г. Известен разгульной жизнью в Европе.
(обратно)64
Уоррен Битти (р. 1937) — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.
(обратно)65
Ублюдок (идиш).
(обратно)66
Дэвид Парадайн Фрост (р. 1939) — британский журналист; в шестидесятые годы стал родоначальником политической сатиры на телевидении.
(обратно)67
Антония Фрейзер (урожденная Пакенхэм) (р. 1932) — британская писательница. Вдова Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии по литературе.
(обратно)68
Джон Хьюстон (1906–1997) — американский кинорежиссер, наиболее известный фильмами сороковых годов.
(обратно)69
Вильгельм Богер (1906–1977) — надзиратель и главный специалист Освенцима по допросам с пристрастием. В 1958 г. арестован, в 1965-м приговорен к пожизненному заключению.
(обратно)70
Польский (идиш).
(обратно)71
Хоули Харви Криппен, более известен как доктор Криппен (1862–1910) — американский врач, ставший фигурантом одного из самых громких дел об убийстве в криминалистике XX в. Фредерик Генри Седдон (1870–1912) по сговору с женой Маргарет Энн отравил мышьяком их квартирантку, с которой было заключено соглашение о пожизненном содержании. Повешен. Жена почему-то признана невиновной. Невилл Джордж Кливли Хит (1917–1946) — английский преступник, повешенный за убийство по меньшей мере двух женщин. На следствии выяснилось, что он еще и маньяк-садист. Стивен Томас Вард (1912–1963) — модный врач-остеопат, он никого не убивал и, вероятнее всего, сам стал жертвой заказного убийства. Вращаясь в высшем свете, Стивен Вард в 1961 г. познакомил военного министра Джона Профьюмо с девицей легкого поведения, которая одновременно состояла в связи с советским военно-морским атташе Евгением Ивановым. Разразившийся скандал привел к падению правительства консерваторов.
(обратно)72
Элке Зоммер (урожденная Элке Шлётц, р. 1940) — киноактриса. Родилась в Германии. В юности, изучая английский язык, жила в прислугах в Англии, на каникулы поехала в Италию и там была замечена режиссером Витторио де Сика. Стала звездой Голливуда.
(обратно)73
Галаха — совокупность правил и законов, которые содержатся в Торе, Талмуде и раввинистической литературе.
(обратно)74
Парве — букв, нейтральное (иврит).
(обратно)75
Сэмюэль Джонсон (1709–1784) — английский поэт, критик и лексикограф эпохи Просвещения. Составитель первого толкового словаря английского языка.
(обратно)76
Нельсон Аккеман Эдди (1901–1967) — американский эстрадный певец и киноактер.
(обратно)77
Генри Луис «Лу» Гериг (1903–1941) — знаменитый бейсболист, особенно запомнившийся болельщикам тем, что в возрасте 36 лет был вынужден оставить спорт из-за редкой и смертельной неврологической болезни.
(обратно)78
Уильям Дэвид Конн (1917–1993) — американский боксер полутяжелого веса, знаменитый своими схватками с тяжеловесом Джо Луисом. В мае 1941 г. Конн был близок к победе, но в 13-м раунде получил от Луиса нокаут. Оба в 1942 г. были призваны в армию. В 1946 г. состоялся их матч-реванш, но победить Конну так и не удалось.
(обратно)79
«Скру» («Screw») — порнографический еженедельник, выходящий в США с 1968 г.
(обратно)80
Морис Жироди (1919–1990) — французский издатель, владелец «Олимпии-пресс», где издавались Жан Жене, Набоков, Беккет и другие авторы, чьи произведения в сороковые — пятидесятые годы XX в. считались порнографическими. В 1964 г. издательство закрыли, и Жироди было запрещено заниматься издательской деятельностью во Франции.
(обратно)81
Так называют в Англии судей Высокого суда правосудия (High Court).
(обратно)82
Талидомид — чудо-лекарство (снотворное, обезболивающее, противорвотное и т. д.), которое с 1957 г. поступило в продажу и широко рекламировалось во многих странах. В 1961 г. выяснилось, что при приеме беременными оно вызывает у детей врожденные уродства. Жертвами талидомида стали по разным оценкам от десяти до двадцати тысяч человек.
(обратно)83
Утремон — фешенебельный район Монреаля.
(обратно)84
Мило (ит.).
(обратно)85
Разновидность жареных или печеных пирожков.
(обратно)86
Такова война (фр.).
(обратно)87
Нечто вроде пельменей с куриным мясом.
(обратно)88
Weltanschauung — мировоззрение (нем.).
(обратно)89
Вонючка (идиш).
(обратно)90
AZA — международный орден «Aleph Zadik Aleph», организация, созданная в 1924 г. для еврейских подростков. Существует до сих пор как мужская ветвь организации «Бней Брит».
(обратно)91
Сноудон — богатый район Монреаля.
(обратно)92
Издательство «Пингвин-букс» известно значительной просветительской составляющей своей деятельности.
(обратно)93
Книга английского писателя Альфонса Джеймса Саймонса (1900–1941). Представляет собой «экспериментально-художественную» биографию писателя, фантазера и большого эксцентрика Фредерика Рольфа (1860–1913), который сам себя называл «бароном Корво». Рольф был, в частности, одержим (как писал о нем один из биографов) «гомоэротическим эстетством и интеллектуальной педофилией».
(обратно)94
Шикса — женщина-нееврейка (идиш).
(обратно)95
Лина Мери Колхаун Хорн (р. 1917) — американская актриса, певица и танцовщица.
(обратно)96
Пыльным мешком стукнутый (идиш).
(обратно)97
Шестьдесят девять (фр.).
(обратно)98
Гомосексуалист (идиш).
(обратно)99
Клиника Мэйо — единая система частных некоммерческих клиник, обеспечивающих наивысший стандарт обслуживания пациентов в США. Основана братьями Уильямом и Чарльзом Мэйо в начале XX в. Серия комиксов про Гампсов была запущена в 1917 г. художником Сидни Смитом и продержалась 42 года.
(обратно)100
Эдвард Винсент Салливэн (1901–1974) — американский журналист и телеведущий. Артур «Багз» Бэер (1886–1969) — американский журналист, художник-карикатурист и писатель-сатирик. Дэн Паркер — по-видимому, имеется в виду журналист, больше тридцати лет проработавший редактором спортивной странички в газете «Нью-Йорк миррор». Серия комиксов про летчика, но к Нью-Йорку она отношения вроде бы не имеет, поскольку публиковалась (с 1933 по 1973 г.) в газете «Чикаго трибьюн». Ее придумал и рисовал художник и энтузиаст-авиатор Зак Мосли. Дороти Дикс (1861–1951) — настоящее имя Элизабет Меривезер Гилмер, американская журналистка, родоначальница жанра газетных советов по вопросам брака и семьи. Гедда Хоппер (настоящее имя Эльда Фёрри) (1885–1966) — танцовщица и певица, она сделалась посредственной актрисой немого кино; с приходом эры кино звукового осталась не у дел. Вела на радио колонки светских новостей. Уолтер Уинчелл (1897–1972) — газетный и радиожурналист. В двадцатые годы был связан с организованной преступностью Нью-Йорка и, боясь, что его убьют, бежал в Калифорнию. Через пару месяцев вернулся, стал работать на ФБР. В пятидесятые годы был большим почитателем и проводником идей сенатора Маккарти.
(обратно)101
Барни Росс, он же Дов-Бер Розофски (1909–1967) — американский боксер, еврей по национальности. В 1933 г. стал чемпионом мира в легком весе. Воевал в морской пехоте, практически в одиночку выстоял против чуть не двух десятков японцев и, раненый, всех их уничтожил, при этом спас товарища. Удостоен Серебряной Звезды (третьей по значимости военной награды США) и приема у президента. Ирвинг Берлин (настоящее имя Израиль Моисеевич Бейлин) (1888–1989) — американский композитор. Написал более 900 песен, восемнадцать мюзиклов и музыку к восемнадцати кинофильмам. Эдди Кантор (настоящее имя Эдвард Израиль Искович) (1892–1964) — необычайно популярный в 20-30-е гг. актер, танцор, певец и автор песен.
(обратно)102
Дженни Гольдштейн и Аарон Лебедефф — актеры «Монреальского идиш-театра Доры Вассерман».
(обратно)103
«Эйби и его Ирландская Роза» — популярная пьеса Анны Николс об истории любви девушки-ирландки и еврейского юноши. Была впервые поставлена на Бродвее еще в 1920-е гг. и продержалась сорок лет.
(обратно)104
Бернард Барух (1870–1965) — американский финансист, государственный деятель и политолог. Был советником двух президентов — Вудро Вильсона и Ф.Д.Рузвельта. Фьорелло Генри Ла-Гуардия (1882–1947) — мэр Нью-Йорка в течение трех каденций — с 1933 по 1945 г. Его матерью была итальянка еврейского происхождения Ирен Коэн. Мики Катц (Меир Майрон Катц) (1909–1985) — актер и музыкант, специализировавшийся на пародиях и еврейском юморе. Пьер Ван Паассен (1895–1968) — датско-канадско-американский журналист, писатель и священник. В 1933 г. десять дней провел в заключении в лагере Дахау. Снискал славу репортажами о конфликтах между арабами, британцами, евреями и французами на Ближнем Востоке. Всегда сочувствовал сионизму. Хагана (оборона, защита — иврит) — еврейская полувоенная организация в Палестине, существовала с 1920 по 1948 г. С образованием еврейского государства стала основой Армии обороны Израиля.
(обратно)105
Рита Хейворт (Маргарита Кармен Канзино) (1918–1987) — американская актриса; секс-символ сороковых годов. Принц Али Соломон Ага Хан (1911–1960) с 1958 по 1960 г. был вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН от Пакистана. С 1949 по 1953 г. состоял в браке с Ритой Хейворт.
(обратно)106
Инструмент Келли — нечто вроде широкой фомки. Изобретен Джоном Ф.Келли, пожарным из Нью-Йорка.
(обратно)107
«Партизан ревью» — журнал левого направления, выходил с 1934 по 2003 г. Вначале имел отчетливую прокоммунистическую ориентацию, однако впоследствие стал антисталинистским. В нем печатались Сол Беллоу, Филип Рот, Лайонел Триллинг, Сьюзен Сонтаг и многие выходцы из среды еврейских иммигрантов.
«ПМ» — нью-йоркская газета крайне левого направления. Выходила с 1940 по 1948 г. В ней печатались такие авторы, как Эрскин Колдуэлл, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Тёрбер, Дороти Паркер, Малькольм Каули.
«Нью рипаблик» — журнал, выходящий с 1914 г. Балансирует между левоцентристской и либеральной позицией. В промежутке между мировыми войнами поддерживал Советский Союз. В пятидесятые годы критиковал маккартизм. В шестидесятые выступал с осуждением Вьетнамской войны. Затем позиция журнала сместилась вправо. Считается самым интеллектуальным изданием в США. Авторами журнала были Томас Манн, Джордж Оруэлл, Филип Рот, Вирджиния Вулф.
(обратно)108
Гостиница «Алгонкин» знаменита тем, что с 1919 по 1929 г. в ее баре собирался кружок нью-йоркских писателей, критиков, актеров и прочих интеллектуалов (так называемый «Алгонкинский круглый стол»).
(обратно)109
Эдмунд Уилсон (1895–1972) — писатель и влиятельный литературный критик. Зайчик (Bunny) — его прозвище.
(обратно)110
Дороти Паркер (1893–1967) — писательница, поэтесса. Гарольд Росс — редактор «Нью-Йоркера». Сидни Джозеф Перельман (1904–1979) — писатель-юморист. Элвин Брукс Уайт (1899–1985) — писатель.
(обратно)111
Джек Демпси — легендарный боксер двадцатых годов, чемпион мира в тяжелом весе. В 1935 г. открыл ресторан и бар в Нью-Йорке на Таймс-сквер.
(обратно)112
Упомянуты два боксера: Роки Грациано (1919–1990) и Тони Зейл (1913–1997) — оба чемпионы мира в среднем весе.
(обратно)113
Картофельные оладьи (идиш).
(обратно)114
Леонард Лайонс (Леонард Захер) (1906–1976) — нью-йоркский газетный обозреватель. Боуги — Хэмфри Богарт (1899–1957) — знаменитый американский актер. Актриса Лорен Бэколл была его второй женой.
(обратно)115
Уэсли Бранч Рики (1881–1965) — бейсбольный руководитель, новатор и реформатор. Ввел в правила игры обязательное использование защитного шлема; первым сломал расовый барьер высшей лиги, подписав контракт с чернокожим игроком Джеки Робинсоном.
(обратно)116
Норман Винсент Пил (1898–1993) — священник, писатель и общественный деятель, автор концепции «позитивного мышления».
(обратно)117
Стокгольмское воззвание — обращение, которое в марте 1950 г. выпустил Всемирный конгресс сторонников мира. Документ призывал полностью запретить ядерное оружие.
(обратно)118
Поцелуй меня в зад, дядя Сэм (фр.).
(обратно)119
Роджер — на международном кодовом языке радиосвязи означает «вас понял». Происходит от английского обозначения буквы «R» — сокращения слова «received», «принято».
(обратно)120
Си-би-си — канадская радиовещательная компания.
(обратно)121
Уолтер Пиджен (1897–1984) — известный канадский актер 30-50-х гг. XX в. Почти всю жизнь прожил в США.
(обратно)122
Врата Сиона (ивр.).
(обратно)123
Красный (идиш).
(обратно)124
Институт барона де Хирша — старейшая еврейская социальная служба в Канаде.
(обратно)125
Имеются в виду популярные комиксы, в которых чудо-детективами были поныне известный Бэтмен и его несколько менее знаменитый младший партнер Вондербой.
(обратно)126
Канадская конная полиция — федеральная полицейская служба, сотрудники которой необязательно ездят верхом.
(обратно)127
«Форум» — крытый стадион, действовавший в Монреале с 1924 по 1996 г.
(обратно)128
Талит — молитвенное покрывало, к каждому углу которого пришита бахрома или кисти.
(обратно)129
Линдли Армстронг, он же «Спайк» (Костыль) Джонс (1911–1965) — популярный американский комик, музыкальный пародист. Любил использовать в качестве музыкальных инструментов неподходящие предметы, например стульчак со струнами («сортирофон»).
(обратно)130
Йеллоунайф — город горняков на широте 62,5 градуса. По канадским меркам, это крайний север.
(обратно)131
Строка из стихотворения Александра Поупа (1688–1744). Пер. В. Микушевича.
(обратно)132
Слова одной из песен Ирвинга Берлина в анонимном переводе времен Второй мировой войны.
(обратно)133
Боб Хоуп (Лесли Таунс Хоуп) (1903–2003) — американский актер-комик.
(обратно)134
Джо Пеннер (Йожеф Пинтер) (1904–1941) — американский актер комического жанра. Безумный Русский — роль, которую исполнял актер Берт Гордон (Барни Городецки) (1895–1974); его способом смешить был якобы русский акцент — в частности, фраза «Хав дую дуду», неизменно вызывавшая хохот публики. Фил Харрис (1904–1995) — актер, певец, джазмен. Эдгар Берген (Эдгар Джон Бергрен) (1903–1978) — актер, наибольшую известность получивший как чревовещатель; Чарли Маккарти — кукла, с которой он работал. Джек Бенни (Бенджамин Кубельски) (1894–1974) — актер, один из ведущих американских деятелей индустрии развлечений XX в.
(обратно)135
Мортимер Снерд — еще одна кукла, с которой работал Эдгар Берген. У.К. Филдс (Уильям Клод Дюкенфилдс) (1880–1946) — актер, клоун, жонглер, писатель. Выступал в амплуа обаятельного пьяницы и мизантропа.
(обратно)136
«МГ» («Моррисов гараж») — английская фирма, выпускавшая автомобили с 1924 по 1952 г.
(обратно)137
Марди Гра — карнавал, проводимый во вторник после Масляной недели.
(обратно)138
«Биркс» — сеть дорогих ювелирных магазинов, основанная канадским бизнесменом Генри Бирксом.
(обратно)139
Вестмаунт — богатый пригород Монреаля.
(обратно)140
Парень (исп.).
(обратно)141
Медицинбол — тяжелый неупругий мяч для силовых упражнений.
(обратно)142
Джеймс Френсис «Джимми» Дюранте (1983–1980) — американский эстрадный клоун и певец. Уильям Джеймс Дюран (1885–1981) — американец канадского происхождения, философ, историк и писатель. Его «История философии» стала бестселлером, вместе с женой написал 11-томную «Историю цивилизации».
(обратно)143
Адриен Аркан (1899–1967) — монреальский журналист, самопровозглашенный канадский «фюрер». В течение Второй мировой войны, когда его партия была запрещена, пребывал под стражей. После войны, продолжая превозносить Гитлера, несколько раз выдвигался в парламент и бывал весьма близок к победе.
(обратно)144
Почем, сестричка? (ломаный фр.)
(обратно)145
А Исусок ваш сдох! (идиш)
(обратно)146
Здесь: «Бей жидов» (фр.).
(обратно)147
Прозвище 22-го особого франкоязычного полка канадской армии — от «vingt-deux», двадцать два (фр.).
(обратно)148
«Общество имени св. Иоанна Крестителя в защиту франко-канадской нации, французского языка и Римско-католической церкви». Ставит целью достижение независимости Квебека.
(обратно)149
Шул — синагога (идиш).
(обратно)150
Генри Хэвлок Эллис (1859–1939) — британский сексолог, врач и социальный реформатор.
(обратно)151
Здесь: никчемной болтушкой (идиш).
(обратно)152
Смыслом существования (фр.).
(обратно)153
Дурачки, простофили (идиш).
(обратно)154
Имеются в виду праздники Рош а-Шана (еврейский Новый год), Йом-Кипур (Судный день) и промежуток между ними — всего десять дней.
(обратно)155
«Хадасса» — американская женская сионистская организация.
(обратно)156
Кеннет Патчен (1911–1972) — американский поэт и романист.
(обратно)157
Член (нецензурное) (идиш).
(обратно)158
Джонни Греко (1923–1954) и Бо Джек (1921–2000) — соответственно канадский и американский боксеры.
(обратно)159
Рэндольф Скотт (1898–1987) — американский актер. По большей части исполнял роли ковбоев.
(обратно)160
Запретна (нем.).
(обратно)161
«Бней Брит» (ивр. «Сыны Завета») — общественная еврейская организация.
(обратно)162
Элджер Хисс (1904–1996) — государственный деятель, бизнесмен и писатель. В 1948 г. против него было выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу Советского Союза. Был осужден только на повторном процессе и приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу ложных показаний.
(обратно)163
Род Серлинг, Хортон Фут, Пэдди Чаевски — американские драматурги, работали в том числе для организованного в 1948 г. при Эн-би-си телевизионного театра, который спонсировала фирма Филко. Шон О’Кейси (1880–1964) — известный ирландский драматург и мемуарист.
(обратно)164
Зовите меня Измаил — первая фраза романа Г. Мелвилла «Моби Дик». В свою очередь, Мелвилл использовал это имя как библейскую аллюзию: Измаил — отверженный, изгнанный в пустыню сын Авраама.
(обратно)165
Мазо де ла Рош (1879–1961) — канадская писательница, автор многотомной семейной хроники «Джална», пользовавшейся популярностью. После Второй мировой войны критикой всерьез не воспринималась.
(обратно)166
Буквально «стражем субботы» (ивр.).
(обратно)167
Район Торонто.
(обратно)168
«Гранитный клуб» — крупнейший частный элитарный клуб в Торонто.
(обратно)169
Шнук — простак, дурачок (идиш).
(обратно)170
Джефри Амхерст (1717–1797) — первый генерал-губернатор британских территорий в Америке, впоследствии ставших Канадой. Аарон Харт (1724–1800) — маркитант при войсках Амхерста. Считается первым евреем Канады. (До завоевания Канады Британией евреев там не было, потому что Людовик XIV специальным указом постановил, что ехать в Новую Францию имеют право только католики.)
(обратно)171
Охотников (фр.).
(обратно)172
Еврейским военным флотом в прессе тех лет именовалась так называемая «Пурпурная шайка», занимавшаяся контрабандой спиртного из Канады в США по реке Детройт.
(обратно)173
В самом деле? (идиш)
(обратно)174
Герой детективов Э.С. Гарднера, адвокат.
(обратно)175
Антидиффамационная лига — международная правозащитная организация, основанная «Бней Брит» в целях борьбы с дискриминацией евреев и другими формами неравноправия и расизма.
(обратно)176
Фланкен — мясо на ребрышках (идиш).
(обратно)177
Спокойная, добродушная (идиш).
(обратно)178
Ирвинг Берлин. Куплеты из мюзикла «Энни, целься точнее!»
(обратно)179
Тут ничего нет (исп.).
(обратно)180
В 1960 г. издательство «Пингвин», опубликовав массовым тиражом полную версию скандального романа Д.Г. Лоуренса (1885–1930), подверглось судебному преследованию по обвинению в распространении порнографии, однако процесс выиграло.
(обратно)181
Дневник Дженнифер — светская колонка журнала «Квин».
(обратно)182
Гарольд Вильсон (1916–1995) — премьер-министр Великобритании, лейборист. Джордж Браун (1914–1985) — британский политик, лейборист, в конце шестидесятых второй в партии человек после Гарольда Вильсона.
(обратно)183
Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной (ивр.).
(обратно)184
При Эль-Аламейне осенью и зимой 1942–1943 гг. британцы разбили немцев, не пропустив их к ближневосточной нефти.
(обратно)185
Лейбористский сионизм — основное направление левого крыла сионизма. В отличие от политических сионистов Теодора Герцля, лейбористские сионисты не стремились полностью опереться на высшие правящие круги сильных государств, а делали ставку на постепенную самоорганизацию переселяющихся в Палестину еврейских рабочих и крестьян.
(обратно)186
Нарвик — город и порт в Норвегии. Весной 1940 г. под Нарвиком союзниками была одержана победа на море и первая крупная победа в наземной войне.
(обратно)187
Джордж Альфред Генти (1832–1902) — плодовитый английский писатель, автор детских приключенческих повестей.
(обратно)188
Управление доставки — организация, занимавшаяся перегоном через Атлантику самолетов, построенных на американских и канадских заводах.
(обратно)189
Джордж Формби — певец и клоун; Томми Фарр — боксер-тяжеловес; «Миссис Минивер» — американский фильм 1942 г. о том, как страдают англичане во время войны. В нем священник озвучивает мысль, что это не война армий или правительств, а народная война.
(обратно)190
День империи в первый раз праздновали 24 мая 1902 г. С 1966 г. стал называться Днем Содружества и отмечается 10 июня.
(обратно)191
Имеется в виду Бенджамин Дизраэли (1804–1881).
(обратно)192
Бульдог Драммонд — герой романов Германа Сирила Макнейла (1888–1937), частный детектив, ветеран Первой мировой войны. Чарльз Лафтон (1899–1962) — великий англо-американский актер, сценарист, режиссер, продюсер; куриную ногу он бросает через плечо в роли Генриха VIII. Эдвард Роско Мёрроу (1908–1965) — американо-английский журналист, во время войны работал в основном в Лондоне, приобрел всемирную славу военными репортажами.
(обратно)193
Вальтер Скотт, «Дева озера», пер. П.Карпа.
(обратно)194
Альфред Теннисон, «У моря». Пер. С. Маршака.
(обратно)195
Белые перья в Великобритании посылали или вручали тем, кто проявил трусость. Аллюзия на роман «Четыре пера» (1902) Альфреда Мейсона (1865–1948) о том, как юный лейтенант, не поехав воевать в Египет, получил три пера от друзей, одно добавила невеста, и всю жизнь потом совершал подвиги во имя каждого из приславших перья, чтобы смыть позор. Ральф Ричардсон (1902–1983) и Обри Смит (1863–1948) — актеры, игравшие в английской экранизации этого романа (1939).
(обратно)196
Вилли Ломан — герой пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжера» (1949). Вилли Ломан не умел располагать к себе людей.
(обратно)197
Энтони Иден (1897–1977) — премьер-министр Великобритании с 1955 по 1957 г.
(обратно)198
Вероятно, имеется в виду Хью Тодд Нейлор Гейтскелл (1906–1963) — британский политик, лейборист, с 1955 по 1963 г. председатель Лейбористской партии и лидер парламентской оппозиции.
(обратно)199
«Диванным театром» называлась передача британского телевидения, выходившая с 1956 по 1968 г.
(обратно)200
Дикое захолустье (нем.).
(обратно)201
Анри-Шарль-Уилфрид Лорье (1841–1919) — седьмой премьер-министр Канады; первый франкофон в этой должности.
(обратно)202
Кеннет Пикок Тайнан (1927–1980) — самый влиятельный театральный критик того времени, оказал определяющее влияние на сценическое искусство пятидесятых-шестидесятых годов.
(обратно)203
Джон Рэндалл Братби (1928–1992) — английский художник, зачинатель стиля, получившего название «реализм кухонной раковины».
(обратно)204
Сумасшедший (идиш). В то же время gaga — спятивший, в том числе и от восторга (англ.).
(обратно)205
П.К. — провинция Квебек.
(обратно)206
ФЛП — фракция лейбористов в парламенте.
(обратно)207
Уильям Генри Денхем Роуз (1863–1950) — известный английский педагог, первым применивший непосредственный метод обучения латыни и древнегреческому.
(обратно)208
Эдвин Харди Эмис (1909–2003) — английский кутюрье. Известен главным образом тем, что шил одежду королеве Елизавете II.
(обратно)209
Пер. В. Левика.
(обратно)210
Клемент Ричард Эттли (1883–1967) — лидер Лейбористской партии с 1935 по 1955 г., премьер-министр Великобритании с 1945 по 1951 г.
(обратно)211
«Это и моя мечта» — аллюзия на популярную в послевоенные годы одноименную песню на слова Герба Магидсона, в которой девушка очень конкретно и вещественно по пунктам излагает свою мечту о беспечальной жизни в законном браке, а ее партнер после каждого пункта повторяет: «Это и моя мечта».
(обратно)212
Кидуш — обряд освящения над бокалом вина.
(обратно)213
Джульетта (урожденная Джульетта Августина Си-ак, по мужу Кавацци) (р.1927) — певица, родилась в Виннипеге в польско-украинской семье, участвовала во многих программах Си-би-си. Воплощала собой образ обаятельной простушки.
(обратно)214
Рэндольф Херст (1863–1951) — американский газетный магнат. Активно способствовал карьере своей любовницы, киноактрисы Марион Дэвис, она же Марион Сесилия Дурас (1897–1961).
(обратно)215
Королевский колледж Святого Петра в Вестминстере (Вестминстерская школа) — одно из самых престижных средних учебных заведений Лондона. Цвет галстука коричневый в серую косую полоску.
(обратно)216
Остров Мэн находится в Ирландском море на равных расстояниях от Англии, Ирландии и Шотландии и в состав Соединенного королевства (а теперь и Евросоюза) не входит, хотя и является собственностью Ее Величества. Оффшорная зона.
(обратно)217
Томас Шон Коннери (р.1930) — шотландский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда.
(обратно)218
Сыночек (идиш). Тот, кто по тебе прочтет кадиш, то есть заупокойную молитву.
(обратно)219
Томас Краппер (1836–1910) — водопроводчик, который основал в 1861 г. компанию, изготовлявшую оборудование для ватерклозетов.
(обратно)220
Ревю-бар Рауля Реймонда в Сохо — лондонский стрип-клуб и секс-театр.
(обратно)221
«Звуки музыки» (1965) — фильм режиссера Роберта Уайза. Музыка Ричарда Роджерса. В 1966 г. фильм получил пять премий американской киноакадемии.
(обратно)222
«Хэмлиз» — один из крупнейших в мире магазинов игрушек; «Либертиз» — универсальный магазин женской одежды.
(обратно)223
Дорогое белое французское вино.
(обратно)224
Еврейский ресторанчик. Нош — легкий перекус (идиш).
(обратно)225
Шнорер — попрошайка (идиш).
(обратно)226
Бейб Рут (1895–1948) — легендарная звезда бейсбола.
(обратно)227
Здесь: посторонних, лезущих с непрошеными советами (идиш).
(обратно)228
Эмилио Пуччи, маркиз ди Барсенто (1914–1992) — итальянский модельер, дизайнер и политик.
(обратно)229
Торремолинос известен как курорт, где процветает гей-культура.
(обратно)230
Питер Шимас Лоркан О’Тул (р.1932) — ирландский актер, исполнитель роли Лоуренса Аравийского в одноименном фильме (1962), Генриха II («Лев зимой», 1968) и т. д.
(обратно)231
Житие царя Давида.
(обратно)232
Шемуэйл II 11:14, 15.
(обратно)233
«Нейшн» — самый левый из крупных американских журналов либеральной направленности.
(обратно)234
Кружка для доброхотных даяний (идиш, от польского puszka).
(обратно)235
«В ожидании Лефти» (1935) — пьеса американского драматурга Клиффорда Одетса, характерная для «красного десятилетия». В этой пьесе водители такси пришли на сходку и решают, надо ли бастовать. Нет только вожака по прозвищу Лефти (Левак). В конце пьесы выясняется, что Лефти убит.
(обратно)236
Судебное дело «мальчишек из Скотсборо» тянулось с 1931 по 1937 г. Нескольких беспризорников-негров облыжно обвинили в изнасиловании двух белых девушек. Верховный суд трижды отменял решение присяжных, но те вновь приговаривали подростков к смерти. Правда, в итоге их все-таки не казнили.
(обратно)237
Генри Уоллес (1888–1965) — соперник Трумена на президентских выборах. В то время с симпатией относился к Советскому Союзу.
(обратно)238
Олдермастон — деревушка в Юго-Восточной Англии, рядом с которой находится завод по производству атомного оружия и британское управление по ядерным вооружениям.
(обратно)239
Анна Паукер (урожденная Ханна Рабинсон) (1893–1960) — румынский политический деятель и фактический лидер РКП в конце 40-х — начале 50-х гг. Отстранена от власти по указанию из Москвы как буржуазная сионистка и космополит. Имела внешность мужского склада.
(обратно)240
«Групповой театр» — нью-йоркский театр, основанный в 1931 г. Ли Страсбергом с группой единомышленников для совершенствования сценического искусства при помощи системы Станиславского.
(обратно)241
«Дезилю» — голливудская продюсерская фирма, основанная в 1950 г. актерской супружеской четой Дези Арнасом и Люсиль Болл.
(обратно)242
Семья, компания (идиш).
(обратно)243
Рамат-Авив — северная окраина Иерусалима.
Тель-Авива (прим. верстальщика).
(обратно)244
Эйтан — сильный, крепкий (ивр.).
(обратно)245
Арабским легионом в Великобритании называли организованную с британской помощью иорданскую регулярную армию.
(обратно)246
Ритуальная трапеза.
(обратно)247
Терезиенштадт — нацистский концлагерь на территории города Терезин в Чехословакии.
(обратно)248
Избранный (араб.) — титул главы поселения или района.
(обратно)249
Дейр-Яссин — арабская деревня близ дороги из Тель-Авива в Иерусалим, в которой 9 апреля 1948 г. произошло массовое убийство мирных жителей.
(обратно)250
Эцель (сокращение от «Иргун Цваи Леуми» — «национальная военная организация») — формирование, которым руководил Менахим Бегин, будущий премьер-министр Израиля. Шайкой Штерна англичане именовали организацию «Лехи» («Лохамей херут Исроэль» — «Борцы за свободу Израиля»), Первым руководителем Лехи был Авраам Штерн, убитый 12 февраля 1942 г.
(обратно)251
Нетурей карта (арам., «стражи города») — иудейская ультраортодоксальная религиозная община, выступающая не только против сионизма, но и против существования Государства Израиль. Машиах — мессия (ивр.).
(обратно)252
Йоханан бен Заккай — раввин I в. н. э., ученик Гиллеля.
(обратно)253
Дитер Вислицени (1911–1948) — один из гитлеровских чиновников, в чью обязанность входило уничтожение евреев Словакии, Венгрии и Греции.
(обратно)254
Мэзон-Лафит — северо-западный пригород Парижа. Известен ипподромом, одним из крупнейших во Франции, где проводятся престижные скачки.
(обратно)255
Добродушная (нем.).
(обратно)256
Йозеф (Зепп) Дитрих (1892–1966) — оберстгруппенфюрер СС. В 1934 г. был участником «ночи длинных ножей». После Второй мировой войны осужден как военный преступник на пожизненное тюремное заключение, в 1955 г. по решению совместной американо-германской комиссии негласно освобожден.
(обратно)257
ODESSA (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen) — «Организация бывших членов СС» (нем.).
(обратно)258
Миклош Нисли (1901–1956) — бывший узник лагеря в Биркенау и свидетель на судебном процессе против администрации Освенцима. Впоследствии автор романа «Свидетель обвинения: доктор в Освенциме» (1951), выдержки из которого пересказывает М. Рихлер.
(обратно)259
Ефрейтор санитарной службы (нем.).
(обратно)260
Швабинг — богемный район Мюнхена.
(обратно)261
Хумплайр — дорогой ресторан в Мюнхене, Хофбройхаус — главный пивной ресторан Мюнхена и всей Баварии.
(обратно)262
Стив Кэньон — летчик, персонаж комиксов, которые рисовал и снабжал подписями американский художник и писатель Милтон Канифф.
(обратно)263
«CF-104» — канадский вариант сверхзвукового истребителя-бомбардировщика «F-104 Старфайтер».
(обратно)264
У.Х. Оден. «Испания», пер. В.Топорова.
(обратно)265
Цитата из романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма», пер. А. Кистяковского.
(обратно)266
Артур Кёстлер (1905–1983) — британский писатель и журналист, уроженец Венгрии, еврей по национальности. Тюрьму и лагеря познал на личном опыте — в Испании, Франции и даже в Англии. Во время войны служил в инженерных войсках британской армии.
(обратно)267
Товарищ (ивр.).
(обратно)268
Имеется в виду Всемирная выставка в Монреале «Экспо 67».
(обратно)269
Каткиллские горы — любимое место отдыха нью-йоркских евреев. Особой популярностью пользовались там так называемые отели Гроссингера неподалеку от города Либерти (штат Нью-Йорк) с их кошерной кухней, выступлениями еврейских артистов и т. д. В 80-е популярность этих отелей стала падать, и они закрылись.
(обратно)270
Джон Герберт «Джеки» Глисон (1916–1987) — американский комический актер, музыкант, телеведущий.
(обратно)271
Лорн Грин (1915–1987) — сценический псевдоним канадского актера Лайона Хаймана Грина, родившегося в семье еврейских иммигрантов из России. В сериале «Золотое дно» (1959–1973) играл роль главы семейства Бена Картрайта.
(обратно)272
Роберт Халл (р.1939) — канадский хоккеист; считается одним из величайших хоккеистов всех времен. «Королевская автострада», или автострада № 401, — шоссе от г. Виндзор до границы с Квебеком.
(обратно)273
Сэмюэл Бронфман (1889–1971) — канадский бизнесмен, миллиардер, меценат.
(обратно)274
Крестовые булочки — в Англии на Пасху принято печь булочки с изюмом, покрытые глазурью с изображением креста.
(обратно)275
Сент-Агат-де-Мон — курортный городок примерно в ста километрах от Монреаля.
(обратно)276
Убежище Андерсона — землянка, крытая тонким рифленым железом. Названо именем тогдашнего министра внутренних дел.
(обратно)277
Дибук — в еврейском фольклоре неприкаянная душа умершего, вселяющаяся в чужое тело.
(обратно)278
Курчавость листьев, ложномучнистая роса — болезни растений.
(обратно)279
Адон Олам — рифмованный литургический гимн, прославляющий единого и вечного Бога и выражающий веру в провидение Божие.
(обратно)280
Томас Майкл Хор (р.1920) по прозвищу Бешеный Майк — ирландец по происхождению, отставной полковник британской авиадесантной службы. В начале 1960-х создал группу наемников «Коммандо-9». Автор бестселлеров «Дорога в Катамату: воспоминания конголезского наемника» и «Сейшельское дело».
(обратно)281
Клуб Гаррика — сообщество деятелей сцены имени выдающегося актера Дэвида Гаррика.
(обратно)282
Джордж Харрисон Маркс (1926–1997) — британский фотограф и кинорежиссер. Специализировался на мягком порно.
(обратно)283
С января по апрель 1968 г. по всей Британии прокатилась патриотическая кампания, которую начали пять секретарш-машинисток, предложивших помочь правительству в ликвидации национального долга. Они призывали всех бесплатно работать каждый день лишних полчаса.
(обратно)284
Невилл Джордж Кливли Хис (1917–1946) — садист, убивший по меньшей мере двух женщин, повешен по приговору суда. Ян Брейди (р.1938) и его подружка Майра Хиндли (1942–2002) садистским образом убили пятерых детей.
(обратно)285
«У Аннабеллы» — элитный ночной клуб.
(обратно)286
Вильгельм Райх (1897–1957) — ученик Фрейда, австро-американский психолог-неофрейдист, один из первых провозвестников сексуальной революции.
(обратно)287
В обиходе термином «Гемара» часто обозначают Талмуд в целом, а также каждый из составляющих его трактатов в отдельности.
(обратно)288
Гамлиэль — видный фарисей, старший сын Гиллеля, влиятельный член Великого синедриона в Иерусалиме, жил в I в. Элеазар бен Азария — один из видных талмудистов, современник Гамлиэля. Раши (1040–1105) — крупнейший средневековый комментатор Талмуда.
(обратно)289
Герберт Маршалл Маклюэн (1911–1980) — канадский философ. Исследовал формирующее воздействие электронных средств коммуникации на человека и общество.
(обратно)290
Майкл Фиш — лондонский кутюрье. Открыл свой модный салон «Мистер Фиш» в 1966 г.
(обратно)291
Стивен Спендер. Строки из стихотворения «Я думаю о тех, кто истинно велик».
(обратно)292
Тимоти Лири (1920–1996) — американский психолог, писатель, пропагандист психоделиков.
(обратно)293
Малкольм Икс — один из идеологов «Черных пантер». Погиб в возрасте 40 лет. В 1965 г. его застрелили в Гарлеме перед самым митингом.
(обратно)294
Альбер Камю погиб в автокатастрофе 4 января 1960 г., возвращаясь из Прованса в Париж.
(обратно)295
У.Х. Оден. «Памяти У.Б. Йейтса».
(обратно)296
Имеется в виду книга эссе Э.М. Форстера (1879–1970) «Два тоста за демократию». Первый тост Форстер подымал за вариативность, второй — за возможность критики.
(обратно)297
Сорт марихуаны.
(обратно)298
Пауль Хорнунг (р.1935) — профессиональный игрок в американский футбол. Сэндфорд Браун, он же Кофакс (р.1935) — игрок высшей бейсбольной лиги. В 30 лет был вынужден оставить спорт из-за артрита.
(обратно)299
Подчеркнутые слова показаны болдом — прим. верстальщика).
(обратно)300
Джим Талли (1886–1947) — американский поэт, прозаик, вышел из низов, работал в цирке, был профессиональным боксером, писал о знаменитостях Голливуда; «Подайте жизнь» (1924) — его книга воспоминаний.
Книга Э. Синклера называется «Медный жетон», ее тема — продажность прессы.
Труд Джеймса Фрейзера называется «Золотая ветвь» и посвящен взаимовлиянию мифологии и религии.
Теодор Райк (1888–1969) — психоаналитик, один из первых учеников Фрейда; в книге «Миф и комплекс вины. Преступление и наказание человечества» прослеживает влияние комплекса вины и мазохизма на религию.
«Фейт» — журнал, посвященный паранормальным явлениям, НЛО, привидениям и т.п
(обратно)301
Иосиф Трумпельдор (1880–1920) — герой обороны Порт-Артура во время русско-японской войны. Впоследствии уехал в Палестину, где организовывал отряды еврейской самообороны. Погиб в перестрелке с арабами.
(обратно)302
Эрлз-Корт — в конце 60-х район самого дешевого жилья в центральной части Лондона.
(обратно)303
Сладкой жизни (ит.).
(обратно)304
Борнмут — курорт на южном побережье Англии.
(обратно)305
Ведьме (идиш).
(обратно)306
Реджинальд «Рекс» Кейри Харрисон, сэр (1908–1990) — английский актер.
(обратно)307
В романе Фрэнка Баума (1856–1919) «Волшебник из Страны Оз» дорога из желтого кирпича ведет к Изумрудному городу.
(обратно)308
Здесь: гад и грубиян (идиш).
(обратно)309
Книготорговая фирма Уильяма Генри Смита, существующая с 1792 г. Первая компания в мире, организовавшая розничную сеть.
(обратно)310
«Мстительницы» — фантастический сериал. Шел по британскому телевидению с 1961 по 1969 г.
(обратно)311
Галерея «Бен Ури» — еврейский музей искусств. Назван в честь библейского мастера Бецалеля Бен Ури, изготовителя скинии Завета для Первого Храма.
(обратно)312
Фирма «Гродзински и дочери» основана в 1888 г. снабжает кошерной выпечкой чуть ли не всю Англию.
(обратно)313
Фильм «Роз-Мари», 1936 г.
(обратно)314
Цитата из песни, которую исполнял Нельсон Эдди в фильме «Шхуна „Новолуние“» (1940).
(обратно)315
Кэкстон-холл — общественное здание. В разные времена использовалось по-разному.
(обратно)316
Виктор «Вики» Вайс (1913–1966) — германо-британский художник-карикатурист еврейского происхождения. Работал во многих газетах. Покончил с собой.
(обратно)317
Менса — крупнейшее и самое известное объединение людей с высоким коэффициентом интеллекта. Существует с 1946 г.
(обратно)318
Жан Беливо (р.1931) — знаменитый хоккеист, игравший за команду «Монреаль канадиенс».
(обратно)319
Джон А.Макдональд (1815–1891) — первый премьер-министр Канады.
(обратно)320
Лора Ингерсол Секорд (1775–1868) — канадская героиня войны 1812 г. Предупредила англичан и союзных с ними воинов-могавков о готовящейся атаке американцев, в результате чего англичане одержали так называемую «победу при Бобровой Плотине».
(обратно)321
Звездная палата — судебный орган в средневековой Англии, созданный для борьбы с мятежной аристократией. Позднее стала орудием расправы с противниками абсолютизма и англиканской церкви.
(обратно)322
«Вэнгард» — турбовинтовой авиалайнер, построенный в 1959 г. фирмой «Виккерс-Армстронг».
(обратно)323
Леди Докер, урожд. Нора Ройс Тернер (1906–1983) — великосветская дама сороковых-пятидесятых годов XX в., несколько раз выходила замуж, всегда за финансовых магнатов. Гильберт Чарльз Хардинг (1907–1960) — английский радио- и тележурналист. Клемент Ричард Эттли (1883–1967) — британский политик, лидер Лейбористской партии и премьер-министр Великобритании.
(обратно)324
«Олимпия» — выставочный центр в Западном Кенсингтоне.
(обратно)325
Чарльз Клор (1904–1979) — британский финансовый магнат.
(обратно)326
Мармадюк — кличка датского дога, вокруг которого разворачивается действие в комиксах Брэда Андерсона, публикуемых с 1954 г. по сей день во многих газетах англоязычных стран.
(обратно)327
Евреи идут! (нем.)
(обратно)328
Cojones — яйца (исп.).
(обратно)329
Боже упаси (ивр.).
(обратно)330
Фейсал ибн Абдель Азиз ас-Сауд (1903–1975) — король Саудовской Аравии.
(обратно)331
Здесь: свинтус (идиш).
(обратно)332
Самая длинная река Британской Колумбии (Канада). Названа именем ее исследователя Саймона Фрейзера.
(обратно)333
Цадик — духовный наставник у хасидов.
(обратно)334
Рип ван Винкль — легендарный персонаж одноименной новеллы (1819) Вашингтона Ирвинга, житель деревушки близ Нью-Йорка, проспавший двадцать лет в горах и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли.
(обратно)335
Энди Уорхол (1928–1987) создал серию портретов правящих королев, в том числе и Елизаветы II.
(обратно)336
Леонард Патрик «Рыжий» Келли (р.1927) — канадский хоккеист, был членом парламента.
(обратно)337
Джордж «Панч» Имлах (1918–1987) — тренер и менеджер НХЛ.
(обратно)338
Строки из «Колыбельной» У.Х.Одена: «Любовь моя, челом уснувшим тронь / Мою предать способную ладонь. / Стирает время, сушит лихорадка / Всю красоту детей, их внешний вид, / И стылая могила говорит, / Насколько детское мгновенье кратко». Пер. П. Грушко.
(обратно)339
Юсуф Карш (1908–2002) — канадский фотограф-портретист.
(обратно)340
В районе Дьеппа 19 августа 1942 г. была предпринята попытка высадить десант. Союзники понесли тяжелые потери, причем подавляющее большинство погибших были канадцы.
(обратно)341
«Беттер-бизнес-бюро» — американо-канадская организация, созданная в 1912 году для борьбы за честный бизнес.
(обратно)342
Перевернутая цитата из речи Черчилля (20 августа 1940 г.) о британских пилотах: «Никогда еще на полях военных действий не бывали столь многие в таком неоплатном долгу перед горсткой избранных».
(обратно)343
Битва при Тобруке (Ливия) вызвала первую пробуксовку «блицкрига»; там немцам было оказано серьезное сопротивление: Тобрук выдержал восьмимесячную осаду итало-немецких войск. Рихлер здесь, скорее всего, иронизирует над американским фильмом «Тобрук» (1967). По сюжету фильма английское командование использует для секретной операции группу немецких евреев, которых переодевают в форму вермахта. Во главе с канадским майором они под носом у немцев пересекают пустыню, проникают в Тобрук и взрывают немецкие склады горючего.
(обратно)344
Речь идет об игре в гольф. Арнольд Палмер, Джек Никлаус, Уильям Каспер — известные профессиональные гольфисты.
(обратно)345
Пока сидишь шиву, стричь ногти запрещено.
(обратно)346
Лерой Джонс (р.1934) — афро-американский поэт, писатель и музыкальный критик радикального толка. Сперва он призывал к насилию над белыми и установлению власти черных, в конце шестидесятых стал ярым антисемитом, затем сделался марксистом.
Элдридж Кливер (1935–1998) — радикальный писатель, интеллектуал, борец за гражданские права. В 1957 г. арестован и осужден за изнасилование и попытку убийства. В 1966 г. вышел из тюрьмы и вступил в партию «Черных пантер», так как эта негритянская организация призывала к вооруженной борьбе. Бежал во Францию, где стал ревностным христианином и организовал секту «Крестоносцев Элдриджа Кливера». В 1975 г. от «Черных пантер» отрекся и возвратился в США.
(обратно)347
Радость великая! (идиш)
(обратно)348
Несчастья (идиш).
(обратно)349
Сопляк (идиш).
(обратно)350
Terra firma — твердая земля (лат.).
(обратно)351
Джеймс Броуди — персонаж романа «Замок Броуди» Арчибальда Джозефа Кронина.
(обратно)352
Никогда (нем.).
(обратно)353
Через задний проход (лат.).
(обратно)354
8 августа 1963 г. пятнадцать бандитов ограбили почтовый поезд, шедший из Глазго в Лондон, забрав добычи на семь миллионов долларов.
(обратно)355
Джон Профьюмо — министр обороны Великобритании. В 1963 г. вышла наружу его связь с проституткой Кристиной Килер, которая одновременно встречалась с военно-морским атташе советского посольства Евгением Ивановым. Разразившийся скандал привел не только к отставке самого Профьюмо, но и к уходу со своего поста премьер-министра. Профьюмо действительно написал Кристине Килер письмо на бланке, но не палаты общин, а Министерства обороны. Вскоре после скандала практичная девушка продала его газете «Санди пикториал».
(обратно)356
Тосканский ресторан «Ля Фамилия» в Челси, который основал в 1966 г. Альваро Маччони.
(обратно)357
Гедда Габлер, персонаж одноименной пьесы Генрика Ибсена, покончила с собой.
(обратно)

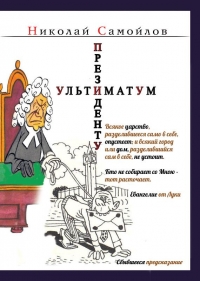





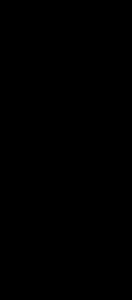





Комментарии к книге «Всадник с улицы Сент-Урбан», Мордехай Рихлер
Всего 0 комментариев