Ткач Елена ХИМЕРЫ
Глава 1 ПЛЮХА И АЛЕКСАНДР
Злая дремучая туча ползла на Москву. Промозглый октябрь и так не балует светом, а тут… Тьма в один миг скрыла город, он съежился и пропал. И мрак этот был из тех явлений природы, от которых как-то жутко становится и хочется поскорее домой, чтоб укрыться под одеялом и лучше всего — с головой.
Все, кого мгла в тот вечер застала на улице, заспешили домой — только б успеть до дождя. Москвичи, напуганные ураганами, знали, что со стихией шутки плохи. А дождевые потоки, что подступали к Москве, явно не относились к разряду грибного осеннего дождичка… Да, все, решительно все мечтали только о том, как бы скорей оказаться дома. Только у одного толстощекого паренька, сидевшего у окна, мысли двигались совсем в другом направлении. Ему не терпелось на улицу. Наперекор плаксе-осени, этой зловредной туче, наперекор голосу разума — знал ведь, что промокнет до нитки… А главное наперекор своей мамочке!
Звали паренька Сашей. Саней, Сашулей, Сашурой, Санечкой. Это дома. А в школе — Пухлым Пончиком, Тухлой Сосиской, Фанерой… Много было у него прозвищ. Но самое обидное было Санузел! Понятно — сверстники не любили его. Да и кто полюбит раскормленного неуклюжего увальня с девичьими загнутыми ресничками, у которого живот над ремнем нависает, а рубашки всегда мокрые от пота подмышками. Да ещё эти вечные сопли… Нет, не везло Сане Клычкову, ох как не везло! Обделила его судьба и красотой и талантом. Но самая большая его беда была мама — Лариса Борисовна. Ей он приписывал все свои беды. И надо сказать, не без основания.
Это она придумала для него уменьшительно-ласкательное имя Сашуля. И как же он это имечко ненавидел! Прямо дергался, когда слышал из кухни: «Сашуля, ты уроки сделал? Сашуленька, лекарство выпил?» Она пичкала его гомеопатией, лелея надежду, что её сыночка перестанет полнеть, что пройдет у него хронический насморк и вечные головные боли, что окрепнут мускулы и вообще станет он похож на красавца-мужчину, каким она себе его в мечтах представляла. Но это б ещё полбеды! Ведь она не давала Саше шагу ступить! Вникала в каждую мелочь, — мол, что ты делаешь, да зачем? — не было ему в доме никакого покоя! Вообще жизни не было… Совсем заела мамаша.
Лариса Борисовна родила сына поздно — в тридцать семь лет. И теперь, когда ему в сентябре исполнилось четырнадцать, ей было за пятьдесят… Сашуля — обожаемый сыночка — был предметом её гордости и неустанной заботы. Она ворожила над ним как над редким заморским растением, сдувала пылинки и ни на секунду не оставляла одного без присмотра. Даже гулять во двор не пускала! Всегда вдвоем, всюду вместе! Это было её девизом и смыслом существования. Дамочка весьма грузной комплекции, она обладала лепечущим говорком, обожала сюсюкать и восторгаться по всякому поводу. Чистюля и хлопотунья, она бесконечно натирала до блеска полы, стирала, гладила и крахмалила, а в свободное время зачитывалась любовными романами и разгадывала кроссворды. Другим её увлечением были кактусы, узумбарские фиалки — сенполии и вообще всяческие цветы, коих в доме было превеликое множество. Еще оно обожала подушечки — вязаные, вышитые и просто матерчатые с оборкой по краю или с кружевной прошвой. Сама ни вязать, ни шить не умела и покупала подушки на рынке у бабушек, откладывая и подкапливая немного денег на баловство, как она это называла, из своего невеликого заработка. Замужем она никогда не была, а сыну в ответ на вопрос об отце как-то сказала в припадке сентиментальности: «Ах, он был сущий демон! Он меня околдовал… как царицу Тамару». Одной из легенд Ларисы Борисовны были её рассказы о том, что в юности она окончила балетную студию и какое-то время танцевала в мюзик-холле. Там, дескать, и заработала варикозное расширение вен, — а у неё были больные ноги, — и из-за этого карьеру танцовщицы пришлось оставить… Фантазерка и выдумщица, она часто грезила наяву и придумывала себе прошлое, которого никогда не было.
Двоюродная сестра её тетя Оля была единственным разумным человеком в семье, если вообще слово семья тут было уместно… Ведь у Ларисы Борисовны кроме сына не было никого, одна тетя Оля, да и та жила на окраине города и из своей «тьмутаракани» выбиралась к ним крайне редко. Тетя Оля считала, что Лариса сама виновата во всех бедах сына: и что в школе совсем задразнили его, и что здоровье у него слабое… Все оттого, что мать требует беспрекословного послушания…
— Он ведь тебе не игрушка! — увещевала она сестру, когда редкими вечерами выбиралась к ним после работы. — Ты только погляди на него! Разве тебе его не жалко?
— А чего его жалеть? У него все есть. В других, полных-то семьях детки и одеты похуже, а я, хоть и одна сыночку поднимаю, а вон погляди чего у него только нет: и конструктор «Лего» дорогущий, и приставка «Сега», и видеомагнитофон…
— Да ты не о том думаешь, дура! — выходила из себя тетя Оля. — Ты о мыслях его подумай: что в них?! И с какой душой сын твой вырастет? А, что толку с тобой говорить — у тебя у самой в голове одни опилки!
— Это какие ж опилки?
— Какие-такие… Те, что из всяких глупейших сериалов, телешоу, да из кроссвордов наструганы!
С тем и уходила, не забыв хоть часок поговорить с племянником. Как живется ему, о чем думается, как дела в школе… Но он только улыбался застенчиво, отводя взгляд, и отнекивался: мол, все хорошо, в школе отметки приличные — тройки, правда, есть, но мало, а с ребятами… да нет, никаких проблем, но все же он предпочитает книжки читать.
— Прямо пай-мальчик! — качала головой, уходя, тетя Оля. — Все у него шито-крыто! Ох, боюсь я за него! Дождется Лара, ой, дождется… Из таких вот самые отъявленные и вырастают. И куда она глядит с этой своей слепой бабьей любовью… ведь загубит сына, дуреха! Он же к доверию, к открытости не привык, а только все молчком, все в себе держит. И страх у него в глазах… и что мать накажет — конфетку не даст, и что в школе издеваются… знаю я, каковские штучки сейчас проделывают. А главный страх у него — перед жизнью. Ведь она и не таких в бараний рог скручивает, а он… ведь четырнадцать лет, а сущий теленок! И впереди полная неизвестность… Как же помочь-то ему? И ведь эта мокрая курица — сестрица моя — вмешаться не даст. Ладно, поживем — увидим, может, и надумаю что-нибудь…
* * *
С самого раннего детства, как и мать, Александр привык жить в мире своих мечтаний, он был наделен богатым и вольным воображением. Маменькин деспотизм, природная некрасивость, насмешливые косые взгляды взрослых и сверстников сделали свое дело — мальчик замкнулся в себе. Он ни с кем не привык делиться плодами своих фантазий и всегда пускался в свои мысленные странствия в одиночку. Мечтательность сделала его ленивым и вялым. Лежать бы на диванчике и думать, думать… Вот он отчаянный корсар, награбивший груды сокровищ, которые позволяют выполнить любое его желание… Вот он рыцарь, пустившийся на поиски священного Грааля… Что такое Грааль он и сам толком не знал, но понимал, что тому, кто найдет его, весь мир окажет неслыханные почести! Он выдумывал страны и острова, где, конечно, был королем, и все его подданные раболепно служили ему. На островах этих были свои ритуалы, свои религии, и скоро из короля он в мечтах стал верховным жрецом, а потом божеством, вершащим судьбы людей и богов!
Его мама обожала Вертинского, и с раннего детства маленький Саша засыпал под звуки чуть дребезжащего нездешнего голоса, который пел: «В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, Когда поет и плачет океан И гонит в ослепительной лазури Птиц дальний караван…» Или ещё другая песенка, которая особенно полюбилась ему: «Принесла случайная молва Милые ненужные слова… Летний сад, Фонтанка и Нева. Вы, слова залетные, куда? Тут шумят чужие города, И чужая плещется вода, И чужая светится звезда.»
Они запали ему в сердце, эти слова — ведь он и сам был чужой. Всем чужой! И даже самому себе… Он не знал себя, не понимал. И не хотел понять. Он хотел себя придумать. И жизнь — придумать. Такую, какой ещё ни у кого не было… Всем назло!
Он мечтал о красоте. О том, чем сам был обделен. Он не знал, что такое красота, только чувствовал, что найдет её. Сердцем ребенка он понимал, что она — не в красивых нарядах, не в великолепном убранстве дворцов, не в роскоши — нет… Вернее, он думал, что, конечно, все это очень красиво, но настоящая красота… она не такая. А вот какая она…
Саша часто твердил про себя последние строчки из танго Вертинского: «В опаловом и лунном Сингапуре, в бури, Запястьями и кольцами звеня, Магнолия тропической лазури, Вы любите меня!» Он знал, что найдет её — свою Магнолию Тропической Лазури, прекрасную как солнце и луна, и она — его избранница поможет ему узнать её — Красоту. Или они найдут её вместе.
Смешно? Пухлый Пончик — и дива из песни, сама воплощенная мечта, которая явится наяву и полюбит его! Да нет, не смешно. Больно это. Потому что человек, живущий несбыточной небывалой мечтой, в конце концов разобьет себе сердце. Если только не найдет настоящую Красоту… Не мишурную, не театральную… иную.
Но не будем, не будем спешить, вернемся-ка лучше в тот вечер, когда тьма упала над городом, а все жители поскорей заспешили домой.
Саша сидел у окна и думал. Вон они, муравьишки-людишки, спешат по своим домишкам. Жалкие какие! Ничего у них нет, кроме вечных забот и простых натруженных мыслей… А у него — есть! У него тайные мысли, чудесные — такие, от которых даже жарко становится… И они сбудутся — его мечты. У него уж точно не будет такой унылой и жалкой жизни, какой живут эти вот… за окном. Так, чего ж он сидит? Надо действовать! Вот бы выкинуть что-нибудь этакое — такое, от чего все эти муравьишки заснуют как угорелые, заверещат, задергаются… И узнают, что он есть на свете. ОН, АЛЕКСАНДР! Нет, конечно, не Македонский, но все-таки… Он ещё станет великим, он им всем покажет! Вот только с чего бы начать? И поразмыслив ещё немного, он решил, что пора потихоньку подпиливать цепь, приковывающую его к мамаше, как Прометея к скале. Надо сбежать из дома. Вот прямо сейчас, в непогоду, в дождь! Пойти гулять!! По улицам!!! Вот уж чего Плюха от него никак не ожидает…
Этот отчаянный поступок, — а для Сани он и вправду был просто отчаянным — ведь мать без разрешения из дому его не выпускала, — назревал в нем давно. Но толчком к нему послужили события прошлой недели. Началось все с родительского собрания. Что ж такого, собрание — дело обычное, каждую четверть бывает… Но тогда он как раз задержался в школе — пришлось помогать «Грифелю» — учителю рисования — делать стенную газету (а надо сказать, Саша рисовал просто классно!) — и выйдя вместе с учителем в коридор, он увидел как родители его одноклассников двигаются по этому самому коридору в их класс.
Молодые, нарядные мамы… Подкрашенные, модные, оживленные… Некоторые вполне могли бы сойти за студенток — так молодо они выглядели… А позади всех — далеко позади — плелась его мама. Именно не шла, а плелась, неуклюже, тяжело волоча ноги… Бесформенное платье мешком обвисло на заплывшей фигуре, талии не было и в помине — форменный прямоугольник! На голове — меленькие скрученные в пружинку завиточки, так называемый у девчонок «баран» — передержанная химическая завивка. Туфли стоптанные, малиновая помада, размазанная по губам… Это ж беда, а не мама!
Но все-таки это ещё полбеды… Рядом со многими мамами его одноклассников шли их папы. Некоторых прямо-таки распирало от гордости в предвкушении велеречивых хвалебных гимнов в адрес своих обожаемых детищ, преуспевших в учебе… У Саши не было папы. И мама его была самой старой и самой уродливой среди вереницы щебечущих дам… И сам он отнюдь не был отличником. Его сердце заныло от жалости к самому себе. Ну за что ему такая судьба? За что наказанье такое… Он на цыпочках прокрался к двери класса, закрывшейся за спиной его матери, входившей последней. Классная руководительница Тамара Васильевна уже была там. И Саша слышал как приветливо она называла по имени-отчеству всех входивших, как радовалась, что почти все пришли парами — по нынешним временам, когда все так заняты на работе, дело почти небывалое… как ахнула, поняв, что места для последней вошедшей родительницы не хватило и сказала, что сейчас сходит за стульчиком…
— Ничего, я на тумбочке посижу! — услыхал Саша робкий мамин голос.
И она плюхнулась — именно не села, а плюхнулась на тумбочку возле окна, в которой хранился всякий классный хлам. И, оглядев в щелку лица всех достойных родительниц, повернутых к ней, он на всех прочитал презрение…
Это было уж слишком! И тут, в школе, Плюха его позорит! Ведь как в воду глядел, когда прозвал её Плюхой… Но когда со следующего дня все дружным хором стали звать его «Тумбочкин сынок» — тут уж он озверел! Сколько можно жизнь ему портить?! Сколько можно мучить его?! Нет, от матери одни несчастья. И Саня решил, что станет отвечать ей тем же — уж он устроит ей веселенькую жизнь! Уж он придумает — как! Правда, пока это были одни только замыслы. Но мысль, говорят, сильнее всего на свете.
Дальше — хуже. На том пресловутом собрании Плюхе сказали, что у её сына «неадекватные реакции». Он, мол, не так на жизнь реагирует! То, мол, сидит на уроках с отсутствующим видом, то вдруг рвется отвечать, хоть толком урока не знает — порет какую-то отсебятину…. Ругали, что вдруг ни с того ни с сего кинулся на Валерку Шохина в тот момент, когда тот спокойно вытирал доску после урока — причем кинулся подленько так, — училка так и сказала матери: «подленько», — когда тот ничего не подозревал. И расцарапал ему ногтями всю шею. Но он же, Саня, не мог никому рассказать, что перед тем этот самый Валерка засунул в унитаз его спортивную форму, да ещё по уху так дал, что голова целый день звенела! Сашка потом еле-еле эту форму тайком дома отстирывал…
После собрания мать закатила Сашке такую истерику… вопли и сопли! Он уж и валидол ей подсовывал, и капли капал, — она только таблетками в него швырялась, а капли выплескивала. Это ведь только с людьми она была этакой размазней — форменной Плюхой, а с ним — сущая ведьма! Сказала, что отныне над ним установлен жесткий контроль, что теперь без её ведома он и шагу не сделает. Мол, если надо, она и в школе рядом с ним за партой будет сидеть!
Ну, это уж мать приврала — никак она не могла за партой сидеть, потому что работала продавщицей в зоомагазине на Малой Бронной и работу прогуливать никак не могла. И вечно от неё всякой дрянью воняло, а он терпеть не мог этот запах! Плюха обожала не только растения, но и животных. Она бы с радостью завела дома какую-нибудь пушистую кошечку или собачку, а то и двух или трех, но у Сашули на них была аллергия… Вот и пришлось ей пойти работать в зоомагазин, чтоб хоть там с хвостатыми пообщаться. Работа давалась Ларисе Борисовне тяжело из-за тромбофлебита — так называлось варикозное расширение вен. Ноги болели, а весь день приходилось быть на ногах. Но она очень редко брала больничный, ещё и уборщицей подрабатывала в том же магазине, лишь бы её Сашуля был сыт и одет…
«Да уж, за парту рядом со мной Плюха никак не сядет! — злорадствовал Саня. — А то, что ж сыночка кушать будет? Еще заболеет… А лекарства теперь так дороги — не подступишься!» — передразнивал он её плаксивые интонации.
Он ненавидел и мать, и себя.
Но самое мерзкое было потом. После собрания мать решила показать Сашулю психиатру. И показала. Меленький сухонький докторишко с мерзопакостнейшей бороденкой клинышком долго беседовал с Плюхой, пока сынуля сидел в приемной. Потом пригласил его. Стал показывать какие-то карточки с расплывчатыми картинками и велел, не думая, сообщать ему, что он, Саша, видит на этих картинках. И при каждом ответе глядел на часы и что-то записывал. Все это было чрезвычайно глупо и гадко. Саша, пытаясь старательно скрыть свое отвращение к доктору, делал все, что от него хотели, и с каждой минутой этой унизительной процедуры, росла его ненависть к матери и к себе… такому, который сидит тут, в том чистеньком кабинете, потеет, от этого наверное дурно пахнет и вообще являет собой зрелище довольно паскудное…
Тумбочкин сынок! Да, он и сам как тумбочка! Нет, надо что-то делать…
И вот тут…
Тут произошло нечто, что иные называют судьбой, иные стечением обстоятельств, а другие злым роком. Доктор предложил Саше опять обождать в приемной. Парень уже заскучал. И от нечего делать стал проглядывать груду журналов, лежавшую на низеньком столике между двух кресел. Со злости он принялся листать «Независимый психиатрический журнал», чтоб доказать самому себе, что психиатрия — чушь собачья и ничего путного в ней нет и быть не может! И в самом деле, для Саши содержание специальных статей показалось «филькиной грамотой» и сущей галиматьей, пока в рубрике «Психопатология и творчество» ему не попались два коротких рассказика. Это были «Маленькие поэмы в прозе» Шарля Бодлера. Одна называлась «Негодный стекольщик», а другая — «Избивайте бедных». Он лениво начал читать их, вдруг ожил, а потом буквально вгрызся в текст глазами, как собака вгрызается в мозговую кость. Он перечел их другой раз и третий, потом, озираясь пугливо — не заметил бы кто — выдрал из журнала страницу, сложил в несколько раз и засунул за пазуху. Вдруг мамаша вздумает сунуть руку в карман его джинсов, — а она частенько проделывала такие опыты внезапно и беспричинно, чтоб проверить, что у него в карманах… Нет, она этой странички ни за что не найдет! Потому что страничка эта станет для него путеводной звездой на пути обретения желанной свободы…
Глава 2 ХИМЕРЫ
В тот день Саня вернулся домой другим человеком. Французский поэт Шарль Бодлер словно бы протянул ему руку из прошлого и вытащил на свободу. Но это была злая свобода. Недаром свой самый нашумевший поэтический сборник скандальный Шарль назвал «Цветы зла»…
Саше было плевать на то, что рассказы француза и поведение его героев приводились в журнале как пример больного сознания. Ему было теперь на все наплевать! Он нашел лазейку, позволявшую хоть на короткое время выползать из своего панциря, из своего образа рохли и недотепы. Он понял, что можно выпустить джинна из бутылки!
В рассказе «Негодный стекольщик» герой, мечтательный бездельник, как-то утром раскрывает окно в самом мрачном состоянии духа и видит проходящего мимо стекольщика. Окликает его, — тот с трудом поднимается на пятый этаж, — рассматривает его стекла и говорит: «Как, у вас нет цветных стекол? — ни розовых, ни голубых, ни красных, этих волшебных райских стекол? Бессовестный вы человек! У вас хватает дерзости разгуливать со своим товаром в кварталах бедняков, а у вас даже нет стекол, через которые можно видеть жизнь в розовом цвете!» Он выталкивает стекольщика, а когда тот показывается внизу на улице, хватает цветочный горшок и швыряет его прямехонько в цель! Все стекло в ящике бьется вдребезги, стекольщик падает на спину, а безумец кричит с балкона: «Жизни, жизни в розовом свете!»
В другом рассказе герой избивает старика-нищего, услышав голос, который был ему хорошо знаком — это был голос доброго Ангела или Демона, который повсюду его сопровождал. По словам автора это был дух борьбы и действий, который нашептывал ему: только тот достоин свободы, кто сумеет её завоевать. Этот голос внушал, убеждал… нет, конечно он не был ангельским! Демон владел сознаньем героя и, скорее всего, самого автора. Свобода, которая достигается путем избиения стариков — это болезнь, морок, химера…
А Сашка… конечно, он чувствовал это. Ведь у него была тонкая восприимчивая душа. Но он знал также и то, что если продолжит ещё хоть немного существовать так как прежде — в невидимой клетке — его словно бы разорвет изнутри. В нем сломается что-то такое, без чего он попросту перестанет быть самим собой. А может, просто сойдет с ума… И поэтому он решил пробираться к свободе через щелку, указанную ему Бодлером, тайком, втихую делая пакости. И через это хоть немного ощущая себя независимым, сильным и смелым. А главное — и самое страшное! — он предвкушал от этого острое, ещё незнакомое удовольствие… Нет, конечно он не станет как Раскольников глушить топором старушек. НЕ ВСЕ дозволено, — так он решил для себя. Не все, но кое-что все-таки… Самая малость!
Это был жест отчаяния несчастного одинокого парня, замученного слепой материнской любовью и насмешками сверстников. Бедняга, он не знал, что малости на этом пути не бывает, что один шаг к пропасти влечет за собой и другой, а красоты — желанной его красоты — там не найти… только душа истлеет и скорчится. И что паук под названием ЗЛО уже начал плести для него свою паутину.
И вот в тот злосчастный вечер, когда тьма сгустилась над Москвой, Саня на цыпочках заглянул в комнату матери, — она дремала, похрапывая, только что вернувшись с работы, — и тихо выскользнул из дому, неслышно притворив дверь. Он шел навстречу мраку и неизвестности, он спешил — боялся спугнуть свою долгожданную решимость и повернуть назад. Зонтик он позабыл.
Выйдя из подворотни, — а жили они на Остоженке, в старом обветшалом доме, знававшем лучшие времена, — он выбрался к Патриаршему пруду, миновал его и двинулся к Спиридоновке. Отчего он выбрал такой маршрут, Саня и сам не знал. Шел, точно что-то влекло его, точно там, в туманной вечерней дымке его поджидал кто-то.
Налетел первый шквальный порыв ветра, второй… Упали крупные хлесткие капли дождя. Ветви деревьев задвигались, заволновались, птицы с криком кружили над городом. Улицы как вымерли. Ни души… Саня брел в каком-то душевном оцепенении, точно во сне. В нем словно бы поднималось что-то точно где-то внутри рождался другой — второй человек. И человек этот был ему незнаком. Он сам боялся его….
На Спиридоновке множество особняков, в которых разместились посольства. У ворот каждого — по будке с охранником. Милиционеры были такой же привычной приметой этой улицы, как её кривизна. Улица изгибалась дугой, торопясь к Никитским воротам. Она сливалась с Малой Никитской, а в точке их соприкосновения стоял красивейший в Москве особняк Степана Рябушинского, в котором ныне пребывал музей Горького. Быть может, Сашу влекло к этому особняку? Он любил его. Он часто просил маму заглянуть сюда, когда они вместе прогуливались. Теперь он впервые прогуливался один, без мамы. Он знал: там, впереди, в устье Спиридоновки — изгибы женственных рам, мозаичные орхидеи фриза, знаменитая мраморная лестница, стекавшая волной в холл первого этажа, освещенная светильником — овеществленной в стекле медузой. Лестница, которую сторожит саламандра, притаившаяся на капители колонны. Стиль модерн. Архитектор Шехтель. Пространство, которое будит душу. Пространство, зовущее к красоте, подчиненное её законам…
Скорее, скорее вперед! Отчего-то сердце жмется от страха. Может, оттого, что он впервые в Москве один? Стыдно, стыдно — ему же четырнадцать лет! Ничего, ничего, вот дойдет до конца улицы и повернет обратно. От былой его отчаянной решимости не осталось следа — будто растеклась она по асфальту притихшего города. А туча все приближалась. Странно, почему никого нет? Центр Москвы все-таки… Сашка слышал как стучат его каблуки, но громче их билось сердце. Он стал ступать на носках — будто крался, будто за кем-то охотился. Или это за ним охотились? Он поравнялся с громадой другого шехтелевского особняка — тот молчаливой желтой громадой навис над ним, и Саня отчего-то остановился. Он почувствовал на себе чей-то взгляд.
За невесомой ажурной чугунной решеткой стоял он — бывший особняк Саввы Морозова, вознося над улицей свою горделивую и чуть презрительную надменность. Стилизованный под средневековый замок, особняк даже как бы немного подавлял Спиридоновку, которая словно в испуге огибала его…
Сашка запрокинул голову… на него глядело странное и жуткое существо. Удивительно, что прежде он его не замечал. Оно притаилось наверху, над дождевой трубой и замерло там, словно поджидая очередную жертву. Еще один пристальный взгляд… Сашка прищурился, вглядываясь… там, с другой стороны сидело ещё одно. И словно прицеливалось, готовое сняться, взлететь… и ринуться вниз. Чтобы растерзать беднягу, осмелившегося в одиночестве миновать грозные стены особняка. Химеры! Похожие на тех, что сторожат тайны Нотр-Дам в Париже, но только похожие… потому что эти были живые. Так ему показалось…
Сашка вздрогнул и, повернув назад, кинулся бежать. Тут и хлынуло. Но как! Темные плети дождя скрыли очертания мира — он пропал, и только хлещущие наотмашь потоки напоминали об его очевидной реальности…
И вдруг из шквала, из небытия вынырнул человек. Сашка буквально налетел на него, потому что почти ничего не видел. Высокий сутулый старик в черной шляпе и черном пальто какого-то странного покроя не спеша брел себе под зонтом по Спиридоновке, и, по-видимому, ни ливень, ни шквальный ветер нимало его не занимали. Наклонясь над парнишкой, он стал разглядывать его, точно муху под микроскопом. Во тьме блеснули круглые стекла очков, стальные зубы оскалились в кривой и злорадной ухмылке… и глухое сдавленное хихиканье отчетливо послышалось в шуме дождя.
Старик насмехался над ним! И не просто смеялся — он как будто все знал о Сане и выносил ему приговор. Мол, не будет тебе пути — ни по улице этой, ни в жизни… Путь твой — это лишь топоток насекомого в пожухлой траве… насекомого, которого скоро раздавит чей-то ботинок!
Все это в миг один пронеслось в голове у Саши, в ней зашумело… и дальше он действовал бессознательно. Это было как взрыв безотчетной неуправляемой злобы! Он вырвал у старика зонтик, одним махом сложил его, превратив в подобие трости, и принялся колотить незнакомца по чем попало: по ногам, по печам, по спине… Парень прыгал вокруг него, пыхтел натужно и бил… бил, что есть мочи!
Старик как-то сдавленно каркнул, осел… и свалился в глубокую лужу у тротуара, его очки вновь блеснули во тьме… а Саша уже бежал, бежал… Он мчался со всех ног, спотыкаясь, разбрызгивая лужи — летел на всех парусах среди ливня и мглы, почти ничего не видя и не слыша, подобный потерявшей боцмана каравелле… И, задыхаясь, с молотом вместо сердца в груди, взбежал на пятый этаж, мокрый до нитки.
Только бы Плюха спала! Он не в силах вынести её крика. Ему было сейчас очень плохо, он устал, голова раскалывалась и к тому же тошнило… Она спала. Он тихо, как мышь, разделся, забрался в горячую ванну, потом, сомлев и распарившись, сам задремал.
И только очнувшись, когда мать позвала его ужинать, увидел в углу своей комнаты черный зонт. Зонт старика! Тот торчал в углу, полураскрытый, нахохленный. Значит он так и не выпустил его из рук… И Саша зажал рот рукой, подавляя внезапный крик. Потому что этот зонт на какой-то миг показался ему той самой химерой. Он знал, что ему не показалось, нет… Это и в самом деле была химера!
Глава 3 БРОНЗОВЫЙ ИДОЛ
Лариса Борисовна третий день места себе не находила — её сын заболел. Он был очень болен! Совсем не мог спать, вскрикивал, хватаясь за голову такие острые приступы боли накатывали на него. Прежде их не было. И что ж это? Отчего?! Ведь все было тихо-спокойно. Вот разве что после той пятницы, когда обрушился этот ужасный ливень, и у неё голова кружилась, а под вечер она задремала, чего с ней раньше никогда не случалось, Сашуля стал сам не свой. Да, пожалуй, это началось именно с той черной пятницы — тринадцатого октября. Он, правда, тогда заснул, даже пришлось будить его к ужину, но после не спал ни минуточки! Целых три дня!
Да ещё этот визит к психиатру расстроил её. Доктор сказал, что у её сына невероятный творческий потенциал — тест Росшаха редко такой показывает, и на его памяти это первый подобный результат! Но при этом у мальчика совершенно нереалистичное восприятие жизни. Так и сказал нереалистичное! То есть, её сыночке очень трудно будет во взрослую жизнь входить и надо ему помочь. А как — толком и не сказал. Только деньги она заплатила огромные — сто долларов! Почти все, что удалось скопить за полгода… Доктор прописал Сашуле успокоительное — транквилизаторы. По пол-таблеточки на ночь. Но сказал, что это ситуации не изменит, и главное для её сына реализовать себя. Найти себя в творчестве. Воплотить наяву то, о чем он втайне мечтает. И если он хорошо рисует, значит, скорее всего, это и есть его путь, его настоящий талант и предназначение, а Ларисе Борисовне нужно помочь ему поверить в себя и выучиться ремеслу художника. Графика ли его увлечет, лепка или живопись — это скажут специалисты. Да, и сам поймет. Но заняться этим нужно немедленно, иначе у Сашули могут возникнуть серьезные проблемы с психикой. Мол, переходный возраст — это очень серьезно!
Еще доктор посоветовал ей не давить на сына, дать ему возможность почувствовать себя самостоятельным. Но как же так? Разве она давит?! Она просто старается уберечь сына от всего нехорошего — вон какие сейчас проблемы с подростками! Наркомания, алкоголь, курение… девочки! Не дай Бог! И время какое ужасное: то и дело что-то взрывается, в кого-то стреляют, убивают, на улицу страшно нос высунуть… Как же можно мальчика пустить одного?! Нет, пока ноги ходят, она этого не допустит, она его оградит… И пусть эти ученые доктора говорят все, что им взбредет в голову, — она мать и лучше знает как ей воспитывать сына!
Лариса Борисовна, как могла, старалась поднять Сашеньке настроение. Она купила ему картридж с игрой «Смертельная битва», о которой тот давно мечтал. Купила, хоть и не одобряла увлечения подобными играми и частенько прерывала игру, отбирая на время джойстики, когда сын засиживался за экраном больше полутора часов. Но раз болеет, пускай порадуется! Он и обрадовался… но как-то не слишком. Изобразил довольную улыбку скорее из вежливости, чем искренне — это она сразу почувствовала. Значит ему и впрямь совсем худо.
— Сынок, погляди-ка, чудо какое! — с восторгом щебетала она, внося к нему в комнату горшочек с редким кактусом астрофитумом — предметом её гордости и восторгов. — Ты только посмотри на него: ведь он готовится зацвести, и мы с тобой впервые увидим как он цветет! Ведь это же радость какая — они так редко цветут! А у меня получилось — я с ним так долго разговаривала, успокаивала его, чтоб он знал, что здесь его любят, что тут будет ему хорошо… И он поверил! Послушал меня! Ведь это же мой дружочек! Я его Звездочкой назвала. Пусть он у тебя расцветет, в твоей комнате, и ты увидишь, какая это красота! У тебя тут солнечная сторона, и ему будет ещё лучше…
Она, не дыша, на вытянутых руках пронесла горшок через комнату и осторожно поставила на подоконник. Постояла с минуту, любуясь набухшим бутоном, сизоватыми продольными впадинами на тельце кактуса, игольчатыми пучками колючек…
— Ну, что молчишь? Не рад?
— Рад, мам. Просто… ну, не знаю… ты его так любишь. Может, пусть он лучше будет у тебя?
— Ну что ты! — она замахала руками. — Я к вам в гости приходить буду. Часто-часто! А вы тут живите вместе, глядите друг на друга и расцветайте. И ты цвети, мой сыночек! Не куксись дружок, все пройдет, ты выздоровеешь и снова засветит солнышко. Это ведь всегда так: хмурая погода сменяется ясной. И на душе у тебя скоро светло сделается. Ты только почаще говори с ним и гляди на него. Он тебе силы даст, мой дружочек! Моя Звездочка!
Плюха поцеловала Сашулю, помахала кактусу и потопала, колыхаясь, к себе, шаркая шлепанцами. А сын её плюнул в сторону нежданного колючего подселенца и укрылся с головой одеялом. Ему было тошно.
После той вылазки на Спиридоновку Сашка совсем скис. Он чувствовал: внутри будто что-то оборвалось, и теперь он не тот, что прежде — он стал ещё хуже. Причем ничего уж ни исправить, ни изменить нельзя — сделанного не воротишь! Нет, не то чтобы ему было жаль старика или он уж очень переживал за свою дикую выходку — нет. Ему было жаль себя. И было не по себе. Очень не по себе! Тут что-то явно не так… Старик этот — он вынырнул из дождя как чертик из табакерки. И эта его ухмылочка, ощущение, что он видит тебя насквозь…
Сашка никак не мог разобраться в себе. Ему казалось, что внутри засела заноза и он никак не может от неё отделаться. Заноза не в теле была — в душе. А как её из души-то выдернешь? Это мерзкое ощущение подавляло в нем все: все прежние мечты и желания. И мысль о красоте как-то угасла. Какая уж тут красота, когда он точно песку наглотался! Он чувствовал себя словно ещё больше потолстевшим, отяжелевшим, немытым… И как оттереть эту накипь, эту коросту не знал.
Оказывается, подумать и сделать — это совсем разные вещи! В мыслях своих, пробужденных Бодлером, он был смел и горяч, он думал, что найдет хоть малюсенькую, но все же отдушину, все ж лазейку к свободе. Но получилось так, что накинувшись на старика и осуществив свою сумасшедшую идею, он только крепче замуровал себя — его темница стала ещё мрачнее, а кандалы — тяжелей!
— Гадость, гнусность и мерзость все! — раздраженно бормотал Сашка, ворочаясь на кровати и обливаясь липким пахучим потом. — Ничего мне не надо, ничего не хочу! Вот пускай и умру тут, в этой поганой комнате! Хорош Александр Македонский, царь и бог! Ничего не получается, никакой жизни нет! И не будет, не будет!!! Ни-ка-кой… Ни на что-то ты не способен, пончик вонючий, даже подлость приличную толком сделать не можешь! Попробовал вот, а теперь маюсь, точно наелся блевотины — такая смурь на душе… Хоть бы порадоваться — так нет! И так плохо было и этак, нигде выхода нет. И как же жить теперь с этим — ведь точь-в-точь как в фильме «Чужой» — словно сидит там кто-то во мне и грызет. Жрет изнутри! И эта чертова головная боль никогда ведь так голова не болела. Точно её раскаленный обруч охватывает и давит, давит… Просто охренеть можно!
Черный зонтик он запихнул под кровать — поглубже, чтобы Плюха не заметила. Нужно будет его как-нибудь незаметно выкинуть на помойку, потому как мамаша не реже чем раз в три дня проводила в его комнате влажную уборку. Вот и сегодня хотела, но он её еле отговорил — мол, хочет полежать в тишине… А завтра уж не отвертеться — как пить дать начнет полы драить! Найдет и замучает: что это, да откуда? Поди-ка придумай, как этот гнусный зонт у него оказался! Только пока о том, чтобы выйти из дома, и речи не было… Он и впрямь ослабел и чувствовал себя совсем худо. Врачиха из поликлиники, которую вчера Плюха вызвала, ничего серьезного не нашла. Вот только сильные приступы головной боли её насторожили. Сказала, что хорошо бы сделать компьютерную томографию, но это диагностика платная, дорогая и делают её только в нескольких больницах в Москве. Ехать надо. А у Сашки ноги были как ватные — заплетались, когда он плелся по коридору в туалет…
От обиды и злости он готов был расплакаться… как вдруг услышал телефонный звонок, а следом Плюхины восторженные кудахтанья. Она даже привзвизгивала от радости — наверно звонила какая-нибудь давняя подруга… Еще чего доброго к ним в гости намылится!
Так и было.
— Сашуля! — запыхавшись от неуемных эмоций, Плюха распахнула дверь в его комнату и заковыляла к кровати. — Позвонила Валечка… Валя Марьянова! Мы с ней вместе… в мюзик-холле… ой, это ж надо! — Мать от радости не находила слов. — Они с сыном давно в Питер перебрались… ещё когда я… когда мы молодые были. А тут вот проездом в Москве… Ничего, что она к нам зайдет, а, сынуля?! Мы тебя беспокоить не будем, посидим немножечко, поболтаем… Вспомнить-то нам есть о чем!
Она принялась тормошить его, гладить по волосам, обцеловывать… Обслюнила всего! Что тут оставалось делать? Только смириться… Он насупился, а когда она вышла, погрозил вслед кулаком. Только гостей не хватало!
Примерно часа через полтора раздался звонок в дверь. Плюха сбегала в магазин, купила пирожных, бутылку сухого вина, принарядилась… Она была так взволнована, точно к ним двигался ревизор!
— Валюша, милая! Ой, да ты совсем не изменилась — все такая же красавица! — в прихожей слышались чмоканья и цоканье чужих каблучков.
— Ну, что ты, Ларочка, я уж совсем не та! Вот ты вовсе не изменилась все такая же добрая, теплая… Хорошая ты моя!
Они прошли в Плюхину комнату, где уж был накрыт стол. К Сашке не заглянули. Еще явятся! — мрачно подумал тот и принялся грызть ногти. Ни читать, ни мечтать, ни включать приставку с новой игрой не хотелось. День погиб окончательно, он был выжат и выдавлен как лимон!
Однако лежать так и плевать в потолок скоро ему надоело и Саня выбрался из-под одеяла, как следует высморкался, чтобы шумно не хлюпать носом, и на цыпочках подобрался к двери маминой комнаты. О чем это они там разговаривают? Может, обсуждают, что с ним делать и как его спасать?! Может, эта Валечка ещё какого-нибудь доктора присоветует? Чтоб им треснуть!
Он не ошибся — разговор как раз шел о нем. Плюха не могла скрыть от подруги свои горести и изливала ей душу, изболевшуюся по сыночке.
— Нет, это моя вина, мой грех! — услыхал он её горестные причитания. Я знаю — сын платит за мои грехи! Ведь это же как, Валюша? — это же во грехе было… Вне брака! А ты помнишь, как нам тогда было хорошо! Твой Гарик, мой Ашот… как нам всем было весело! А помнишь музыкальный фонтан в центре города, и как мы пошли вчетвером в ресторан? И как сидели там, танцевали… А поездка на озеро, эта рыба прямо из сети?! Лодка, купанье… Я тогда бросила в воду кольцо. Чтобы вернуться. Но больше так никогда в Ереван не вернулась. Ты понимаешь, когда я поняла, что беременна… в общем, Сашуля здоровьем своим платит за мой грех. Это кармическое воздаяние, я знаю, я чувствую! Не хочу, чтоб он платил такой ценой, пусть лучше мучаюсь я… Пускай я заболею…
Плюха расплакалась, Валя журчащим голоском принялась её утешать… Они принялись наперебой вспоминать прошлое, гастроли в Ереване… Мать достала из платяного шкафа, из-под стопки с бельем пакет с фотографиями, и обе склонились над ними, стали разглядывать, шушукаться, хохотать… Саша затаил дыхание — он понял, что мать говорит об отце, а Валя — о своем хахале. Что обе — и мать, и Валя закрутили на гастролях в Ереване роман! И что последствием этой поездки на озеро стал он, Сашка!
— Слушай, я уж и не знаю что делать… — всхлипывала мать на плече у старинной подруги, — думала к какой-нибудь ясновидящей обратиться, к целителю… Только не знаю, к кому — их сейчас ужас как много! Покупаю газеты: «Тайную власть», «Эру Водолея» — так прямо глаза разбегаются! Белая, черная, даже какая-то серая магия, отворот, приворот… Центры всякие, салоны магических искусств, колдуны и адепты… И это новое еще… как-то так называется… рейки, что ли?
— Рэйки, наверное. Это ученье такое.
— Вот-вот, рэйки. Ну, думаю, пойду наугад — выберу какого-нибудь целителя, который помогает по фото, а по колдунам и знахарям я таскать Сашулю не буду — он так ослаб! К доктору вот на днях отвела его — к психиатру — так он совсем сон потерял, не спит. Ох, Валюша, ведь Сашуля… ну, что тебе говорить — у тебя самой сын. Это же единственный смысл моей жизни!
— Ларик, послушай… никому не хотела рассказывать, но я ведь сама за этим в Москву приехала. Вообще-то о таком не говорят, но ты своя — тебе можно. Проблемы у меня… в личной жизни. Вот и посоветовали мне к магине одной в Москве обратиться. Она уж проверенная — помогает! Многие подруги мои к ней в Москву ездили. Она, как бы это сказать… в общем, работает по каким-то восточным методикам — я в этом ничего не понимаю, мне лишь бы помогла! Дает тебе статуэтку такую маленькую, бронзовую или из латуни — не в том суть. Ее надо поставить в комнате на отдельном столике или тумбочке, благовония разные перед нею курить, знаешь есть такие палочки, пирамидки… Вот, и ещё еду всякую. И просить о чем пожелаешь! Она все исполнит. То есть не она сама, конечно, — не статуэтка, а тот бог или как там его… В общем, тот, кого она изображает, — он все сделает. Только ты корми его, корми! Все тебе даст, и с Сашенькой все наладится. Хочешь, прямо сейчас поедем? У неё очередь, но я-то по блату, и могу тебя к ней пропихнуть без всякой очереди. Ну что, едем?
— Прямо не знаю… А это дорого?
— Ну, милая, ради сына ты, думаю, две тысячи деревянных потянешь? Разве жалко денег на такое? Это поможет, Лара, не сомневайся!
— Да я как-то… Валюш, у меня и двух тысяч-то нет. Это ж для меня деньги немалые. А где я сейчас займу?
— Дам я тебе! Потом перешлешь по почте. У меня деньги есть сейчас, а, главное, есть эта магическая статуэтка. Теперь и Толя ко мне вернется, и с сыном все будет хорошо — я верю! Ну, решайся!
— Ох, Валюш, если так… поехали!
Сашка едва успел отпрянуть от двери и прошмыгнуть к себе, как две женщины резво, точно скаковые лошадки, уж вылетели из комнаты. Он даже подивился, глядя на Плюху: и откуда в ней взялась эта прыть?! Они собрались в считанные минуты. Мать заглянула к нему, но он притворился, что спит. Хлопнула входная дверь, ключ два раза повернулся в замке и стало тихо.
Сашка быстро вернулся в комнату матери. Так и есть: на столе лежали фотографии! Плюха забыла их спрятать или не думала, что сын заглянет сюда в её отсутствие, ведь он третий день лежит, не вставая. С жадным любопытством он принялся разглядывать старые черно-белые фото. На них были красивые веселые девушки, одетые казачками, в белых лосинах, сапожках и высоких лохматых шапках. А вот они же в цыганских костюмах… Они же на пикнике где-то на берегу в купальниках, рядом какой-то темный мужчина со злым взглядом. А вот и мама! И такая же толстая! Она помогает… помогает Вале застегнуть крючки на спине. На Вале — пышная юбка с оборками, очень короткая спереди и длинная сзади, высокие черные шнурованные сапожки на каблуке, черные чулки как авоська — в крупную сетку, на голове — какие-то стоячие перья… А, мама рассказывала: они танцевали канкан! Только почему мать не в костюме? Постойте-ка, да на неё бы ни один костюм не налез, ведь она почти такая же толстая, как и сейчас! Что ж это?! Выходит… Сашка принялся лихорадочно перебирать фотографии: вот мама стоит возле огромных металлических ящиков, запертых на висячий замок, вот она достает из одного ящика, — он вспомнил: они называются «кофры», — какую-то груду тряпок и улыбается, вот она стоит возле маленькой женщины с длинным черным хвостом и зашнуровывает на ней какой-то странный костюм… не то кошечки, не то лисы…
Так вот оно что! Значит, мать не была танцовщицей — она была костюмершей или кем-то вроде того… Значит, наврала! Чертова Плюха! Неужели ей нужно было придумывать эту дурацкую байку про танцовщицу мюзик-холла, неужели нельзя было просто сказать сыну, кем она на самом деле работала?! Идиотка! Он так верил, что когда-то она была легкой, хрупкой… красивой! А она всегда была тумбочкой! Неуклюжей вареной сосиской! Гадость какая!!!
Сашка ворошил чуть изогнутые глянцевые листы, отыскивая тот, на котором должен быть тот… Ашот. А, вот она — та фотография! Их четверо: Валя на руках у высокого крупного мужчины — красивая, тонкая, с ослепительной белозубой улыбкой, и мать, которую обнимал какой-то грузный толстяк под стать ей самой. Его подслеповатые заплывшие глазки плотоядно щурились в объектив, и даже на посеревшей от времени черно-белой фотографии было заметно, что бесформенный нос у этого пузана был красным. Пил, наверное…
— И эта вот туша — мамин демон… который её околдовал! Мой отец…
Сашка изо всех сил шарахнул по фотографиям обоими кулаками. Они рассыпались по полу, и он, шморыгая носом и утирая сопли тыльной стороною ладони, принялся их подбирать. Собрал, положил на стол, убежал к себе в комнату, кинулся на кровать и начал бить ногами и руками по подушкам, по одеялу…
— Предатели! Все предатели, все!!! А мать… дура! Зачем она все придумала, зачем наврала?! Все у неё вранье… а кроме вранья цветочки, да песенки… Этот Вертинский чертов! «Доченьки, доченьки, доченьки мои…» А у самой не доченька, а сынуля. А она — и давай, и давай… только что бантики мне не завязывает! Разве это жизнь, а? Разве жизнь?
Он вскочил и завертелся по комнате, точно его укусили. Потом, задыхаясь, ринулся к окну, распахнул…
— Жизни, жизни в розовом цвете! — заорал Сашка на всю улицу, перегнувшись через подоконник. — Ах вы… ах вы все… чертовы куклы!
Он схватил мамин любимый кактус, поднял горшок над головой и, размахнувшись, швырнул его вниз. Послышался глухой стук, закачались ветви березки под окном… и опять стало тихо.
— Вот тебе, вот! Так тебе и надо! И не то ещё будет… ты у меня получишь!
Он и сам не знал, кому были адресованы эти угрозы: маме, кактусу или самому себе… Потому что, выбросив горшок с астрофитумом, почувствовал, что его прямо-таки сейчас разорвет изнутри — так билось в нем что-то и просилось на волю… И в глубине души понимал, что каждый шаг навстречу злу, даже малый, каждая подлость, которую он вытворяет, не только не принесут облегчения… они могут свести с ума. Потому что Сашкино сердце совсем не было злым. Но яд уже проник в кровь, Бодлер заронил семена, которые упали в хорошую почву, удобренную отчаянием и одиночеством, — в душу подростка, не способного ещё ни разобраться в себе, ни владеть собой… Подростка, мечтающего о славе, о подвигах, о красоте и не ведающего, как же к ним подступиться… Паренька, выращенного словно в оранжерее, чьи поступки и мысли теперь более походили на уродливые чахлые черенки, выдранные с корнем и валявшиеся на помойке, чем на гордый распускающийся цветок…
Сашка скоро затих — взрыв протеста отнял все силы. И с гулкой, больной головой стал проваливаться в сон… глубже, глубже… он спал. Спал впервые с того злополучного вечера, когда нездоровая липкая дрема одолела его. И снился ему странный сон — видел он, что летает! Но там, во сне не было больше пухлого Пончика, не был он неуклюжим нелепым подростком… Над лесом, над полем, в тумане едва пробужденного дня летела гордая и дерзкая птица. И только ветер рвался навстречу, а её мощным крыльям все нипочем что им ветер?! Ведь эта птица была любого ветра сильней…
И птицей этой был Александр. И был он свободен.
Глава 3 ЧЕРНАЯ ТЕНЬ
Лариса Борисовна вернулась довольно поздно очень усталая. Еле дошла: ноги гудели, вены на них вздулись и покраснели. С Валей они распрощались той уж пора было на вокзал, она сегодня же отбывала в Питер на «Красной стреле».
Охая и постанывая негромко, Плюха скинула туфли, с наслаждением надела мягкие тапочки и покачиваясь, как баркас в непогоду, побрела к себе в комнату. Там она вынула из сумки довольно объемистый твердый предмет, завернутый в чистое полотенце, развернула… и в сумрачной комнате тускло сверкнула бронза. То была статуэтка какого-то идола, сидящего в позе лотоса подвернув под себя ноги и сложив руки на груди. Его раскосые узкие глаза в упор глядели на женщину, и на миг ей стало не по себе.
— Что ж, — вздохнула она, — если это сынуле поможет… пускай.
Она сняла с тумбочки свою любимую вазочку из синего хрусталя и статуэтку фарфоровой балерины, застелила её крахмальной кружевной салфеточкой и водрузила идола посередине. Сходила на кухню, принесла блюдечко с молоком и тарелку с печеньем и поставила эти нехитрые дары перед бронзовой статуэткой. Зажгла ароматические тонкие палочки, вставила их в чистый стаканчик, и тотчас терпкий и густой дымок змейками заструился по комнате. Потом она снова вздохнула, немного подумала, сложила просительно руки на груди и жарко молитвенно зашептала.
— Ты… ох, и не знаю как обращаться к тебе… Ты, божочек, нам помоги. Ты сыночке моему помоги, Саше! Сделай так, чтоб его мечты исполнились — я знаю, он много мечтает… И пусть у него головка не болит его так головные боли измучили! И пусть он будет счастливый, пускай живется ему легче, чем мне. Я ведь так намучилась! Да, ты, наверное, все знаешь ты ведь бог! Очень прошу, пожалуйста! А я тебя кормить буду, палочки жечь, маслице вот особое дали мне! Ой, а я про него и забыла…
Она торопливо порылась в сумке и достала маленький пузырек с благовонным маслом. Капнула несколько капель на блюдечко, и всю комнату затопил терпкий запах сандала. От этих непривычных восточных курений и ароматов у Ларисы Борисовны закружилась голова. Она покачнулась, комната перед ней поплыла, стала двоиться, и неуклюже, как-то боком она бухнулась на свою продавленную тахту. Посидела немного… и вроде стало полегче.
— Ну вот, лягушка, допрыгалась! — в который раз за этот волнительный день вздохнула Лара и стала тереть виски. — Надо к сыночке заглянуть, кивнула она божку, который пристально глядел на неё со своего пьедестала, как он там? А то уж полдня, глядишь, к нему не ходила — не дело это, так ведь? Не дело!
Она тяжело поднялась и пошлепала к сыну в комнату. Тот спал и хрипло дышал во сне. Даже тихонько постанывал. Она с любовью наклонилась над ним, сдунула с взмокшего лба прилипшую темную прядь…
— Ну вот, заснул ты, Сашуля, и славно! И хорошо… Спасибо Валечке, что сходить к магине мне присоветовала. Это её божочек тебе, сынуля, помог, он, не иначе!
Она оглядела комнату и, щурясь, — в комнате было темно, — приблизилась к подоконнику. Вот отцветающие пеларгонии, вот плющ восковой, аспарагус… Но горшочка с её любимым кактусом не было.
— Эй, дружочек мой, где ты? — шепнула она, беспомощно шаря руками по подоконнику. И тут только заметила, что окно приоткрыто. — Как же так? Я же сама его наглухо закрывала!
Недоброе предчувствие приливом крови застучало в висках. Она ахнула, заторопилась, напялила туфли и, спеша, спустилась по лестнице… Вот и палисадник под окнами — заброшенный, весь заросший снытью и сорняками. Над головой тревожно шумела береза — поднимался холодный порывистый ветер, неласковый спутник поздней московской осени.
Тьма. Ноябрь…
Под чахлой кривенькой елочкой, не смевшей тягаться с раскидистой вольной березой, застившей свет всему, что росло под её ветвями, валялся разбитый горшок. Она его сразу признала, верней не его, а то что от него осталось: бежевые глянцевитые черепки с зеленой полоской по краю. Плюха сдавленно вскрикнула и схватилась за сердце. Задыхаясь, присела на корточки и стала звать:
— Дружочек мой! Как же так… где же ты?!
Ее рука, шарившая на земле, укололась о пучок острых иголок. Лариса Борисовна, наконец, отыскала его — свой кактус, своего друга по имени Звездочка… От удара о землю он разорвался на части и был разметан по влажной холодной земле.
Плача, она упала в траву. Из окна первого этажа высунулась седенькая головка в платочке, она принадлежала соседке Евдокии Михайловне. Та часами сидела в кухоньке у окна и глядела во двор. Евдокия Михайловна после инсульта была частично парализована, а следил и ухаживал за ней внук Димка.
— Лариса Борисовна! Ларочка, что с вами?
— А? — та машинально обернулась на зов, хотя сейчас плохо соображала. — Я… это ничего. Ничего…
— Димка! — крикнула старушка куда-то в глубину своей комнаты. — Беги вниз, Ларисе Борисовне плохо!
И через минуту рослый детина буквально втащил на пятый этаж Ларису Борисовну — ноги у той совсем отказали. Он помог ей переодеть тапочки и попытался было отобрать у неё какой-то кусочек живой клочкастой плоти с колючками — огрызок кактуса, на котором болтались жиденькие корешки… но она не дала.
— Это, Димочка, кактус мой. Он хотел зацвести. Но вот видишь… беда с ним вышла. Упал он — вывалился из окна.
— А че это? — хмуро полюбопытствовал Димка. — Окна-то вы всегда закрытыми держите, я ж знаю как сквозняков боитесь…
— Не знаю как, — она обнимала ладонями то, что осталось от кактуса, нежно как птичку. — Может, ветер, может ещё что… Я попробую, Димочка, попытаюсь его прирастить. Вдруг приживется. Ну, спасибо тебе. Ты к нам заходи, Сашулю проведай, он болеет у нас…
Она, сгорбившись, потащилась на кухню и посадила обрывок с колючками в новый горшок. Отнесла к себе в комнату, поставила на подоконник, взглянула на статую… и ей показалось, что у той загорелись глаза… Легла и уже не вставала. На следующий день утром Сашка, напрасно прождав с полчаса, когда мать как обычно позовет его завтракать, наведался к ней. Она неподвижно лежала на спине с открытыми глазами, которые были какими-то мутными. В них затаилась тоска. Он склонился над ней, потряс за плечо.
— Мам, что с тобой? Тебе плохо?
Мать не ответила. Ведь она поняла, что случилось — поняла, что только сын — её ненаглядный сыночка мог открыть шпингалет, распахнуть окно и выбросить кактус вниз с пятого этажа. И это открытие разбило ей сердце.
— Мам, давай я врача вызову!
Поняв, что мама не говорит, Сашка бросился к телефону и вызвал скорую. Та приехала быстро, врач нашел у Ларисы Борисовны микроинфаркт и её решили везти в больницу.
— Это ненадолго, я думаю, — успокоила молодая докторша растерянного парня, — мама твоя поправится. А ты её навещай. Раз болеешь — сейчас с нами ехать не надо. Вот тебе адрес, а часы посещений у нас вечером с пяти до семи. Деньги-то у тебя есть?
Он отрицательно покачал головой. Денег не было, ну и плевать — займет у соседей! Зато теперь — вот она, желанная свобода! Стыдно признаться, но в глубине души Саня был даже рад, что мать забирают в больницу. Ведь впереди несколько дней вольной волюшки… у него даже голова разом перестала болеть!
— Ты тете Оле сейчас позвони, — с трудом выговорила Лариса Борисовна, — скажи ей, где я. И пускай приглядит за тобой.
— Я все сделаю, мам, не волнуйся! Только ты выздоравливай… ладно?
Она взглянула на него, и в этом взгляде на сына что-то новое появилось. Испытующим, что ли, был он, а может быть укоризненным… Ее безоглядная и слепая любовь словно впервые прозрела, и от этого жизнь стала ещё мучительней, ещё тяжелей. Мать впервые задумалась: нужна ли она ему, любит ли он её, если смог вот так поступить с тем, что было для матери всего дороже… после него самого.
Он хотел спуститься вниз вслед за санитарами, уносящими носилки, на которых лежала мать, но она не позволила — велела дома остаться.
— Вот поправишься — тогда и придешь ко мне… с тетей Олей. Один по городу не ходи — только в школу. Это близко, не страшно — дорогу не надо ведь переходить…
Кивнула ему, губы было скривились, но сдержалась она, не заплакала. С тем и увезли Ларису Борисовну в городскую больницу.
А Сашка сел у окна и принялся думать. Что бы выкинуть этакое, что учинить? У него был один день — один-единственный день свободы! Тете Оле он, естественно, сразу же позвонил, и та сказала, что завтра приедет и останется с ним, а сегодня не может — сегодня у них в бухгалтерии проверочная комиссия. Так что… Ух! Дух захватывало! Делай, что душенька пожелает! У него сразу сил прибавилось, и словно спала какая-то пелена точно он не болел, а просто кто-то накрыл его тяжелым и затхлым застиранным покрывалом. Накрыл и чуть-чуть придушил. Но кто? И зачем? Нет, ясно странное творилось с ним что-то, и это «что-то» занимало парня гораздо больше чем болезнь матери.
Просидев битый час, он так ничего не надумал и решил сделать давно намеченное: выкинуть проклятый зонт!
Он поел — благо, запасов еды в холодильнике у Плюхи всегда имелось в избытке, и, одевшись, извлек зонт из-под кровати, завернул его в несколько старых газет, отворил дверь и спустился во двор — к помойке. Там он и пересекся с Димкой — тот тоже выкидывал мусор и возвращался домой с пустым ведром.
— Ну че, как мать твоя? — спросил тот, окидывая соседа с пятого этажа хмурым взглядом.
Димка был не дурак — сразу догадался в чем дело: отчего угодила в больницу мать этого увальня. Он ведь слышал истошный Сашкин визг: «Жизни, жизни в розовом свете!» и тотчас последовавший за этим полет горшка с кактусом. Тот просвистел мимо Димкиного окна как раз в тот момент, когда он глядел во двор и прикидывал: двинуть сейчас к приятелю по кличке «Фома», чтоб спокойненько побазарить и покурить, или поглядеть очередной боевик по телику… Вслед за свистом раздался глухой удар, Димка высунулся в окно и увидел черепки и осколки. Извернулся, поднял голову и углядел наверху пухлую руку соседа, захлопывающую окно… Сопоставить эти два факта было проще простого. Все в доме знали, что Лариса Борисовна сдвинулась на двух вещах: на цветах и на сыночке, которому шагу ступить не давала — «душила» его почем зря…
«Да, выходит, этот толстый потихоньку звереет, — подумал Димка, — раз гробанул из окна материн горшок с цветком. Давно бы пора характер свой показать, если он у него, конечно, имеется. А то ходит, держась за мамкину юбку, как пудель на поводке. Ладненько, сделаю-ка я „экскримент“ — клюнет на мой крючок или нет… Если клюнет — значит не стух ещё и надо ему мозги вправить, а нет… ну, тогда он поедет скоро! Мне-то это все по фигу, но почему бы не оттянуться? Наплету про то, что в журнале у „Фомы“ прочитал…»
— Да чего ты затрясся-то, не тушуйся, тут, во дворе все свои… — он доверительно улыбнулся и этак покровительственно хлопнул соседа лапищей по плечу.
Сашка быстро выбросил свой сверток в контейнер и с опаской взглянул на Димку. Экий громила, аж поджилки трясутся! Такой одним пальцем дух из тебя вышибет. И старше он на два года — ему шестнадцать уже, и ребята, с которыми он в дружбанах, говорят, прошлым летом киоск гробанули… Мать, как огня, боялась этой компании, и пуще глаза старалась уберечь от неё его, Сашку. А теперь матери нету, а он стоит во дворе, и над ним как медведь нависает этот пацан с ухмыляющейся физиономией. И получается, что, пожалуй, и хорошо, что до сих пор он в тепле и покое жил, а теперь вот его выпустили из клетки, а вокруг-то не зоопарк — вокруг джунгли…
— Да нет, я ничего, — Сашка пожал плечами, стараясь выглядеть независимо. — А мать… в больнице она.
— Это я и без тебя знаю. Будешь навещать — привет ей от бабки моей передай. Очень бабка моя за мать твою переживает. Гостинцев хочет ей передать. Слушай… — Димка двинул к подъезду, кивком головы веля соседу следовать за собой. — Ты, значит, один теперь?
— Только до завтра, — пролепетал Саня, холодея. — Завтра тетка приедет, будет тут со мной жить.
— Так то завтра! — хохотнул Димка. — А сегодня, слышь… — тут он понизил голос и заговорил с интонациями заговорщика. — Давай-ка двигай, ставь чайник, я тебе одну потрясную вещь скажу.
Сашка безропотно выполнил пожеланье соседа, и скоро они сидели у него на кухне и пили чай.
— Ну вот, слушай сюда, — сообщил Димка. — В общем, попалась мне статейка одна в старом журнале. «Ридерз дайджест» журнал называется — бабка антресоли разбирала, там этого хламу навалом, а мне делать было не фига, вот и стал в них копаться… В общем, в статье говорится, что по ночам в Москве жуткие дела происходят. В некоторых районах особенно. Призраки бродят, врубаешься?
— Ну? — стараясь не подавать виду, что боится соседа, спросил Сашка.
— Гну! И упоминается там улица эта, как ее… а, Вспольный переулок. Это рядом совсем — в двух шагах. Что там по ночам звук раздается, как будто подъезжает машина, дверца, хлопает, шаги и всякая хренотень. А машины-то нету — не видать ничего, только звук!
— Мало ли, что напишут! — засомневался Сашка. — Ты б ещё газету «Тайная власть» почитал — там вообще… Но это ж на бабулек рассчитано! Вот моя мать — так её хлебом не корми — дай про страшное и про всякое потустороннее почитать!
— Да я тоже так сначала подумал! Думаю, ну заливает мужик, ну, автор этой статейки! А потом… Потом чего-то мне не спалось — башка как бубен и лунища в окне! Торчит, понимаешь, вылупилась на меня этаким чудищем, светится…
— Полнолуние, что ли?
— Оно! Бабка шторы затеяла постирать, они высохнуть не успели, я говорю: «Ба, давай прямо мокрые повесим, они сами высохнут.» А она: «Что ты, я их поглажу сначала, а то мятые будут…» Уперлась как… ну, ты ж бабок знаешь: если упрутся — все, никакой логикой не прошибешь! Ну вот, лежу я, гляжу в окно, которое без занавесок, сна ни в одном глазу. И думаю: а чего это я лежу — раз уж не спится, надо самому все проверить. Одеваюсь, выхожу потихонечку, на улицах — ни души! Время — два ночи. Как раз в это время все и происходит, если верить этому журналисту.
— И чего? — шепнул Сашка.
— А того! Слышал я эту машину! Чтоб мне сдохнуть! Подъехала, мотор урчит, дверца хлопает, шаги… твердые такие шаги, уверенные. Топ-топ дверь открылась, захлопнулась, тишина…
— А ты что?
— А я затаился, за стенкой спрятался, стою этак тихохонько, не дышу. Ну вот, проходит минуты две, опять дверь входная — стук, хлоп! — шаги, только теперь как будто их больше — то есть, больше людей вышло из дому, чем вошло. И — в машину. Мотор заурчал, двинулись, шинами — шурк, шурк — и опять тишина!
— И чего — никого не видно? Ни машины, ни людей?
— Никого! Чтоб мне сдохнуть — не вру!
Какое-то время в кухне было тихо — Сашка весь съежился, представляя эту картину, а Димка наслаждался произведенным эффектом.
— Слушай, точно не врешь? — наконец, выпалил Сашка.
— А на фига?
— Ну, не знаю… А статья эта есть у тебя?
— Что, разобрало? Вот-вот, я с этого дня вообще спать не могу — все это дело мерещится.
— Слушай, Дим… покажи мне эту статью. Там ещё что-нибудь в ней говорится?
— До фига! Что бывают места, где ложится поперек улицы громадная тень. Вроде бы, человеческая, только размером чуть не с дом, представляешь! И что от таких штучек нужно держатся подальше.
— А он что-нибудь объясняет, журналист этот? Ну, что это за явление? Галлюцинации или что?
— Не, он только об этом базарит, дескать, давно такие дела изучает и записывает — это у него вроде хобби. Но что это за хренотень и с чем её едят не говорит. Видно, слабо! Или боится. Говорят же, духов лучше не тревожить, а то они тебя так отделают — хорошо, если жив останешься! А то и сразу на тот свет…
— Понятно, — сказал Сашка, хотя ясно было, что ничего не понятно. Слышь, Дим, я бы её почитал, а? Журнал принесешь?
— Так в том-то и дело, нету его!
— То есть, как нету?
— А так. Пропал. Испарился, исчез! Я в доме все вверх дном перерыл, к бабке с ножом к горлу пристал — может, взяла. Она говорит, нет, не брала. И мне тоже кажется, что не она. Зачем ей?
— Тогда кто?
— В том-то и дело! Теперь сам понимаешь, как меня все это распирало! Ты вот что, ты сразу скажи — со мной ты или нет? Будешь в это лезть или как… на диванчике отлежишься?
— Ну ты воще! — от волнения Сашкин голос внезапно окреп, и слова эти прозвучали так энергично, будто он с незапамятных дней был Димкиным друганом.
— Слышь, старик, — наседал тот, — ты, считай, в рубашке родился сегодня как раз полнолуние! И маман твоей нет — никто тебя за штанину хватать не будет. Другого случая ведь не представится — ты слушай, что я говорю, я ведь за просто так базарить не буду. В пол-двенадцатого за мной заходи — и двинем! Надо ж просечь, чего там этот журналюга наплел: правда все эти глюки или фуфло.
— Да, знаешь…
Сашка запнулся. Вдруг захотелось ему — до ужаса захотелось Димке про все рассказать: и про недавнюю прогулочку в дождь, и про химер этих жутких, и про старика… Про зонтик его, который из угла в ночи на него живым существом глядел… Он понял, что весть эта — про звуки и тени — совсем не случайна, что она в одном ряду со всем, что с ним происходит. Но вовремя остановился. Нет, это его тайна. Только его! Еще раззвонит этот типчик на всю округу, так его совсем заклюют!
— Я слыхал, душат в школе тебя, — не унимался Димка и все гнул свое. Так, если не сдрейфишь, я тебя под свою защиту возьму, и никто тебя пальцем не тронет. Качаться начнем, — бабуля твою мать уломает, — мы с ребятами на стадионе «Динамо» классную секцию откопали, так ты через пару месяцев весь свой жир порастопишь, будешь как Арни Шварценеггер — а знаешь, как это по кайфу?!! Девки за тобой стаями гнаться будут! Ты слушай меня, мне тебе мозги пудрить незачем — мы ж соседи… Ты вот что: ты зови меня просто Димон.
Вот эта-то Димкина доверительность, похоже, и стала последней каплей, которая подвигнула Сашку решиться.
— Значит, в половине двенадцатого? — с каким-то новым блеском в глазах переспросил он.
— Ну, ты молоток старик! Круто! Так я, значит, жду.
И Димка в момент скрылся за дверью.
А Сашка… Сашка весь день промаялся, не находя себе места. Вот оно! Сегодня в ночь состоится его посвящение в клан настоящих мужчин инициация, как пишут про это в разных заумных книжках. Через это самое посвящение проходил каждый, кто хотел состоять в тайном обществе или в числе тех, кому открываются высшие тайны. И он поверит в себя, найдет свою красоту, потому что, только став сильным, можно её найти…
Ровно в половине двенадцатого он стоял перед дверью Димона. Тот отворил… в шлепанцах на босу ногу и в замызганном махровом халате.
— Слушай, старик, — начал он извиняющимся тоном, — понимаешь, у бабки моей что-то вдруг аритмия сделалась, сердце прыгает как подорванное, не могу я её одну такую тут бросить. Еще чего доброго трахнет инфаркт, так даже некому будет скорую вызвать… Родители у меня, — сам знаешь, — в командировке, так что…
— Как же так? — Сашка сразу вспотел. — Так ты не пойдешь?
— Не могу, старик, извини. Ты иди — мне расскажешь. Да ты не тушуйся тут до Вспольного ходу каких-нибудь десять минут быстрым шагом. Знаешь ведь, где это?
— Вроде, да…
— Как выйдешь к Патрикам — так и дуй по тому переулку, что идет параллельно Садовому, прямо до особняка Берии. Ну вот, это там. Давай, старичок, а завтра я на всю школу раззвоню, какой ты крутой!
Сашка понял, что если отступит, все — над ним будет издеваться вся школа. Да и сам он вконец себя загрызет.
Минут через пятнадцать, весь мокрый от страха, он оказался во Вспольном. Ни души… Небо черное как мазут и пустое — ни звезд, ни облачка. И на нем как чье-то дикое безумное око вылупилась полная луна и на него уставилась — глядит, точно дрелью буравит! Он побродил немного во дворике, что возле особняка Берии, потом прошел немного вперед по Малой Никитской, свернул в Гранатный переулок и спрятался в подворотне. На часах — начало первого ночи. Сашка стоял, ни жив не мертв, и ждал. Ждал, сам не зная, чего. Но понимал: сейчас что-то будет, что-то произойдет. И он не ошибся.
Парень скорей ощутил, чем заметил какое-то движение. Чуть выглянул из-за угла. По переулку — наискось, поперек легла огромная тень. Она была ночи темней! И тень эта походила на человечью, но была таких исполинских размеров, точно тот, кому она принадлежала, был ростом с пятиэтажный дом! Никак не меньше! Тень росла. Она двигалась — как будто плыла навстречу ему по словно вымершей улице. Вот чудовищные ручищи потянулись в сторону подворотни, где за углом притаился Сашка! Пальцы все удлинялись, растопыренные, цепкие, — все четче делались очертания… того и гляди он увидит того, кто отбрасывал эту жуткую тень!
Сашка не выдержал — закричал. И кинулся наутек. В ушах громыхало — это был стук его собственных башмаков, но казалось, будто какой-то монстр мчится за ним по мертвой Москве, а за ним скользит черная тень…
Как он добрался до дома, не помнил. Пот, стекавший на лоб из-под шапочки, щекотал лоб, нос и щеки. Но парень даже его не смахивал — все силы, вся воля ушли на то, чтобы бежать, бежать… только бы не оборачиваться. Но какой это был кошмар: чуять опасность и не видеть ее! А в том, что опасность была смертельной, а может, и того хуже, — если только бывает на свете что-то хуже, чем смерть! — в этом Сашка не сомневался.
Захлопнув дверь за собой, он вбежал в свою комнату и, не раздеваясь, дрожа всем телом, бросился на кровать. Отдышавшись немного, зарылся с головой под одеяло и тут же уснул.
И снилось ему, что летит он над сонным полем, подернутым стелющимся слоистым туманом, — летит, поднимаясь в восходящем воздушном потоке на мощных широких крыльях. Редкие птицы прятались, завидя его, — он был королем среди птиц! Необычайная зоркость отныне была доступна ему — он видел все, — каждый кустик, травинку в мельчайших деталях, точно в морской бинокль глядел… Но поражало даже не это — весь мир был открыт ему, и Сашка парил над ним, свободный и гордый, а мир встречал его настороженной тишиной, потому что как будто остерегался его.
И вдруг внизу как-то разом истаял туман, и вся земля видна стала как на ладони, и тут он ринулся вниз, потому что увидел как крошечный зверок мышь-полевка — выполз из своей норки. Свист воздуха, клекот… земля будто бы опрокинулась и упала навстречу. И вот уже теплое тельце забилось в цепких когтях.
И в этом была красота, в этом была свобода!
Глава 4 КОРОЛЕВА ФЕЙ
Проснулся Сашка оттого, что кто-то резко распахнул дверь в его комнату.
— Все дрыхнешь, бездельник! Вставай.
Тетя Оля!
Она подскочила к нему и отдернула одеяло.
— Батюшки, что ж ты спишь-то не раздеваясь, как чукча! И где вчера шлялся? Эге, вот, значит, какой ты больной! Ну все, завтра потопаешь в школу как миленький!
Она быстро соорудила горячий завтрак, пока Сашка, кряхтя и давясь соплями, умывался, чистил зубы и переодевался во все чистое: вся одежда на нем и даже подкладка кожаной куртки была мокрой насквозь, точно он в фонтане купался.
Они сели за стол. Тетя Оля глядела на него как следователь на допросе, а он сидел, уставясь в тарелку и старался не поднимать глаз, чтоб не встретиться с нею взглядом. Так и завтракали молча, только слышалось как шипит яичница на сковородке, как свистит чайник и птицы галдят за окном.
— Ну, вот что! — тетка сразу взяла быка за рога, когда они покончили с завтраком. — Рано утром я у мамы твоей побывала, прорвалась в неурочное время — посетителей-то вечером только пускают… И хоть она ничего не сказала, стало мне ясно, как день, что этот сердечный приступ с ней случился из-за какой-то твоей проделки. Я тебя спрашивать ни о чем не буду — противно! Мать ради тебя лезет из кожи вон, а ты все принимаешь как должное. Что морщишься, думаешь, она мне жаловалась? Дурень ты дурень, башка садовая! Ни словечка плохого я от неё про тебя не слыхала. Ни разочка, слышишь, балда?! А ты?! Ладно… Может, вырастешь — поумнеешь, хотя как-то не верится… В общем, так, я сюда не нотации явилась читать, а присмотреть за тобой, чтоб не влопался в какую-нибудь историю…
Сашка молча сидел и слушал, дожевывая четвертый бутерброд с колбасой. Он думал только о том, чтобы тетя Оля со своими одолжениями провалилась в тартарары и по возможности чем скорее тем лучше…
— А по мне, так ты уже влопался! Это на физиономии твоей толстой написано. Влип уже. И когда успел? Эх, Санька, Санька… Если б не знала, что Ларка сама виновата, что такой ты вырос — олух Царя Небесного, я бы съездила по твоей сытой роже! Только жаль мне тебя. И как только живешь ты — не понимаю… Вечно один, вечно за мамкиной широкой спиной, ни друзей, ни приятелей… А!
Она махнула рукой, поднялась и, гремя тарелками, принялась мыть посуду.
— Вот что, друг мой, — полуобернувшись к нему и прикрыв на минуту воду, заявила тетка, — мы с тобой немножко повольничаем, не станем мать твою во всем слушаться. А сделаем вот как…
И через минуту Сашка уяснил распорядок собственной жизни на ближайшие два дня — на тот срок, когда его мать ещё будет в больнице. Тетя Оля развила за вчерашний день бурную деятельность на предмет освобождения его, Сашки, из затворничества и получения путевки в жизнь! Сегодня ему одному, без конвоя предстояло сходить в поликлинику и получить справку от врача о своем полном и окончательном выздоровлении.
— И чтобы никаких мне стенаний и жалоб на болящую голову, сопли, температуру и Бог весть что еще! Ты, похоже, и не болел вовсе, только придуривался, чтоб от школы дурацкой своей отбояриться, в которой некоторые оголтелые классные руководительницы забивают голову некоторым мамашам о какой-то мнимой неадекватности их сынков… Так-то вот! Я тебя давно раскусила. И чтоб мне без симуляций, ахов и охов. Здоровый ты бык, только все в облаках витаешь, на тебе бы воду возить — вот это было бы дело!
Сообщив это оторопевшему племяннику, тетка продолжила, что если с этой задачей он справится, сегодня вечером они вместе идут в Большой театр — она сделала все возможное и невозможное и достала бесплатные входные билеты на концерт учащихся Московского хореографического училища, то бишь балетной академии, а это ведь не хухры-мухры! Такое не всякий смертный повидать может — билетов-то в Большой не достать даже теперь, когда стоят они несусветно…
Приобщившись к прекрасному, завтра племянничек отправится в школу, после этого они вместе навестят Ларочку, а к семи их ждет один человек. Человек этот — не кто-нибудь, а один очень известный в прошлом художник. И он согласился давать Сашке уроки живописи, а оплачивать эти уроки будет сама тетя Оля, потому что, раз у её единственного племянника талант, то негоже этот талант закапывать в землю…
От всего этого у Сашки голова пошла кругом. Он издал некий звук наподобие того, каким селезень подзывает любимую уточку, то есть попросту крякнул. Надо сказать, это у него получилось довольно гнусаво!
— Не крякай, не крякай! — откомментировала это его выступление тетя Оля. — Кто ж, кроме меня, из тебя человека сделает? То-то — никто. Потому как мать твоя со своим прыганьем вкруг сынули совсем с ума спятила, а после болезни её малость разгрузить надо, чтоб хоть чуть-чуть о себе подумала… Ею я тоже займусь. Но прежде попробую вправить тебе мозги! Все, бегу на работу, пока!
Шквал, цунами, землетрясение! Тетя Оля в это утро налетела как ураган. Сашка под столом ковырял заусенец и с унынием глядел в опустевшую чашку: это же невесть что получается — из одной неволи в другую! Только теперь ещё и по расписанию! И ещё этот балет хренов… нужен он ему как рыбке зонтик! При мысленном упоминании о зонте он весь похолодел: в памяти разом встали странные и пугающие события последних дней. Тетя Оля с её утренним появлением и последовавшей вслед за тем торпедной атакой на какое-то время вытеснила из его сознания все, что не относилось к ней лично и к её Наполеоновским планам. Но теперь… Теперь он очнулся.
Что ж это было — эта жуткая тень? Она явилась из потустороннего мира, где обитали химеры. Оттуда глянули они на него, пригвоздив этим взглядом, словно копьем, пронзив его душу насквозь. Пробив её, чтобы в ней поселился страх…
Но это был не сон, не фантазия, не мечтания на диване за книжкой… Это реальность! И от неё никуда не деться, не скрыться, не спрятаться за мамин подол. Реальность ещё незнакомая, новая, о которой он только читал и в которой с человеком может произойти все, что угодно. Такое, что не приснится и в страшном сне! И вот она настигла его, вошла в его жизнь вошла внезапно, словно он задал кому-то вопрос, и вот получил ответ…
И не Димка, который подставил его, был пособником Сашкиной встречи с тенью. Эта тень поджидала его, она бы не показалась, приди парни вместе. Это наказание… или испытание было послано только ему, и невидимое чудовище явилось за ним. Но почему, что он сделал такого, и куда это все его приведет?
На это Сашка не знал ответа.
И он вдруг порадовался кипучим теткиным планам. Ведь, пока они вместе, пока будут слоняться по театрам, да по больницам, никто больше к нему не явится. Он не один! И как это, оказывается, здорово!
Он быстро оделся и побежал в поликлинику. Врач без звука выписала его, найдя совершенно здоровым. Он вернулся домой, и буквально минут через пять пришла тетя Оля. Она по быстрому отметилась на работе, по пути на Остоженку накупила необъятную гору продуктов, чтоб и племянника как следует накормить, и сестре отнести передачу в больницу. И тотчас взялась за готовку — обед следовало сварганить на скорую руку дня на три-четыре, чтобы Ларочке по возвращении не пришлось стоять у плиты.
И только часам к трем дня тетя Оля впервые за весь этот суматошный день заглянула в Ларину комнату. Заглянула и ахнула. И тотчас кликнула племянника, который, поев, растянулся на кровати с томиком Гофмана.
— Сашка! Поди-ка сюда! Что тут за диво такое?
Он нехотя отложил в сторону Гофмана и явился на теткин зов. Та стояла перед бронзовой статуэткой с выражением отвращения на лице.
— Это? Да, я и сам не знаю… Это тут на днях появилось… наверное, мама где-то взяла. Купила, наверное.
— А зачем ей эта гадость понадобилась? Ты только погляди: и молочко-то налила в блюдечко, и печеньице положила! Это что, жертва, что ли? А это, выходит, божок ее? Ты погляди: молоко-то давно свернулось, пленка на нем заплесневелая… Ну и мерзость!
Одними кончиками пальцев, она как гадюку какую, взяла блюдечко и тарелку с печеньем и вынесла вон из комнаты. Молоко вылила, печенье выкинула в мусорное ведро, тарелочки вымыла с содой и протерла насухо полотенцем. Сашка маячил в дверях кухонки, наблюдая за её действиями.
— Ну и ну! — наконец изрекла тетя Оля, покончив с уничтожением всякого следа жертвенных даров. — В голове не укладывается… Я знаю, конечно, что на почве Востока и вообще суеверий всяких твоя мать немного поехала. Но, чтобы настолько всерьез! Нет, похоже, её спасать надо! От этого можно в такое болото угодить, что не вытащишь! А не знаешь, кто её надоумил? Может, на днях приходил к вам кто?
— Приходила одна… мамина давняя подруга — ещё по мюзик-холлу. Кажется, Валя, не помню точно. Но теть Оль, вы по-моему в одном не правы, он одернул свитер и взглянул на неё так серьезно, что она враз перестала охать и всплескивать руками. — Понимаете, Восток — это Восток. Он, по-моему, разный — много там разных народов, а у них до кучи философий и верований. И у них… в них все связано и одно из другого вытекает. А суеверие — это, по-моему, совсем другое… просто дурь, всякие пустые выдумки, которые придумывают от страха перед тем, чего не понимают…
Тетя Оля как стояла, так и села.
— Сашка! Вот ты, оказывается, какой… Извини, я тебя недооценила. У тебя ж мышление-то… — она недоговорила, настолько её сразил взрослый ход Сашкиных мыслей.
— Да, чего вы, теть Оль… Это ж каждому нормальному человеку понятно. Сейчас ведь столько об этом пишут. И передачи по телевизору, и вообще… в школе вот у нас учитель истории — он часто на эти темы распространяется, говорит: важно очень, чтоб у нас по поводу веры и всякого такого не каша в голове была, а… — он вдруг запнулся.
— А что? — очень тихо спросила тетка.
— Свет. Чтобы свет человеку светил и чтоб не заблудились мы, потому что время такое… растерянное. Вот.
Он вдруг уставился прямо перед собой невидящими глазами — эти слова Михаила Игнатьевича, их учителя — вдруг обрели для него ясный смысл. Новый смысл. Как будто он их впервые услышал. Свет должен освещать путь — свет, который внутри, ясность такая в душе, когда мир не барахтается вкруг тебя, а лежит перед тобой, спокойный и светлый, как полоса чистой воды. Живой воды. Так говорил «Михалыч», как они прозвали историка.
«А во мне не свет — тьма. Бодлер с его дикими выходками. Химеры… Черная тень. Что ж мне делать, чтоб к свету пробиться?» — подумал он, и мысль эта показалась неожиданной и… долгожданной. Да, долгожданной, потому что в ней Сашке почудился выход. Надежда на спасение.
— Ну, удивил ты меня, племянничек! — тетя Оля подошла к нему, обняла, прижала к себе. — Милый ты мой, вот ведь как, можно оказывается рядом с человеком всю жизнь прожить, а что в мыслях его — и вовек не узнаешь… Ну ладно, нам уж собираться пора. Показывай свой гардероб — подбирать тебе смокинг будем!
Она перетряхнула нехитрые его одежонки, из которых и выбирать-то было особенно нечего, потому что костюм у Сашки в шкафу висел один-единственный, да и тот был ему уже маловат.
Они отправились в театр пешком — вниз по Тверской, и пришли загодя до начала концерта оставалось почти сорок минут.
— Вот как хорошо, мы с тобой спокойно побродим тут, все посмотрим, в музей заглянем, — радовалась тетя Оля.
А Сашка маялся и не знал, когда же кончится это мученье: ему было не до красот фойе самого Большого театра России, не до фотографий знаменитых танцовщиков и балерин — ему бы домой поскорее, да в постель завалиться, да спокойно подумать о том, что же все-таки происходит… Но тетя Оля с энтузиазмом влекла его за собой с этажа на этаж и рассказывала о годах своей юности, когда студентами они с друзьями только и мечтали о том, как бы попасть сюда, как бы увидеть Уланову, — и с высоты самого верхнего яруса глядели на это живое чудо…
Наконец прозвенел первый звонок, и распахнулись двери фойе, ведущие в святая святых — в зал театра! Пурпур и золото лож, зеркала, тяжкие портьеры, отгораживающие бренный мир от тайны театра… Они отыскали свою ложу в третьем ярусе, их места — в третьем ряду…
— Тетя Оль, здесь же ничего не видно — перед нами ещё по два человека сидят, да и высоко… — заворчал Саня. — А поменяться ни с кем нельзя?
— Сиди и радуйся, что хоть такие места нам достались, — шикнула на него тетка. — А насчет поменяться и думать забудь — дураков нет!
Вот и третий звонок. Зал забит до отказа. Меркнет свет…
И замирает Большой, и гаснет в нем низкий гул голосов, и затаив дыхание ждут яруса, ложи, партер — ждут, когда расцветет на сцене праздничная и светлая стихия театра… Вот сейчас откроется занавес, и выйдут они на сцену — ещё не законченные артисты, но уже знакомые с тем, что такое гармония и совершенство. И воцарится на сцене блистательная, порывистая и дерзкая юность!
И концерт начался. И вышли на сцену маленькие суворовцы, ведя под руку своих трогательных маленьких дам. А потом девчурки, грациозно вскакивая на пальчики, вертели светлыми зонтиками, после выскочила на сцену юркая веселая девушка и принялась порхать на пуантах, вся легкая, трепещущая, как райская птичка. Потом был дуэт: широкоплечий молодец с отрешенным выражением лица носил на руках длинноволосую девушку — и как только она не летела вниз головой, такими немыслимо сложными казались поддержки… Потом гопак, вариации, дикий, бешеный, электрический «Танец с саблями», призрачные, мечтательные, растворяющиеся в музыке Баха «Голубые девушки»… А потом был антракт.
Сашка зевнул и прикрыл рот программкой. Тетя Оля это заметила, но ничего не сказала, только головой покачала, не понимая, как можно оставаться равнодушным к этому праздничному искусству. Сама она мечтала только о том, чтобы праздник длился как можно дольше, и чувствовала себя гостьей в царстве фей!
Они спустились в буфет, взяли по бутерброду и по стакану чая, тут Сашка несколько взбодрился и принялся вертеть головой: вокруг сновало так много веселых оживленных людей, в том числе и его ровесников — учеников училища, не занятых в концерте. Стройные, подтянутые, нарядно одетые, они показались ему существами из другого мира — настолько отличались от его однокашников и, тем более, от него самого. Там, на сцене они не взволновали его — их искусство его не задело. А вот в жизни… жизнь — это совсем другое! Вот бы он сам был таким — независимым, уверенным в себе, знающим, чего хочет…
Антракт оборвал звонок, и все устремились в зал.
«Ничего, осталось совсем немного помучиться, — приободрил себе Саня, скоро домой, там спокойно, и никто не будет маячить живым укором, что он вот такой замечательный, а ты — нет!»
Занавес раздернулся, зрителей подхватили и понесли волны вальса Чайковского — «Щелкунчик», Гран-па! Сплетались и перетекали один в другой причудливые узоры танца, мажорного, словно напоенного счастьем! И вдруг…
Тетя Оля глазам своим не поверила — Сашка неожиданно напрягся, весь подался вперед, вытянул шею… на сцене появились двое солистов, началось па-де-де. Антре, вариации, кода… Эти названия подсказывала ему тетя Оля, но Сашка не слышал — он теперь вообще ничего вокруг не воспринимал: глаза его, засверкавшие и расширившиеся, не мигая, следили за каждым движением солистки.
Тетя Оля взглянула в программку и шепнула ему: «Партию Маши танцует Маргарита Березина, она тебя на год старше. Майя, которая мне эти билеты достала, говорит, что эта самая Маргарита — просто немыслимо одаренная, будущая звезда!»
Сашка только молча кивнул, не отрываясь от того, что происходило на сцене. А там в упоении танца улыбалась ему сама Радость в облике юной танцовщицы. Полудетскую свою душу она крепко держала в руках, смело кидаясь в омут прыжков и вращений, способных «утопить» не одну сложившуюся балерину… Ведь па-де-де из последнего акта «Щелкунчика» требует недетского опыта, самообладания и, конечно, истинной виртуозности! Но не выучка, не её прекрасная техника так взволновали Саньку — в этом он, естественно, ни шиша не понимал — он увидел наяву ту, о которой мечтал, ту, которую ждал так долго…
Маргарита — его Марго, его королева! Магнолия Тропической Лазури воплощенная Красота. Но для него она не просто красива — это его родная душа! И они найдут свою Красоту — найдут её вместе. А иначе… иначе ему не жить!
То-о-оненькая! И светлая. Волосы, забранные в пучок, золотятся в свете юпитеров. Во всем облике светится радость, наслаждение упругой легкостью и совершенством движений, своей юностью, жизнью, танцем… В нем, она словно бы напевала что-то доброе и хорошее, и всем её существом управляла, владела душа — чистая, ясная, устремленная к свету… И из этих напевов её танца рождалась истинная одухотворенная красота. Ах, как ей хотелось довериться! Ее светящейся сквозь солнышко волос доброте…
Финальные аккорды, шквал аплодисментов, Сашка вскочил… он хлопал и хлопал, не помня себя, — хлопал один во всем зале, когда у всех уж устали ладони. Тетя Оля его еле остановила.
— Все, мальчик, больше уж занавес не откроют. Пойдем…
Он стиснул зубы, буквально вырвал из рук тети Оли программку, сунул в карман… руки чуть заметно дрожали, но они не были влажными.
— Тетя Оля, я хочу… Можно мы немножко задержимся?
— Почему нет? Хочешь по фойе побродить или спустимся в зал? Еще минут пять можно там побродить, заглянуть в оркестровую яму…
— Нет, я другое хотел… Вы не знаете, куда они, то есть, артисты… откуда они выходят?
— А-а-а, вот ты о чем… — тетя Оля понимающе взглянула на племянника. — Мы тоже в юности караулили своих кумиров у подъезда. Пойдем спросим на выходе. Я помню, что обычно выходят из шестого подъезда, только примы из первого — с другой стороны.
Они спустились, оделись. Тетка подошла к пожилой капельдинерше в униформе, о чем-то спросила…
— Пойдем-ка к шестому — это слева, напротив ЦУМа, там они скоро появятся — эти волшебники. Только учти, ждать нам придется с полчаса — не меньше: пока снимут грим, пока переоденутся, то да се…
— Мы подождем, — сказал Сашка, и тетка удивилась незнакомой твердости его голоса.
И вот он дождался… Она! В элегантном черном полупальто, черных брючках, с золотым ярким шелковым шарфом на шее под стать волосам… С нею мама иль кто-то ещё — все же мама, скорее, — под ручку ведет как драгоценность какую. Он сначала шарахнулся в сторону, словно испугался чего-то, потом овладел собой. И глядел, глядел… он словно пил её всю, пил как живую воду, пил глазами, чтобы задержать в себе весь этот облик, как будто с детства знакомый. Он её тотчас узнал — свою живую мечту, и понял: только такой она и могла быть — его королева!
Она прошла мимо замершего как в столбняке парнишки, и кончик легкого шарфика задел его по щеке. Он прижал руку к лицу и поразился — ведь не взмок, не вспотел, хоть и не помнил, когда ещё так волновался! Она исцелила его — одним явленьем своим! И он добьется её, она будет принадлежать ему так же, как и он — ей. Она — эта лебедь белая среди ворон — под стать той гордой свободной птице, которой он становился во сне! Да, он теперь может летать! И из сна своего сумеет проникнуть в её сны. Он должен все о ней знать, он будет ходить за ней как приклеенный, пока она — его королева Марго — не заметит его, не обратит на него внимания. Теперь, когда силы поднимаются волнами в душе, нарастают, кипят… он сможет все! И готов на все. Он готов даже душу за неё отдать…
И, вернувшись домой, отказавшись от ужина, Сашка разделся и лег, вспоминая о ней и призывая сон — свой невероятный сон о полете, в котором он только и мог стать собой. Да, там, в этом сне, он был царь и бог среди птиц. Говорят, душа во сне может отделяться от тела и передвигаться свободно, значит, его душе предназначено царствовать. И настанет время свободы! И он достигнет того, о чем мечтал, а мечтал он о ней — о своей королеве. Она-то и есть его царство, которым он будет владеть. Это живое царство откроет ему все тайны, все радости, о которых он пока только догадывался…
— И пускай, пусть, Марго, ты обо мне ещё ничего не знаешь… Ты узнаешь, — бормотал он, уже засыпая, — ты поймешь, что я царь твой, а ты ты моя королева. И если нужно для этого душу отдать черту, дьяволу… я отдам! Отдам… И пусть я приснюсь тебе… пусть тебе снятся птицы. Птицы…
Он спал.
Глава 5 СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
День в школе тянулся прямо-таки бесконечно, и Сашка месте себе не находил. На сей раз порог класса он переступил без особого страха — плевать ему было теперь на выверты одноклассников — мысли заняты были другим. И, как ни странно, никто к нему особо не клеился, никто не приставал, как будто все любители поиздеваться над Пончиком переключились на кого-то другого, а может все разом решили тянуть на золотую медаль — неизвестно, только самые отъявленные язвы и недруги с головой погрузились в учебники, точно для них на учебе свет клином сошелся…
— Эй, Санузел! — подошла к нему на переменке фифа и задавака Танечка Волкова. — Тебе, похоже, полезно болеть — от тебя даже, вроде бы, не воняет! И вообще, ты, кажется, похудел. С чего это, а? Уж ты не влюбился?
Она стояла перед ним, запустив руки в карманы джинсового сарафанчика, склонив голову, и глядела этак насмешливо-изучающе. А Сашка — возьми, да и покажи ей язык! От такой наглости он и сам сначала оторопел и непременно в другой раз схлопотал бы по морде, — за Волковой ведь не задержится! — но сегодня был особенный день… она только хмыкнула, буркнула: «Вот дурак!» и ретировалась.
— Да, кретинка безмозглая, я влюблен! — прошептал ей вслед Сашка. — Да в такую, до которой вам всем, драным крыскам, далеко, как до Полярной звезды…
Наконец прозвенел звонок — кончилась математика, бывшая в этот день последним уроком, и Сашка на удивление резво припустился домой. Тетя Оля сразу следом за ним вернулась с работы и сообщила, что к маме в больницу сегодня ехать не нужно — Ларочка позвонила и сообщила, что у неё все есть, а, раз Сашуле сегодня вечером ехать на занятия живописью, пускай отдыхает.
— Так и быть, негодный мальчишка, — шутя, пригрозила кулаком тетка, до шести бей баклуши, но завтра ты у меня не отвертишься — к маме поедем.
Они пообедали, и он неожиданно для себя самого отпросился во двор погулять.
— Валяй! — ответила тетка. — Только не позже шести будь дома — нам к семи нужно быть на «Соколе», нас твой учитель ждет.
— Нужен мне этот хренов учитель как рыбке зонтик! — фыркнул Саня, колобком скатываясь с лестницы.
Он ногой пихнул входную дверь и… нос к носу столкнулся с Димоном.
— А, старик! — обрадовался тот. — А я к тебе вчера вечером заходил, только тебя не было. Где шатался-то?
— Да, в театре, — хмуро ответил Саня, не глядя на дылду-соседа. Ему сейчас никого не хотелось видеть и ни с кем разговаривать — впервые он мог побродить по дворам один, вспоминая о своей королеве и раздумывая, как к ней подступиться…
— Да ну! — поразился Димон. — Ты у нас театрал?! Вот не знал… А в каком театре-то был?
— В Большом, — небрежно бросил Сашка и сплюнул.
И это он тоже сделал впервые в жизни!
— Ну, ты даешь! — восхитился Димон. — Слышь, а я ведь по делу к тебе заходил. Чего это ты зонтами кидаешься? Мы ж когда позавчера с тобой у мусорки встретились, ты какой-то агромадный сверток в контейнер кидал, и, понимаешь, разобрало меня: а чего это ты туда кинул? Ну, просекаешь, старик, бывает со мной такое, есть грешок — люблю нос совать куда надо и куда не надо. Ну вот, гляжу: а в газетке-то зонтик и новый совсем. Ты, может, того — ошибся? Может другой сверток в мусорку запузырить хотел? Да чего там базарить, стой тут, а я мигом!
И не успел Сашка слово молвить, как Димон вихрем взлетел вверх по лестнице и через две минуты снова стоял возле него, протягивая проклятый зонт!
— На, возьми. Не в кайф такими клевыми зонтами швыряться!
И Сашка, послушный как ослик, взял протянутый зонт. Этого ещё не хватало! Придется отойти куда подальше от дома и выбросить эту гадость, чтоб гаденыш-Димон не смог за ним уследить. Но этот поганец не отставал прилип как банный лист.
— Слушай, я это… того! Гоню тут картину про зонтик, а это ж фигня, главное-то — как твоя вылазка. Ну, давай, колись: чего видел? Чего было-то? Я прям весь день вчера был как на иголках — чего у тебя и как?! Только ты как в воду канул, я уж думаю: уж не переехала тебя та машина, которой не видать ни фига, а только слышно как шинами шуркает. Давай, пошли, погуляем, а ты все гони мне в подробностях: как дошел, что потом… Просек?
Они двинулись, и Санька проклял все на свете, но деваться некуда — раз Димон с ним поперся, зонт уж никак не выкинешь… Надо было сразу соображать и свалить все на мать: мол, это она зонтик велела выкинуть. А зачем — это уж не его, Сашки, дело! А теперь придется, как идиоту, всю дорогу тащиться с распроклятым зонтом…
Они болтались по дворам часа два, и Сашка, как мог, старался уверить Димона, что ничего в ту ночь не видел и ничего не слышал, а у самого уши горели — он, как выяснилось, совсем не умел врать! Димона же, что называется, понесло. Он разливался соловьем и вешал соседу лапшу на уши, похваляясь какой-де он крутой… Что у него все схвачено, что он скоро разбогатеет, откроет свой киоск при вокзале и купит себе иномарку, причем непременно «Фольксваген» и непременно синего цвета…
— Понимаешь, старик, люблю я этих жучков! В Москве даже клуб есть любителей этих букашек, они собираются, устраивают пробеги на своих тачках, у них и старые модели и новые, так я хочу самую последнюю взять, чтоб круче ни у кого не было!
«Ну, что за невезуха такая! — думал Сашка, плетясь вслед за дылдой-Димоном и тыча пресловутым зонтом в асфальт в такт шагам. — Только думал по-человечески один побродить, подумать, сосредоточиться и словить полный кайф, как — на тебе! — надо было дебилу этому подвернуться. Нет, от этого просто сдвинуться можно!»
Наконец, отпущенное Сане время истекло, и он заявил, что пора домой у него, мол, ещё дела есть. И они направились к дому.
— Ну, ты растешь! — Димон одобрительно хлопнул Сашку по спине, отчего тот едва носом в землю не ткнулся. — Я тебя зауважал! В общем, так. Если надумаешь в секцию к нам — подваливай. Адрес я тебе дал, а хочешь двинемся вместе. Так даже лучше — я тебя со всеми нашими познакомлю.
И ещё раз со всей дурной силы бахнув соседа по спине, Димон рывком распахнул дверь подъезда и скрылся в квартире. А Саня, тяжко вздыхая, потопал к себе на пятый этаж.
Тетя Оля его отчитала — опоздал на целых пятнадцать минут! По быстрому перекусили и двинулись. Стоя в вагоне метро, Санька думал о том, что вот едет он невесть куда и невесть за чем не по своей воле. А что он делал бы, если б не теткины планы? Поехал в театр? Так концерт был всего один… Адреса Маргариты Березиной он не знает, да и кто ему даст! Значит надо ехать в училище, а уж там действовать по обстоятельствам…
«Действовать! — усмехнулся он про себя. — Надо же, как разговорился! Да, старик, ты и вправду вырос, прав Димон! Только слишком не заносись, а то в канаву снесет на крутом повороте…»
Они вышли на «Соколе», сели на 24 троллейбус и сошли на остановке «Улица Алабяна». Справа тянулся совершенно непривычный для Москвы ряд деревянных домиков, похожих на загородные дачи. Это был целый квартал, отгородившийся от суматошного шумного города деревянными крашеными заборами, который летом, наверное, утопал в зелени — каждый дом окружали деревья, сады…
— Это, знаешь, настоящий оазис в центре Москвы, — пояснила тетя Оля. Сокол-то, считай, уже центр… Тут жили художники, теперь их уже мало осталось, и дома перешли к родственникам по наследству. Но это место все равно называют поселком художников. Его местные власти снести хотели, чтоб понастроить здесь эти многоэтажные душегубки, но, видишь, все-таки отстояли! Как тут, наверное, жить хорошо: тихо, мирно — благодать! Прогуляешься, и на душе легче становится. Ну вот, мы почти пришли, запомни, тебе нужна улица Левитана. А вон и дом. Знаешь, Борис Ефимович удивительный человек! Это мой давний знакомый. Еще в институтские годы мы с ним… ходили на выставки.
И тетя Оля задумалась. Она явно чуть было не проговорилась: небось, хотела сказать совсем не про выставки — романчик они крутили, как пить дать! Сашка поглядел на свою тетку: поседевшая, сухая как щепка — полная противоположность маме — она замедлила шаг, ворошила носком сапожка опавшие листья, а на губах её, чуть заметная, сквозила улыбка.
«Молодость вспоминает…» — подумал Сашка и как-то по-новому взглянул на свою тетку. Надо же, и у нее, оказывается, было в жизни что-то еще, кроме бесконечных смет и балансовых отчетов, и она влюблялась, бегала на свидания… А теперь вот сидит одна в своей тьмутаракани, вечерами книжки читает и вяжет. Странная все-таки жизнь… Никогда ни о ком ничего до конца не узнаешь! А тетя Оля… плохо, конечно, что одна живет. Хоть бы кошку ей завести. Или собаку… Его маме в этом смысле больше повезло — у неё есть он, Сашка.
«Ага, а много ей от этого радости?! — вдруг как будто иглой прошила его внезапная мысль. Никогда прежде он ничего такого не думал. — Что, самоедством занимаешься?! — вопросил он себя и сам же ответил. — Не-е-е, меня так запросто не проймешь! Никого к себе не подпущу, даже Плюху! Будь она несчастная-разнесчастная… Нечего было про папаню байки рассказывать Демон, мол… тьфу!»
Они углубились по тихой улочке прочь от шоссе, и по мере того как от него отдалялись, город как будто бы растворялся в ноябрьской сырости, отступал, превращаясь в мираж, а запах прелой листвы, тишина и покой обнимали душу, как её обнимает знакомый домашний уют. Двухэтажный, выкрашенный темно-зеленой краской старый дом в три окна притаился за почернелыми голыми ветками вишневых деревьев. Можно было представить, как стоит он весной в белом мареве цветущего сада, и как птицы поют в ветвях, как расцветают нарциссы, тюльпаны и все, что хочет цвести! Тетя Оля нащупала щеколду на внутренней стороне калитки, та распахнулась, потом захлопнулась за спиной, и… пропала, пропала Москва! Они были в мире ином.
Взошли на крыльцо, постучали, дверь открылась… на пороге стоял тот самый старик! Парень от удивленья и ужаса отшатнулся, оступился и кубарем полетел со ступенек вниз.
— Это я виноват, надо было загодя предупредить, чтоб шли осторожно тут у меня ступенька гнилая! Не ушибся? Ну, не беда, проходите-ка, проходите скорее в дом.
Да, то был он — тот, что вынырнул из дождя Сашке навстречу! Только теперь на нем была домашняя стеганая куртка, войлочные тапочки и очки другие — не с круглыми, а с овальными стеклами, только стекла эти отчего-то совсем темные.
— Здравствуй, Оленька! — хозяин низко склонился, целуя у тетки руку. Сейчас будем чай пить, у меня хорошо, тепло — печка натоплена. Предлагали перейти на центральное отопление — у нас в поселке многие перешли, но я, знаешь ли, старомоден, мне печка как-то милей…
Тетка двинулась вслед за хозяином через переднюю и направо — в комнату, а Саня остался стоять, где стоял — на верхней ступени лестницы, куда он с грехом пополам взобрался, отряхнувшись после внезапного сальто-мортале. Он стоял там и трясся — вот сейчас все откроется и его заклеймят позором, а мама узнает, каков мерзавец её сыночка… Надо же, чтоб такое совпадение — нарочно не придумаешь!
«Нет это все не так просто, — мелькнула в нем внезапная мысль, — это не совпадение. Это звено из той цепочки кошмаров, которой меня стараются придушить, а может и вовсе сжить со свету…»
— Сашка! — крикнула тетка, заглядывая в переднюю. — Что ты жмешься там? Борис Ефимович тебя не съест! Давай-ка, топай сюда поскорее, а то мне сейчас уж бежать пора!
Вот так так! Выходит, тетка привела его на растерзание, а теперь бросит?! Ничего хуже и быть не могло. Он на миг представил себе, как будет стоять перед разъяренным стариком, который, конечно, его узнает… Хорошо, если не прибьет! Он хватил себя кулаками по обеим коленкам, чтоб ноги слушались, и, закусив губу, двинулся вперед.
Свернув направо, Саня очутился в небольшой жарко натопленной комнате. В правом углу её стояла изразцовая печка-голландка. На противоположной стене танцевали тени огня, падавшие из приоткрытой заслонки. Эти тени норовили достать и лизнуть слегка колыхавшуюся занавеску из непрозрачной узорчатой ткани, но не дотягивались, сердились и пускались в пляс с ещё большим азартом.
— Сейчас ещё дровишек подброшу! — изрек хозяин, становясь на колени у печки. — Нам, старикам, жар костей не ломит — чем теплее, тем лучше. Оленька, будь за хозяйку, разливай чай. Все на столике.
Посреди комнаты стоял низкий столик, сервированный к чаю, по бокам от него — два массивных кресла, задрапированных кусками мягкой, похожей на бархат материи. При входе в углу была этажерка со множеством каких-то фигурок, вазочек, морских раковин, бутылочек и вообще всякой всячины, на стене — две полочки с книгами. И больше ничего, если не считать двух пейзажей в покоробленных рамочках.
— Молодой человек, там, за дверью в передней стоит табурет. Несите его сюда и садитесь! — крикнул хозяин дома, и Сашка послушно поплелся исполнять приказание.
Они уселись за стол, над чашками со свежезаваренным чаем поднимался прозрачный дымок, потрескивали дрова в печке — все бы хорошо! — но тут Саня с ужасом почувствовал на себе пристальный взгляд из-под темных очков. Прошла минута, другая… он ерзал на табуретке и только что не дрыгал ножками как жучок, опрокинутый на спину, который пытается перевернуться и встать… Разглядывая своего гостя, старик то и дело скалился, растягивая рот в какой-то кровожадной гримасе и демонстрируя крупные стальные зубы. От этой гримасы у Сани волосы мало-помалу начали сами собой шевелиться, и ему неудержимо захотелось забраться под стол.
— Ну-с, давайте знакомиться! — заскрипел старикан довольно противным голосом. — Так это, Оленька, и есть твой племянник? Что ж, очень хорошо, очень хорошо! Только я не пойму, он глухонемой?
— Что вы, Борис Ефимович, у него все в порядке со слухом, да и речь вполне развита! — засмеялась тетя Оля и пихнула племянника локтем в бок. Сашка, не сиди как истукан! Борис Ефимович может подумать, что ты дебил недоразвитый, и я своей просьбой его только зря потревожила… Племянник мой Сашка, — доверительно сообщила она хозяину, — у нас очень стеснительный, так что ты уж на первых порах будь к нему снисходителен.
— Видишь ли, — Борис Ефимович привычным жестом поправил очки на переносице, — дело в том, что дебил недоразвитый — это ваш покорный слуга. — И он захихикал уже знакомым Сашке гнусавым смехом. — Я ведь, милые мои, почти что совсем ослеп, да! И начинаю чувствовать цвет и форму только тогда, когда возникают звуки. Это у меня не со всеми предметами или явлениями бывает, кое-что я ощущаю и так — в кромешной, так сказать, тишине… Но человека могу вполне разглядеть только тогда, когда слышу голос.
— Господи! — ужаснулась тетя Оля. — Когда же это произошло?
— Да, вот, представьте, на днях. Я ведь и прежде, Оленька, как ты знаешь, видел неважно, но работал, да! А тут угораздило: к другу поехал, к Аркаше Вайсбергу, да ты его знаешь — наиважнейший реставратор, просто Божьей милостью, ну так вот… — он отхлебнул чаю, крякнул и продолжал. Аркаша живет у Никитских, и вот меня, дурака, угораздило направить к нему свои изможденные стопы на ночь глядя, да ещё в жуткий дождь.
— И что же? — не выдержала тетя Оля, потому что старик вдруг замер с чашкой чая в руке, уставясь куда-то в угол.
— А? Ох, извини! Это у меня тоже в последнее время бывает: мысль какая-то посторонняя в голову вдруг скакнет и — на тебе! — ни прогнать её, ни наплевать на нее, пока не додумаю, никак не выходит. Что, молодой человек? — старик вдруг резко клюнул всем корпусом, перегнулся через стол и едва не долбанул Сашку крупным мясистым носом, осклабившись прямо перед его растерянной физиономией. — Совсем ведь старик из ума выжил, так ведь? Вы, я думаю, теперь пребываете в полном смятении: это ж надо додуматься — изучать живопись у слепого старого идиота, который к тому же явно из ума выжил!
Сашка торопливо отпрянул, опрокинув при этом чашку, и замотал головой.
— Ш-ш-што ф-фвы! — прошипел он подобно закипевшему самовару не своим голосом. — Я… нет, я с-с-ф-сем так не т-тумаю. Ох, извините! — вид опрокинутой чашки и теплые струи, потихоньку льющиеся со стола ему на штаны, привели его в чувство. — Ой, Борис Ефимович… — повторил он уже более человеческим голосом, но фразу до конца осилить не смог.
— Ну-ну, это все пустяки, друг мой, Александр! — старик несколько театрально воздел руки. — Подумаешь, чай пролился, здесь не такое бывало! Это мы сейчас подотрем. — Он поднялся, выудил откуда-то из-за печки махровую тряпочку и с завидной ловкостью в две секунды протер блюдечко, стол и подлил Сане чаю. — Вот и все дела! А потом, господа, чай — не водка, много не выпьешь! Плебейская философия, я вполне это понимаю, и ты уж меня прости, Оленька, за цитирование подобных присказок, но ведь… н-да! К слову, не желаешь ли рюмочку?
— Миленький, я бы с радостью! — тетя сердечно прижала руки к груди. Да только надо мне ехать, Сашка домой без меня доберется. Так что я вас буквально через минуту вдвоем оставлю, как бы не хотелось с тобой, Боренька, поболтать! Так редко видимся… Ну, ничего, в другой раз.
— Как так? — подскочил старик. — Я тебя никуда не отпущу!
— Миленький, у меня дома ворох работы накопился. Я все откладывала на потом, а теперь уж и откладывать некуда — завтра балансовый отчет сдавать…
— Что ж, — старик заскучал и затеребил крупными узловатыми пальцами полы домашней куртки. — Надо так надо, это нам знакомо, не правда ли, Александр?!
Сашка промычал что-то нечленораздельное и уставился в свою чашку.
— Боря, ты не сказал, — тетка взяла его руку в свои, — что случилось в тот вечер, когда ты к своему другу к Никитским отправился?
Сашка похолодел. Сейчас, вот сейчас! Нет, лучше бы провалиться сквозь землю!
— Да, собственно, ничего особенного. Просто упал я, да. И, как это ни банально, в лужу! Ты представляешь себе, — тут он затрясся от хохота, представь себе, Оленька такую картину: мчится на всех парах старикан под зонтом, вокруг дождь стеной, не видно ни зги, и он — бах! — налетает на какого-то господина, господин отнимает у него зонтик и благополучно скрывается, а старикан — то бишь я! — со всего размаху шмякается в лужу! А потом от этого слепнет, да. Мне, видишь ли, черепушку нельзя сотрясать врач предупреждал, глазник мой. И так глазенапы мои, так сказать, еле фурычили, а тут такая прогулочка вышла. Как говорится, попили пивка… Да это просто готовый рассказ! Эх, нет среди нас бумагомарателя, я бы ему сюжет подарил! Ну разве не забавно, а? — и он зашелся от хохота, напоминавшего предсмертный каркающий хрип умирающего.
— Миленький, это совсем не забавно, как ты можешь так говорить! - возмутилась тетя Оля. — А что ж это за мерзавец такой, который у тебя зонт отнял? Да, наверное, по его милости ты и упал!
— О, дорогая, не преувеличивай! Никакой не мерзавец — просто обыкновенный шутник. И слава Богу, что у нас ещё не перевелись шутники. Жизнь ведь наша к подобному строю мыслей не особенно располагает… Н-да! - тут он осекся и вмиг переменился — от былой веселости не осталось следа. Ну-с, молодой человек, говорят, соловья баснями не кормят! Прошу в мастерскую. А вас, мадам, с вашего позволения я до калиточки провожу, если вы мне окажете милость и подождете минуту.
С тем он поднялся, жестом пригласил Сашку следовать за собой и распахнул неприметную дверь, притулившуюся за занавеской.
Глава 6 В МАСТЕРСКОЙ
Вернувшись домой, Сашка разделся, прошел на кухню, открыл дверцу холодильника, чтобы добыть съестного, потом резко захлопнул её, рухнул на табуретку и уронил голову на руки. Тетя Оля появится завтра днем, чтобы к пяти ехать к маме, он остался дома один и был рад этому. Если только вообще сохранил хоть какую-то способность радоваться… Он был сломлен, раздавлен — метель бушевала в душе. Сашка не понимал, как быть и что делать, потому что разговор со старым художником разметал все привычные его представления — все, что он «думал за жизнь», лежа на диване у себя в комнате.
Он принялся перебирать в памяти пережитое в этот вечер — каждое слово их разговора запечатлелись в памяти с такой ясностью, точно слова эти были вырублены в скале, а он стоял перед ней и снова и снова вчитывался в письмена…
* * *
— Прошу, Александр, прошу, располагайтесь, будьте как дома. — Старик широким жестом обвел невеликое пространство мастерской. — Осмотритесь тут хорошенько, не стесняйтесь и не торопитесь — спешить нам некуда, а вы, чтобы дело у нас пошло, должны здесь хорошенько освоиться.
Они оказались в комнате, все стены которой были увешаны рисунками, акварелями, портретами — старинными в резных деревянных овальных рамах и современными в простых металлических прямоугольниках. Только даже работы, явно выполненные недавно, — во всяком случае в те годы, когда Сашка уже существовал на белом свете, казалось, принадлежали давно прошедшим времена. Прошлое как будто накладывало на них свою печать, они были будто овеяны стариной, её ароматом, несуетностью — её дыханием… И лица тех, кто был изображен на портретах, заметно отличались от любого лица из толпы каким-то особенным выражением. Сашка пытался найти слова, которые могли бы передать суть этого выражения, и не мог. Он бродил от стены к стене, от одного портрета к другому, потом оборачивался… лица с портретов на противоположной стене глядели на него. В каком бы месте мастерской он ни находился, множество проницательных глаз неизменно наблюдали за ним.
На широком столе, заляпанном краской, лежали груды рисунков, кипы набросков и папок с тесемками, которые буквально лопались под напором того, что в них помещалось. Подрамники с натянутым чистым холстом, законченные работы, повернутые лицевой стороной к стене, незаконченные этюды, груды тюбиков с краской, бутылочки с растворителем, какие-то тряпки, стаканы с бессчетным числом кистей и карандашей, огарки свечей в подсвечниках — всего и не перечислишь! От всего этого глаза разбегались, а характерный густой запах масляных красок и растворителя слегка кружил голову.
Здесь тоже были книги — по преимуществу альбомы с именами едва ли не всех всемирно известных художников на корешках. Полки с книгами, как и дверь в мастерскую, были занавешены полотнами тонкой узорчатой ткани, но хозяин, войдя, их раздернул, чтобы гость мог все осмотреть.
— Ну что ж, молодой человек, с чего мы начнем? Вернее вот так: с чего бы вы сами хотели? Быть может, зададите мне какой-то вопрос, их у вас, я надеюсь, превеликое множество… Спрашивайте, не стесняйтесь!
— Да я… — Саня замялся — этот странный старик и пугал его и притягивал одновременно. Первый дикий испуг прошел, он понял, что ни бить, ни учить жизни его, по крайней мере сегодня, не будут… — Я даже не знаю…
— Да, я понимаю, вам трудно. Незнакомая обстановка, ваш покорный слуга, который кого хочешь с ума сведет своими ужимками — это испытание, скажу я вам… Хорошо! Тогда, если не возражаете, спрашивать буду я.
— Да, конечно.
Сашка старался не встречаться со стариком взглядом, он терялся в догадках — узнал его тот или нет.
— Тогда вот что. Скажите, какое из этих имен вам всего предпочтительнее? — и он указал на полки с альбомами. — А если с ходу трудно, попытайтесь определить направление в живописи, которое греет вам сердце: романтизм, натурализм, символизм, импрессионизм, кубизм и прочая, прочая… Ну, решайтесь!
Это предложение и вовсе выбило Сашку из колеи. Он никогда особенно живописью не интересовался, его познания ограничивались тем, что об этом рассказывал их школьный учитель ИЗО. Просто ему нравилось рисовать — и все… Он стоял, в растерянности глядя на стройные ряды альбомов, и чувствовал себя дурак дураком.
— Что ж… не страшно. Значит мы этому уделим особое время и особое внимание. Послушайте, Саша, вас, что, пугают мои очки? — этот вопрос прозвучал так неожиданно, что Сашка вздрогнул.
— Н-нет, что вы… Просто я… немного волнуюсь.
— Ну, это я заметил. Но спешу вас уверить, что поводов для волнений у вас нет никаких. Ровным счетом никаких! А очки… Что ж, они мне и впрямь не нужны — без них даже лучше. Вот, скажем, вы стоите у стола и рассматриваете мой рисунок — тот, что сверху. А я вместо вас вижу лишь довольно расплывчатое серое пятно.
Сашка вскинул на Бориса Ефимовича изумленные глаза… и опять отвел взгляд. Значит старик не узнал его — просто не мог узнать! Уф, пронесло! И все-таки он был не в своей тарелке, сам не знал, как толком это чувство назвать — стыдом ли, угрызениями совести… Ничего подобного он, по правде, до сих пор не испытывал. Даже когда мать забрали в больницу, по существу, по его вине.
— Не пугайтесь, живопись, рисунок, линии и цвета я различаю как прежде, просто несколько по-другому. Тоньше, если хотите. На малейшее изменение света и цвета откликается все мое существо. Я это чувствую сердцем и вижу — да! Вижу, только по-своему. И вполне смогу направлять вашу руку. Хотя, мне думается, важнее направить душу.
Саня вздрогнул и обернулся. Старик, ссутулясь, уперев руки в боки и склонив набок голову, точно птица, собравшаяся склевать жучка, глядел на него. Его зубы, как и в тот злосчастный дождливый вечер, скалились в странной злорадной ухмылке. Он, что, смеется над ним? Или знает — знает все про него в мельчайших подробностях?! Как будто слышал его, Сашкины, слова, что за мечту свою тот душу готов отдать… И куда этот огрызок прошлого собирается направлять его душу: направо, налево? Вверх или вниз?.. Ох, поскорее бы смотаться отсюда!
— Ну-с, так, подойдем к делу с другого конца, — гаркнул Борис Ефимович с таким довольным видом, точно парень, который маялся возле письменного стола, принес ему золотые червонцы. — Скажите мне, юноша, знакомы ли вам какие-либо поэтические творения? Быть может, есть любимый поэт, от чьих ямбов у вас тает сердце? Откройтесь мне, не стесняйтесь! В наш прагматический век не всякий, увы, ценит поэзию, но вы… нет, я чувствую вы будете не из таковских! Молчите? Что ж с вами делать?! Ну хорошо, кого из поэтов прочли вы недавно, быть может, на днях? По ходу нашей работы я стану делиться с вами своими пристрастиями, однако, и вы хоть чуть-чуть приоткройтесь… Простите мне этот допрос, но без взаимной симпатии и доверительности мне трудно будет вас чему-либо научить.
И что в самом деле стою тут, немой как рыба? — подумал Сашка, сердясь на себя, и, не раздумывая, бахнул: «Бодлера читал!»
— Ого! — восхитился Борис Ефимович и принялся в волнении вышагивать по комнате. — Батенька, да вы эстет! Экий, понимаете ли, выбор! Чтобы не из школьной программы, а этак вот — нате вам! — не кого-нибудь, а Бодлера! А что ж в особенности приглянулось вам, я полагаю, из «Цветов зла»: быть может, «Гимн красоте» или «Душа вина», а может быть «Семь стариков»? Хотя нет — это уж я хватил — для того вы, мой друг, слишком молоды.
— Ну, мне сейчас трудно вспомнить, — замялся парень. — Всякое приглянулось.
— Но вы ведь не склонны к натурализму — ведь нет?! Я почему-то уверен, что в душе вы романтик.
— А что ж плохого в натурализме? — в Сашке что-то вдруг дернуло, ухнуло и его, что называется, понесло. — Если человек так жизнь видит, так чувствует, это, что, плохо? Но он такой и по-другому не может! Он устроен так, понимаете? Такой он родился, такой и умрет. А вы думаете, надо врать? Притворяться? Чистенького из себя строить? А если не чистенький, а грязный как вошь, тогда как?
— Мне отчего-то думается, что вошь не такая уж грязная — это во-первых… А потом, кто сказал, что каким человек родился, таким и умрет? Для того нам жизнь и дана, понимаете ли, чтоб не на месте торчать пень пнем, а меняться, идти. Это путь, понимаете ли, друг мой, и путь нелегкий, полный сомнений, неуверенности в себе… боли, да! Именно так и никак иначе! Это борьба, и прежде всего с самим собой. Вы так не думаете?
— Я… я не знаю. Путь — это ещё может быть… А борьба с собой… по-моему глупо это! Чего с собой-то бороться, когда и так вокруг всякой дряни хватает. Сильным быть — это да, это надо… а тратить время на самокопания — нет, это чушь собачья! Да и времени нет: жизнь-то какая, видите? Это ж прямо экспресс скоростной, который того и гляди сковырнется с рельсов! Вы телевизор глядите? Ну вот!
— Ага, вот я вас и поймал! — возопил старик, захлопал в ладоши и принялся потирать руки, прямо-таки сияя от радости. — Ну, теперь у нас дело пойдет! Во всяком случае, исходная точка для меня прояснилась.
— А что я такого сказал? — буркнул Саня, ругая себя почем зря за излишнюю откровенность.
— Вы, мой друг, сказали мне очень многое. От этого и начнем танцевать! А для начала я вам сообщить хочу следующее. Вот вы говорите, тратить время на то, чтоб в себе разбираться и что-то менять — все это чушь собачья… А возьмем, к примеру того же Бодлера. Есть у него стихотворение: «Непоправимое» называется. Да, что это я, он и сам нам все скажет. Сейчас, сейчас, где он тут? Ага! — Борис Ефимович отыскал на полке с книгами маленький томик Бодлера в мягкой обложке. — Погодите-ка, погодите… а вот!
Он начал читать глухим мерным голосом, но Сашка не слушал. Он ощущал себя лягушкой, распяленной на стекле натуралиста, который, напевая песенку, рассекает ей мышцы скальпелем. Ведь вот напасть! То мать вечно совала свой нос в его дела — чуть ли не в ноздри ему заглядывала: нет ли там чего, что можно улучшить, исправить, вылечить! И все это из лучших чувств! Потом этот доктор хренов! Ведь в самое нутро влез, собака, всю душу вынул, прополоскал своими грязными лапами, отжал и назад всунул. А, спрашивается, с какой стати?! Разве есть у кого-нибудь право человека трясти, выпытывать, кто он, да что, под микроскопом его разглядывать и блеять: не-е-ет, голубчик, ты не так живешь! Надо совсем по-другому! А как надо жить — про это мы тебе все расскажем и даже покажем… Да что они все, офонарели, что ли? Как будто лучше всех про жизнь знают! Ничего они не знают, улитки ползучие! И этот туда же, учить его вздумал. Исходная точка у него появилась, танцевать они с ним начнут!!! Да уж, этот старикан у него затанцует! Но тут… тут старик возвысил голос, Сашка невольно отвлекся от своих мыслей и вслушался в текст…
Непоправимое проклятыми клыками Грызет непрочный ствол души, И как над зданием термит, оно над нами, Таясь, работает в тиши Непоправимое проклятыми клыками! — В простом театре я, случалось, наблюдал, Как, по веленью нежной феи, Тьму адскую восход волшебный побеждал, В раскатах меди пламенея. В простом театре я, случалось, наблюдал, Как злого Сатану крылатое созданье, Ликуя, повергало в прах… Но в твой театр, душа, не вхоже ликованье. И ты напрасно ждешь впотьмах, Что сцену осветит крылатое Созданье! (пер. А. Эфрон)Александр замер. Эти строки поразили его в самое сердце. Казалось, они написаны для него и… про него. И осознавать это было и мучительно и хорошо. Да, хорошо! Потому что поэт его не поучал — он страдал вместе с ним.
— Вот вам, юноша, образец романтического мироощущения: мир греховен и ты сам — плоть от плоти его! Зло жжет сердце поэта, он не может жить, понимая, что оно безнаказанно, что оно повсюду. Сделав зло, человек обречен — это уже не исправишь! И это вконец сгрызет, изведет его… «Но в твой театр, душа, не вхоже ликованье» — бедный, бедный! Но Бодлер не всегда был таким и отнюдь не всегда откликался на зов этой жизни с такой безысходностью. Он писал и другое, он думал и так:
Блажен, кто, отряхнув земли унылый прах, Оставив мир скорбей коснеть в тумане мглистом, Взмывает гордо ввысь, плывет в эфире чистом, На мощных, широко раскинутых крылах; Блажен мечтающий: как жаворонков стая, Вспорхнув, его мечты взлетают к небу вмиг; Весь мир ему открыт, и внятен тот язык, Которым говорят цветок и вещь немая. (Пер. В. Шор)— Вот, а вы говорите, человек не меняется. Еще как! Кроме боли и муки, у него есть мечта, а она может вытянуть из самой гнилой и опасной трясины. Тогда человек как бы возносится сам над собой, перебарывает в себе зло — ту силу, которая восстает в нас против святого божественного начала, — дар Сатаны. Но имя это, мой милый, не стоит поминать всуе, тем более на ночь глядя. Лучше давайте-ка мы порисуем с вами немного. Вот, к примеру, как я воспринимаю в цвете последние две строфы.
Старик достал лист бумаги, коробку с пастелью, взял несколько разломанных мелков, — надо сказать, содержались они у него в некотором беспорядке, — и принялся быстро и нервно чиркать пастелью по бумаге. Минут через пять Саня увидел яркий и свежий рисунок, в котором не содержалось никакого сюжета, но характер, настроение без сомнения были.
— Ну, что скажете? — старик отставил рисунок к стене. — Что это вам напоминает?
— Наверное… небо, — неуверенно откликнулся Саня.
— Хорошо! Очень хорошо! Но ведь здесь не голубой, не серый и не лиловый — здесь праздник цвета! Глядите: и красные разводы имеются, и этот оранжевый, оттененный зеленым. Верней, это скорее все-таки бирюза. А? Что скажете?
— Да, похоже на бирюзу, но… вот здесь она переходит в оттенок, который иногда появляется на закате над морем, когда над темно-синим полыхает напряженный оранжевый цвет, а потом он переходит в такую вот… бирюзу.
— Блестяще! — опять закричал старик и притопнул ногами, изображая подобие чечетки. — Да, мы с вами такую кашу заварим, Сашенька, что земля закачается! У вас редкое восприятие цвета. А это немало — это, пожалуй, едва ли не главное для художника. Ну? Будем биться?
— За что? — несколько помрачнел Сашка, который от похвал старика расцвел точно мак.
— За нее, за что же ещё — за красоту. Да ещё с большой буквы! Когда человек ищет и находит её — душа его как бы свежеет, она чистится и растет. Растет, да! Но это я, батенька, вперед забегаю — и так вас, пожалуй, сегодня перегрузил, накинулся, что твой волк на ягненка!
И старик снова осклабился, показывая длинные и крупные стальные зубы. Но Сашке отчего-то эта усмешка не показалась теперь ни ехидной, ни злопыхательской. Может, просто дантист ему такой поганый попался, который превратил нормальную человеческую улыбку в подобие бесовской гримасы! А может, это от улыбки так черты искажаются, может, нерв какой-то задет — у стариков так бывает… Парень видел, что хозяин мастерской искренне радуется, что ученик у него не последний болван и кое-что смыслит в цвете. И ему это было на удивленье приятно!
Глава 7 ВСТРЕЧА
Стылый унылый ноябрь тянулся к концу — шла зима. Уж не раз кружили под вечер снежинки — хрупкие, острые, совсем ещё не похожие на зимний пушистый снег. По утрам подмораживало, и Саня хрустел башмаками по первому тоненькому ледку, бредя в школу. Домой он теперь не спешил — дома его ждала мама…
Лариса Борисовна вернулась домой спустя неделю после срока, назначенного врачами для выписки — её задержали в больнице, чтоб хорошенько обследовать. Она чувствовала себя плохо, очень плохо! Сердце сбоило, но кроме этого явно было что-то ещё — какая-то не распознанная болезнь, которую пока не смогли диагностировать. Через месяц ей предстояло повторное обследование, а пока назначен строгий постельный режим. Саня с мощью тети Оли научился сносно готовить, ходил в магазины, продукты таскал — в общем, был за хозяйку… Мать волновалась — мол, мальчишка может перегрузиться: уроки, дом, да ещё занятия рисованием. Но сестра её успокаивала — ничего, справится, ему это только на пользу.
И в самом деле, парень стал и чувствовать себя лучше, да и выглядел по-другому — похудел, вытянулся, и даже походка стала не такой неуклюжей он стал ходить быстрым шагом и прямей держал голову, а прежняя понурая расслабленность понемногу сменялась бодростью. Он уставал, конечно, — этого не отнять, но несколько воспрял духом, почувствовав первые проблески желанной свободы. Ему не дозволялось гулять с дворовыми ребятами, не позднее пяти он должен был вернуться домой, то есть, его все ещё держали на поводке, но поводок этот заметно удлинился… Да и дома он не чувствовал прежней слежки — мать не заглядывала поминутно к нему в комнату, не шарила по карманам — лежала, дремала… спала. Она стала заторможенной, апатичной, голос Вертинского не разносился вечерами по комнатам и, казалось, ничто её теперь не интересовало, даже цветы… Ничто, кроме бронзовой статуэтки, перед которой, несмотря на слабость и дурноту, она исправно воскуряла восточные благовония и меняла съестное на блюдечках — приносила в жертву свои дары.
Тетя Оля попыталась было поговорить с сестрой об этом новом её увлечении, но та отмалчивалась, отмахивалась и просила оставить её в покое. А Санька статую просто возненавидел! Он готов был вышвырнуть её в окно, как тот несчастный горшок с астрофитумом, но что-то его удерживало… Это была пробуждающаяся жалость к маме.
Он исправно посещал Бориса Ефимовича и с удивлением стал замечать, что занятия его увлекли. К старику он все ещё относился с опаской — уж очень тот был чудаковат и непредсказуем. То веселился, хохмил и ломал комедию, изображая театр одного актера — представлял в лицах повадки и причуды художников, ученых и прочих известных людей, коих он, видно, в жизни знал множество. А то в разгар представления вдруг как уставится на своего подопечного… о, какой же странный это был взгляд! Он пронизывал Саньку точно рентген, и тот готов был поклясться, что старик все-таки его узнал и в любой момент готов отомстить, а месть эта может быть такой неожиданной и такой дикой, что у него просто крыша поедет…
Но это все было не так уж важно по сравнению с тем, что занимало мысли его днем и ночью. Вернее, не что а кто… Маргарита! Он метался, переходя от боязни, что она на него даже не взглянет, к убежденности, что может и должен завоевать её. Первый дерзкий порыв прошел и былая уверенность сменилась сомнениями. Да ещё тетя Оля подливала масла в огонь, поглядывая на него с лукавой насмешливостью и бросая иной раз на ходу: «А ведь согласись, племянничек, что самые прелестные создания на земле — балерины!» Или что-нибудь ещё в этом роде… Он бесился, зная, что тетка догадывается о его муках, да при этом ещё и подсмеивается… Нет, от этих родичей можно с ума сойти!
И вот наконец настал день, вернее не день, а ночь, когда Сашка решился. Решение пришло нему резкое и внезапное как удар. А случилось вот что. Он спал — как и все последние дни вовсе без сновидений. А тут приснился сон, да такой… жуткий, что ли… Во сне он стоял под портиком Большого театра, падал снег… и мимо прошла она. Обернулась, улыбнулась ему, — да такой призывной, манящей улыбкой! — и тронулась дальше, и он слышал дробный стук её каблучков, и хотел побежать за ней, окликнуть, взять за руку, но не мог — застыл на месте. Он стоял, а она уходила все дальше… А потом обернулась опять и помахала рукой. Саня рванулся всем телом и упал. Он падал куда-то в пропасть, в черноту… и пропал театр, пропал снег и свет, и только глухо стучали где-то над головой её каблучки, звук все отдалялся… Их разделяла бездна. И вдруг из бездны, из черноты вырос бронзовый идол. Он был огромен — на Сашку пала гигантская тень. И вспыхнул огонь — яркое пламя стеной встало перед онемевшим парнем, он хотел закричать и не мог… А огонь полыхал как бесплотная кровь, освещая сверкавшую бронзу. У идола загорелись глаза неживым желтым огнем, рот его начал медленно открываться, подобный входу в пещеру, и бронзовые тяжелые руки задвигались, как будто страшный божок хотел стиснуть парня, раздавить его… или принять в свои убийственные объятия. Вот он вырос еще, стал наклоняться, — глаза его оказались пусты, — и вот чудище валится на него, падает, падает — нет, только не это! — ведь он в лепешку расплющит… И тут бездна вокруг осветилась мертвенным светом, в ней зажглись какие-то письмена… и Сашка проснулся!
Он лежал в холодной и влажной постели весь мокрый, дрожал… и вдруг почему-то решился. Нет, он не даст ей уйти, не позволит исчезнуть. И никакие тени ему не страшны. А если по чьему-то темному замыслу он должен пропасть — что ж, пускай. Туда ему и дорога! Потому что жить вот так без надежды, едва он нашел её — свою красоту — Сашка больше не мог. И на следующий день после школы он не вернулся домой, он отправился прямиком к училищу. Адрес ещё утром узнал по справочнику, благо, такой телефонный справочник в доме был! 2-я Фрунзенская, дом 5. Он не знал найдет ли её, встретит ли… И с первых шагов конечно же неудача — внутрь его не пустили. Вход в святилище — в царство фей охранял Цербер в обличье тетки с накрашенными губами.
— Мальчик, ты куда? — кинулась она к нему, едва он поднялся по широкой гранитной лестнице, распахнул стеклянную дверь и проник в вестибюль.
— Я… я к сестренке. Мама встретить её попросила.
— А как фамилия? В каком классе учится? — допрос ему был учинен по всей форме!
— Ну… Иванова её фамилия. А в каком классе учится, я не помню.
Он понадеялся, что девочка с такой распространенной фамилией уж наверняка найдется в этом здании, опоясанном сплошным поясом огромных стеклянных окон во втором этаже.
— Как же это ты не знаешь, в каком классе сестра? Э, милый, давай-ка на улицу. Посторонним здесь нельзя, у нас с этим строго.
— А можно я здесь в вестибюле её подожду? — он кивнул на ряд кресел, в которых сидели дамочки, погруженные в чтение, судя по всему, поджидавшие своих чад.
— Слушай, я тебя первый раз вижу. И глаза у тебя бегают. Давай-ка на улицу, да поживей, нечего тебе тут…
Делать нечего, он потопал на улицу. Было холодно, в этот день впервые ртутный столбик термометра упал ниже десяти градусов. А он второпях с утра не поглядел на термометр и напялил осеннюю курточку. Хорошо хоть, что шарф теплый надел! Сашка принялся как журавль вышагивать по тротуару напротив входа в училище и заглядывать в окна второго этажа — в этот застекленный аквариум, где располагались балетные классы. В некоторых шторы были раздернуты и видно было учениц, стоящих, держась за палку.
«Ага, значит это и есть балетный станок!» — прикинул он, с жадностью вглядываясь в лица юных танцовщиц — а вдруг увидит ее! За эти дни Сашка перебрал в школьной библиотеке все, что было там о балете, стараясь узнать о нем как можно больше. В книжном магазине было много всякого про балет, но эти книжки — не по карману!
Юные феи в легких розовых хитонах стояли, держась за палку, и разом все как одна — поворачивали свои гладко причесанные головки на длинных шейках, вместе клонились к полу и поворачивались, вертелись и останавливались, подчиняясь ритму неслышимой Сашке музыки. Нет, эти, похоже намного младше той, ради которой он здесь, из-за которой так билось его тревожное сердце. А что в том классе, в соседнем? Там мальчики. Этакие деловые, сосредоточенные, а сами-то — от горшка два вершка! А в угловом? Там двое то появляются в поле зрения, то исчезают в глубине зала. Она в черном купальнике, черноволосая, худая как щепка, волосы мокрые все — это даже отсюда видно… На талии белая пачка. Он — в черном трико, в белой майке, майка тоже вся и спереди и сзади промокла. Она взлетает у него на руках, вот уселась к нему на плечо — и как только держится?! Руки точно фиксируют позу в горделивой классической позе, ноги согнуты и образуют какой-то немыслимый угол… А, он вспомнил как называется эта поддержка «сидя на плече у партнера». Так написано в книжке «Поддержка в дуэтном танце», которую он нашел у букинистов на Кузнецком мосту, куда направился по просьбе тети Оли отыскать редкую книженцию про цветы для мамы. Про цветы не нашел, зато нашел про поддержку. И знал теперь, что есть «рыбка», есть «ласточка», туры, обводки и много ещё чего… Ох, эта бедная в пачке упала! Отошла к станку, оперлась на него, глядит куда-то вдаль невидящими глазами… э, да она плачет! Тайком утирает слезы, наверное, чтоб партнер не увидел. Вот к ней подошел какой-то длинный, седой, говорит что-то… наверное утешает. Учитель, наверное… Ага, как же, утешил! — да он отчитывает ее! Это вместо того, чтоб как-то помочь… Ну и ну, хорош педагог. Ничего себе житуха у этих балетных!
Сашка так увлекся своим наблюдением, что на какое-то время перестал следить за входными дверями. И вдруг… точно его кто-то толкнул! Он повернулся… По ступеням гранитной лестницы сходила легкая стайка девушек, и такая походка у них была… нет, по земле так не ходят — так ступают по облакам! И первой шла, размахивая объемистой сумкой, его Марго!
Он дернулся, отвернулся, хотел убежать… Как интересно он будет выглядеть сейчас в её глазах, толстый Пончик, сопливый мамашин сынок? Нет, бегство — это позор! Зачем тогда все? Он пойдет за ней, куда бы она ни пошла, поедет, куда б ни поехала… Отошел в сторонку за кустики, подождал, когда девушки пройдут мимо, и тронулся следом. Проходя, они взглянули на него как на пустое место, и, продолжая свой оживленный разговор, двинулись по 2-й Фрунзенской, свернули налево — к Комсомольскому проспекту, и все это время прохожие — все как один! — заглядывались на них. А он… он, задыхаясь, тащился следом — от волнения снова вернулась одышка, и шаг стал тяжелым как прежде. И тут… тут Марго обернулась. В это время вся их девичья стайка приблизилась к остановке троллейбуса. Это было точно как в его сне! Только там она улыбнулась ему, точно звала за собой, а теперь… Теперь она оглядела его как глядят на клопа, ползущего по обоям! Поглядела, презрительно фыркнула, сказала о чем-то подругам, те как одна обернулись и уставились на него. Нет, это было уж слишком!
Он замер на месте, потом шагнул, покачнулся как пьяный, споткнулся… Девицы расхохотались! Тогда Сашка сжал кулаки, спрятанные в карманах, стиснул зубы, собрал всю свою волю и пошел вперед — к ним навстречу. Но тут подошел троллейбус, девчонки впорхнули туда, двери захлопнулись… он остался один.
И, вернувшись домой, раздевшись, заглянул к маме в комнату — та спала. И на цыпочках прокрался к бронзовому божку, бухнулся на колени… Сашка сейчас почти ничего не соображал, кроме одного — ему нужна помощь! Он не может так больше, просто не может! Он ведь сказал себе в тот вечер, когда увидел её, что душу черту готов отдать, что ж, пускай будет так! Нет, конечно, мамин божок не черт… Саня не знал, кто он на самом деле. Но отчего-то догадывался, что дух, которого изображает бронзовый идол, уж никак не светлый… А, ну и плевать, лишь бы помог ему, только бы Маргарита была с ним… пусть даже во сне. Сашка знал, что вся цепь событий этой безумной осени, все что случилось: взгляд химеры, божок, странные сны, черная тень — все это как-то связано вместе. И началом этой цепи стал его одинокий путь под дождем и старик, которого он избил. Старик, который ослеп из-за его выходки. И теперь помогает ему стать художником и говорит, что верит в него… Это какой-то бред, не иначе, разве в жизни бывает такое? Получается так! И он больше не понимает, кто же он сам — гад ползучий или все-таки человек. Да ещё не простой человек, а талантливый, у которого дар по словам старика… А Бодлер? Может, все началось с него? С того дня, когда он прочитал это: «Жизни, жизни в розовом свете!» А сам Бодлер, кто он?! Сашка попросил у старика томик стихов и прочел от корки до корки. И как совмещаются в одном человеке эти корчи души, эти жуткие вопли и вера в то, что поэт как венец творения причастен к высшей славе Вечного Трона! так сказано в стиховорении «Благословение». А чей тогда Вечный Трон? Божий? Значит, Он есть? И что, это не сказки?! Нет, Сашка теперь ничего уж не понимал, он только хотел быть с ней — со своей королевой. Он должен найти свою Красоту, уж почти нашел… но она — не Марго — нет! Потому что настоящая красота не способна вот так насмехаться! Издеваться над тем, кто просто идет по улице и вовсе не виноват, что природа или другая какая-то сила сотворила его таким, какой есть… И все-таки он заставит Марго подчиниться ему и тогда… тогда он найдет свою высшую Красоту, потому что станет самым сильным на свете. Да, она покорится ему!
Сашка не мог, не умел молиться — просто вытащил из кармана пирожное, завернутое в салфетку, которое купил по дороге. Купил, уже зная о том, для кого оно предназначено. И положил его на тарелку перед бронзовым идолом. Он стоял на коленях — толстый нелепый парень — и раскачивался из стороны в сторону, сжав голову руками. Губы его шевелились. Он просил о своем.
А потом как сомнамбула, почти ничего не видя, пробрался к себе, упал на кровать и провалился в сон. И там, во сне, Сашка снова был сильной и дерзкой птицей. Он летал над землей, наслаждаясь своей свободой, а потом углядел свою жертву — какую-то птичку, которая сидела в гнезде, с лету спикировал, цапнул и рвал её, рвал…
А наутро, когда проснулся, почувствовал возле себя что-то нежное, мягкое, влажное. Опять взмок? — с омерзением подумал он, откинул одеяло…
Возле него на простыне лежали пестрые перышки со следами крови. И ещё коготки, коричневатый раскрытый клювик и подернутый мертвенной пеленой сизый глаз.
Глава 8 БЕЗНАДЕГА
Сашка как ошпаренный сорвался с кровати, точно в ней свернулась змея.
— Что это, что? — выпалил вслух, шарахаясь в угол. — Неужели все это на самом деле? И этот сон… Нет, так не бывает, просто не может быть! А почему? — вдруг спросил он себя с какой-то усталой покорностью. — Разве ты, Пончик затюканный, можешь знать? Ничего, ничего-то ты знать не можешь. Со мной происходит что-то, я болен наверное… А может, наоборот, я здоров, он сел на пол, пораженный внезапной мыслью, — и этот идол… исполняет мои желания?
— Ты услышал меня? — крикнул он, не таясь, не боясь, что его мать услышит. И с этим криком резко обернулся к двери, что вела в коридор.
… И тут же увидел в углу черный зонт. Тот стоял, прислоненный к стене, как и прежде. Вот он, знак! Его услыхали! Ведь и началась вся безумная свистопляска с этого самого зонта. Он снова упрятал его под кровать, когда чертов Димон всучил ему зонт чуть не насильно. А теперь вот он — на тебе! Стоит как ни в чем не бывало. А ведь, когда он ложился спать, его в углу не было. Мать спала… Значит тот, кто водворил зонт на прежнее место, не видим ни ему, ни матери… никому. Но он есть!
Парень потряс стиснутыми кулаками в воздухе — ну, теперь-то он им покажет! Им всем! Ведь теперь, с незримым своим покровителем, он может горы свернуть! И Маргарита — она от него не уйдет!
«А ты помнишь, какая плата за эти победы? — шевельнулась тревожная мысль. — Ты же цену назначил не малую — ведь душа…»
— Эй, там, внутри! Даю команду заткнуться! — бодренько этак вякнул Санька вполголоса — боялся, что мать все же проснулась от его криков. Нечего теперь сопли распускать — дело сделано! Вот и поглядим, какая жизнь лучше: жирной личинки, заключенной в земле как в тюрьме, или того существа, которое из неё вылупится. Ведь я, можно сказать, вылупляюсь! Ага, нормальное слово! — он расхохотался. И смех этот был каким-то болезненным, лихорадочным — злой был смех — сейчас Сашка не в шутку себя ненавидел и… боялся. На сердце было тревожно, неспокойно. На душе кошки скребли. Словно кто-то царапался там и просил, чтоб отпустили на волю…
Черный зонт, преследовавший его, был упрям и назойлив. Он теперь ещё больше походил на химеру, которая со злорадством напоминала пленнику, — а Сашка как будто бы угодил к ней в плен, да, точнее не скажешь! — так вот, эта тварь, словно бы тыкала его носом в дерьмо, тыкала и повторяла: «Вот что ты сделал, вот, погляди! Вспомни, что произошло по твоей милости… Гнус ты, а не человек, подонок ты, да! И прежнего не вернуть.» Зонт, свидетель его позора, подстерегал его как убийца в ночи, настигал и бил точно так, как этим самым зонтом парень бил старика… Злое дело, совершенное им однажды, перечеркнуло всю его жизнь, и сделало невыносимой. Сашка понимал, что не может теперь смотреть на все вокруг так как прежде с чистой совестью. Он был вымаран весь, он прогнил изнутри, и процесс этот распространялся все дальше, все глубже… разъедал душу, как пятно кислоты.
Он не знал, как высвободиться, как отмыться, и избрал единственный известный ему способ самозащиты — мысленные ожесточенные атаки на все и вся и, прежде всего, на своих близких… Он начал как бы раздваиваться — мрак, растекаясь внутри, постепенно впитывался в самые поры и клетки, но душа… жалкая, измученная, больная, она все же сопротивлялась. Пыталась сопротивляться. И когда парень слышал её слабый протестующий голос, ему становилось совсем худо.
Он подскочил, наподдал зонт ногой как футбольный мяч… тот с резким щелчком раскрылся в воздухе и бахнулся на пол. Перед ним лежал, чуть покачиваясь, огромный черный матерчатый гриб. Он как будто бы вырос, Сашке казалось, что зонт стал меняться в размерах — он рос на глазах.
«Что-то в глазах двоится, — подумал парень, протер глаза… нет, вроде бы, зонт такой, как и был. — А, это я! Этот вот мерзкий черный гриб — это я! — решил он, сложил зонт и аккуратно поставил в угол. — Пускай тут стоит, все равно от него никуда не деться. От себя, говорят, не убежишь!»
— Са-а-ша! — донеслось из маминой комнаты.
— Иду, мам! — он дал зонту щелбана и потрусил к маме.
— Молочка принеси… — попросила Лариса Борисовна. — Деньги в кухне, на холодильнике.
Он быстро оделся, сжевал бутерброд, выпил чашку растворимого кофе и скатился во двор. Была суббота, в школу не ходить, можно было пошляться и поразмыслить. Хотя мыслить как раз не хотелось — совсем одолели эти мысли проклятые! Заняться бы чем, хоть бы Димон подвернулся… И словно в ответ на его пожелание — вот он, Димон, тут как тут!
— А, здорово, старик, куда ты пропал? Я к тебе не захожу — мать боюсь потревожить, — сообщил Димон, закуривая. — Как жизнь молодая?
— Здорово, Димон! — бодренько брякнул Саня. — Да, я ничего… Только, знаешь, совсем быт заел! — Он скис и прибавил. — Никакой жизни нет…
— Ну, это, старик, можно исправить, — хмыкнул Димон. — У тебя планы какие?
— Да, особенно никаких.
— Тогда хочешь порезвиться? Мы тут с пацанами хотим позабавиться: знаешь старую голубятню? Ну ту, через двор — в проходном.
— Ага, знаю.
— Там бомж поселился. Рожа — как арбуз, только синяя. И вонь от него… От этих бомжей ваще деться некуда — все, гады, заполонили. Это ж не люди — мусор! Всю Москву изгадили. Ну, мы и решили его — того, проучить. В общем, пускай делает ноги! Нечего ему вонять тут, в наших дворах. Так подваливай, мы где-то часикам к одиннадцати здесь, во дворе соберемся.
— А чего вы хотите-то? — ковыряя землю носком кроссовки, поинтересовался Сашка.
— Чего-чего — поучим маленько, чтоб жизнь медом не казалась! Ты че, маленький, что ли, не знаешь, как это делается?
— А-а-а… — протянул Сашка и его зазнобило. — Понятненько. Я не знаю, успею ли, надо за молоком — мать послала. И вообще, дома дел накопилось до хрена и больше… Нет, ты не думай, я бы пошел, постараюсь все сделать по-быстрому. Так в одиннадцать, говоришь?
— Угу. Ну, смотри, старик, дело твое…
И Димон, раздавив окурок, двинулся к подворотне.
— Эй, Дим, погоди! — крикнул Саня. Он понял, что здорово подкачал в глазах соседа, упирая на свои домашние обстоятельства, и надо было срочно укреплять свой авторитет. — У тебя сигаретки не найдется?
Он ни разу ещё не курил. Но никак нельзя с Димоном вот так расставаться: только-только он смог доказать, что не держится за материнскую юбку и на мужской поступок способен, как — на тебе! — зовут бомжа бить, а он мычит про кастрюльки…
— На, держи, — Димон вернулся, вынул из кармана пачку «Честерфилд» и протянул Сане.
Тот вытянул сигарету, сунул кончик её в пламя спички, зажженной Димоном, стал вдыхать… ох, как же стало нехорошо! Голова закружилась, двор поплыл, и Сашке показалось, что он сейчас с ног повалится. Лапки кверху — прямо перед Димоном! Нет, нельзя сплоховать! Он расставил ноги пошире и продолжал вдыхать едкий дым, который, казалось, раздирал все внутри. Ему становилось все хуже, он побелел нехорошей серой бледностью, на лбу выступил пот… Димон с интересом наблюдал за Саней, как за подопытным кроликом.
— Ну как? Ты, я вижу, первый раз? — Димон расплылся в довольной улыбке. — Ничего, старик, поперву это всегда так бывает, а потом кайф ловить будешь. Тебе с собой дать пару штук?
Сашка только молча кивнул. Димон вытряс из пачки три сигареты и вложил в холодные Сашкины пальцы.
— Дома кури в туалете, там вентиляция. Можешь в комнате в форточку, только смотри, чтобы мать не учуяла, а то её кондратий хватит… Ну все, я пошел.
Он скрылся в подворотне, шагая вразвалочку походкою парня, который крепко стоит на ногах и знает, чего хочет. А Сашка… он через две ступеньки понесся домой и сразу заперся в туалете — его рвало.
— Сашуль, ты принес молока? — послышался слабый материн голос.
— Не, мам, я деньги забыл. Сейчас принесу.
Сашка вернулся в свою комнату, хотел прилечь… на кровати лежало ЭТО — то, то осталось от птички, сидевшей в гнезде… его снова едва не выворотило наизнанку. Он сгреб простыню вместе с окровавленными перышками и коготками, запихнул в и прикрыл кровать одеялом. Плюха вряд ли сюда заглянет, пока сын бегает за молоком, а потом он сменит простыню. Одной простыней больше, одной меньше — мать, что, помнит их все наперечет?! Скорее всего, она про эту, вымаранную, и не вспомнит…
Он выскользнул за дверь с пакетом в руках, во дворе огляделся: нет ли где поблизости этого хитрого лиса — Димона, который всюду сует свой нос… Его нигде не было, и Саня зашвырнул пакет в самый дальний угол мусорного контейнера. Так, порядок, теперь молоко… Было четверть одиннадцатого, до назначенной встречи оставалось больше сорока минут. «Управлюсь!» — решил Саня и побежал в магазин. Купил пакет молока «Милая Мила» — маминого любимого, маленькую пачку «Праздничного» печенья и поспешил домой.
— Мам, я принес. Вскипятить тебе?
— Нет, сынок, спасибо, я сама…
Она поднялась, накинула халатик, скрылась в ванной. А он, как вор, пробрался в её комнату и с опаской приблизился к тумбочке, на которой «проживал» бронзовый идол. Тот восседал, сложив ноги в позе лотоса, руки сложены на груди, а раскосые глаза… они, щурясь, уставились на него. Сашка готов был поклясться, что идол — живой, и немо, без слов, спрашивает его: мол, ну как, ты доволен? И такая насмешка почудилась ему в этом взгляде, точно он, Сашка, был рыбкой, пойманной на крючок, а злорадный рыбак, вытащив его из воды, интересуется, вкусный ли был червячок…
Саня стоял, не зная, что делать: плюнуть, повернуться и уйти, чтобы больше ни на шаг не приближаться к этому узкоглазому бронзовому созданию, или все-таки плыть по течению, которое подхватило его и понесло как сорванный ветром листок… Но эта ночная свобода… эта сила, что просыпалась в нем, когда он засыпал… Нет, искушение было слишком сильно, и он не смог отказаться. Вынул из кармана пачку печенья, развернул, положил на тарелочку перед божком три светленьких квадрата. Постоял… и мысленно попросил, — боялся, что мать зайдет в любую минуту и услышит, — Сашка просил, чтобы его покровитель помог ему завладеть Маргаритой. Мало видеть её — он хочет ВСЕГО! Он должен обладать ею, проникнуть в её сны… И если нельзя овладеть ею наяву, пускай это случится во сне.
Передав мысленно свою просьбу, он рывком поклонился, вылетел из комнаты, напялил куртку и шапку, крикнул матери сквозь закрытую дверь ванной: «Мам, я пойду погуляю! К обеду вернусь, не волнуйся, я оделся тепло…» — и захлопнул дверь за собой.
Он решил схитрить — не идти к заброшенной голубятне вместе с незнакомыми пацанами, а пробраться туда незаметненько и из укрытия понаблюдать, что будет… Сказано — сделано! Спустя минут пять Саня очутился в том дворе, огляделся… Вон она, голубятня, выкрашенная зеленой краской, верх забран сеткой, а низ обшит листовым железом. Там, наверное, и сидит этот бомж. Сидит и не знает, что его ждет… На какой-то миг он чуть было не поддался порыву влезть туда и все рассказать — предупредить несчастного, чтобы быстро рвал когти… Но Сашка пересилил этот порыв, он весь дрожал от переполнявших его эмоций — они бурлили как кипящий котел! Он не вполне отдавал себе отчет в том, зачем, собственно, здесь оказался, зачем пришел один, а не вместе с дворовыми ребятами, хотя давно хотел с ними подружиться… Похоже, ему хотелось увидеть, как будут бить этого бомжа — увидеть со стороны. Ведь он избил старика, но сам не помнил, что при этом чувствовал… Как же все это выглядит, что творится с людьми, когда они творят такое? Сашку захватил незнакомый азарт, он напрягся как гончая, которая чует добычу. Парень и сам не знал на чьей он стороне: сочувствует жертве или мысленно вместе с её мучителями…
А, вот и они! Четверо парней появились в подворотне. Димон шел впереди, за ним — широкоплечий накачанный парень в бейсбольной кепочке, надетой задом наперед, и в широченных штанах с карманами, следом длинный и щуплый, с лицом усеянным воспаленными красными прыщиками, замыкал группу пузан-коротыш, ещё пониже Сани, в бело-красном шарфе с эмблемами «Спартака» и в шапке с помпоном. У каждого в руке — по бутылке пива, причем напиток плескался на донышке, парни явно «накачались» как следует, и, судя по их шальным раскрасневшимся лицам, выпитые бутылки за это утро были далеко не первыми… Пройдя во двор, где в это время не было никого, если не считать двух старушек, сидевших на лавочке у подъезда, все четверо огляделись, убедились, что ненужных свидетелей нет — старушки не в счет! — и не спеша, по-хозяйски, сплевывая и негромко переговариваясь, приблизились к голубятне.
Саня дыхание затаил — он скрывался неподалеку, за грудой досок высотой в пол-человеческих роста: в соседнем доме шел ремонт, и доски эти явно сгрузили строители. Он разрывался между желанием кинуться к парням и сказать, чтобы бомжа не трогали, и жгучим, болезненным любопытством… Он представлял, что сам сейчас с ними; вот он оглядывается, швыряет бутылку под ноги, подходит к голубятне… и что потом? Тогда, под ливнем, под зловещим взглядом химер, он был как в бреду и почти не соображал, что делает. А теперь? Как он поступил бы на месте Димона? Или этого толстого в шарфе болельщика «Спартака»? Пошел бы на то, чтоб сознательно избить человека?.. Он не знал. И только ждал, что же будет.
Димон кивнул широкоплечему в бейсболке, — судя по всему это был его ближайший дружбан, правая рука, — и они протиснулись в узкий проход в голубятню. Двое других остались «на стреме» — покуривали, озираясь с рассеянным видом: мол, стоим, никого не трогаем, пиво пьем… Изнутри донеслось какое-то бормотанье, потом крики и глухие удары. Сашку отделяло от происходящего расстояние в каких-нибудь пять метров, и он все слышал… Ругался Димон — да, мерзко так — матом. Другой гоготал, заходясь, как видно, здорово набрался. Удары сыпались один за другим, крики жертвы сменились сдавленным хрипом, стены голубятни сотрясались изнутри, грохот железа разносился по двору. Прыщавый заглянул внутрь, что-то сказал наверное, предупреждал, что ребята «работают» слишком громко. Все продолжалось недолго, но Сашке показалось, что избиение длится целую вечность. У него даже все тело вдруг стало ломить, точно били его… Нет, теперь он не представлял себя на месте кого-то из этой четверки, вся эта затея была ему не то что «не в кайф» — его от этого просто тошнило! А ведь сам… нет, теперь Саню мутило от одной мысли, что и он бил человека… Да и теперешняя его роль соглядатая была омерзительна: сидит, подглядывает, психологический эксперимент проводит… он не знал, что делать и как отмыться от этого. И ждал лишь одного: чтоб поскорее все кончилось.
Из проема в стене голубятни показался дружбан Димона, за ним сам Димон. Они сплюнули как по команде и принялись вытирать руки носовыми платками. Сашка заметил, что руки у обоих в крови. Прыщавый спросил о чем-то Димона, тот коротко ответил, и все четверо заржали, запрокидывая голову и складываясь от хохота пополам. Потом закурили и вразвалку, с сознанием хорошо выполненного долга покинули двор.
Сашка выполз из своего убежища, зацепившись при этом за гвоздь и порвав штанину. Крадучись приблизился к голубятне, то и дело оглядываясь, точно его могли застукать на месте преступления. Сердце гулко колотилось в груди, ноги стали ватными, пот стекал из-под шапочки на глаза, но он не замечал этого — лез в проем голубятни. Там было полутемно — свет лился из малюсенького оконца над головой, а на полу, верней на земле, потому что никакого пола тут не было… на земле валялось какое-то кровавое месиво в разорванном вонючем тряпье. Сашка, придерживая сердце рукой — так оно билось! — наклонился над бомжем… и с трудом сдержал крик, из горла вырвалось какое-то сдавленное мычание. Вместо лица у несчастного был «винегрет» из мяса, костей и оголенных мышц — нос был сломан, щеки и губы порваны, зубы выбиты… а на то, что было прежде человеческим телом, и вовсе было страшно смотреть. И все-таки Сашка, пересиливая дурноту, наклонился и приложил ухо к тому месту, где должно быть сердце… оно не билось. Бомж был мертв! Его волной окатил запах свежей крови, смешанный с запахом гниения и нечистот… Он зажал рот рукой, пулей вылетел наружу и, уже не таясь, побежал в подворотню. Там его вырвало. Казалось, все внутренности рвутся из сводимого судорогой тела, он никогда прежде не знал, что такое судороги, а теперь скручивало винтом и руки, и ноги, а шею свело так, что жилы на ней натянулись как провода… Но хуже всего из того, что он чувствовал, был страх. Дикий животный ужас! Думать о чем-либо связно парень не мог.
«Они хуже зверей! — билось в голове, когда он, кое-как обтеревшись платком, бежал домой. — Вот и жизнь — она тебя бьет, бьет… Хотел сильным быть? Но сила-то — зло… А, чего там, добро, зло — это все в книжках, а в жизни все перепутано!»
Он был как потерянный. Город и все дома вокруг словно сдвинулись, стали чужими, Сашка не узнавал знакомых мест. Все, все пугало его, во всем была скрыта угроза. Он вбежал домой, крикнул: «Мам, я здесь!», — и с гудящей больной головой упал на кровать.
Целительный сон не укрыл его, не упрятал от боли. Промаявшись с час, Сашка встал, подогрел себе чаю… мама спала. Он вернулся в комнату — там, в углу, притаился враг — черный зонт, преследующий его как неумолимый свидетель, требующий самого сурового приговора. Парень поглядел на него и отвернулся в окну, невидящими глазами глядя во двор. Слезы текли по щекам этот день словно бы выжег душу, он больше не мог мириться ни с тем, что его окружало, ни с самим собой.
Что же делать? — мысли толкались, путались, и ни одна не помогала найти выход. — Оставаться здесь? Нет, это невыносимо. Выйти во двор? Но там могут быть эти… — у него язык не поворачивался назвать этих «парнями» или «ребятами»… Нет, он их не боялся, но ощущал при мысли о них такую гадливость, точно сами они были вонючими бомжами или какими-то мерзкими пресмыкающимися…
Марго! Ее имя залпом прогремело в мозгу, и этот залп на мгновение осветил беспросветный мрак, окружавший его. Надо найти её, посмотреть на неё — просто посмотреть, что она — такая! — живет на свете. Живет в той же, что он, реальности… А вот, поди ж ты, — она её не боится, находит силы, чтоб глядеть в будущее с надеждой — вон сколько людям радости от нее! Он переоделся — надел джинсы вместо порванных брюк, напялил куртку и шапку и медленно, как тяжело больной, сошел вниз по ступеням.
Вот и двор — он теперь чужой для него, вот и улица — незнакомая. По ней бродят монстры, движутся тени… Единственными живыми и разумными существами во всем городе теперь казались ему химеры, глядящие сверху вниз на букашек-прохожих. Это все они подстроили — всем, что случилось с ним, он обязан именно им! Что ж, значит, так тому и бывать, они — эти злобные гримасы больного мира — избрали его для какого-то только им одним известного эксперимента, и он, Сашка, существует теперь в роли подопытного кролика. Надо так надо, плевать! Все равно не отыскать смысла во всей этой мешанине под названием «жизнь», она просто бессмысленна!
Он ощущал незнакомую легкость во всем теле, точно был надувным шариком, который кто-то тянул за собой на веревочке. Ничего не хотелось, только увидеть ее… Она — Маргарита — была для измученного парня тем целителем, который, один, способен его излечить.
Он спустился в метро, со стуком хлопнули за спиной двери вагона, замелькали темные стены туннеля, вагон качало… и Сашка думал, что жизнь похожа на этот туннель, только в ней нет остановок, нет озаренных светом и сверкающих мрамором и мозаикой станций, где можно выйти и передохнуть… Он был совсем болен, сознание словно бы подернулось пеленой, тело ныло, точно его избили. Парень пристроился с краю ряда обитых кожей сидений, уцепившись за гладкую металлическую стойку, а голова его все клонилась, клонилась… он клевал носом. Он засыпал.
«Сегодня суббота, — мысли вяло текли в русле под названием „безнадега“, — её в училище нет… Нет и быть не может — ведь не учебный день. День… вечер… ночь. Что будет завтра? Как прожить это „завтра“?» Он не знал.
Несмотря на дремоту, он не «проспал» пересадку и благополучно сошел на «Фрунзенской». Выбрался в зябкий меркнущий день и побрел к застекленному зданию училища, этой теплицы для селекции экзотических орхидей — артистов балета… Все шторы на окнах второго этажа зашторены, храм танца был пуст! Саня едва не завыл от обиды: ну, почему сегодня суббота?! Почему ему так не везет? И вдруг… увидел её. Справа от основного здания тянулась низкая галерея, соединявшая училище с учебным театром. А в галерее, как оказалось, пряталась костюмерная, скрытая от посторонних глаз все за теми же длинными светлыми шторами. Однако, сейчас эти шторы были отдернуты, открывая помещение, пестревшее от всевозможных костюмов всех цветов и оттенков. Прежде всего, тут были пачки — эти торчащие накрахмаленные юбочки с лифом, в которых балерина похожа на дивный цветок. И одну из таких пачек розовую, усыпанную блестящими стразами, держала в руках женщина в белом халате с озабоченным лицом. А перед ней стояла Марго, кутаясь в бирюзовый махровый халат, а в гладко зачесанных её волосах сверкала маленькая диадема. Они сосредоточенно оглядывали пачку, — истинное произведение искусства, — судя по всему, Маргарита пришла её примерять. Девушка скинула халат, не заботясь, видно ли её с улицы — настолько поглощена была предстоящей примеркой, и осталась только в белом лифчике и трусиках. Костюмерша тут же задернула занавеску, и его светлая королева скрылась из глаз.
Глава 9 МАРГАРИТА
Нужно было видеть, как толстый одышливый парень, покрасневший как рак, ринулся по газону к стеклянной стене костюмерной, перевалившись через невысокое ограждение, отделявшее территорию училища от проезжей части 2-й Фрунзенской улицы. Он приник к стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь там, за занавеской. Но это ни к чему не привело: шторы, несмотря на их кажущуюся легкость, были плотными, и мир, где пребывала Сашкина живая мечта, оказался сокрыт для него.
— Ладненько! Мы подождем… — он едва отдышался, так билось сердце. Рано или поздно ты выйдешь оттуда! И, знаешь, у нас два варианта: или ты спасешь меня или я тебя погублю…
Сашка вел себя как помешанный: то метался по газону и пинал землю ногами, то бухался на траву и сникал, обхватив руками колени… Он то мысленно взмывал к небесам, представляя, как его дама сердца покорится ему, как он станет её господином и повелителем — ведь с помощью тайной силы, которая помогает ему, он способен на все… То чувствовал себя жалким червем, недостойным даже глядеть на нее! Он взывал к бронзовому божку, к бесу, к дьяволу… и молил, чтоб ему помогли.
Наконец, спустя полчаса Марго показалась в дверях училища, быстро сбежала вниз по ступенькам и пошла, низко наклонив голову и глядя под ноги. Она была сосредоточенна и грустна — похоже, на душе у неё не весело… Сашка, словно гончая, взявшая след, весь подобрался и двинулся следом. У цветочного павильона, как и в прошлый раз Марго обернулась… видно, почувствовала, что за ней следят. Увидев уже знакомого парня, который шаг в шаг шел за ней, она поморщилась, как от зубной боли, скорчила рожицу и, ускорив шаг, заторопилась к троллейбусу. Но на этот раз Саня не сплоховал успел прыгнуть в уже отходящий троллейбус, чуть ли не на ходу. Маргарита вошла через переднюю дверь, он — через заднюю. Она сразу заметила его в салоне троллейбуса, отвернулась и стояла к нему спиной всю дорогу до остановки, на которой сошла. Перебежала дорогу, устремилась к метро… Сашка — за ней.
Он и сам удивлялся своей дерзости: ведь Марго видела, что он плетется за ней, и ей это было неприятно, тем более, что день у неё выдался явно неудачный. Она злилась, хмурилась и иногда оглядывалась, сверля его сердитым взглядом. Кажется, так бы и смазала наглеца по физиономии, да связываться не хотелось…
Проехав до «Парка Культуры», Марго выскочила из вагона и ласточкой порхнула на пересадку — ей нужно было на кольцевую линию. Саня едва поспевал за ней. У него поджилки тряслись — он боялся её, боялся, что вот-вот остановится и выдаст ему что-то такое, после чего все будет кончено. Он уже не никогда не осмелится даже приблизиться к этой девушке!
Его крылатая королева вышла на «Белорусской» и поспешила вдоль зданий вокзала к мосту через железнодорожные пути. Взлетела наверх, стремглав побежала вниз и, стуча каблучками, вошла в подворотню горделивого высоченного бело-желтого дома в стиле «сталинский ампир», возвышавшегося над железной дорогой, вокзалом и прочей окрестностью. Во дворе свернула направо, набрала код в подъезде и скрылась за дверью… Безнадежно влюбленный знал теперь, где она живет, но это ничего не меняло…
Дверь подъезда была металлической, она лязгнула, этот звук ударил Сашку по нервам… и тотчас же пошел снег. Настоящий, зимний, махровый, он повалил валом, и сквозь сплошную кружащуюся завесу почти невозможно было что-либо разглядеть. Снег упал как занавес, скрыв все вокруг, а парень стоял под снеговым водопадом и понимал, что все кончено. Никто и ничто не в силах ему помочь! Стоило только представить себе её — его Магнолию Сияющей Лазури, вспомнить какой была она там, на сцене, и какой — в костюмерной, в этой розовой сверкающей пачке, увидеть её летящую стремительную походку, всю её — неземную, тонкую, грациозную, а потом поглядеть на него… И припомнить ещё гримасу Марго, которую она состроила, заметив его сегодня, жирного навозного жука, ползущего вслед за ней, чтобы понять: никакая сила не может соединить их. Даже во сне!
Он побрел, заставляя себя идти вперед, сквозь пургу, боясь, что навстречу из белой метели вынырнет кто-то и схватит его. Страшный, кровавый… Если бы не огни озаренных светом киосков, выстроившихся в ряд на пути к мосту, он бы не нашел дороги назад — так мело! Еле переставляя ноги, поднялся на мост, подошел к перилам и глянул вниз. Ничего не видать, кроме двух ярко-синих огней, обозначавших железнодорожный путь, — и только беснуется, хохочет метель, наслаждаясь обретенной свободой!
— Здравствуй, зима! — пролепетал Саня одними губами. — Ты такая ласковая, мягкая, снежная, но ты можешь убить… заморозить. Вот и убей меня!
Он перегнулся через перила. Вот и выход! Ведь незачем ему больше маяться, незачем землю коптить. Он понял сегодня ясно, как никогда, что все мальчишеские мечты о силе, могуществе, о красоте… это просто химеры. Дым, иллюзии, ерунда! Ничего не получится. Он обречен быть только таким, какой есть: нелепым и неуклюжим, плетущимся в самом хвосте. Другие рванут вперед, погоняя коней, ему же досталась старая дохлая кляча — его судьба…
Ну же, одно усилие — и он обгонит её, эту клячу, он обманет её, свою жизнь, тем, что откажется от нее. Жизнь — высший дар, говорят… Спасибо, не надо! Только один прыжок… Даже думать не хочется, как он вернется домой, как проживет длинную череду пустых бессмысленных дней… да ещё с этим грузом на шее — со своим грехом. Он такой же, как эти выродки со двора, просто он, Сашка, всего боится, а они нет… Поэтому они лучше его. А ему никогда не стать настоящим мужчиной… Он занес ногу на перила моста, приказал себе: «Хватит раздумывать — прыгай!»… и тут вспомнил маму. И нога сама собой снова нащупала землю, вернее, заасфальтированную дорожку моста, вдоль которой с шорохом проносились машины.
— Как же она одна… без меня? — шелест снежинок был слышней его голоса. — Мать ведь почти не встает. И этот несчастный цветок… кактус, который я выбросил… надо купить ей такой. Тогда с ней хоть кто-то останется!
Он вдруг понял, что почти убил свою мать — такая она стала безжизненная, чужая… И понял еще, что она ждет его, ждет, когда сын не по обязанности, а по собственной воле, по любви станет о ней заботиться. И не заботиться даже — нет! Просто быть рядом. Спросить иногда о чем-то, поговорить… Как это просто, как мало, а для неё — вся жизнь! И почему раньше он не думал об этом?
Сашку трясло, зубы стучали, ему стало холодно. Надо домой! И поскорее — мама, наверное, беспокоится, — решил он и двинулся вперед сквозь пургу.
А Лариса Борисовна и впрямь беспокоилась — просто места себе не находила, но когда сын вернулся, виду не подала, ничего не сказала. За время, проведенное в больнице, она многое поняла: и что совсем замучила сына своею заботой, и что продыху ему не дает — нельзя так с парнем, да ещё в переходном возрасте, ему же плохо, он и болеет от этого, Ольга права! Нужно дать ему хоть немного свободы, дать «подышать», а не то он попросту задохнется в их тесном домашнем мирке. Вот и пускай хоть чуть-чуть погуляет на воле — он заслужил, ведь она видела, как сын мается с ней, но поделать ничего не могла — из неё словно душу вынули. И теперь не она о нем, а он вынужден о ней заботится. И это все наказание ей за грехи! Что ж, она стерпит, вот только бы мальчик её был счастливым. И ночами, когда не спала, — а сон в последние дни, словно удавка, душил её, морил среди бела дня… вставала она на колени перед бронзовой статуэткой и просила за Санечку.
Конечно, мальчику нужен отец, но где ж его взять! Ашот теперь даже вряд ли узнает её. Да, он и не подозревает, что в Москве у него растет сын… Лара в который раз достала заветную фотографию, на которой они были вместе, молодые, счастливые… Она не замечала, что уже тогда её Ашот отнюдь не был красавцем! Не видела мешков под глазами, дряблой кожи, обвисшего живота… Для неё он был самым лучшим! Ведь этот человек — её первая и последняя любовь… Она радовалась, когда подмечала в сыне повадки отца, интонации и черты, все больше напоминавшие отцовские…
— Ничего! — вздыхала Лариса Борисовна. — Как-нибудь дотяну до того, как сыночка пойдет в институт. А это уж обязательно, как же без этого!
Ни у нее, ни у Ашота не было высшего образования, и получение Сашулей диплома было для Лары заветной мечтой.
— А может, он все-таки станет художником? Ведь Ольга говорит, этот его учитель, Борис Ефимович, на Сашеньку прямо-таки не нахвалится! Ох, не будем загадывать, лишь бы он был здоров!
И Сашка продолжал ездить на «Сокол» к Борису Ефимовичу, и эти поездки были тем спасательным кругом, который удерживал его на плаву. Сны, в которых он был птицей: коршуном или ястребом — он не знал, — перестали сниться ему. Вообще что-либо перестало сниться… Сашка валился в сон как в темный провал, спал как убитый, просыпался, весь в поту, а мать говорила, что он стал кричать во сне. Но то была только короткая передышка — парень знал, что эти кошмарные сны вернутся, и Бог знает, что он в них натворит. Прежде он радовался им, думал, что в них — свобода! Но увидев, как замучили жалкого бомжа, понял, что в такой силе свободы нет… только зло. Он теперь боялся этих снов, боялся себя, ставшего хищником, который терзает живую плоть… Он перестал подносить дары бронзовой статуэтке и старался не приближаться к ней, насколько это было возможно.
И все же он понимал, что просто так ему не отвертеться — неведомый механизм запущен в ход, он может перемолоть его в порошок, стереть с лица земли, потому что он, Сашка, сам обратился за помощью к тому, кто обладал настоящим могуществом, кому были подвластны людские судьбы… Кинулся с мольбой, мол, дайте мне, дайте! Исполните! А потом, выходит, в кусты? Нет, просто так его не отпустят! Ведь он душу отдал в залог, он открыл её как входную дверь — нате, входите! — вот в нем и поселилось что-то… И это «нечто», похоже, питалось его душой, всем добрым и светлым, что было в ней, — оно пожирало его изнутри. Днем и ночью его преследовал страх, мистический ужас перед неведомой силой, которую он сам вызвал из небытия. И этот страх становился сильнее день ото дня, он рос как снежный ком…
Теперь, когда парень знал адрес Маргариты и, казалось бы, мог целыми днями простаивать у подъезда, поджидая её, он запретил себе даже думать о ней. Все, отрезано! Он был недостоин даже глядеть на это нежное создание, он — жалкий Пончик, избивающий стариков! Боль и тоска, словно крючьями, рвали душу.
«Не смей! — говорил он себе. — Не вздумай даже приблизиться к ней! Ты — грязный, ты — мусор, в тебе прячется зло. Оно — как бомба замедленного действия, и в какой момент взорвется она, когда полезет наружу то жуткое, темное, что прячется там, во мне… этого никто не знает.»
Первую неделю декабря он не ходил к Борису Ефимовичу — тот заболел. Позвонил и отменил занятия. Но девятого, накануне пятницы — одного из двух дней в неделю, когда Саня приезжал к нему, старик объявил, что чувствует себя вполне сносно и назавтра ждет Саню. Тот обрадовался, собрал свои кисти и краски, и на другой день поехал на улицу Левитана.
Легкий морозец приятно бодрил, на темнеющем небосклоне зажглись первые звезды, и луна, янтарная, круглая, наливалась светом, становилась все ярче, все загадочней, наблюдая, как внизу суетятся маленькие, озабоченные создания… День растекался в сумерках, — короткий тающий зимний день, ожидая приближения ночи. Декабрь — царство ночи, ночь-владычица ворожила в эти дни над землей, припорашивала снежком пустынные улицы, искрилась в золотистом свете фонарей, ложилась под ноги и подгоняла домой: скорее, скорей, мало ли что таится во тьме, за поворотом…
Однако, до ночи было ещё далеко, хотя заметно стемнело. Сашка спешил побыстрей очутиться в тепле мастерской — с самого утра его подзнабливало. Дома было ужасно тоскливо и он решил выехать пораньше. Вот и знакомый дом под заснеженной крышей — всю неделю мело, и снежный покров, серебрясь, укрывал ветви елей, лежал на искривленных стволах старых яблонь, на засохших стеблях цветов в поселке художников, знаменуя приближение Нового года, с его хвойным запахом украшенной елки, теплым хлебным духом пирогов, вынутых из духовки, весельем, подарками, ожиданием чего-то нового и хорошего… Ах, как Сашка любил этот праздник!
Дорожка к дому была тщательно расчищена, у забора стояла прислоненной широкая дворницкая лопата. Над входом, под козырьком висел фонарик, и на крыльце образовывался от него теплый уютный круг света. А кругом темнота… Сашка вступил в этот круг, постоял в нем, чуть тронул рукой фонарик, тот закачался, и свет закачался тоже, а чистый искристый снег засверкал миллионами разноцветных искр, точно рассмеялся звонким веселым смехом… Сашке давно не было так спокойно и хорошо, как в этом круге света перед знакомой дверью. Кругом снуют тени, поселок тонет во мраке, а тут светится этот веселый снег, будто играет с ним, будто зовет куда-то, где нет ни боли, ни страха. А там, за дверью, наверное, вовсю кипит чайник, а заварной уж прикрыт вышитой белой салфеткой… сухарики с изюмом, пряники и баранки покоятся в вазочке, а может, старик припас и ещё чего — иногда он закатывал самые настоящие пиры: пек оладушки, поливал их земляничным вареньем и раскладывал на серебряном блюде свежие венгерские ватрушки, эклеры и ромовые бабы, которые Сашка очень любил…
Опасения, которые внушал Сашке Борис Ефимович, совершенно рассеялись, он понемногу стал привыкать к его несколько эксцентричной манере вести разговор, к его самоиронии, розыгрышам и ехидным «подколкам». У них начали устанавливаться самые настоящие дружеские отношения. И, странное дело, когда парень появлялся здесь, на улице Левитана, в этом гостеприимном доме, он забывал, что старый художник и есть тот самый старик, которого он избил… У него просто в голове не умещалось, что этот вот человек, который с таким вниманием и искренним интересом к нему относится и старается научить всему, что знает сам, когда-то полетел в лужу, сшибленный с ног, своим теперешним учеником! Что он ослеп из-за него! Его сознание отторгало эти жуткие факты, перед ним словно бы падал невидимый занавес, отделяя то, что случилось в тот поздний вечер, от настоящего. Сознание защищало само себя, а иначе оно бы расстроилось как скрипка, забытая под проливным дождем.
Сашка тщательно сбил веником, стоявшим у крыльца, снег с сапог, открыл дверь и вошел в прихожую. Голоса… У старика кто-то был. Слышался взволнованный девичий говорок, перебиваемый короткими репликами Бориса Ефимовича. Сашка отчего-то не захотел выдать своего присутствия и, сняв сапоги, на цыпочках приблизился к двери в комнату. Она была чуть приоткрыта. Он заглянул в щель… сердце стукнуло и понесло, точно скакун перед финишем. В жарко натопленной комнате за столом рядом с учителем сидела Марго! Она теребила отделанный кружевом край носового платочка, то и дело утирая слезы, всхлипывала и говорила, говорила… сбивчиво, нервно, взахлеб.
— Не называй меня так! Какая я деточка?! Ты как наша директриса, которая младших зовет «масюрочками». Масю-ю-рочки! — передразнила она директрису, выпятив нижнюю губку и вытянув шею.
— Не буду, Маргоша, не буду! Но все же ты прости меня, старика, но не могу я понять… Не врубаюсь, как вы говорите, и все! Чего ты боишься? Ну, понятное дело, театр — не училище. Понятно, что на тебя там смотрят косо. Что завидуют, да, и думают — выскочка! Но тебе-то какое дело до этого? Ты работай себе — и вся недолга!
— Да, ты понимаешь, меня просто в дрожь бросает от этих взглядов! И какая в них… даже не зависть, а ненависть! Они меня просто ненавидят! Конечно, они же артисты Большого театра! Артисты… а я ещё училище не закончила. И, конечно, все как один признанные или непризнанные гении, а другого и быть не может, знаешь, как носы дерут: ой-ей-ей, не подойди! И все смотрят на меня, прямо сверлят глазами… кажется, вся труппа за кулисами собирается, когда я репетирую.
— Так, это же хорошо! Это ж такая честь! Эк ты их болотце-то взбаламутила — все змеи выползли, чтоб поглядеть, как солнышко светит…
— Да, я просто цепенею от этого! — она всхлипнула и высморкалась в платок. — У меня ступор, понимаешь, ничего не получается, даже вертеться как следует не могу — заносит, а вращение, — ты ж знаешь, — это мое коронное!
— Ты у меня вся коронная! — любуясь племянницей, воскликнул Борис Ефимович, подливая ей чаю.
— Ага, как же! — скривилась Марго. — Твоя коронная растекается вся как сопля! И прыгать не могу: все тело точно свинцом наливается… Нет, дядюшка, завалю я спектакль, точно тебе говорю!
Сашка просто остолбенел: выходит, Маргарита приходится старику племянницей! И она — эта гордячка, прирожденный лидер, оказывается, может быть слабой, неуверенной в себе… Ну и дела! Он стоял за дверью ни жив, ни мертв, боясь пошелохнуться и выдать себя, но при этом стараясь не упустить ни слова…
— Дурочка моя, ничего ты не завалишь! — Борис Ефимович обнял Марго за плечи, слегка встряхнул и чмокнул в макушку. — У тебя дар Божий, недаром впервые доверили ученице взрослый спектакль танцевать. Ты ведь даже ещё не в выпускном, а уж приравнена к звездам Большого! Балеринскую партию тебе дали, а это вам не хухры-мухры! Ведь не одна твоя директриса этот вопрос решала, ведь и руководство театра идею её поддержало, так? Значит, верят в тебя, а тебе и делов-то — наплевать на шипение за спиной и спокойно, без мандража станцевать Машу. Театра без зависти и интриг не бывает, я тебе уж сто раз говорил… Ты сама на эту дорожку вступила, этот путь выбрала, так?
— Так-то так, но…
— Никаких «но»! Если ты сейчас, в самом начале не научишься на всю эту мышиную возню плевать с высокой колокольни, все, почитай ты пропала! Втянут, затопчут… а тебе свой талант беречь нужно. Ты за него перед Богом в ответе. А такие, которые спят и видят, лишь бы сковырнулась ты, с круга сошла, — всю жизнь вкруг тебя колыхаться будут. А ты будь выше этого. Тебе воля нужна железная, без этого ни один настоящий художник не состоится…
— Дядюшка, но ведь это одни слова, а на деле-то как? Как этого добиться? Вот ты говоришь: воля нужна и нельзя мандражировать, но если у человека страх, как с этим быть? Его ведь одними мысленными уговорами не прогонишь…
— Ты моя милая! Я тебя понимаю: страх в нас силен! Он, наверно, один из самых мощных рычагов, которые движут человеком… Но есть и другое чувство, которое посильнее будет, — любовь! Вера, надежда, любовь — три кита, которыми земля держится. Даже над самой глубокой пропастью они упасть не дадут! Ты же любишь дело свое, ты живешь им, своим балетом, и надеешься, что сумеешь много радости людям дать… и им, и себе. Ведь так?
— Так, конечно.
— Ну вот! — Борис Ефимович поднялся из-за стола, где он сидел рядышком со своей племянницей, и принялся ходить вкруг него, взмахивая правой рукой в такт словам, а левую засунув в карман. — И держись их: веры, надежды… А любовь… да, ты сама как живая любовь, ты только на себя посмотри, ведь от тебя свету в комнате больше прибавилось!
— Дядюшка, не преувеличивай!
— А я и не преувеличиваю, так оно и есть. А страх… Ох, милая моя девочка, нельзя отворять эту дверь. За ней прячутся тени… Они могут вырваться и пробраться в самую душу к тебе, поселиться в ней… нет, я тебя не пугаю! Но ты должна знать. Представь, что каждая наша мысль, — конечно, не пустая, случайная, а серьезная и осознанная, что она — это дверь в тот мир, где рождаются все замыслы, все идеи, все образы… В тонкий мир. А мы, человеки, особенно те, которые шибко талантливы, как бы считываем эти знаки… мы чувствуем их нутром, сердцем, и в реальности, — в нашей физически ощутимой реальности, — мы способны воплотить эти высшие замыслы то, что существует в мире тонком как прообраз, идея… Может, я непонятно говорю, скажи, если сути не уловила.
— Нет, я поняла, — Марго несколько успокоилась и внимательно слушала своего дядю. — Ты хочешь сказать, эти два мира связаны между собой: наш и невидимый… тонкий, правильно?
— Точней не бывает!
— И наши мысли, творчество — это как бы мостик, который связывает их, так?
— Именно так, молодец!
— А страх… он тебя разрушает. Он мешает этой сверхпроводимости, потому что вызывает к жизни то, что нам будет мешать. То, что доведет до беды, только уже настоящей, не мысленной… Так я тебя поняла?
Старик вместо ответа подошел к ней, крепко обнял и поцеловал. А потом довольно потер руки.
— Ну, за тебя я спокоен, голова у тебя варит, что надо! Так что, брось свои пустые страхи, будь уверена в себе и у тебя все получится.
— Дядя, как их бросить-то? Этот страх — он впился в меня как клешнями и его так запросто не отбросишь. Его пересилить нужно.
— Вот, очень точное слово нашла — пересилить! А как, говоришь? Просто думай о чем-то другом. Как только этот страх подступает, ты переключайся на что-нибудь. Перечитай Гофмана и не один раз, впитай дух этой повести. Или, например, думай о смысле своей вариации: что Петипа, или кто там ставил «Щелкунчик», хотел сказать тем-то и тем-то движением… И что ты сама вкладываешь в это. Ведь у каждой исполнительницы одно и то же выглядит несколько по-другому, это называется интерпретация, так? Да, что я, ты это знаешь лучше меня. Или думай о чем-то добром, хорошем, о том, что уже состоялось, что ты сделать смогла. А смогла ты в твои-то смешные годы немало! Ведь станцевать партию Маши во взрослом спектакле — это признание, это успех! Вот и докажи всем, что можешь. Что у тебя действительно уникальный дар! Просто надо работать, многим жертвовать ради него. Без жертвы ведь тоже не бывает художника, да и не только художника — всякого человека…
— Да, это я понимаю, — снова пригорюнилась Марго. — Ведь у меня, кроме балета, никакой жизни нет. Ни сил не остается на что-то другое, ни времени. Девчонки со двора, с которыми я в детстве дружила, романчики крутят, ходят на дискотеки… А я из дома в училище, из него — домой, вот и все! Ну, теперь вот ещё театр.
— Но это ведь хорошо? Твоя мечта исполняется!
— Да. Нет, ты не думай — я не скуксилась и не жалуюсь, балет — это мое, я без него не могу. Но только не знаю, получится ли… свое слово сказать. Так станцевать, чтобы ни на кого не быть похожей, чтобы… в общем, конечно, ты понимаешь… Дядя Борь, а что по-твоему красота?
— Ну… — он задумался, поглядел на нее, вздохнул. — Наверное каждый вмещает только частицу её великого смысла. По мере разумения своего и душевной тонкости. Но для меня, пожалуй, красота — это когда самое лучшее, что есть во мне, я могу в работы свои вложить и от этого хоть кому-то станет на минуту теплее. И ещё когда я перемогаю себя: свою слабость, мстительность, уныние, раздражение, гнев… вот эти чувства. Когда поднимаюсь над этим и двигаюсь дальше, то становлюсь сильней. И каждый, кто работает над собой, для кого Божьи заповеди — не пустой звук, — он как бы вплетает и свою нить в незримую ткань, которая объемлет всю землю. И ткать такой невидимый покрыв добра — вот это я б назвал красотой. Н-да, что-то меня на высокий штиль потянуло…
— И совсем не высокий — нормальный. Значит, если человек понимает, что хоть капельку, чуточку, да вкладывает что-то свое, вплетает свою нить, свой узор в эту ткань, что не зря живет… ему ничего не страшно?
— В общем, да. Конечно, в жизни нельзя без боли. Жизнь — вообще боль… не всегда, конечно, но часто. Гораздо чаще, чем нам бы хотелось. Хотя тебе об этом думать сейчас не надо — рано тебе. Это приходит с возрастом, с опытом… когда все принимаешь. Все, что бы ни было, все испытания. А боль — она многое искупает. И помогает, представь себе, да! Переболев, человек с новыми силами двигается вперед. И все больше живую жизнь ценит, ту, которая без суеты… И, прежде всего, красоту. А она во всем, нужно только подключиться к ней, настроить сознание на эту волну, «включить» его как штепсель в розетку. И тогда ты увидишь все как бы по-новому, красота — она во всем разлита, все может радовать, только научись видеть…
— Да, я вроде умею…
— Не сомневаюсь. Хотя… попробуй совсем забыть о заботах, проблемах, просто иди по улице, хоть моей, и гляди, гляди… И деревья, и ветер, и небо над головой — они тебе многое скажут. Только попробуй думать о них, не о себе… Вот у меня новый ученик появился, так у него, скажу я тебе, взгляд! Он так землю рисует, точно видел её с высоты птичьего полета…
— Так он, наверное, на самолетах летал…
— Нет, тут не то! Я понимаю, летал, скорее всего… Но каждая веточка, кустик, камешек, птичка — все у него живое выходит и все одинаково значимо. Нет ничего ненужного, неинтересного — все ему интересно и важно, а через него — и мне!
Сашка «прикипел» к дверной притолоке, слушая этот разговор, все тело онемело от неподвижности. Вдруг острой болью пронзило икру на левой ноге снова судорогой ногу свело. Он наклонился, пытаясь размять икроножную мышцу, не рассчитал и головой толкнул дверь… Та раскрылась. И удивленным взорам дядюшки и его племянницы предстал Сашка: встрепанный, красный, вспотевший, с округлившимися от волнения глазами, словом, во всей своей красе!
Маргарита резко вскочила и тоже вся зарделась, только от возмущения. И слепому было ясно, что парень подслушивал — ведь шагов у двери не было слышно…
— Дядя, кто это? Как он тут… оказался? — последнее Марго произнесла дрогнувшим голосом: догадалась, что этот парень и есть новый дядюшкин ученик — всех прежних она знала в лицо. Это был тот самый нахал, который преследовал её, и однажды даже до самого дома! Гнусный жирный боров с идиотской улыбкой!
— А, Сашенька, ты как раз кстати — мы чай пьем! — Борис Ефимович тотчас заметил перемену в настроении племянницы, как и то, что его ученик стоит столб столбом, не зная, что сказать и что сделать… — Маргошенька, познакомься: вот мой самый талантливый ученик, Александр. А это, Саша, моя племянница Маргарита. Присаживайся, сейчас я тебе налью горяченького. Замерз небось — на улице жутко холодно, мороз-то крепчает!
— С-спасибо! Я… мне очень приятно, — Саня «выдал» эту светскую фразу, надеясь, что пол сейчас провалится под ногами и ему не придется выдерживать гневный взгляд юной звезды, в котором сквозило презрение… Вы меня извините, Борис Ефимович, я раньше пришел…
— Не вижу причины для извинений, пришел — хорошо! Давай, проходи. Э, нет, тапочки сначала надень, чего ты в носках? Ты ж знаешь, где твои тапочки…
Марго при этом быстро овладела собой, села и принялась внимательно изучать блюдо с пирожными, точно эклеры и корзиночки были диковиной, которую ей доводилось видеть впервые… Чай пили молча, только негромко звякали чашки о блюдца, даже неуемный хозяин примолк, видимо соображая, как примирить этих двоих, которые, — а это было видно невооруженным глазом, были знакомы или виделись прежде. Марго еле сдерживалась, чтоб не взорваться, да что там — внутри её просто трясло от ярости. Испортить такой разговор! Она так редко могла выкроить время, чтобы навестить дядюшку, спокойно поговорить, посоветоваться, а тут этот… чтоб он провалился!
— Ну, дядюшка, я пожалуй пойду. Пока до дома доеду, пока то, да се… А нам ещё по истории театра две пьесы прочитать задали…
— Так, впереди выходные, вот и прочтешь… Нет, я тебя никуда не отпущу, пока ты кое-что не посмотришь! — он поднялся и направился в мастерскую. — Давайте, давайте за мной. Ишь… улизнуть она вздумала!
Насвистывая что-то себе под нос, Борис Ефимович принялся перебирать груды рисунков и акварелей, сваленных кучей у него на столе. Сашка стоял как перед судом трибунала, Марго со скучающим видом поправляла заколку-автомат, скреплявшую волосы на затылке.
— А, вот, нашел! Ты только погляди, Маргоша! Ну, разве не удивительно?!
Старик протягивал ей папку с рисунками. На них были звери и птицы… много птиц. Нахохленный воробей, злобный индюк, селезень с утками и хищники: коршуны, ястребы, грифы, стервятник… Эти сидели в скалах и глядели в упор, пристально так… это был взгляд из иного мира. Марго стало немного не по себе…
— Ой, — она отшатнулась невольно, — они как живые! И такие… не знаю…
— Жуткие, да? Что, пробрало?! — торжествовал старый художник. — Я ж говорю, у этого стервеца дар! И притом настоящий! Ты вот это погляди… вот!
На рисунке, написанном акварелью, была поляна, залитая лунным светом. На ней танцевали девушки в длинных прозрачных туниках, иные из них поднимались над землей и, как эльфы, взмывали в воздух, другие образовывали на земле живописные группы. Во всей картине сквозил какой-то особый дух волшебства и при этом все было совершенно естественно. Точно человеку свойственно парить в воздухе и подниматься на пальцы!
— По-моему, Александр уловил самый дух балета, — с воодушевлением, явно волнуясь, говорил старый художник. — Эта устремленность от земли, эта обнаженность души… каково, а, что скажешь?
— Да, это здорово! — искренне восхитилась Марго. — Саша, а вы, что… любите балет? — она впервые поглядела на него с любопытством, без прежней досады.
— Честно говоря, я только один раз был на балете. И вас видел… концерт училища.
— И этого одного раза ему оказалось достаточно, чтобы уловить самую суть! Слушайте… как же мне это раньше-то не пришло в голову! — старик рывком сгреб рисунки, выхватил из папки чистый лист ватмана и протянул Саше. — Садись, бери карандаш. А ты, Марго, сядь сюда, на фоне этой занавески. Наш юный Рокотов сейчас набросает твой портрет. И мне, старику, память останется.
Марго, как ни странно, без лишних слов выполнила просьбу дяди и уселась на стул. Выше всего она ценила в людях талант — внешность, возраст и даже род занятий для неё не играли особой роли, если знала, что человек одарен. И её отношение к этому парню тотчас переменилось, раздражение сменилось искренним интересом.
Через полчаса портрет был завершен. Огромные, чуть удивленные, распахнутые глаза Марго глядели на мир с доверчивой детской улыбкой. Ни высокомерие — маска защиты — которую она так любила на себя напускать, ни сознание собственного превосходства не портили её открытого лица, чистые его черты хранили гармонию и душевную ясность. Это была работа истинного художника, способного распознать в человеке его естество…
— Ой, Саша… — Марго руками всплеснула, прижала к груди. — Это… я даже не знаю, что сказать! Просто потрясающе!
— Возьмите на память, — Саня протянул ей портрет. — Ой, Борис Ефимович, вы же его у себя оставить хотели…
— Ну, с вами все ясно! — потирал руки довольный старик. — Конечно, пусть забирает Маргоша, ты ещё для меня нарисуешь… Так, так, так, кажется, меня осенило! Ты, Александр, будешь рисовать Марго — в театре, дома, в училище — всюду. Ты сделаешь целую серию её портретов, и мы организуем выставку. В Большом театре, в фойе! Я с руководством договорюсь через Пашку — друга моего, он там массу спектаклей оформлял. Причем вернисаж мы приурочим к Маргошиной премьере — тридцать первого декабря она танцует Машу в «Щелкунчике» — во взрослом спектакле. Сашка, ты только представь: ученица и труппа Большого! Да, это событие историческое, небывалое, вот мы и преподнесем его с особой помпой — прямо-таки «Русские сезоны»! Я буду новым Дягилевым, Ты, Марго, Павловой или Карсавиной выбирай, кто тебе больше по вкусу, а Сашка, ясное дело, Бакст! Хотя нет, у него более классическая манера, значит Головин или Коровин… А после мы сделаем вот что… — старик заводился все больше. — Мы эту выставку покажем во французском посольстве — у меня там знакомый атташе по культуре. Не сомневаюсь, что эти работы произведут настоящий фурор! Повезем их в Париж, потом в Лондон, Бонн, Брюссель… подниму все свои старые связи. Глядишь, и сам чего-нибудь намалюю, тряхну стариной! Не зря ваш покорный слуга в свое время исколесил с выставками пол-Европы. В Америку двинем, почему нет?! Мы организуем целую акцию: Марго танцует, звучит музыка, а фоном — как декорации — портреты, портреты, а, может, и фотографии… И потрясенная публика шепчет в восторге: «Ах, какое чудо — эта Березина! О, Клычков!» А?! Что скажете? — старик с неожиданной прытью носился по мастерской, зажегшись идеей этого фантастического прожекта. Предвкушая будущий успех ученика и племянницы, он вновь ощущал жажду жизни…
— Прямо сегодня же Пашке и позвоню. И с директрисой училища твоего попробую договорится, чтоб Сашку пускала на репетиции. Я когда-то писал её портрет, когда она ещё танцевала. Н-да… — взрыв эмоций подорвал его силы, Борис Ефимович разом почувствовал сильную слабость. — Маргошенька, дай мне вон те очки, будь добра, я ведь портрет-то толком не разглядел, только почувствовал… Вот спасибо, родная, — он взял протянутые ею очки, но не стал одевать и тяжело опустился в кресло. — У меня зрение — минус двадцать. Практически ноль… А в этих линзы специальные, я без них совсем ничего не вижу… Ладненько! Завтра вы оба мне к вечеру позвоните, думаю, у меня уже будет какая-то информация… — его прежний азарт погас, старик сразу постарел лет на десять.
Это было намеком: мол, простите, устал. Оба поняли, что пора оставить хозяина одного и заторопились проститься.
— Прости, Сашенька, что занятия сегодня не получилось: видишь, уморился твой старикан! — Борис Ефимович с трудом поднялся, чтобы проводить своих юных гостей. — Что-то быстро я стал уставать, наверное, это после болезни — пройдет. Значит жду тебя, Александр, как обычно в среду к семи. Ну, а тебя, моя милая, рад видеть всегда, с восьми утра и до часу ночи! Не забывай старика. Ну, до скорого.
Он стоял на пороге в золотом круге света и махал им рукой. Налетевший откуда ни возьмись порыв ветра развеял снежный нанос над козырьком у двери, и старика запорошило снегом с ног до головы. Он вскинул голову, стал отряхиваться, потом что-то сказал, но они не слыхали — они были уже у калитки. Тогда он приложил ладони ко рту и крикнул:
— Поглядите, какие звезды!
Сашка и Маргарита послушно запрокинули головы и разом потонули в темной сини небес. Звезды глядели на них, глядели в упор… и эта синь, этот свод небес, усеянный золотистыми звездами, были похожи на письмена, начертанные на самом древнем из языков, известных Вселенной…
Это было как благословение… Точно им говорили: идите и ничего не бойтесь, мы храним вас! И кто же были эти «мы» оба не знали: ангелы ли или иные всесильные существа. Но обоим стало вдруг так хорошо, так светло на душе, что они переглянулись, улыбнулись друг другу, ещё раз помахали Борису Ефимовичу и вместе двинулись к остановке метро, болтая о том, о сем…
Глава 9 ВОРОНЕНОК
— … И, понимаешь, в училище на репетиции, — а в основном я там репетирую со своим педагогом, Людмилой Ивановной, — ну вот, там все получается, все идет как по маслу! У меня хороший партнер — Вовка Балуев из выпускного класса, мне с ним удобно…
Они перешли «на ты» и не спеша направлялись к метро по утоптанной тропинке парка — свернули в парк, не сговариваясь, хоть получался приличный крюк — напрямик было гораздо быстрее… Фонари, горевшие там и тут, высвечивали силуэты деревьев, тонкую вязь голых веток, — у каждого дерева разную, неповторимую, снег блестел так, точно повсюду были разбросаны мельчайшие драгоценные камни, их можно было потрогать, окунуть в них лицо, вдохнуть сыроватый запах снежной свежести… Марго так и делала: то дело набирала полные пригоршни снега и разглядывала его, точно он был редким произведением искусства… один раз даже лизнула! А потом вдруг сворачивала с тропинки, чуть ли не по колено проваливалась в снег, и, смеясь, протаптывала среди нетронутой белизны свои тропинки.
Саня не верил своему счастью: вот она, рядом! Одетая в короткий полушубок из чернобурки, в маленькой шерстяной черной шапочке наподобие чалмы, и высоких обтягивающих ножку сапогах, Марго была так хороша, что у него дыхание перехватывало. И он шел, не зная, сон это или явь, и не верил, что может и в самом деле стать счастливым. Нет, ему ничего не нужно шальные мысли об обладании ею казались теперь дикими и совершенно безумными. Ну, в самом деле, стоило только посмотреть на нее, а потом на себя в зеркало. Чтобы такой урод, да рядом с такой принцессой… нет, это противно природе! Он наслаждался простой возможностью быть рядом с ней, разговаривать, слушать звук её голоса, хрустальный смех, глядеть, как она носится по заснеженному парку, сама легкая и невесомая, как летящий снег… И от того, что он понял это и принял, и расстался со своей несбыточной мечтой, ему стало гораздо спокойнее. Хорошо, что она есть на свете, Маргарита Березина, это живое чудо! Что идет она по Москве, вскинув голову, своей царственной горделивой походкой, а он, благоговея, тащится рядом. Вот пускай так и будет, ему довольно её милости: просто позволить ему быть поблизости, нарисовать портрет, поговорить о чем-нибудь иногда… Да, что там, он готов всю жизнь рисовать её, он её завалит портретами, станет знаменитым художником, чтоб иметь право называться её пажом, слугой…
«А, может быть, другом?» — мелькнула внезапная мысль. И мир вокруг ожил — он осветился надеждой.
— Ну вот, в училище я совершенно спокойна, и все у меня получается, а в театре… Ох, как подумаю о премьере, поджилки трясутся! Понимаешь, Саш, я там вся разваливаюсь, никак не могу собраться, с пируэтов срываюсь, с партнером не ладится, о сольной вариации из Гран-па и не говорю — это просто стыд какой-то… Как-то на репетиции станцевала вариацию, — довольно неважненько, это я понимаю, — а из-за кулис, да громко так, чтоб я слышала: «Ну, наваляла!» — низкий такой прокуренный женский голос. А другая — той в ответ: «Так, чего ты хочешь, она же ничего не умеет! Ну, арабеск у неё ничего, довольно красивые линии, и мордочка смазливая, а так… просто пустое место. Я бы её к театру на километр на подпустила!» Представляешь?! И я знаю, кто это говорил — обе довольно известные… Нет, не солистки, конечно, прежде таких называли корифейками: ну, у них может быть парная вариация в спектакле или вставное па-де-де… не больше. Но это к делу не относится, просто мне очень трудно. И рассказать-то некому: родители, понятно, не в счет. Вот, пришла поплакаться в жилетку к дяде Боре, а не то, думаю, с ума можно сойти…
— Слушай, а я ведь под дверью стоял, все не решался войти и многое слышал… — набравшись храбрости, признался Саня.
— Да я знаю… — улыбнулась Марго.
— По-моему, Борис Ефимович очень правильно говорил: плюнь ты на них и все дела! Просто они знают, что у них так никогда не получится, что за тобой — будущее, а им остается только… как бы это сказать?
— Кулисы подпирать! — рассмеялась она.
— Вот именно!
— Саш, а чего ты за мной ходил? Прямо как шпион, честное слово!
— Ну… — он покраснел как рак и отвернулся. — Сама, что ли, не понимаешь? — признание оказалось делом нелегким.
— Ладно, проехали! — она нагнулась, набрала полные пригоршни снега и запорошила ему лицо.
Саня, принялся отряхиваться, мотая головой как неуклюжий щенок, потом осмелел, тоже зачерпнул снега и швырнул ей вдогонку — Марго, смеясь, убегала… он едва догнал её.
— Ты знаешь, я прямо удивилась, как здорово птицы у тебя получаются… прямо как живые! — Марго перестала порхать и шла, прямая как стрела, — они приближались к метро.
— А, это… Ну, просто я в зоопарк последнее время часто ходил, глядел на них… там всякие грифы, и коршуны, такие громадины! Они за сеткой сидят. Может, поэтому…
— Нет, мне кажется, просто ты любишь птиц. Потому что, другой может в зоопарке хоть поселиться, а все равно у него так не получится. У тебя правда талант.
— М-м-м… — промычал Саня, и горячая волна радости опахнула его, он и не знал, как, оказывается, жить хорошо! — Я тебя до дому провожу, ладно?
— Давай. Да, слушай, раз ты так любишь птиц… Я тут на днях подобрала вороненка. Он откуда-то выпал, не знаю, где они выводятся в городе: на чердаках или где… В общем, он возле дома в снегу лежал, жалкий такой. Вроде ничего не сломано, но летать он ещё не умеет — его бы первая попавшаяся кошка съела. В общем, я его домой забрала. А он гадит, кричит, да так громко — кушать все время просит. Или возмущается: куда это, мол, меня запихнули, где родители?! Я его в картонную коробку посадила, дырочки в ней проделала… но моя мама — она просто от этого крика в ужасе, у неё часто голова болит — мигрень — а тут такое… Может ты его к себе возьмешь? А я его навещать буду…
Нет, поистине это был самый счастливый день! Саня себе такого даже представить не мог: Марго будет запросто заходить к нему, они начнут перезваниваться… чудеса, да и только!
— Конечно возьму! Я правда с птенцами, дела никогда не имел, но попробую. Ты ведь говоришь, он вроде бы ничего себе не повредил? Тогда нужно просто выкормить этого вороненка, дать окрепнуть… а потом мы его вместе выпустим.
— А может, ты так к нему привяжешься что и не захочешь отпускать! Вороны, они, знаешь, какие умные, некоторых даже можно научить разговаривать…
— Да, говорят… Но ему-то как это понравится? Он же птица вольная, жалко… Хотя он может потом, когда вырастет, к окну прилетать — форточка у нас всегда открыта. Как в родное гнездо, так сказать…
— Ой, рано мы с тобой размечтались! Сначала нужно, чтоб он окреп. Ну что, едем ко мне?
— Поехали!
Они спустились в метро, сели в вагон, и Сашка с наслаждением ловил восхищенные взгляды, какими пассажиры окидывали Маргариту. Надо сказать, что и он явно вызывал интерес: если парень рядом с такой девушкой, значит что-то из себя представляет… Ведь на брата Марго он уж никак не был похож!
Они сошли на «Белорусской», Марго съехидничала, что он уже знает дорогу, и припомнила как он выглядел, когда топал за ней с таким потерянным видом, точно заблудился в трех соснах! Марго набрала код подъезда, дверь отворилась, но теперь он не остался торчать во дворе, а вошел за ней. Они поднялись в лифте на пятый этаж, она отперла стальную дверь с сейфовым замком, и они очутились внутри.
— Маргоша, что-то ты припозднилась! — в коридоре появилась статная высокая дама, яркая блондинка с короткими волосами, забранными под бархатный ободок. — А это кто? — она произнесла это таким тоном, точно Сашки тут и в помине не было…
— Мам, познакомься, это Саша, ученик дяди Бори. Мы с ним у него в мастерской познакомились. А это моя мама, Анна Львовна.
— Здравствуйте.
— А, очень приятно… — томно сказала дама, протягивая ему руку для поцелуя.
Парень совсем растерялся, он не знал как это делается, и ткнулся носом в ухоженную полную руку с длинными ногтями, покрытыми малиновым лаком.
— Мам, Саша пришел, чтобы избавить тебя от мучений, он забирает птенца.
— О, как это мило! Вы, наверное, очень любите животных, да, Сашенька? — заворковала она, сменив тон, — теперь в нем проскальзывали умильные нотки. — Я ваша должница, требуйте от меня, что хотите! — она театрально развела руками, мол, вот я, вся перед вами, и Сашке захотелось как можно скорее оказаться подальше от этой особы. Но Марго… как грустно с ней расставаться! Но нет, на сегодня довольно, пора и честь знать, она устала наверное…
— Маргоша, накрой в гостиной на стол — будем ужинать. Ведь вы оба, наверно, не ужинали, чаем-то Борис всегда напоит, а вот с едой у него проблемы! Что поделать — одинокий старик… Сейчас я вас покормлю.
— Большое спасибо, но я… мне домой пора, надо ещё вороненка устроить.
— Ну, в другой раз, — милостиво согласилась Анна Львовна. — Проходите сюда, на кухню, он тут в коробке сидит.
— Саш, а ты бери его прямо с коробкой, — предложила Марго. — И тебе будет удобно его везти, и ему в ней привычно… более или менее. Да, запиши телефон и звони. Звони обязательно! Хорошо?
Он молча кивнул, расплываясь в глупой улыбке, взял протянутую бумажку с номером и засунул в карман. В коробке из-под микроволновки сидел довольно крупный вороненок и косил круглым блестящим глазом. Он довольно бурно отреагировал на переселение, заметавшись в коробке так, что, кажется, она сейчас разорвется в клочки, когда Саня вял её на руки, прижал к груди и направился к двери.
— Он потом успокоится, ты не думай! — крикнула ему вслед Марго, когда он уже миновал пролет лестницы — решил с лифтом не связываться и идти пешком. — Ой, я же твой телефон не взяла…
— Я тебе позвоню и продиктую… пока! — его голос гулко разнесся на лестнице.
— Пока-а-а… — донеслось сверху.
Домой Саня добрался без приключений, если не считать любопытных взглядов, сопровождавших его всю дорогу: вороненок орал и бился в коробке.
— Надо тебе имя дать! — буркнул Сашка, поднимаясь по лестнице с беспокойной ношей в руках.
— Мам, ты где? — негромко окликнул он мать, боясь разбудить, если спит.
Так и есть, мать спала. Он разделся, приволок коробку в свою комнату и выпустил узника на свободу. Тот, весь встрепанный, возмущенно закаркал, вернее, это было не карканье, а некие гортанные звуки, напоминавшие предсмертное хрипение удавленника. Саня, конечно, никогда удавленников не слышал, но предполагал, что отходя в мир иной, они должны издавать нечто подобное…
— Ну что, подружимся мы с тобой или ты с утра до ночи на меня орать будешь? — поинтересовался он у своего нового жильца.
Тот присел, слегка растопырил короткие крылья, склонил голову набок и принялся разглядывать нового хозяина. Две блестящие черные пуговки, живые и любопытные, глядели довольно сердито, но уже без прежней гневливости. Похоже, вороненок примирился со своим насильственным переселением. Оглядев Саню, птенец запрыгал по комнате, больше не обращая на человека никакого внимания — он исследовал местность!
— Назову-ка я тебя Дуремар. Вид у тебя — дурашливей некуда, — решил Саня и погладил вороненка по черно-сизой спине. Тот обернулся, раззявил седоватый клюв, хрипло вякнул и тюкнул парня по большому пальцу.
— Ах ты, паршивец! — возмутился тот. — Вот не буду тебя кормить, посмотрим, как ты тогда запоешь!
Дуремар демонстративно запрыгал прочь, мол, чихать я хотел на твои угрозы! Саня рассмеялся и задвинул коробку за кресло, стоявшее у окна. Он хотел подготовить маму к явлению нового жильца, прежде чем она окажется застигнутой им врасплох.
И вовремя! Только он проделал эту операцию, как Плюха заглянула в комнату. Вороненок, к счастью, в это время пребывал под кроватью.
— Ты что-то поздно сегодня… Как прошло занятие, что Борис Ефимович говорит?
— Да, ничего особенного, — Сашка пожал плечами. — Правда, он сказал, что я делаю успехи, но по-моему это преувеличение, у меня с перспективой проблемы…
— Это не беда, Сашуля, ты все освоишь. А учитель твой ради красного словца такого бы не стал говорить: значит, действительно дело движется! Все-таки Ольга у нас молодец, не пропадет твой талант её стараниями, может и выйдет из всего этого толк — вот бы славно-то…
Мать сегодня выглядела несколько лучше — мертвенная бледность исчезла, в глазах появился блеск… Он подумал: сказать ей про вороненка сейчас или после ужина? И решил, что на сытый желудок любая весть воспринимается чуточку поспокойнее…
— Пойду ужин готовить. Хочешь оладушки?
— Ой, ужасно хочу!
— Вот и ладно. А ты что делать будешь?
— Да, почитаю.
— А, ну хорошо.
И мать прикрыла за собой дверь.
Сашка прилег и взялся за Гофмана. Он давно уж не брал книжку в руки предпочитал тупо нажимать джойстики своей «Сеги», сражаясь с виртуальным противником в игре «Смертельная битва». С каким удовольствием погрузился он в чтение — душу ничто не томило, не грызло… Может, не все потеряно, и Марго и впрямь исцелит его? Он вспомнил о ней, вздохнул, прикрыл глаза… И сам не заметил, как задремал, перебирая в памяти минуты общения с ней. Что-то мама давно не слушала Вертинского… А как бы хорошо… он бы слушал и вспоминал… слушал и представлял себе, как она брела по глубокому снегу, как смеялась, запорошив ему лицо, как они в метро ехали… Ах, как хорошо! Хорошо…
А в это время неплотно прикрытая дверь в комнату отворилась, никем не замеченный Дуремар поскакал в коридор и принялся деловито его осматривать. Мать, что-то напевая на кухне, пекла оладушки на кефире. Сковородка чадила, она настежь раскрыла форточку, и образовавшийся сквозняк распахнул дверь в её комнату, куда немедленно направился вороненок.
Спустя полчаса Плюха позвала сына ужинать. Он очнулся, оглядел комнату, заглянул под кровать… Дуремара нигде не было. «Наверное в коридоре или ещё где-нибудь. Ладно, потом поищу, есть очень хочется!» решил он и рванул на кухню.
Они давно почти не разговаривали друг с другом. Мать ограничивалась короткими репликами, роняя их тусклым, безжизненным голосом, сын старался лишний раз её не тревожить и только спрашивал, что купить, да возвращаясь из школы, интересовался её самочувствием — утром, когда он уходил, она ещё спала…
А тут… Лариса Борисовна улыбалась, накладывая сыну на тарелку подрумяненные горячие оладушки, поливала сметаной, справлялась, вкусные ли… словом, была почти той, что прежде. Разве что, все ещё ощущалась в ней некоторая заторможенность, точно каждое движение ей давалось с трудом. Он обрадовался, стал рассказывать о Борисе Ефимовиче: какой он удивительный человек и как с ним интересно… Они сидели в своей маленькой кухоньке, и Сашка впервые подумал, что ему с матерью хорошо… она вовсе и не плохая, да, что он несет — это же его мать! Как он мог по отношению к ней даже мысленно допускать подобные определения: «плохая,» «не плохая»… Она изменилась очень, она больше не доставала его, а он… теперь, когда он запросто может набрать номер Марго, когда она признала его, — да ему горы по колено! Он займется матерью, найдет ей хорошего врача — он ведь один у неё и он мужчина! Уверенность в себе, которая крепла в нем благодаря Марго, буквально преобразила Сашку — он менялся на глазах.
Они поели, мать принялась мыть посуду, а Саня пошел к себе и снова завалился с книжкой на кровать. От сытости и довольства он опять стал задремывать, когда тишину прорезал возмущенный крик матери.
— Что это? Саша, поди сюда немедленно! Что тут творится?!
Он ринулся к ней и застал такую картину: на декоративных подушечках, украшавших мамин диванчик, красовались ядовитые желтые пятна, такие же были и на полу, одна из подушек была выпотрошена, и куски поролона, которым она была набита, разбросаны по всей комнате. А сам виновник учиненного погрома преспокойненько восседал на тумбочке рядом с бронзовым идолом и клевал «жертвенное» печенье, поднесенное тому в дар!
— Это ты… ты принес этого… эту мерзость?! — закричала Плюха не своим голосом. Саня впервые расслышал в нем истеричные визгливые нотки. Как ты посмел? Без моего разрешения… эту тварь…
У матери перехватило дыхание и она повалилась на диван, ловя воздух ртом и хватаясь за горло. При этом она не заметила, что локтем задела одну из запачканных подушечек, теперь и рукав халата украшало ядовито-желтое пятно.
— Мам, успокойся, — пытался убедить её Саня. — Понимаешь, я просто забыл тебе сказать: моя знакомая подобрала вороненка, он выпал из гнезда и его могли растерзать собаки или кошки… В общем, я взял его, потому что очень люблю птиц и вообще… Извини, не хотел тебя расстраивать… это я сейчас уберу.
Дуремар, точно насмехаясь над ним, встрепенулся, забил крыльями, точно потягивался, довольный, после сытной трапезы и смахнул на пол блюдечко с молоком. Блюдце разбилось, а по полу растеклась густая белая лужица…
— Немедленно… выброси его! Вон! Да, как ты смеешь, не спросясь у матери, тащить в дом всякую дрянь?! И подружка еще! У него теперь подружки завелись… Они, значит, всякую заразу подбирают и тебе суют, чтобы ты в дом тащил. Дураков-то нет, кто захочет в доме заразу держать?! Ах ты…
Мать вскочила и принялась кидать на пол все, что под руку подвернется: подушки, книжки, газеты, чашку, стоящую на столике в изголовье кровати, вазу, статуэтку фарфоровой балерины… Ее ярость была столь сокрушительна, что парень испугался — казалось, сейчас она и до него доберется, начнет молотить… Сжатые кулаки, грудь, вздымавшаяся от гнева, шумное тяжелое дыхание… нет, он никогда не видел маму такой!
Его опасения оправдались — она кинулась к нему как тигрица, вцепилась, больно впившись ногтями в плечи, и принялась трясти, точно деревце, с которого вот-вот посыплются яблоки…
— Гаденыш! Скот! Хочешь меня извести? Что, мать твоя зажилась?! Не бойся, скоро помру, все тебе достанется, сможешь бордель тут устраивать вместе с зверинцем! Ах, негодник… да я… все ему, все своему сыночке всю жизнь тебе отдала, а ты! — она вдруг отпустила его и упала на пол.
— Мама! — Сашка испугался уже не на шутку, с матерью и впрямь происходило что-то странное, в неё точно демон вселился! — Мам, давай я скорую вызову?
— Убить меня… убить меня хочешь! Зови! Всех зови… А-а-а! — она закричала, да так жутко, отчаянно, точно её и впрямь убивали. — Убери! Убери эту… гадость!
Дуремар в это время сиганул с тумбочки и заскакал по комнате, а потом подскочил к матери и запрыгал возле нее, с интересом поглядывая своими блестящими глазками на все это безобразие… По пути он вляпался в разлитое молоко, и всю комнату теперь украшали белые птичьи следы!
— Что он наделал! Ты посмотри, как он нагадил… в моей комнате… ох! Мой божочек, мой золотой… он разлил твое молоко!
Мать вдруг рывком поднялась, схватила птицу, кинулась к открытой форточке и одним махом швырнула в неё птенца. Потом рухнула на диван, завизжала и замолотила по нему ногами… у неё началась самая настоящая истерика. Пена выступила на губах, глаза дико блуждали, руки судорожно хватали воздух… Сашка не мог этого вынести. Он бросился в коридор к телефону, набрал номер тети Оли… её телефон молчал!
«Она ж на работе!» — вспомнил он, начал листать телефонную книжку, нашел нужный номер, набрал… руки тряслись.
— Ольгу Борисовну позовите пожалуйста… Тетя Оля? Да, я. У нас тут… маме плохо. С ней истерика! Да, это она кричит. Приезжайте скорей, я не знаю что делать! Что? Хорошо.
Он бросил трубку, кинулся в кухню, налил из-под крана стакан холодной воды, вернулся к матери, набрал воды в рот и прыснул ей в лицо… Та зашлась в беззвучном крике, видно, от неожиданности перехватило дыхание. Потом поднялась на локтях, глянула на него… он отшатнулся — в её глазах светилось безумие! — и набросилась с кулаками.
Мать молотила «сыночку» как боксерскую грушу, он заслонял руками лицо, пытался вывернуться, но она настигала и, как тигрица, снова накидывалась на него.
— Мам, перестань! Ты что?! Ты с ума сошла! За что? Зачем ты выбросила вороненка?! Он же… он беззащитный!
— А-а-а, сы-ноч-ка! Ты… как ты мог? Ты моего… дружочка, мой кактус… в окно… Думаешь, я не знаю? Не знаю? На, получай! Получай!
— Ма-ма-а-а!
Он пугался не за себя — за нее. То, что творилось с ней было страшно! Это была не его мать, не его благодушная и нелепая растопша-Плюха… Это было злобное отвратительное чудовище в женском обличье, которое, кажется, способно загрызть его!
Скорее бы приехала тетя Оля! Сашка больше не мог этого выдержать, и дело было не в сыпавшихся на него тумаках… Спустя минут пять силы её иссякли, мать перестала молотить руками, то попадая в цель, то промазывая, грузно осела на пол, отползла на диван, свернулась клубочком, как маленькая, и заскулила тихонько, точно больной щенок. И только это жалобное подвывание слышалось в притихшей квартире.
Сашка, шатаясь, побрел в ванную, умылся, разглядывая лицо. Нет, ни синяков, ни кровоподтеков не видно, ему-таки удалось прикрыть от ударов физиономию. Но остальное… тело ныло, саднило, наверняка потом, как разденется, кругом обнаружатся синяки. Ну, это ерунда… А вот ребро… да, с левым нижним ребром, похоже, не все в порядке. Ну и чихать он на него хотел, от этого не умирают!
— Не тушуйся, старик, до свадьбы заживет! — утешил сам себя и вдруг подумал, что у матери не было свадьбы… А как она бы наверно хотела!
— Ага, пожалей её, пожалей! — зло прошипел он, беседуя со своим отражением. — Чертова Плюха!
Прошипел и одернул себя: ну, хватит! Пора с этим завязывать… Сашке больше не доставляло ни облегчения, ни удовольствия «катить бочку» на Плюху. Словно помимо воли в нем поднималась какое-то новое чувство, это был страх за мать. Она нуждается в помощи. И ему было жаль ее! А себя… нет, не жаль. С ней творилось что-то ужасное, и он, кажется, начал догадываться в чем дело…
Идол! Этот бронзовый идол… это он так подействовал на его мать! И тот, во имя кого он был создан, — демон ли или какая-то иная темная сила, подавил её волю, полностью подчинил себе… она перестала быть собой, в ней поселилось нечто, питавшееся её силами, её душой! И он сам… как же раньше-то не догадался! Он сам стал безвольной марионеткой в невидимых руках этого демона — ведь тот проник и в его сознание!
«А чего ты хотел? — подумал Сашка, опускаясь на табурету. — Ты ж сам просил о помощи, молил исполнить желания, душу готов был отдать… И отдал, да! Только как теперь быть?»
Он увидел со стороны, увидел воочию, что творится с теми, у кого нет души. Верней, есть она, только вся изгажена, искорежена и замутнена злобой. Димон с компанией — эти тоже… Нет, конечно, у них наверняка не было никаких идолов, и душу они не закладывали… на такое способен только такой идиот, как он! Но каким-то другим путем они тоже пустили зло в свое сердце. Оно дало корни, проросло, укрепилось… и стало расти. Они просто хотели самоутвердиться, доказать свою силу и чувствовали себя «санитарами леса» как менты в сериале «Улицы разбитых фонарей»! Только те все-таки бились с бандитами, а эти накинулись на беспомощного жалкого бомжа как свора собак… И им это понравилось. Зло — оно как наркотик!
И чем дальше в лес, тем больше дров! Стоит дать слабину и порадоваться совершенной пакости, позлорадствовать над кем-то, кому зло причинил, и все! Отравленное сознание будет требовать ещё и еще, как птенец, жадно раскрывший клюв. Он подумал, что на самом все началось давно — со злости на мать. И пошло-поехало: все темней делались мысли, все агрессивней желания… Ведь он просил этого чертового божка… Маргарита! Саня внезапно понял, чего он на самом деле так страстно желал… Он хотел её проучить да, в этом все дело! Проучить эту ясную светлую девушку за то, что она чище, лучше его… Он хотел отомстить красоте за то, что сам ею обделен! Выходит, он может только разрушать, кромсать все доброе и хорошее, мстя жизни за свою слабость и несовершенство…
Нужно это остановить! И дело, похоже, не только в том, что его одолели темные силы — эти химеры, черная тень, идол или кто там еще… Он сам их призвал, сам сделал все для того, чтоб они его выбрали, а теперь поди-ка отделайся!
Сашка невесело усмехнулся. Свобода! Как он хотел ее… А угодил в яму, которую сам же вырыл, и теперь без посторонней помощи оттуда не выбраться.
— Хватит хандрить! — приказал он себе. — Сначала — мама, надо ей помочь, а потом уж займемся своими проблемами.
И это было первое поистине мужское решение, которое он принял!
Послышалось звяканье ключа в замке. Дверь открылась… наконец-то! Тетя Оля, на ходу скидывая пальто и сапоги, влетела в комнату.
— Ларочка, милая, что с тобой? Тебе плохо?
Мать не отвечала. Она вся скрючилась, съежилась, и продолжала скулить, отвернувшись к стене. Сашка заглянул в комнату. Тетя Оля обняла сестру и тихонько покачивала, поглаживая по голове. Он осторожно подошел к ней, спросил шепотом, не нужно ли чего… Тетка отрицательно покачала головой и жестом отослала его: мол, иди к себе. Тогда он оделся и бегом кинулся вниз по лестнице: теперь, когда мать под присмотром, можно заняться несчастным вороненком. Жив ли, все-таки пятый этаж!
Дуремар лежал на снегу под окном, завалившись на левый бок, и пытался взмахивать правым крылом. Одна лапка его беспомощно дергалась, другая повисла под каким-то странным углом.
— Маленький! — Саня взял вороненка на руки, тот протестующе заорал и попробовал вырваться. — Дурашка, ну куда ты? Сейчас мы тебя осмотрим. Ну, говори, где больно. Ах ты, вот оно что… — у вороненка была сломана левая лапка.
— Надо бы тебя к ветеринару. Ладно, что-нибудь придумаю. А пока вернемся домой, только смотри у меня — чтобы ни гу-гу, понял? Тихо сиди, а то нас мать с тобой обоих на улицу выкинет.
Он сунул вороненка под полу куртки и, стараясь двигаться как можно ровней, чтоб его не трясти, направился к своему подъезду. И случилось то, чего Сашка сейчас хотел бы меньше всего — прямо за дверью он налетел на Димона.
— Ну чё, старик, как она, жизнь? Ты опять куда-то все пропадаешь… Димон глядел на Саню с высоты своего высоченного роста — под метр восемьдесят. — Чего прячешь, стащил? А ну покажи!
— Убери руки! — Сашка сам удивился своему голосу — так спокойно тот прозвучал.
— Ого, как мы заговорили! — подивился Димон. — А это видал? — и он сунул Сашке под нос здоровенный кулак.
— Знаю я твою силу — тебе бы только на убогих бомжей нападать… Я все видел! Между прочим, это уголовное дело. Но мне плевать — у меня дела поважней. Давай — вали-ка отсюда. И отстань от меня — от тебя просто тошнит…
У Димона прямо челюсть отвисла. Он так и остался стоять, вытаращив глаза и глядя, как этот сопляк спокойно проходит мимо… а Сашка уже поднимался по лестнице.
— Слышь, сосед, считай ты — мертвяк! Понял? — донесся до Сашки снизу разъяренный голос — Димон, похоже, пришел в себя.
Но парень был уж на пятом этаже и отпирал дверь. Войдя, он скинул сапоги, не раздеваясь, прошел к себе в комнату, уложил Дуремара на кровать и вернулся в коридор, чтобы раздеться. Потом взял в ванной большой комок ваты, выстелил дно коробки, осторожно положил туда вороненка. Тот глядел на него своими черными глазками-пуговками, точно молил о помощи…
— Не бойся, все будет хорошо! — Сашка подмигнул своему подопечному и снова задвинул коробку под кресло в углу.
Тетя Оля вышла из маминой комнаты и поплотнее прикрыла дверь.
— Спит… — шепнула она и кивком позвала племянника за собой, в кухню, поставила чайник. — Ох, мчалась как сумасшедшая, пришлось брать такси. Слава Богу, работа моя сравнительно неподалеку отсюда, а то из своей тьмутаракани я бы час добиралась — не меньше… Ну, рассказывай, что у вас тут стряслось? И кто так комнату уделал по высшему классу?
— Это… мой вороненок. Понимаете, тетя Оль, мне отдали вороненка, который из гнезда выпал, я хочу его выходить. А мама… она вошла в комнату, а я не уследил — он там нагадил. В общем, вы видели… Пятна эти на подушках, а потом он печенье клевал… ну то, которое для этого идола. И молоко его пил, весь в нем вымазался, когда опрокинул блюдце, всю комнату истоптал. А осколки — это мама… Я не знаю, что с ней сделалось, только такой никогда её в жизни не видел. Вороненка в форточку кинула… он лапку сломал. Она же так животных любит!
— Н-да… Прямо не знаю, что делать! Давай по порядку: как думаешь, что её могло так из себя вывести?
— Понятия не имею… Наверно птенец — он ведь слопал пищу, которая, так сказать, приготовлена в жертву. Мать ведь пылинки сдувает с этой гадской статуэтки, а он…
— Это понятно, — тетя Оля сокрушенно покачала головой.
— Но, понимаете, вороненок — он стал как бы тем звуком, от которого сорвалась целая лавина, — мама стала просто как сумасшедшая, ничего не соображала! И потом… у неё какая-то невероятная сила вдруг прорезалась, как у здорового мужика! А до этого она едва ползала, все спала… и такая слабая была, кажется: дунь — и упадет! Я еле-еле от неё уворачивался.
— Так она на тебя нападала?
— Да нет… — Саня слабо махнул рукой и отвернулся.
— Сашка, не ври! Она тебя пыталась избить? Она была агрессивна?
— В общем, да… Нет, вы не думайте, я на неё не сержусь — это была не она, понимаете? Не она! В ней словно кто-то другой поселился…
— Вот как! Выходит, у Лары крыша поехала… И все-таки, как по-твоему, из-за чего это произошло?
— Ну… мне кажется, она слишком «въехала» во все эти заморочки с идолом. Курения, благовония, жертвенные дары… И… да нет, это бред, конечно!
— Ты говори, говори!
— Мне иногда казалось, что этот идол ее… гипнотизирует, что ли. Она с ним как будто в контакт вошла, а в какой — не ясно…
— В общем, дело ясное, что дело темное! — невесело рассмеялась тетя Оля.
— Теть Оль, у меня тут мысль одна зреет…
— Давай, выкладывай!
— А давайте выкинем этого идола! Прямо сейчас, пока мама спит! От него одни неприятности. И мама стала болеть и вообще… у меня такое чувство, точно он за нами следит.
— Ну, положим матери ты помог заболеть — сердечный приступ она из-за тебя схлопотала, — похлопала его по руке тетя Оля. — А выбросить… нет, мой друг, мы этого делать не будем. Понимаешь, нельзя на человека давить и действовать против его воли, тем более, если человек этот болен. Мы только ещё усугубим её состояние. Нет, это решение она сама должна принять, дозреть должна… В здравом уме и трезвой памяти!
— Но если вся эта эпопея с идолом продолжится, мать совсем съедет с катушек! Вы же видите, как он на неё влияет…
— Видеть-то вижу, да пока ничего сделать не могу. Нельзя действовать таким методом! Я думаю, мы поступим по-другому… — она задумалась.
— А как?
— Погоди, мне надо сначала с Борисом переговорить — с учителем твоим. А пока не дергай меня! Теперь давай с вороненком твоим разберемся. Говоришь, у него лапка сломана? Есть у меня ветеринарша одна, правда она собаками занимается… Сейчас… так! — Тетка достала из сумочки записную книжку, открыла на букве «В». — Вот, пиши телефон. Пишешь? Диктую! — Она продиктовала номер и убрала книжку в сумку. — Зовут Елена. Без отчества она молодая. Завтра позвони ей с утра, скажи, что ты от меня, а то она тебя пошлет куда подальше с твоим вороненком — у неё подопечные несколько покрупнее: кавказские овчарки! И дуй к ней прямо с утра, думаю, она сделает все как надо.
— А школа?
— А это уж ты сам решай, миленький, что тебе важнее! — взорвалась тетка. — И то и другое сразу не получается, выбирать надо! Топай в школу, пай-мальчик, а этот твой… доходяга пускай подыхает, мне-то что — это ж не я, а ты его подобрал…
— Все понял! — подскочил Саня. — Спасибо, теть Оль!
— Не за что. И вот что: я у вас ночевать остаюсь — неизвестно как поведет себя Лара, когда проснется… А ты скройся и глаза ей сегодня не мозоль, ясно?
— Так точно! — отрапортовал Сашка.
Все-таки, какая же молодец его тетка — сразу со всем разобралась, все разложила по полочкам, и хоть полной ясности как не было, так и нет, но появилась надежда, что эту историю с идолом можно как-то разрешить. При ней и за мать не так страшно… Интересно, что она задумала, о чем собирается с Борисом Евгеньевичем поговорить? И вдруг шальная мысль огнем полыхнула в мозгу. А что если…
— Ну, чего глаза выпучил? — усмехнулась тетка. — Вижу, тебя озарило. Валяй, выкладывай, чего там твой мозжечок наварил!
— Да, в общем… — Сашка смутился и отвел глаза. — Я тут подумал, ну…
— Слушай, не дури мне голову: хочешь говорить — говори, нет — так проваливай! У меня и без тебя дел по горло. В комнате уборки из-за этого чучела твоего — на пол-ночи хватит!
— Я сам все уберу! — взвился Сашка.
— Нет уж, спасибо, мне самой и быстрее и легче. Свое дело ты уже сделал — припер птенчика, чтоб матери жизнь медом не казалась!
Тетка была в своем репертуаре, но почему-то Саня не только не обижался на неё — он любил этот её деланно-возмущенный тон. Почему-то именно в такие моменты он особенно чувствовал, с какой нежностью она к нему относится. А он… он и сам понял теперь, какой дорогой человек для него тетя Оля, как они сблизились за последнее время… Да, пожалуй, к ней можно обратиться со своей сумасшедшей просьбой, она поймет. И потом, это ведь ради мамы!
— Так вот, я тут подумал… мама по-моему до сих пор отца любит. Фотографию его чуть ли не каждый день разглядывает… Я понимаю, они расстались очень давно, у него, наверное, семья, дети… Но он даже не знает, что у него сын в Москве! Она ему не позвонила, не написала. Решила сама за двоих, понимаете…
— За троих, — очень тихо, совсем другим тоном — грустным, серьезным поправила его тетка.
— Ну да, за троих. Я не хочу в это лезть, это её выбор, но все-таки… Вы не знаете адреса этого… в общем, отца моего? Или телефона? Ведь что-то у матери должно же остаться, хоть какие-то концы. Ну, хотя бы фамилия, отчество… Зовут его Ашот, это я узнал.
— Ну, ты и прохвост! — все с той же грустью покачала головой тетя Оля. — Подглядывал значит за матерью…
— Да, я не хотел. Это как-то само собой получилось.
— Угу, все подобное как-то всегда само-собой получается, а ты вроде бы и не при чем… Ладно, это все пустые слова, суть в том, что ты теперь знаешь… Говоришь, нет ли его телефона? У меня, естественно, нет, а у матери… думаю, знает она его адрес. Не говоря уж об имени-отчестве. И что, ты хочешь связаться с ним?
Вот уж точно — не в бровь, а в глаз! Сашка до этой минуты и сам толком не знал, чего добивается. Позвонить и сказать: здравствуйте, вы мой папа! Чушь несусветная… Но какая-то идея его осенила, когда он затеял этот разговор? Надо это обдумать! А если появится зацепка реальная — вот тогда и решение принимать…
— В общем, задачу я поняла, попробую с этим к Ларе подкатиться. Стану её пытать — не сейчас, понятное дело, а когда она хоть немного оправится. А теперь дуй к себе, засиделись мы — уж половина десятого.
Сашка поднялся из-за стола и внезапно кинулся к тетке на шею, прижался к ней… Раньше таких телячьих нежностей за ним не водилось. Она потрепала его по волосам, чмокнула в щеку и легонько подтолкнула к двери: видно почувствовала, что у него в глазах защипало, и дала парню возможность с достоинством удалиться, не показывая своей слабости.
Он принял душ и лег, измученный волнением этого дня. И глаза как-то сами собой стали слипаться… он поворочался, потом усилием воли заставил себя разлепить тяжелые веки и поглядел, как там вороненок. Тот притих в своей коробке — наверно, дремал.
— Не боись, Дуремар, завтра мы с тобой будем лечиться! Скоро летать начнем…
Сашка выговорил это «начнем», уже проваливаясь куда-то, и скоро уж спал мертвым сном.
… И во сне он летел над городом. Кружил над железнодорожными путями, над вокзалом с зелеными крышами… Потом очутился в комнате с высокими потолками и старинной мебелью красного дерева. У кровати на маленьком круглом столике на витой ножке стояла очень красивая лампа под шелковым абажуром. Этот абажур, точно факел, держала полуобнаженная бронзовая дева, высоко поднявшая правую руку, а левой поддерживавшая тунику на груди. Над кроватью висела картина в тяжелой старинной раме, на ней были изображены развалины какого-то замка, увитые диким плющом, а на переднем плане у ручейка под сенью деревьев пристроились двое влюбленных. На противоположной стене висел овальный портрет — акварель. А на портрете… на портрете была Маргарита! Или, во всяком случае, кто-то на неё ужасно похожий! Наверное, бабушка или прабабушка, потому что портрет был написан явно очень давно… Он шарахнулся в сторону, захлопал крыльями, пытаясь удержать равновесие, на шкаф налетел! Потом все-таки опустился на пол и, цокая кривыми, острыми как бритва когтями, прошел к тому месту, откуда лучше всего можно было видеть портрет в свете лампы. Красавица на портрете глядела на него как живая! И улыбалась. Задорно так, весело! Он снова взмыл в воздух, подумал, что здесь, в этой комнате, размах крыльев мешает ему… и тотчас почувствовал, какой странной легкостью и свободой исполнилось тело… как будто он стал прозрачным, невидимым, а помех и препятствий материального мира больше нет для него!
И тут… в комнату вошла Маргарита. Она была в полупрозрачной шелковой ночной рубашке, распущенные волосы золотым водопадом раскинулись по плечам… Зевнула, выглянула в окно, поглядела на небо, штору задернула… Потом перекрестилась на иконку Божьей Матери в изголовье кровати, легла. И тут же уснула.
Марго спала, он склонился над ней… и тут же дикое острое желание взлететь и спикировать вниз пронзило его! Впиться в эту желанную плоть, взять ее… а потом растерзать! Правда, в одном была незадача: как терзать он прекрасно знал, но как овладеть этой плотью — нет, в этом опыта не было… Ничего, природа подскажет! Он колыхался над нею легкой бесплотной тенью, и желание разорвать на куски это теплое тело постепенно пересиливало, одолевало другое…
Вдруг внезапный как мышечный спазм, возник в нем протест. Точно очнулся он, точно другая его половина, которая исчезала куда-то как в летаргическом сне, когда он был птицей, вдруг прорвалась, пробилась к нему… это очнулась душа! Нет, он не может, не хочет смерти её, Марго его избранница, его возлюбленная, друг, наконец, а не зверок, которого он со смаком готов растерзать… Он должен проснуться! Нужно немедленно вернуться в себя! Скорее, только скорей…
И тут девушка проснулась. Длинные темные ресницы дрогнули, открылись глаза… Она, видно, что-то почувствовала, но не могла даже вскрикнуть — её сковал страх. Над нею висела плотная черная тень, которая меняла свои очертания. Тень была живая, и животным нечеловеческим ужасом веяло от нее. Марго, заслоняясь, взмахнула руками… и на грудь ей упала иконка, которую она случайно задела. Эту икону Божьей Матери прабабушка когда-то прикрепила ей в изголовье кровати. Теперь той уже не было, но её благословение иконка — была!
Тень исчезла. Головка Марго откинулась на подушке — она потеряла сознание. Рука её инстинктивно прижимала к груди икону.
А Александр… он проснулся рано утром у себя дома совершенно разбитый.
Глава 10 ЧЕРНЫЙ ЗОНТ
Сашка подскочил как безумный. Он чуть не убил ее! Он или кто-то другой? Ведь во сне он был совсем другим существом, как будто былая злость и враждебность ко всем и вся материализовались и стали жить своей жизнью… отдельно от него. Да, он раздвоился! И практически не мог контролировать того, другого, который мог летать, для кого свобода означала способность выбрать жертву и разорвать на куски… То была свобода хищного зверя, и во сне он был таким, он готов был напасть на самое дорогое существо на свете! Нужно немедленно уничтожить того, кто завладевал им во сне, монстра, укравшего его сон!
Парень быстро умылся, оделся, заглянул в комнату матери. Там все было прибрано, перед чертовой статуэткой не было больше ни курительных палочек в стеклянном стакане, ни блюдец с молоком и печеньем. Сестры спали, тетя Оля постелила себе на полу.
— Какая же молодчина тетка моя! — в который раз восхитился Сашка. — А ты, гад, поголодай, это тебе только на пользу!
Он наскоро перекусил, позвонил по телефону Елене, та велела приезжать. Саня упрятал вороненка под полу куртки и пулей вылетел из дому. Минуя площадку первого этажа, он невольно обошел стороной дверь квартиры Димона.
«Я подставился! — понял он. — Теперь эти сволочи знают, что я видел, как они убивали бомжа. Того, наверно, давно нашли… Вряд ли возбудят уголовное дело, ведь никто ничего не видел, но все равно Димону с компанией лишний свидетель не нужен. Да, они постараются избавиться от меня, заткнуть рот, чтобы не болтал лишнего… Что ж, значит я заслужил, может, оно и к лучшему… По крайней мере, Марго будет в безопасности, никто не станет витать над ней по ночам, никто не посмеет ей угрожать! Только б сразу они меня… чтоб не мучиться. Бац — и готово! Не буду их избегать!»
Однако, угрозы Димона могут ещё и не сбыться, пока это только слова… Может, парни и побояться его убивать: ведь убить бомжа — одно, а его, Сашку — совсем другое… За это точно посадят! Да, скорее всего, убивать они не осмелятся — в крайнем случае, изобьют и все! Но то, что творилось с ним, это не пустые слова — это реальность, и от неё не убежать, не скрыться… Он боялся себя, — того, в кого мог превратиться в любую минуту, — боялся больше всего на свете! Он потерял свою душу, право прямо смотреть людям в глаза… и жить с этим больше не мог.
— Может, мне постараться не спать… — бубнил Саня себе под нос, трусцой приближаясь к метро. — А сколько человек может без сна? Неделю? Две… Все равно потом отрублюсь в самый неподходящий момент — организм не выдержит! Но попытаться стоит. А за это время нужно все рассказать Марго! Да, это единственный выход, нужно, чтоб она как-то от меня защитилась. Сегодня же с ней повидаюсь!
Люди косились на парня, который пыхтел, бормотал что-то и мчался, не разбирая дороги, натыкаясь на столбы, толкая прохожих. У парня этого был какой-то блуждающий взгляд и вообще выглядел он так, как будто сбежал из «Кащенко»!
Проезжая «Белорусскую», Саня подумал: «В голове не укладывается! ведь я сегодня ночью был здесь, парил над вокзалом…» Встряхнул головой, прогоняя этот кошмар, — ещё немного и он свихнется! Сошел на «Динамо», свернул на улицу Юннатов, в ветеринарную лечебницу. Елена ждала его и приняла без очереди, а очередь к ней была просто чудовищная — он бы тут часа три просидел! Она оказалась крупной мужеподобной женщиной без сентиментов и сразу взяла быка за рога.
— Так, давай его сюда. С пятого этажа упал, говоришь? Ну-ну… — она промяла и прощупала тельце птицы, оглядела сломанную лапку. — Ему повезло, снегу много! Повреждений внутренних нет, только ушиб.
Она наложила на лапку тонкую шину, крепко забинтовала. Дуремар сначала было забился, но потом понял, что лучше не сопротивляться — все равно бесполезно!
— Вот и умница! — Елена погладила его по маленькой верткой головке. Главное, чтоб он бинт не развязал. Следи за ним в оба — он будет его расклевывать. А это подбавляй ему в воду, — она протянула ему пузырек с прозрачной жидкостью. — Ну все, давай! Звони, если что…
— Спасибо большое! — Саня упрятал птенца за пазухой и, пятясь, вышел из кабинета. — Эх, Дуремар! — шепнул он вороненку, чуть приоткрыв полу куртки. — Влипли мы с тобой! Надеюсь, что тетя Оля маму насчет тебя успокоит, но ты больше в комнату к ней — ни ногой! То есть, лапой… Хотя теперь ты у меня инвалид, по крайней мере недели на две.
Он подумал, что рад этому вороненку. Хоть не один! Можно говорить с ним о чем угодно — он поймет и никому не расскажет… А вот мама… похоже, что идол, — если все дело в нем, — и её опутал своей паутиной, овладел ею даже покруче, чем им, Сашкой. Он-то хотя бы большую часть суток в своем уме, а она спит днем и ночью, и черт его знает, что там с ней происходит, во сне… Да, зло пустило в её душе крепкие корни — достаточно было видеть, что она творила вчера…
Матери нужна помощь. Нужно посоветоваться с кем-то. Но с кем? Признаться во всем тете Оле? Ведь рассказав, что с ним происходит, он и маме поможет — будет ясно, что то же — и с ней… Ох, голова кругом!
Нет, все сразу не получится, сначала — Марго! Она в опасности, он должен сначала предупредить её. Сейчас — домой, покормить вороненка, потом к ней. Но она, наверно, ещё в училище. А после может поехать в театр. Как же быть? Позвонить ей? Придется звонить через каждый час, и этой противной самонадеянной Анне Львовне — Марготиной матери — придется как-нибудь с этим смириться. Он её просто «достанет» сегодня — и пускай! Лишь бы перехватить Марго…
Во дворе, к счастью, никого не было — ни Димона, ни его мерзких дружков. Саня отпер дверь и столкнулся в коридоре с теткой — та несла на подносе чай с бутербродами к матери в комнату.
— А, вернулся? Погоди, я сейчас, — кивнула ему тетя Оля.
— Ну что, как она? — спросил Саня, когда тетка вернулась на кухню. Он уложил Дуремара в коробку и сообщил ему. — Потерпи немножко, сейчас я тобой займусь.
— Да, вроде бы, ничего. Дремлет… С вороненком твоим я все уладила она в принципе не возражает, только просит, чтоб он не совался к ней в комнату. И еще… я улучила момент, когда Лара вроде была в настроении, и поговорила… о твоем отце.
— И что? — Сашка весь обратился в слух.
— А то, что у неё есть его адрес. Телефона, по крайней мере в то время, когда они общались, у него не было. На, держи! — и тетка протянула парню клочок бумаги, на котором был ереванский адрес его отца. — С тебя причитается! Знаешь, каких усилий мне это стоило… жуть! Лара об этом и слышать не хочет, я её убедить пыталась: нельзя, говорю, скрывать от человека, что у него есть сын. Дай мне адрес! Она — ни в какую! Нет, говорит, ему это ни к чему, я так решила, и дальше в том же духе… Просто непрошибаемая! В итоге мне пришлось этот адрес украсть! Я её упросила фотографии показать, она достала альбом, а там — письма. Два или три… Ну, я потихоньку одно в карман сунула, когда она отвернулась, обратный адрес списала и письмо опять в альбом подложила. Все чисто, не подкопаешься… Теперь, племянник, дело за тобой, решай: нужно это тебе или нет. Дело твое. Хочешь — напиши, хочешь — в мусорное ведро выкини, я свое дело сделала…
— Спасибо! — Саня аккуратно сложил вчетверо бумажку с адресом, отнес к себе и положил на книжную полку, спрятав у задней стенки за трехтомником Гофмана. Потом вернулся на кухню. — Тетя Оля, вы придумали, что делать? Вроде вчера у вас какая-то мысль забрезжила…
— Я тебе сказала уже — не приставай! Всему свое время. Мысль зреет, думаю мне надо встретиться кое с кем… А ты потерпи и не гони картину! Так, кажется, вы теперь выражаетесь? Все, мне обед нужно готовить, а ты отдыхай. Вчера досталось тебе… бедняга!
Она ласково потрепала его по волосам и принялась греметь сковородками, всем своим видом показывая, что все разговоры закончены. А Сашка, вздохнув, поплелся к себе, покормил Дуремара и набрал номер Марго. Ее, естественно, дома не было, Анна Львовна сказала, что дочь скоро должна появиться и она передаст ей, что он звонил. Саня вернулся к себе, сел на кровать и тупо уставился в угол. Ни о чем, кроме предстоящего разговора, он думать не мог… Чем бы заняться? Голова пуста как воздушный шар… Почитать, что ли? Рука привычно потянулась к полке, к томикам Гофмана… бумажка с адресом! А может, не откладывать и написать? Прямо сейчас! Что будет потом неизвестно… Он выдрал из тетрадки лист бумаги, сел за письменный стол, минут пять грыз ручку, потом решился… Это было первое письмо в его жизни. И самое трудное!
«Здравствуйте! Простите, не знаю Вашего отчества. Знаю, что Вас зовут Ашот. Моя мама, Лариса Борисовна Клычкова, познакомилась с Вами пятнадцать лет назад. Она ничего мне о Вас не рассказывала, но я знаю, что Вы мой отец. Я подслушал. И Ваш адрес узнал. И узнал еще, что мама Вам не сказала, что у Вас сын. По-моему, она не права. Вы не думайте, что нам от Вас что-то надо. У нас все есть, все хорошо. Только мама болеет. Но она выздоровеет. Обязательно! Меня зовут Саша. У меня есть вороненок, он сломал лапку и я его держу у себя. Вот, пожалуй, и все. Я просто хочу, чтобы Вы знали. До свиданья, Саша.»
Да, коряво, конечно! Но ничего лучшего он «наваять» не смог. Сложил свое послание вчетверо, сунул в карман, поглядел на часы — половина третьего. На то, чтобы нацарапать эти несколько строк, у него ушел час! Скоро позовут обедать, но есть не хотелось… Он решил обнаглеть и ещё раз позвонить Марго, хоть время, когда она должна появиться, ещё не пришло… Но Марго сняла трубку!
— Привет! — он сразу охрип.
— Саша? — странно, но, похоже, она обрадовалась.
— Да, это я. Как дела?
— Ничего… Слушай, как там наш вороненок?
— Вчера всю мамину комнату так уделал, что маме стало нехорошо. Она теперь болеет. Я его назвал Дуремар.
— Ой, здорово! Только жаль, что он огорчил твою маму. А что, ей в самом деле так плохо из-за него? Если б я знала… можно было отдать кому-то другому.
— Да нет, все нормально. Даже очень. А мама… честно говоря, я не знаю, что с ней происходит. Да, и со мной тоже… В общем, Марго, мне нужно с тобой поговорить. Это очень важно.
— Давай завтра — у меня сегодня в семь репетиция в театре.
— Черт! Нужно сегодня, я же говорю, это очень важно.
— Что, до завтра никак не подождет?
— Нет, никак. Скажи… а ночью тебе ничего не приснилось… страшного?
— А… — её голос дрогнул и Марго на какое-то время примолкла, точно переваривала услышанное. — А откуда ты знаешь?
— Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. До ночи. Понимаешь?
— Н-нет, не совсем… Ладно, тогда я к тебе заеду, ты говорил, что живешь у «Тверской», и мне по дороге. Буду примерно через час. У метро встретишь?
— Ну, конечно! — он не верил своим ушам. — Где?
— Давай возле «Макдональдса», прямо напротив входа в пол-четвертого.
— Буду! Спасибо, Марго. Я тебя очень жду!
— Ну, пока! — она бросила трубку.
Он опустил трубку на рычаг так бережно, точно она была хрустальной. Марго приедет к нему! Эх, если б не беда — не тот ужас, который поселился внутри, он был бы на седьмом небе! Наверно, визжал бы от счастья! Но радоваться от души может только человек с чистым сердцем… А он был нечистым, грязным, он был недостоин ее… и ему предстоял очень непростой разговор. Поэтому Саня постарался собраться, особенно не воспарять и, чтобы облегчить себе эту задачу, встал под холодный душ.
— Тетя Оль, я сейчас выскочу к метро, мне надо встретить… в общем, ко мне зайдет одна девушка… моя подруга. Ее зовут Марго.
— О-о-о! — воскликнула тетка. — Вот это дело! Давно пора, а то сидишь тут один как сыч с утра до ночи… А это не та ли неземная фея, которую мы у театрального подъезда поджидали? Ее, кажется, звали Маргаритой… Помню, видок у тебя был тогда!
— Угу, это она, — буркнул Сашка, покраснев и не глядя на тетку. — Ну, я пошел. Только маме не говорите, а то ещё разволнуется…
— Не волнуйся, она сегодня не встанет, а я буду нема как рыба…
Саня вприпрыжку поскакал к «Макдональдсу», и минут через двадцать появилась Марго. Вид у неё был неважный: она была очень бледна и выглядела не совсем здоровой.
— Давай, выкладывай, с чего это ты заговорил о моем сне? Сон мне приснился в самом деле ужасный, но откуда ты-то про это знаешь?
Она глядела на него во все глаза, и он на миг потонул в их небесном сиянии… Потом взял себя в руки. Сейчас нельзя расслабляться!
— Не могу на ходу говорить — это слишком серьезно. Пойдем! — он увлек её за собой.
Придя домой, помог ей раздеться, познакомил с теткой — та выглянула из материной комнаты, сгорая от любопытства. Кажется, они с Марго друг другу понравились, впрочем, это не удивительно: его королева любого покорила бы с первого взгляда, а тетя Оля, несмотря на природную некрасивость, обладала живым темпераментом и непосредственностью, располагавшим к ней самых разных людей…
Они с Марго прошли в его комнату, она подскочила к коробке, где обитал Дуремар, присела на корточки.
— Ну, здравствуй, ворон! — она нежно погладила его по спине. — Как ты тут? Ты у нас невезучий какой-то, но ничего, это пройдет. Просто полоса в жизни такая… со всеми бывает, правда?
Дуремар строго глянул на неё черным глазком, издал хриплый протестующий возглас и шарахнулся в сторону.
— Ишь! Ершистый какой! Ну и характер у тебя… Слушай, — она обернулась к Сашке, — а ты его будешь учить говорить?
— Думаю, да, вот только хочу с ветеринаром посоветоваться: с чего начинать, как и что… Это ж непросто, наверное, тут уметь надо.
— А что просто-то? Ты что думаешь… ой! — Марго рывком поднялась и глаза её округлились. — Это… слушай, откуда он у тебя? — её взгляд упал на проклятый зонт, который так и стоял, прислоненный в углу, все эти дни.
Марго одним прыжком оказалась возле зонта, взяла его в руки…
— Да, это он! Вот здесь и следы на ручке — это щенок дядиного приятеля их оставил, он грызет все, что только на глаза попадется. — Так это был ты! — Марго поднялась и глаза её засверкали гневом. — Значит, ты тот подонок, который на дядю напал! Из-за которого он совсем потерял зрение… Он и зонт с собой утащил… Да, это ты! Какая же ты гадина!
— Марго, погоди… мне нужно тебе все объяснить! — Сашка почувствовал, что пол поплыл под ногами… — Понимаешь, это был не я… то есть, я но…
— Пошел к черту! Не хочу тебя слушать! И как у тебя только хватило наглости после этого порог его дома переступать! — она выскочила из комнаты, торопясь, накинула шубку, шапку, подхватила сумочку и стала пытаться отпереть дверь — Открой немедленно! Выпусти меня!
— Марго, погоди, послушай… — он метался возле нее, не зная, что делать. — Да, я тварь, мразь паршивая, но сейчас не до этого… плевать на меня! Тебе угрожает опасность!
— И слушать не хочу, открой дверь!
На шум в коридоре явилась тетя Оля и стояла в растерянности, глядя на разъяренную гостью и на потерянного племянника, которые пять минут назад ворковали как парочка голубков…
— Что случилось? Маргарита, он вас обидел? Да нет, это смешно! Ах ты, Боже мой! Саша, открой ей дверь, нельзя человека насильно удерживать…
Он выполнил приказание, дверь распахнулась, и Марго, в последний раз оглянувшись, окинула парня таким уничтожающим взглядом, что ему захотелось немедленно умереть. Ее каблучки застучали по лестнице, стук их все отдалялся… Сашка вернулся к себе, упал на кровать и зарылся лицом в подушки. Рыдания сотрясали его как девятибалльное землетрясение. На пороге показалась тетя Оля, сокрушенно покачала головой и прикрыла дверь.
Что тут скажешь? — думала она. — Слова ему сейчас не помогут — сперва нужно самому переболеть, пережить эту боль, чтобы потом хоть что-то воспринимать…
Сумерки давно растворились во тьме, вечер усыпал Москву свежим снежком, тот похрустывал под ногами прохожих, овевал их усталые лица легкими ласковыми дуновениями… Хорошо в этот зимний вечер было в Москве! Но Сашка ни о чем подобном не знал, он ничком лежал на кровати, острый приступ отчаяния сменился тупым безнадежным оцепенением. Все кончено! Марго не простит его. Что ж, может, это и справедливо. Он догадывался, что за содеянное зло рано или поздно придется платить — не зря же об этом пишут в его любимых книжках… Только он не думал, что это когда-то коснется его, точно весь мир подчиняется определенным законам, а он какой-то особенный, и у него в жизни все будет иначе… Голова словно бы налилась свинцом, мысли еле ворочались… он почувствовал что засыпает.
— Э, нет, так не пойдет! — Сашка заставил себя подняться, свесил ноги с кровати. — Спать нельзя. Она сейчас, конечно, не спит — ещё рано, но потом… потом этот кошмар повторится. Что же делать? — глаза его одичало блуждали по комнате. — А что, если? Да, это единственный выход!
Он вскочил, кинулся в коридор и стал одеваться.
— Ты куда это на ночь глядя? — преградила дорогу тетка.
— Тетя Оль, я к Борису Ефимовичу. Вы покормите вороненка?
— А чем ты его кормишь?
— Ну, дайте ему хлеба, размоченного в молоке. И прямо в клюв запихайте, поглубже. Я недолго. Туда и обратно.
— Ну, смотри… — с сомнением оглядела его тетя Оля. — Я надеюсь, ты ничего такого не выкинешь? Размолвки с девушками — это, брат, обычное дело! Только вот у тебя, похоже, это первый опыт. Не кисни, слышишь? Утро вечера мудренее…
— Хорошо-о-о! — крикнул Сашка, сбегая по лестнице.
Он устремился к «Тверской». Да, письмо! Купил в киоске «Союзпечати» конверт с маркой, нацарапал адрес, который выучил наизусть, выудил из кармана свое послание, сунул в конверт, заклеил его и опустил в почтовый ящик возле метро.
Дело сделано!
Глава 11 ОТЕЦ ВАЛЕНТИН
Знакомая тихая улочка, спящие под снегом дома… и только в одном впереди горит свет. Значит, старик дома. Сашка решил не звонить и поехал к нему наугад, чтобы не спугнуть свою отчаянную решимость: рассказать все как есть! Он шел, стараясь не думать, что его ждет, и всю дорогу боялся, что вот-вот не выдержит, повернет назад: очень уж нелегкое это испытание — во всем признаваться!
Поднялся на крыльцо, постучал… в прихожей послышались шаркающие шаги. Дверь отворилась.
— Саша? Какой сюрприз! Что-то случилось? — Старик пропустил его внутрь.
— Я… Борис Ефимович, мне нужно с вами поговорить. Я не помешал?
— Что ты, что ты… Как раз собирался чай пить, а вдвоем веселей. Только подагра моя разыгралась — еле ноги волочу, так что ты не обращай внимания.
Он потащился в комнату, едва переставляя ноги, поясница была обмотана шерстяным шарфом. Чайник кипел вовсю, старик достал из буфета ещё одну чашку. Разлил чай.
— Ну, выкладывай, что у тебя стряслось! — на Сашку уставились темные стекла очков, и под этим неживым взглядом ему в который раз стало не по себе…
— Борис Ефимович, я… — у него перехватило дыхание, Саня задохнулся, умолк и уставился в пол.
— Ну-ну, не надо так волноваться, все хорошо, — старый художник положил свою ладонь поверх его и слегка похлопал. — Что бы ни было, во всем можно разобраться. Ты ведь за этим и пришел, так?
— Угу, — Сашка заставил себя поднять голову и взглянуть прямо в темные стекла, отсвечивающие в неярком свете боковой лампы. — Борис Ефимович, это из-за меня… это я тогда напал на вас на Спиридоновке. И зонтик стащил… только это как-то так вышло… я не хотел! Я не знаю… — он совсем смешался, закрыл лицо руками, вскочил и выбежал из комнаты.
Бросился к вешалке, схватил куртку, шапку, стал лихорадочно одеваться… потом остановился и очень медленно повесил свои вещи на прежнее место. Так не годится! Нельзя сейчас так позорно сбежать… Он вернулся в комнату.
— Простите меня… пожалуйста! — парень стоял на пороге, не смея приблизиться к старику. — Я знаю, что такое не прощают! Вы меня прогоните вон… это будет правильно, справедливо. Я заслужил. А вообще… со мной происходит что-то ужасное, даже не знаю, как рассказать… Но я понимаю, вам меня слушать противно, я уйду… Простите меня, если сможете… мне очень жаль.
— Ты молодец! — очень тихим голосом проговорил старик и повторил, молодец! Я знал об этом. Понял, что это ты. Хоть тогда, в тот вечер, так лило, что ни зги не видать, и теперь я почти слепой, но внутренний глаз художника все фиксирует: силуэт, манеру, походку… Я ведь говорил, что нутром чую цвет, а людей с тех пор стал чувствовать ещё лучше. И тебя… Я ждал, что ты наберешься храбрости и признаешься. Я надеялся… Мне казалось, это в твоем характере — рано или поздно не выдержишь. Понимаешь, важно, что сам решился, без всякого давления со стороны. Просто по зову совести. Это значит, ты искупил вину… если хочешь, стал мужиком! Это ведь, наверно, самое трудное — в грехе сознаваться. А я… что ж, я давно научился принимать все, что бы ни было послано, — любую болезнь, несчастье… Это ведь испытание. За него благодарить надо Господа, а иначе душу не выправишь, не выметешь из неё всякий сор. Нет, именно благодаря таким испытаниям человек сильнее становится и может избавиться от иллюзий. И себя в истинном свете увидеть, и на мир взглянуть… так что, считай, я тебе благодарен!
— Но как же вы… как же могли все это время возиться со мной и… я не знаю! — Сашка так взволновался, что, кажется, готов был из себя выпрыгнуть, — вытаращил глаза и дышал тяжело, точно преодолел стометровку. Он ожидал всего, только не этих ободряющих и смиренных слов старика… Как вы вообще могли это вытерпеть?!
— Э, мальчик, старость — это дело такое… Если не научишься к старости прощать и терпеть, обида подточит тебя изнутри, обида на весь белый свет, на молодых, у которых вся жизнь впереди… Она разъедает душу, рвет тебя на куски, а потом в щепы разнесет, как какую утлую лодочку! Нет, если старый не умеет видеть и понимать людей, грош цена! Тогда и незачем землю коптить… Ладно, это все словеса! Поедем дальше… Что с тобой происходит? Я же вижу — в последнее время ты как на иголках!
И Сашка рассказал своему учителю все, что с ним произошло с того самого дня, как впервые пересеклись их пути. Торопясь, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, он поведал о мечтах своих глупых, о маме, о том, что с ней стало, о бронзовом идоле и о своих обещаниях душу продать… О том, что значила для него Маргарита, о тетке и письме к незнакомому человеку, который, сам об этом не зная, был его отцом… о своих жутких снах и о том, как помимо воли он стал угрозой жизни Марго… Старик молча слушал, опустив голову и не глядя на своего собеседника, чтоб не сбивать его пугающим видом своих темных очков. Когда Сашка умолк и сник, выжатый как лимон этим рассказом, старик снова похлопал его по руке, помолчал… потом поднялся, раскрыл дверцы буфета, извлек бутылочку коньяку, поглядел на нее…
— Да, без рюмки тут не обойдешься! — изрек он, оборачиваясь к своему притихшему ученику. — Плеснуть капельку?
— Да я… — засмущался тот.
— Что, не пробовал? Ничего, по такому случаю можно… — он добыл две серебряных рюмочки, разлил в них коньяк, поднял рюмку. — Ну, за наше здоровье! — залпом опрокинул её, крякнул, снова поднялся, подошел к тумбочке с телефоном, снял трубку и набрал номер.
— Отец Валентин? Да, я. Ничего, скрипим потихоньку. Батюшка, я к вам с просьбой. Не могли бы ко мне подъехать, тут у меня… Да, дело довольно срочное! Понимаю, что обнаглел, вы уже отдыхаете… Еще нет? А когда назад в Раменское? Ага, понятно. Тогда, батюшка, как бы все-таки повидаться сегодня, вопрос-то нешуточный. Чаем напоим и ещё чего получше найдется… Двое нас, я и молодой отрок! Ах, как хорошо, вот спасибо! Ждем. Да! Ждем с нетерпением. Приедет! — бросил он Сане через плечо, кладя трубку.
— Кто приедет? — тот, подражая Борису Ефимовичу, тоже залпом выпил коньяк и сидел, чувствуя как горячая волна растекается по всему телу, как разом спало напряжение и потеплела душа.
— Отец Валентин, любимый мой человек! Он священник. Живет здесь, в Москве, а приход у него в Раменском, точнее сказать, в Быково — это километрах в тридцати под Москвой. А храм у него — фантастический, не храм, а волшебный сон! Один из последних шедевров Баженова. Ну, ты увидишь…
— Да? — удивился Саня, — а когда?
— Когда батюшка скажет. Он минуточек через сорок появится. Эх ты, надо бы его чем-то вкусненьким угостить, а у меня как на грех… Ага, постой-ка… мука есть, сахар и яйца, яблоки… испечем шарлотку! Давай-ка, отрок, за мной! Почистишь яблоки, а потом картошечку — вот тебе фартук, нож и продукт! Так… ну, благословясь…
Борис Ефимович заметно оживился и ринулся в маленькую кухню, также как и все комнаты в доме, скрытую за занавеской. Только эта в отличие от других была из яркой веселенькой льняной ткани, расцвеченной зелеными и красными огурцами и помидорами по синему полю… Саня направился вслед за хозяином и принялся чистить яблоки под аккомпанемент арии Тореадора, которую тот довольно лихо насвистывал. Старик как будто напрочь забыл обо всем, хотя в первые минуты услышанное явно здорово его ошарашило…
«Ну, и самообладание! — поразился Сашка, в который раз восторгаясь своим учителем. — Свистит себе, как ни в чем не бывало. А перед ним стоит чудище, готовое съесть племянницу, которое довело его до слепоты… стоит себе и яблоки чистит! Вот это человек!»
Раздался телефонный звонок, старик отряхнул руки, испачканные в муке, вытер их полотенцем и, шаркая шлепанцами, заспешил к телефону.
— Да, я слушаю! А-а-а, Оленька, рад тебя слышать! Ага… ага… так! Да, понимаю. Похоже на то… Самое интересное, что я только что ему позвонил. Да, представь! Едет. А по какому поводу? — он покосился на Сашку, тот сделал страшные глаза, и старик жестом успокоил его и приложил палец к губам: мол, не волнуйся, не выдам! — Да, видишь ли, есть у меня нужда. Совсем в грехе закоснел твой старикан! А серьезно… ну, нужно по делу одному посоветоваться. Дело тонкое и без батюшкиного благословения не знаю, как к нему подступиться… Да, понял, скажу. И попрошу, — не беспокойся. Да, понял я, понял! Как можно скорее, да… Хорошо, Оленька, как будет какая-то ясность, перезвоню. Сразу же. Ну, целую… — он положил трубку, налил себе коньяку, выпил и зажевал яблоком.
— Моя тетя? — догадался Саня.
— Она самая. О маме твоей беспокоится. Передала в двух словах приблизительно то же, что ты мне говорил. Только со своим комментарием. Просит помочь ей связаться с батюшкой. Да-а-а, ну, ребята, вы и влипли в историю! — он невесело хмыкнул, дернул головой и принялся мешать тесто. Но ты не дрейфь, мужик, раз батюшка взялся помочь, все будет в полном порядке, это я тебе обещаю!
— Борис Ефимович… — осмелел Сашка, — а, как вы думаете, отчего это… ну, все, что произошло? И как это может быть, что во мне будто кто-то другой поселился?
— О, дружок, не думаю, что смогу ответить. Знаю только, хоть это тебя и не слишком утешит, что мы все как бы раздвоены, в каждом есть свет и тьма. Нам всем нужна помощь, всем! Слишком много в нынешнем мире зла… Впрочем так оно всегда было: человек обречен на борьбу с собой. Он должен всю жизнь расчищать завалы в своей душе, если так можно выразиться… ну, ты понимаешь. Чистить, драить себя, искупать зло, которое совершил, вольно или невольно… На то нам жизнь и дана. Но про это тебе батюшка лучше моего объяснит. А почему именно с тобой? Думаю, ты боялся. Боялся будущего: что не сумеешь стать мужиком, что не сможешь чего-то добиться… это страх подсознательный, скрытый, но от этого ещё больше давящий. Страх — жуткая сила, он раскрывает двери, за которыми — тьма… И тот, кто крадется во тьме, только и ждет, чтоб ему приоткрыли, чтоб пустили в святая святых — в свою душу… Демоны питаются нами. Нашим живым огнем — мыслями, чувствами…
— И я впустил?
— Похоже на то… И, конечно, мама твоя, не желая того, сильно страху твоему разрастись помогла. Тебе нужно было поговорить с ней, попытаться что-то объяснить… Но чего ж после драки руками махать — теперь биться надо. Всерьез! О! — он вздел кверху указательный палец, когда в дверь постучали. — Отец Валентин!
— Не слышу приветственных кликов! — густым звучным басом провозгласил вошедший. — Борис, ты не прав!
Это был очень крупный рослый человек с живым выразительным лицом, густой рыжеватой бородой и смеющимися зелеными глазами. Если бы не выступающий под толстым свитером обширный животик, он бы всей своей статью походил на былинного богатыря. Поглаживая концы свисавшего на грудь шарфа, он пропел звучным хорошо поставленным голосом:
— Я-аа себя-а-а под Ле-е-ниным чи-и-щу-у, чтобы плы-ы-ыть под Ле-ениным да-альш-е-э-э… — ну как? Сойдет для Бродвея?
— Что это, батюшка? — сдерживая смех, вопросил Борис Ефимович. Как видно, он привык к розыгрышам и шуткам, с которыми являлся к нему старый друг.
— Это? «Рок опера: Владимир Ленин — супер-Сталин»! Стихи Маяковского, музыка моя!
— Рок-опера? И где же исполнять будут?
— На Бродвее само собой, это будет мировая премьера! Друг мой, ты отстал от жизни, я это произведение уже второй год сочиняю…
— Ах, простите, батюшка, не знал. Пройдемте в комнату.
— Пройде-е-емте, пройде-е-мте, дру-у-у-зья-а-а-а! — отец Валентин привстал на цыпочки и легко закружился, как балерина, взмахивая руками на манер умирающего лебедя… Надо сказать, что его грации всерьез позавидовал бы не один профессиональный танцовщик… — Только, Боря, ты, видимо, недопонял: не рок-опера, а «Рок опера» — это название такое, означает тяжкую судьбу, предопределение, выпавшее несчастному оперу… ну, то есть, энкеведешнику.
Он вплыл в комнату, ахнул при виде накрытого стола, который хозяин успел украсить тонко нарезанным сыром и ветчиной, поданными на голубом блюде Кузнецовского фарфора, на дымящуюся картошечку, сбрызнутую маслом и посыпанную зеленью, на тонко нарезанные подрумяненные в тостере ломти белого хлеба, влажную селедочку, украшенную кружочками лука… В центре стола горели две красных свечи в бронзовых начищенных до блеска подсвечниках, а между ними примостилась уже знакомая початая бутылка коньяка, запотевшая «Праздничная» водка и две бутылки «Боржоми». Да, хозяин постарался на славу!
— Друзья мои, это же настоящий пир! А по какому поводу? - поинтересовался отец Валентин, принюхиваясь к запахам, доносящимся с кухни. — Неужели… нет, быть не может, — моя любимая шарлотка!
— Она самая! — разулыбался Борис Ефимович. С появлением отца Валентина, он словно помолодел, расцвел, перестал шаркать домашними туфлями — у него как будто сил втрое прибавилось… — А пир в вашу честь, батюшка! Давненько не имел чести принимать столь дорогого гостя.
— Ах! — взвел очи горе отец Валентин. — Я смущен!
Гостя усадили на почетное место во главе стола, но тот прежде стал перед иконой Спасителя, которую Сашка только теперь приметил, пропел «Отче наш» и благословил яства и питье.
— Батюшка, водочки или коньячку? — склонился над ним радушный хозяин.
— Спасибо, мне бы «Боржомчику»…
— Как, вы мне компанию не составите? — расстроился тот.
— Не в последний раз, Боренька, — он тут же перевел разговор на другую тему. — Ты меня с юным другом своим не познакомил…
— Ах, виноват! — расстроился старый художник, — совсем плохой стал, простите великодушно старого дурня! Батюшка, это мой ученик, причем, заметьте, самый талантливый, Саша Клычков. Племянник Олюшки, вы ведь её помните?
— Как же не помнить… ты меня удивляешь! Ага, значит, самый талантливый? Что ж, очень рад.
Сашка как-то не осмелился присесть и стоял, во все глаза глядя на странного батюшку, который сочиняет оперы для Бродвея и вплывает в комнату в ритме вальса… Потом все же сел, зацепив и едва не опрокинув при этом стул.
— О, какая селедочка! Что, сам ловил? — поинтересовался батюшка у хозяина, который между тем, налил себе рюмочку водки, торжественно поднял её, отставив локоть и, по всей видимости, готовясь произнести тост.
— Батюшка, вы путаете, я в молодости куропаток стрелял, ну, там, всяких перепелов… А рыбная ловля — не моя стихия!
— Не твоя? А, значит я перепутал, прости! Так, за что пьем?
— Батюшка, а может все-таки рюмочку? Такую ма-а-аленькую, а?
— Нет, дорогой мой, я за рулем!
— Так вы же иной раз — и когда за рулем… — не унимался хозяин.
— Боря, мы собрались не за этим. — Отец Валентин вмиг посерьезнел, отрицательно покачал головой, выражение сладкого довольства разом слетело с его лица, и лицо это тотчас сделалось таким серьезным и строгим, а перемена была так разительна, что у Сашки просто челюсть отвисла. Он впервые видел столь необычного человека!
— Давайте все-таки перейдем к тому, ради чего я приехал. Саша, пожалуйста, расскажите мне все, что вас тревожит. И не волнуйтесь, думаю, мы со всем справимся!
Ободренный этим густым бархатным голосом, этой доверительной мягкой манерой и пристальным теплым взглядом ясных зеленоватых глаз, Саня начал говорить, проговорил с полчаса, всхлипнул, вскочил, отвернулся, уселся на место… и ему стало легче.
— Да… — задумался отец Валентин. — Ситуация не простая. Думаю, мы сделаем вот что… Только прежде скажите мне, Саша, вы крещенный?
— Я не знаю, — стушевался тот. — Надо у мамы спросить…
— Ну, это мы выясним. А если нет, вы согласны креститься?
— Согласен! — с готовностью кивнул Сашка.
— Скажите, готовы ли вы всецело предать себя Христу, Господу нашему? Готовы отречься от тех своих слов, которые произнесли в запальчивости и по неразумию?
— Да, да, конечно! — от волнения Саня опять вскочил.
— Хорошо. Тогда завтра жду вас с Борисом у себя в церкви. Боря, ты помнишь, как ехать?
— Естественно! — закивал тот.
— Выясните, крещен ли Александр, а если нет, нужно чистую рубашечку, полотенце… ну, и попоститесь хотя бы немного — с утра ничего не пить и не есть! Завтра нам предстоит очень важный и сложный обряд, и я попрошу вас к нему со всей серьезностью подготовиться. Боря, ты понимаешь, о каком обряде речь? — тот снова кивнул. — Тогда помоги Саше, объясни ему, что завтра произойдет. Почитайте с ним на ночь Евангелие… да, Саша, вы понимаете, что спать вам нельзя?
— Да, конечно, я понимаю, — Саня весь вытянулся в струну, как солдат перед маршалом. — Отец Валентин, а можно спросить?
— Слушаю вас.
— Я вот все думал… а что такое красота?
— Красота… Для меня она в промысле Божьем. Мир сотворен так, что все мы, часто того не осознавая, помогаем друг другу… иногда даже творя зло. Да, представь, — отец Валентин улыбнулся мягкой, немного грустной улыбкой, — из зла часто родится добро, хоть это и не просто понять. Ну вот, к примеру: ты видел, как эти ребята из твоего двора избивали бомжа… они содеяли зло?
— Конечно! — кивнул удивленный Сашка — он не понимал, к чему клонит батюшка.
— Но тебе они помогли. Для тебя этот ужас обернулся добром.
— Как это? — совсем растерялся парень.
— Ну, сам посуди: став свидетелем этой чудовищной и бессмысленной бойни, ты понял, что сам вот-вот им уподобишься… И испугался ты не их, а себя. Они как бы раскрыли тебе глаза, помогли вовремя очнутся, одуматься… И ты нашел силы признаться во всем своему учителю и попросить прощения. А там, где прощение — там любовь. Она все лечит — все раны, и душевные, и физические… Так сотворен мир по промыслу Божию. И в этом — его красота! А оказался ты в том дворе совсем не случайно — только слепцы все приписывают простой игре случая… но не в том суть. Тебя вел твой ангел-хранитель! Тебя вела жизнь, которая — сама — есть самый верный и великий учитель! Только надо хотеть у неё учиться. Для этого она и дана. А учеба — это постоянный пересмотр своих, чаще всего ошибочных и субъективных, представлений о себе и других. Это бесконечная перемена, творчество, когда каждый из нас старается изжить в себе зло, помогая себе и другим. И первый шаг на этом пути — прощение. Ты не только должен у Господа и у других прощенья просить, но простить и сам — маму, своих одноклассников, самого себя… Да, у себя попросить прощенья, у бессмертной души своей! Ведь своими обидами на всех и вся, своим страхом ты мешал ей стать свободной и сильной. Душа крепнет, растет, если человек старается измениться, а не смакует свои обиды и страх… И еще. Не думай, что Господь любит кого-то сильнее — Он любит нас всех такими, какие мы есть, потому что каждый — Его дитя, и у каждого есть возможность перемениться. В любом есть хорошее… и в Димоне, и в том несчастном бомже — во всех! Просто люди не видят со стороны, что творят, и во всем ищут себе оправдание, вместо того, чтобы попытаться понять других и разобраться в себе…. Для многих это заканчивается трагически. И я всей душой рад за тебя, ты очнулся. И получается, что тьма в который раз останется с носом! Ведь вместо того, чтобы полностью поглотить твою душу, она дала ей толчок к пробуждению!
Сашка сидел, совершенно сраженный услышанным. У него в голове не укладывалось, как это может быть, что мерзавец, злодей самим своим фактом существования может кому-то помочь, а Господь любит самого последнего так же как первого. Что для него вовсе не все потеряно, наоборот: все только начинается! И трудная правда, заключенная в словах отца Валентина, постепенно пробивалась к его душе, питая ее…
— Ну, дорогие мои, прощаюсь с вами, завтра у тебя, Саша, трудный день — великое дело тебе предстоит. И не скрываю, опасное. Всякое может быть… Но с Божьей помощью мы победим! — Он поднялся. — Жду вас завтра, храни вас Бог…
Он благословил своего старого друга, благословил и Сашу, ещё раз попрощался и скрылся в синеве ночи. А эти двое, прибрали со стола, помыли посуду и начали долгий и трудный разговор: Борис Евгеньевич знакомил ученика с азами православия, объяснял, как ведут себя в храме, — он готовил его к посвящению…
Глава 12 ОСВОБОЖДЕНИЕ
На следующий день ранним утром Борис Ефимович с Сашей подъезжали к подмосковному местечку Быково — добирались сначала на метро до станции «Выхино», потом на автобусе, и, наконец, пешком до церкви. И вот она церковь Владимирской Божьей Матери, творение великого Баженова — стройная, устремленная к небесам, вся какая-то невероятно легкая и изящная, с остроконечными резными башенками, окружавшими крытые медью луковки-главы, с двумя лестницами, плавным полукругом восходящими над центральным входом в нижний храм к верхнему, ещё не действующему…
Сашку всю дорогу трясло, он впервые должен был переступить порог храма. Накануне Борис Ефимович созвонился с тетей Олей, и та выяснила у матери, что Сашка не был крещен. Так что ему предстояло креститься, а потом… страшно даже подумать — батюшка должен был совершить над ним обряд экзорцизма — изгнания дьявола! Тетка его успокоила, мол, ничего не бойся, отец Валентин — очень сильный священник, а иной бы за такое дело и не взялся… Матери она объяснила, что сын не ночует дома не по собственной прихоти…
Началась утренняя служба. Батюшку было не узнать — он стоял перед паствой в полном облачении, совершенно преобразившийся, а его пристальный проникновенный взгляд, казалось, каждого прихожанина видит насквозь. Под этим взглядом какой-то благоговейный трепет охватывал… а от лица его, в котором угадывалась воля и сила духа, нельзя было оторваться.
Саня в длинной белой рубашке, купленной здесь же, в церкви, стоял перед купелью ни жив ни мертв. Старый учитель был крестным отцом, крестной матери не было… И едва священник густым басом запел молитву, парня забил сильнейший озноб, все его тело тряслось как в лихорадке. Потом начались судороги… Крестный вместе с двумя дьяконами, едва удерживали крещаемого он вырывался, брыкался, при этом глаза его утратили осмысленное выражение и дико блуждали. Когда святая вода купели омыла ему лицо, он задохнулся, потом как-то весь ослабел и почти повис на руках, поддерживавших его. Обряд совершился. Потом его причастили и усадили на лавку у стены, чтобы немного передохнул. Саня сидел, прислонясь спиною к стене, и на губах его оживала несмелая улыбка. Он пытался вчувствоваться в то, что с ним происходит — это было что-то настолько новое, важное, что он не мог описать этих своих ощущений, и только одно слово — «таинство» — хоть сколько-то передавало то блаженство, которое он испытывал… Но главное было ещё впереди, и сердце билось тревожно. Дух тьмы, который таился в нем, присмирел, но не сдался. Предстоял решающий бой!
А отец Валентин, немного передохнув, велел запереть двери — никого, кроме главных действующих лиц, при таком обряде в храме быть не должно — он слишком опасен! Вновь появился батюшка — все время, пока Александр приходил в себя, он молился в алтаре.
— Свечечки зажгите, — вполголоса указал он, — отец Димитрий и вы, отец Иоанн, держите его под руки, крепко держите! — вместе с отцом Валентином настоятелем храма, в обряде участвовали ещё двое священников.
Батюшка запел молитву, затрепетало пламя свечей, звякала коротким хрустящим звуком кадильница, источавшая густой запах ладана… Саша снова задвигался, забеспокоился, потом изогнулся дугой… и вдруг яростный звериный рык разорвал ему рот!
— Держите его! — приказал священник. — Крепче держите! — а сам продолжал громко и вдохновенно читать молитву. Потом скрылся в алтаре и вышел, неся чашу со святой водой, лжицу и евхаристическое копие. Он окропил безумца святой водой, — тот с неистовой силой рвался из рук, — священники и дьяконы кольцом окружили их, скрыли от мира… Саня ничего в этот миг не чувствовал, не соображал — из него вырывался бешеный звериный рык, потом вой, в горле заклокотало, забулькало… Старый художник схватился руками за голову, упал на колени… он не мог слышать этот нечеловеческий рев, который, кажется, сотрясал стены храма.
Обряд продолжался, там, за спинами священства происходило что-то великое, важное, и смысла этого таинства не мог бы вместить ни один из непосвященных. Что-то звякнуло, потом дикий крик разорвал тишину.
— Нее-е-ет! — вопил несчастный не своим голосом. — Не-ет, не-е-ет!
Он упал. А на стене храма — напротив, в левом приделе, вдруг возникла громадная черная тень. Она двигалась вдоль стены — двигалась к выходу, и это бесшумное скользящее продвижение бесплотного существа было самым жутким кошмаром, который кому-либо из тех, кто это видел, довелось пережить… Все боялись пошевельнуться, пока тень не исчезла, просочившись сквозь запертую дверь. Дверь при этом сотрясалась как от мощнейших ударов, потом все снова стихло.
Демон покинул свое пристанище навсегда!
— Помолимся во славу Господа нашего! — отец Валентин кивнул с облегчением, на лбу его выступил пот.
А Саша без чувств лежал на каменном холодном полу, бледный как смерть… Его подняли под руки, повлекли, усадили… он медленно стал возвращаться к жизни.
Вечером, когда измученный парень выспался в церковном доме при храме, а потом поел, — так набросился на еду, точно его сто лет не кормили! — отец Валентин пошел проводить их: старого друга и подростка, ставшего его духовным чадом.
— Ну, дорогие мои, слава Богу! Еще раз поздравляю тебя, Саша, ты молодец — выстоял. Жду вас через неделю, первое время тебе причащаться нужно как можно чаще, чтоб силы духовные нарастали и крепли. А, как матушка твоя будет готова, жду её. С этим тянуть нельзя — ей помощь нужна как можно скорее! А пока, как и договорились, ты, Борис, Сашу у себя приютишь нельзя, чтобы он был теперь рядом с матерью — он ведь ещё не настолько окреп, чтобы бесу, который вселился в нее, противостоять… Ну, с Богом!
Крестный с крестником сели в машину, — отец Иоанн любезно предложил подвезти их до города, — и они махали рукой, пока видна была у церковных ворот высокая крепкая фигура священника. Он стоял, как истинный былинный богатырь у врат крепости, ветер играл подолом его черной рясы, на усталом лице светилась улыбка. Он победил!
— Дядя Боря, — теперь, когда учитель стал его крестным, Саня звал его так, — мне бы только на минуточку домой заглянуть… на маму взглянуть и забрать вороненка.
— Лучше бы этого не делать, — на секунду обернулся к ним отец Иоанн. По крайней мере, сегодня. Тетя может потом вороненка тебе передать.
— Я на минуточку, ну пожалуйста, сегодня такой день! — глаза Сашки сияли. Он и впрямь будто родился заново, и казалось, это не он так сияет это его душа…
— Хорошо, но только на минутку, — согласился крестный. — Высадите нас, пожалуйста, на Тверской, вон там, у перехода, дальше мы уж сами доберемся.
Они поблагодарили священника, тепло распрощались и тронулись к Сашкиному дому. Дядя Боря сказал, что заглянет по пути в продовольственный — нужно было кое-чего подкупить, и потом подождет Саню на лавочке во дворе — он знал адрес. И Саня, как на крыльях, полетел домой. Он бежал и с удивлением замечал, какими легкими и быстрыми стали ноги, как радостно было двигаться, жить, дышать… жизнь приняла его! И свобода — желанная, ясная как рассвет, улыбалась ему. Он впервые понял, что такое тот внутренний свет, о котором говорил учитель истории. Он — как живая вода! И Сашка пил эту воду, прихлебывал жизнь маленькими глотками, боясь потревожить, расплескать благодать, которую нес в себе.
У подъезда тусовалась компания вдрызг пьяных подростков. Димон! С ним двое из тех, что были тогда у голубятни: прыщавый и широкоплечий в бейсболке. Саня было приостановился, но решил, что негоже бояться — он победил свой страх, он свободен! И силы, которыми его Бог наградил, казалось, они безграничны! Что ему теперь до каких-то недоумков, насосавшихся пива?! Он решительно двинул вперед.
— О-о-о, какие лю-ю-юди! — протянул сквозь зубы Димон и сплюнул соседу под ноги.
— Пропусти! — негромко и твердо сказал ему Саня.
— Шо вы гврите? — выказал деланное изумление Димон. — Слышь, Косой, эта тля, кажется, че-то вякает? А ну-ка, объясни ему… и попонятней.
Парень в бейсболке, гнусно загоготал, размахнулся недопитой бутылкой пива… и мир взорвался в голове Сашки горячими брызгами… Пивная бутылка, рухнувшая с налету ему на голову, разлетелась в куски. Сашка упал на ступени перед подъездом, и темная дымящаяся лужица крови стала медленно растекаться возле виска.
— Саша! Са-а-а-ша-а-а! — послышался чей-то крик.
Борис Ефимович бежал к нему со всех ног… но он опоздал. Парней тотчас как ветром сдуло.
* * *
Саша очнулся. Кругом все белым-бело… Снег? Он лежит на снегу? Нет, это не снег… стены… белые стены. Он попробовал пошевелиться — не смог. Кровать? Да, он лежит на кровати. Как все смутно, зыбко, точно мир движется в замедленной съемке, кажется, она называется «рапид»… Да, рапид! А там, в углу…
— Саша! — какой-то незнакомый большой человек поднялся со стула, кинулся к нему, выронив книгу… — Сашенька, ты очнулся!
Он поморгал, стараясь вернуть зрению четкость, не помогло. Все плыло, двоилось… незнакомый грузный пожилой человек склонился над ним, коснулся рукой лица… Что-то знакомое… где он его видал?
— Саша, сынок! — человек зарыдал, не сдерживаясь и не стесняясь слез. — Я твой отец!
Прошло почти полгода с того дня, как Александр заново родился в подмосковном местечке Быково, в церкви Владимирской Божьей Матери, а потом упал замертво на крыльце своего дома. Полгода он провел в коме, врачи не надеялись, что сознание вернется к нему… Отец Валентин служил молебны о здравии новообращенного христианина, он помог его матери освободиться от дьявольского наваждения, проведя и над нею такой же обряд… Зима сменилась весной, теперь стоял май, буйный, цветущий… А в феврале в дверь осиротевшей квартиры на улице Остужева позвонили. Лариса Борисовна открыла… на пороге стоял Ашот. Она вскрикнула, зашаталась… он её подхватил.
— Наш сын написал мне! Лара, почему не сказала? — только-то и спросил… потом слушал её рассказ, сидя на кухне, и мандарины, которые он привез, бесшумно выкатывались из накренившейся сумки и разбегались по вытертому линолеуму…
А потом Ашот дни и ночи проводил возле больничной койки. Его сменяла Лара, осунувшаяся, поседевшая… и в то же время другая, новая. Точно какая-то невидимая пружинка в ней распрямилась! Она верила, что сын выздоровеет, иначе и быть не могло! Дуремара она забрала к себе — пусть Саша порадуется, когда вернется домой… Ашот приехал дня на два, а остался… он не думал: надолго ли, навсегда — жизнь покажет. Происшедшее с сыном словно раскрыло ему глаза. Как он жил, чем? Плыл по жизни как пустой бумажный кораблик — без семьи, без детей… А он был так нужен здесь! Лара не виновата — страх быть отвергнутой помешал ей сказать ему, что ждет ребенка… Точно так же, как он боялся брака, ответственности… Страх оказался сильнее их, сильнее всего — и вот плоды этой победы: разбитые, искалеченные жизни! Но теперь эти двое — крепко побитые, потертые, постаревшие — смогли победить свои страхи. И многое поняли. Что ж, лучше поздно, чем никогда! Каждое воскресенье они ездили в храм к отцу Валентину, часто к ним присоединялись Ольга и Борис Ефимович. Все вместе они горячо, всем сердцем молились, чтобы Сашка выкарабкался, вернулся… И старались не думать, что исход может быть совсем иным… Ведь у него была тяжелейшая черепно-мозговая травма, врачи сделали две операции и считали, что обе прошли успешно. Оставалось ждать, верить, любить, надеяться… И они делали это!
И вот… Саня пошире раскрыл глаза… слабая улыбка тронула его губы… Он все вспомнил. Он узнал!
— О-тец… — шелест лепестков под ветром, кажется, был бы слышней, но Ашот услышал.
— Сашка, сынок! Сейчас мама придет! Как она обрадуется! Молодец, какой же ты молодец, я знал, я верил в тебя…
Май проплывал за окном в теплом мареве цвета и света. Жизнь возвращалась к больному парню. И хотя тело его ещё было слабым и немощным и позабыло, что мышцы умеют сокращаться, а ноги — ходить, но душа… она сразу стала набирать силу. Душа оживала первой!
* * *
В середине осени — в октябре, когда ветер ворожил опавшими листьями, Саня, вытянувшийся, бледный, худой, стоял перед оркестровой ямой Большого театра с большущим букетом в руках. Только что упал занавес и зал потонул в аплодисментах — спектакль закончен, — блестящий спектакль! — «Щелкунчик» с юной восходящей звездой в главной роли…
Вот она, Маргарита Березина, только что вызвавшая слезы на глазах не у одних лишь сентиментальных дам, но у тех, кто видал самых великих звезд этой сцены, — балетоманов, не пропускавших ни одну премьеру… Стоит, счастливая, кланяется!
«Как хороша!» — слышится со всех сторон.
«Кто это там, у рампы? — Марго заметила стройного худощавого юношу, который стоял, не сводя с неё глаз, и прижимал к груди букет золотых хризантем… — Странный какой, он будто о цветах позабыл! Ба, да у него слезы… их он тоже не замечает — текут по щекам! Надо же… а взгляд-то какой! Да, кто ж это? Интересно…»
Его черты показались ей странно знакомыми, где-то она его видела… может, во сне?




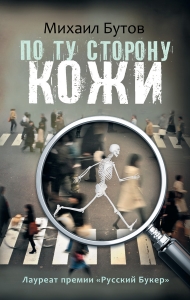


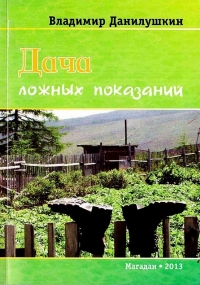



Комментарии к книге «Химеры», Елена Константиновна Ткач
Всего 0 комментариев