Фригийские васильки
Георгий Семенов
Посвящается Е. С.
Он проснулся по обыкновению очень рано и, как всегда, с ясной головой, с ощущением праздности, с чувством пронзительного наслаждения, какое накатывало на него, если он просыпался в загородном доме матери.
Но, не успев еще открыть глаза, тут же все мгновенно вспомнил, вмиг ужаснулся, и в его отяжелевшей вдруг и пульсирующей голове вновь раздался тревожный грохот ресторанного оркестра, бранные крики, которыми он старался перекрыть адские ритмы взбесившегося барабана, увидел опять растянутые в смехе пьяные рожи и в какой-то предсмертной тоске, навалившейся на него, увидел и себя среди них, тоже пьяного и тоже отвратительного, хвастливого, каким уже давно не помнил себя. Со стыком увидел всезнающую ухмылку послушной официантки, бесшумно открывающей шампанское, которое не стреляло, а словно бы только вспыхивало внутренним огнем, и тут же гасло в легком туманчике испарений, и пенилось, пенилось, дурманя голову.
Загул этот случился в ресторане гостиницы «Киевская»... Почему именно там? Ах, да, его пригласил туда старый приятель, остановившийся в этой гостинице, добрый Сережка... Боже мой! Светловидов Сережа...
Нить постепенно распутывалась, и он, цепенея от ужаса, наконец-то вспомнил главное и, еще не представляя размеров того несчастья, какое приключилось с ним вчера, с утробным стоном понял вдруг, что рядом с ним в постели лежит юное существо, лежит спящая женщина, которую он вчера — о ужас! — уговорил выйти за себя замуж.
То, что он ощущал в эти минуты, легче всего, наверное, сравнить с кошмарным сном, но лучше, конечно, ни с чем не сравнивать, потому что ничто не могло бы так напугать обомлевшего от страха, распластанного на брачной плахе, щепетпльного и мнительного человека, каким был старший научный сотрудник лаборатории Борис Иванович Краснов.
Семь лет назад он развелся с женой, оставив ей двух сыновей, проклял всех женщин на свете и всерьез занялся наукой, словно бы откладывая жизнь на потом, на те лучшие, как ему казалось, годы, когда он добьется всего задуманного и перед ним откроется истина в образе какой-то яростной свободы души и тела. Он, собственно, и с женой развелся ради этой великой цели, «лег на дно», как он говорил друзьям, ведя аскетический образ жизни. Старшему сыну недавно исполнился двадцать один год, а младшему уже девятнадцать...
А этой, спавшей теперь рядом с ним с приоткрытым во сне маленьким ртом, из-под вздернутой верхней губы которого сухо поблескивали неестественно белые молодые резцы, — этой, наверное, тоже лет двадцать, не больше... Она не ему, а его сыновьям годилась бы в жены!
Он уже убил, растерзал и проклял человека, пригласившего его вчера в свою гнусную нору, который теперь, конечно, спит в сером номере, не подозревая о предательстве, какое он совершил вчера по отношению к старому другу. В воспаленном мозгу проносились страшные мысли, одна преступнее другой, —он готов был убить и эту, имя которой он забыл и которая сладко спала с ним рядом.
Красков вгляделся в ее лицо, в розовую вмятинку на виске, оставленную складкой грубой подушки, в ее тонкие, как паутинка, прилипшие к щеке и к носу волосы, крашеные ресницы и веки и вдруг почувствовал всем телом жар этого спящего и словно бы больного ребенка, проклял себя, стареющего, сивого мужика, который опозорился перед старой матерью, перед другом и, что было странно сознавать ему, той пожилой официанткой, которая вчера стала свидетельницей его падения. Она-то, конечно, все понимала и, в отличие от матери, ничего вчера не понявшей, имела право на самый строгий суд.
А эта — кажется, ее звали Светланой — без тени греха на лице, с какой-то полуулыбкой утомленного ангела жгла его своим младенческим жаром. Легчайшие ее волосы, солнечно-светлые их нити мерно колебались, улавливая неслышное дыхание.
И Краснову захотелось так же легко и неслышно убрать эти волосы с ее лица...
— Прости ты меня, подлеца, — зашептал он вдруг, впадая в безумие и чуть ли не плача, со стоном почувствовал себя кающимся преступником, загубившим человеческую душу. — Прости... Нет такой казни, какая годилась бы для меня, подлеца.
Но мозг его отказывался что-либо сообразить, искать какие-то пути и выходы.
Красков опять припомнил подробности вчерашнего загула... Ах, да! Билет до Одессы! Эта девочка собиралась отдыхать в Одессе, в каком-то пансионате, у нее й путевка туда, и билет на поезд. Был билет. Именно он, негодяй, уговорил ее остаться, продать билет и стать его женой. Но как легко она согласилась! Вокзал рядом. Он схватил этот билет, помчался вниз мимо швейцара и как полоумный влетел в многолюдный зал... До отправления поезда оставалось четыре часа, и у него с руками оторвали этот злосчастный билет, заплатив ему, как спекулянту, на четыре рубля больше... Почему? Ну да, конечно, он спутал число месяца с ценой... Число месяца было ровно на четыре единицы больше... Проклятье!
«Вот это компот! — думал он, глядя в отчаянии на спящую. — Что же мне теперь делать?! Я ведь отлично помню, что она согласилась стать моей женой... Да, да! А этот прэхвост орал даже «горько!». И я целовался с ней там, в этой жути, в этом барабанном грохоте... А как же эта Светлана оказалась за нашим столиком? Мы пришли... А она уже ела какое-то мясо под яичницей... Это я помню... Бутылочка яблочной воды... Нет! Из этого компота надо как-то выбраться сухим. К черту все! К черту... Распустил нюни! Современные девочки — это те еще фруктозы! Чего доброго еще...» — И он содрогнулся опять, но теперь уже от другого ужаса, подумав о проницательном взгляде врача, о своем унижении и стыде. Он даже отодвинулся от этой юной красавицы, которая во сне по-детски сморщилась, дремотно провела рукой по лицу и так почмокала губами, словно бы почувствовала материнскую грудь...
«Боже мой! — взмолился опять Красков. — Что же я наделал! Как я покажусь теперь матери на глаза?! Она, наверное, не спит, бедняга, что ей скажу? Может, и в самом деле жениться? Да. Придется жениться. Один выход — жениться».
И он опять готов был расплакаться, но теперь уже от умиления перед самим собой, пораженный благородством своей души.
«А от матери скрыть всю эту сомнительную историю знакомства, всю скоропалительность, дурость эту наидурейшую, — думал он с надеждой. — Она вчера ничего не поняла: откуда я и с кем... Кажется, я ей сказал, что это моя молодая жена. Кажется, что-то в этом роде... А что! Женюсь-ка я, пожалуй, на ней! Она безбожно молода и красива и, кажется, не глупа».
Краснов даже улыбнулся вдруг, найдя простой и естественный выход из создавшегося положения. Мозг его, как пришпоренный, взвился ввысь, и с этой высоты Краснов лихорадочным взглядом успел окинуть все «за» и «против» такого решения. Мысль о женитьбе так возбудила и обрадовала его, что он уже и на спящую посмотрел совсем другими глазами, увидел в ней что-то такое заманчивое и приятное, чего не видел и не ощущал до сих пор. А мысли одна за другой легко катились с горки, снимая страх и жестокое напряжение с души...
«Конечно, конечно, конечно, — бессмысленно отсчитывал он их торопливое скольжение на каких-то красивых и нарядных саночках... и видел уже эту юную женщину, эту девочку в разукрашенных судьбою своих саночках, ее лицо сияло ему улыбками, опушенное белым мехом... — Ах ты, господи! Конечно, конечно... А если она вдруг раздумает выходить за меня замуж?»
Этот неожиданный вопрос застал его врасплох, и ему даже стало немножко обидно представить себе такое. Но и отказ ее он тоже сразу же учел, решив, что это тоже будет не так уж и плохо, потому что, конечно, он женится, да, по кто ее все-таки знает, что это за человечек... Уж очень много странностей...
И когда он, все еще ужасно возбужденный, осторожно выполз из-под легкого одеяла, а она, так и не проснувшись, отвернулась к стенке, он с заколотившимся сердцем увидел на стуле какие-то кружева, от которых у него вдруг закружилась голова, и он даже пошатнулся, притопнув несколько раз толстой пяткой, чтобы устоять.
«Да, я женился, —сказал он сам себе. —Женился на этой... красавице. Вот она лежит под монм одеялом, на моей кровати — моя жена... Не-ет! Это безумие, конечно! Это черт знает что! Я ведь толком не помню ее имени. Кажется, Светлана, но, может, и не Светлана вовсе... Кому бы рассказать! И главное... Боже мой! У нее ведь родители, наверное, мои ровесники. А ведь придется что-то говорить, объяснять... Нет, невозможно! Вот это компот!» — подумал он и уже с улыбкой взглянул на золотистую массу волос, как йы растекшихся по подушке.
Ему страшно хотелось пить: полость рта и язык одеревенели от жажды. Ведро с водой стояло внизу, на кухне. Босиком, в одних трусах и майке он спустился по лестнице вниз, вздрогнув от визгливого вскрика деревянной ступени. И тут же столкнулся с матерью. Он испугался и, пряча от нее лицо, спросил:
— Ты чего? Не спала? А я тут это... попить хочется...
Мать тоже испуганно и, как показалось ему, злобно вскинула на него взгляд и спросила:
— А девчонка-то спит?
— Какая девчонка? — глупо улыбаясь, спросил он. — Светлана, что ли? Спит.
— Вона! Вчера была Тоней, сегодня Светланой. Глядишь, проснется, Дунькой окажется. —И мать по-настоящему зло и нервно засмеялась. — Дуришь ты, Борис! На старости лет меня совсем опозорить хочешь, — и она заплакала, не скрывая слез и страдальческой гримасы, которая исказила ее и без того некрасивое, плоское лицо,
— Мама, ты это брось! —тихо и тоже злобно проговорил он, грозя ей пальцем. —Ты в мои личные дела не лезь.,. Ты... — Но злость его тут же иссякла, он обнял старуху, она затряслась отчаянно в беззвучном плаче, а он, подталкивая мать, легонько проводил ее в большую комнату, усадил на измятую кровать и стал гладить костлявую голову, приговаривая как можно ласковее: — Ну, перестань. Зачем это тебе нужно? Я жениться на ней хочу. Честное слово! Да, конечно, она еще очень молоденькая, большая разница в летах, но я... люблю ее, и она меня... Разве не бывает?
— Боря, ты ведь говорил вчера...
— Ну что я говорил? Что?
— Говорил, что вчера только познакомился с ней...
— Я пошутил! Ну за кого ты меня принимаешь?! Уж и пошутить спьяну нельзя! Мы с пей знакомы сто лет... А Светлана... это я ее так прозвал... Волосы у нее светлые, и вся она светленькая... Ну и вот... Ну прости меня! Что я могу поделать?! Неужели тебе меня-то не жалко? Ну что ты разревелась-то? Сейчас же прекрати!
И мать, как по команде, перестала плакать. Вытерла лицо и спросила без всякой дрожи в голосе, будто вовсе и не плакала только что:
— Может, чаю хочешь?
— Нет, я колодезной! Вчера загуляли малость... А ты посиди здесь, успокойся. Все в порядке. Ну, твой сын сошел с ума... Влюбился и так далее... Ну-ну-ну! — тихо прикрикнул он на мать. — Ты чего слезы-то опять? Ты у меня просто заводная! Прекрати сейчас же!
Она всегда слушалась своего Бориса, послушалась и па этот раз.
В лице ее, хоть она и считалась русской, было столько черт исконной степнячки, так резко проявились эти черты к старости, так выперли изжелта-белые монголоидные скулы, что Красков всерьез считал и себя потомком какого-то кочевника, оправдывая тем самым свою криволапость и некоторую дуговатость крепких, мускулистых и коротких ног. Но лицом он пошел в отца — истинного славянина, похожего в молодости на Чапаева, а вернее, на артиста Бабочкина в роли славного полководца: отец даже усы носил чапаевские. В железнодорожной фуражечке, задумчиво прищурившийся—ои остался в памяти грустным неудачником, который всю жизнь работал здесь, под Москвою, обходчиком на железной дороге, построив перед самой своей смертью этот дом из просмоленных старых шпал, в котором ему не удалось пожить и отдохнуть от вечной, расписанной по минутам занятости и от путейных дел. Он и погиб-то до обидного нелепо: был насмерть сбит паровозом, который вне расписания мчался на всех парах — один, без вагонов, черный, дымящий, орущий. Как отец угодил под него — никто не мог толком сказать. Наверное, задумался и, привыкнув к расписанию, не воспринял этот шальной паровоз всерьез, а машинист не успел затормозить. Словно бы судьба специально уготовила отцу этот черный «ФД» с красными колесами...
А Борька Красков родился тут и был свидетелем, как строились дачники, как рос и затягивался поясами заборов и частоколов огромный поселок, в котором утонул и отчий дом, став как бы тоже дачей: зимовать тут оставалась только мать, у которой ничего, кроме этого дома, нигде и никогда в жизни не было. Если не считать, конечно, нынешней квартирки сына, которую он построил недавно за свои деньги в Москве, в Серебряном бору. В свое время —давно это было —он женился на молоденькой девушке и прописался у нее в Москве. Чуть ли не целую жизнь прожил с женой и с сыновьями, а потом вдруг развелся, как будто ушел, убежал от чужих, постылых людей, никогда не жалея об этом.
А старая степнячка, вырастившая внуков, осталась совсем одна, точно и не было в ее жизни никогда никакой радосги: внуки не приезжали к ней, не встречались с отцом, словно бы и он, и она, старая, были оба виноваты в том, что распалась семья.
А теперь вот новое несчастье на голову.
Старая мать обладала какой-то странной способностью цепенеть всем телом, могла сидеть часами деревянной бабой, истуканом. Непонятно всегда было: спит или бодрствует она, думает о че.м или мозг ее отключен особым каким-то механизмом. Казалось, она и не моргала в эти долгие минуты забытья, жестяно глядя в разверзшуюся перед ней пустоту.
Так и теперь она оцепенела, ушла куда-то, отлетела душой после недавних волнений, оставив иссохшее тело как доказательство земного своего существования, присутствия на земле.
А сын, заметив ее уход, испарение ее души, оставил мать в покое, а сам схватил на кухне пустое белое ведро и помчался к колодцу, подгоняемый нетерпением и жаждой.
Утро было холодное. Трава, цветы и листья черной смородины, кусты которой совсем закрыли тропинку к артезианскому колодцу, — все-все было отягщено росой; белые, розовые и свекольно-красные флоксы, огромной шапкой растущие возле террасы, золотые шары, которые уже вымахали выше забора и набрали цвет, весь узкий, сплошь засаженный полезными и красивыми растениями участок представлял собою в эти минуты какой-то бассейн, наполненный купоросно-зеленой голубизной с желтыми и розовыми островами, с вознесшимися ввысь и уже обагренными солнцем яблонями, в ветвях которых наливались и грудились, матово светились на солнце тугие плоды.
Краснов вынырнул из этого льдистого зеленого холода, продравшись сквозь заросли мокрой смородины, а когда поставил ведро на скамейку, увидел, как колышутся на белом эмалированном дне две тяжелые черные ягоды, а сверху тоже колышется шершавый обрывок листа и прозрачнокрылое, бледное насекомое, сбитое с кустов.
В комнате наверху все было тихо. Он прокрался по лестнице и, чуть дыша, уставился на спящую, которая теперь лежала на спине. Смотрел на нее, как на свою жену, и улыбался от удивления и радости. Он не хотел ее будить, потому что боялся встретить испуг и недоумение в ее глазах, боялся ее отрезвления, торопливых сборов, вопросов о ближайшей электричке, брезгливых или слезных упреков. Но и терпеть эту неизвестность он уже не мог.
Он оделся и включил старую, разболтанно-жужжащую электробритву, а зеркальце поставил так, что ему была видна кровать и спящая на ней красавица... Чем дольше он вглядывался в ее лицо, в очертания ее тела, плотно облепленного тонким одеялом, тем яснее понимал, что перед ним именно красавица — обыкновенная, без всяких оговорок красавица, одно из великих чудес природы, таинственным и длительным отбором выращенное в потемках бесконечного множества предков. Природа, как бы отсеивая плевелы в предыдущих поколениях, удаляя все случайное и сорное, укорачивая или удлиняя какие-то части тела, лица, располагая нос, губы, подбородок, глаза в такой единственно возможной гармонии, какая подвластна только кисти великого художника, насыщая вновь созданные эти формы цветом, который один только способен был выразить всю полноту жизни, всю целостность живого существа, теперь уже, казалось, не в силах была прыгнуть выше себя.
Красков наблюдал за спящей в зеркальце и понимал, что приближается миг, когда все это может вдруг исчезнуть или остаться с ним навеки.
Он закончил бритье, подошел к кровати, присел на краешек, приподнял сонную голову, прикоснулся губами к ее губам и тихо шепнул на ухо:
— Эй, привет...
— А-а-а? — спросила она удивленно и, улыбнувшись, сказала: — Я так крепко спала! Это ты?!
— Это я.
— Тебе хорошо?
— Очень. А тебе?
— Хорошо. У тебя есть сигареты?
Он только теперь вспомнил, что она курит... и это, как ни странно, вдруг понравилось ему в ней.
— Есть, —ответил он. —Но я тебе не дам, пока ты не съешь чего-нибудь,
— Дай, пожалуйста, — совсем как девочка, обиженно попросила она.
А когда закурила, ему показалось, что она втягивала в себя- дым так же, как жаждущий пьет холодную воду, — жадно и с наслаждением, отрешившись от мира, прищурив в бламсенстве затуманившиеся глаза.
В общем, Красков пребывал в эти минуты в восторженном и умиленном состоянии, чувствуя себя не менее пьяным и влюбленным, чем вчера, совсем забыв о своих недавних сомнениях и страхах.
Вся его прежняя жизнь вдруг и в самом деле показалась ему мучительной и нудной подготовкой к этому холодному солнечному утру. Всю свою прежнюю, нелегкую жизнь он представил себе сплошной заботой о будущем. Покупал ли он новый рюкзак, он думал, что этот рюкзак пригодится ему, когда он соберется в прекрасную, в мечтах, далекую дорогу, на лесное озеро или на берег реки, к ночному костру... Но рюкзак пылился в стенном шкафу. У него было все или почти все, чтобы начать наконец-то жизнь, какую он любил и о которой мечтал: была отличная польская палатка, была надувная лодка и легкая байдарка, были новые болотные сапоги и японский спиннинг, была новая штормовка, были удобные и легкие корзины, были надувные матрасы и шерстяные, деревенской вязки носки и, наконец, была машина, в багажнике которой лежала без дела газовая портативная плитка, железная коробка для копчения рыбы, компактный несессер с набором легкой и удобной в дороге посуды, были чайник и котелок... У него все это было! Н был еще в нем самом он сам, совсем другой человек, который, словно бы блюдя законы далекого пращура, бредил кочевьями и кострами... «Удрать бы куда-нибудь, уехать за тыщу верст, на берег реки, пожить бы в палатке, питаться бы рыбой, грибами и ягодами, ходить в чем мать родила! Ах, как хочется удрать!» —восклицал этот недремлющий голос чуть ли не каждую пятницу.
Весной же, когда просыхали дороги и зеленела земля, тоска становилась невыносимой. Вечерами после работы он заходил в спортивные магазины, покупал катушку лески, или новый компас, или какую-нибудь рубашку с карманами, удобную для путешествий, какую-нибудь солонку с крышечкой, или подсачек для крупной рыбы, а дома убирал эти покупки в шкаф или ящик стола, ел, пил кефир, смотрел телевизор и думал о будущем. Все время думал о будущем, словно бы то, чем он занимался каждый день, —еще не жизнь, а всего лишь способ приблизиться к жизни, к свободе и полной раскованности души.
День, когда он официально развелся с женой, казался ему днем новой жизни, того прекрасного будущего, о котором он мечтал. В ближайшую же субботу он отправился на Птичий рынок, накупил там новых «сторожков» для подледной рыбалки, мормышек, мотыля, вечером наточил ножи коловорота, подготовил все снасти, аккуратно уложив в новый ящик удочки, запасные мормышки в коробочке из-под леденцов, термос с горячим чаем, колбасу и хлеб, завел будильник на пять утра, проснулся и, стараясь не будить жену, с которой еще не успел разъехаться, унес свои вещи на кухню и оделся там во все теплое, ватное и войлочное.
Но, услышав вдруг, как шумит за окном ветер, метя поземку, подумал о том, что в понедельник предстоит серьезная работа, налил из термоса сладкого чая, сделал бутерброд с колбасой, позавтракал, разделся, унес теплые вещи в свою комнату, слыша привычное ворчание чужой теперь женщины, скрип ее дивана, убрал валенки, овчинный тулупчик, ватные брюки, лег в теплую еще постель, погасил свет и опять задумался о будущем, о том, что надо сначала, конечно, разменять квартиру, разъехаться с женой или хотя бы снять комнату, надо дождаться окончания лабораторных опытов, которые близились уже к завершению, надо написать статью в журнал о результатах опыта, а уж тогда-то обязательно собраться на рыбалку, закатиться куда-нибудь к черту на кулички, чтоб ни одна живая душа не знала, где тебя искать, и пожить в свое удовольствие. А сейчас, конечно, некогда этим заниматься.
и всякий раз у него так выхолтило, что именно сейчас, сегодня, в этот месяц скапливалось у него столько неотложных и важных дел, что никакого разговора не могло, разумеется, идти об отдыхе... Но спустя некоторое время он обязательно и непременно плюнет на все дела и укатит в тьмутаракань, не очень-то ясно представляя, где он отыщет эту страну, но зная, что обязательно отыщет... Нет, не сейчас — потом, когда немножко освободится от дел.
Красков давно уже стал замечать проскакивающие мимо дни, месяцы и годы. Он думал только о будущем, строил в воображении этот замок, а каждый прожитый час, день, месяц и год расценивал как еще один шаг к великому будущему — и только.
В этом смысле он не умел жить, хотя именно такая неврастеническая, тревожная забота о будущем, боязнь что-то не успеть сделать для этого будущего сегодня, что-то упустить, в чем-то не подготовиться к нему, — эта скрупулезная забота помогла ему многого достичь в той науке, которой он занимался. Тем более что наука эта была новая, процветающая, и он, выращивая в лабораторных условиях кристаллы минералов, тоже, можно сказать, процветал, и ему прочили большое будущее.
Так что будущее не было пустым звуком для щепетильного Краснова — оно для него представлялось как бы таинственным и еще никому не известным кристаллом, свет которого наконец-то откроет дорогу к необыкновенному, ленивому, праздному счастью. Надо сказать, что при всем своем трудолюбии истинное свое счастье он представлял только праздным, видя себя эдакнм великим созерцателем, совершенно ненормальным человеком, улыбающимся и словно бы плывущим над зеленым и благоухающим миром, ласкающим и обласканным любимой женщиной... Что-то такое неосуществимое и даже, можно сказать, несуществующее виделось ему, когда он задумывался о счастье и о будущем, — бесплотное какое-то пребывание в мире, не требующее ни умственных, ни мускульных усилий.
Объяснить это можно довольно просто: в нем все чаще и чаще бунтовали задавленные, забитые чувства. Щупальца этих чувств напоминали о себе, казалось бы, беспричинной тоской, которая порой наваливалась на Краскова. В обыденщине дел он совершенно забывал, как пахнет осиновая кора или василек, он забывал, как журчит на рассвете ручей или шумит лес, он не помнил, какова на ощупь земля или сорванная ягода земляники, не помнил вкуса колодезной воды, которой был вспоен с детства, или парного молока, — не слышал, не видел, не обонял, не осязал.
Вероятно, поэтому, когда он задумывался о будущем и о счастье, оно ему представлялось чувственным каким-то времяпрепровождением. Стиснутый рамками города, в мечтах он словно бы распускал крылья подавленных чувств и летал, как летающий во сне, над лугами, речками и лесами своей молодости. Вот отчего любое физическое напряжение стало со временем казаться ему нарушением душевного комфорта, то есть напряжение, даже самое малое, как бы разрушало его устойчивое представление об истинном счастье, которое возможно лишь в будущем, и только в нем! Но никак не сегодня, когда надо что-то тащить, куда-то тащиться, мокнуть под дождем, что-то добывать, работать, работать, работать... Ну нет! Он лучше уж подождет, чем так-то вот, бездарно и бессмысленно, вставать на рассвете, нести из холодного полумрака корявые сучья, дуть-в дымно-тлеющую пасть сырого костра, чтобы всего лишь навсего согреть воды в прокопченном котелке и согреться самому.
Краснов давно пребывал в этом странном и даже опасном раздвоении, не замечая в себе несчастья, и единственной реальной дорогой для него была дорога в материнский дом, в ее маленький садик с артезианским колодцем, вода которого отдавала ржавым железом. Он не мог себе позволить большего.
Жена была куда практичнее. Одним своим присутствием она словно бы опоиыяла мечту Краскова о будущем. Впрочем, она откровенно считала мужа идиотом, ленивым и тупым себялюбцем, который тратит деньги только на свои прихоти, заполняет квартиру никому не нужными вещами, обещая ей из года в год райскую жизнь на природе, наслаждаться которой она предпочитала иначе, чем муж. Дети тоже не понимали отца и были тоже по-своему правы, потому что болезненная психопатическая боязнь отца сиюминутных, сегодняшних наслаждений рождала в их душах естественный протест, а отцовская жадность, которая проявлялась, когда сыновья просили у него палатку или спиннинг, байдарку или резиновые сапоги, приводила их в бешенство, как и жену, всегда стоявшую на стороне детей.
Что и говорить! Жить с таким человеком было очень тяжело. Его никто не понимал. Сам же он тоже никого не хотел понимать. И развод был естественным завершением этой несчастливой семейной жизни.
«Сдохни ты в своей лодке! —сказала ему на прощание жена. — Дурак надутый!»
Но ничего не изменилось в жизни бедного Краскова, когда он остался один. Правда, он купил автомобиль, на котором никогда не ездил, кроме как к матери, купил огромную оранжево-синюю палатку и в довершение ко всему стал захаживать в картографический магазин на Кузнецком мосту и коллекционировать туристские и областные карты, с увлечением и надеждой изучая по вечерам автомобильные маршруты с упоминаниями живописных озер, рек и прочих достопримечательностей. Готовясь к дальним путешествиям, он и машину оснастил всем необходимым; купил легкие цепи на колеса, раздобыл надежный трос, на крышу поставил багажник и теперь думал о сковородке, которую посоветовал возить всегда с собой бывалый автомобилист на случай, если машина увязнет в мягкой земле и ее нужно будет поддомкратить, — без большой сковороды тут, разумеется, не обойтись; если домкрат поставить на широкую сковороду, он не утонет в земле и выдержит нагрузку. Красков теперь искал в хозяйственных магазинах тяжелую, крепкую, надежную сковородку, в мыслях уже не раз застревая на лесных, глинистых дорогах, и очень огорчался, что таких сковородок не было в продаже. Он даже ругался и грозил написать жалобу, говоря при этом: «Дожили! Сковородки паршивой невозможно купить! Пишем, пишем в газетах — ничего не действует, никакого толку!»
Стал он в последнее время сварлив, как баба, и мнителен до подозрительности, никого никогда не впуская в святая святых своей души, в свое будущее, которое заполнило однокомнатную его квартирку, превратив ее в филиал спортивно-рыболовного магазина. Тут было, кажется, все! Лыжи с креплениями, в которых торчали новенькие ботинки, ни разу, как и лыжи, не тронутые снегом; гантели и эспандер, поднятые, может быть, десяток раз на высоту седеющей, сивоватой головы хозяина; удочки, спиннинги, брезентовые тюки с лодками, сваленные в углу за шкафом, ярко-оранжевый тюк польской «Гдыни»; был даже маленький двухспльнын подвесной моторчик «Ветерок», который ждал своей волны, как ждали ее преющие резиновые лодки; были ласты и подводное ружье, спасательный, оранжевого цвета, жилет и настоящая зюйдвестка, купленная в ГДР; был ящик для зимней рыбалки, был складной стол и стулья для автотуристов, было множество всяких мелких предметов, вплоть до приспособления для вытаскивания крючка из щучьей пасти; на стене висел складной подсачек и складной багор; был даже гамак — и все это ожидало будущего, рождая в мечтательном взоре хозяина картину красивой и вольной жизни, телесного и душевного комфорта, когда наступит наконец-то время для этого.
Краснов даже приятеля своего, Сергея Светловидова, прилетевшего из Хабаровска и разыскавшего его с помощью справочного бюро, не пригласил к себе в гости, а поехал к нему сам. Он не хотел показывать свое богатство людям. Не потому, что люди могли бы отнять это богатство, а потому лишь, что кто-то из них мог ненароком посмеяться над ним, особенно тот, кто достаточно хорошо знал истинную жизнь Бориса Ивановича Краскова. Насмешка была бы слишком тяжелым испытанием для его души, которая и так уже была вся исцарапана подсознательным ощущением своей беды, своего несчастья.
Теперь же, забыв обо всем на свете, он зачарованно смотрел, как курит в постели это свалившееся с небес на его голову юное существо, и готов был поклясться кому угодно, что еще никогда не испытывал в жизни такого блаженства и наслаждения от одного лишь созерцания своей то ли любовницы, то ли жены, которая вдруг с беззаботной улыбкой спросила у него:
— Ты уже сделал гимнастику?
— Да, — ответил он в смущении. — То есть я... сбегал за водой на колодец... А тропинка туда сквозь кусты, а кусты мокрые и холодные от росы. Гимнастика и холодный душ...
— Ты меня не обманул? —спросила она опять.
— Нет...
— я не в этом смысле, я вообще... Все, что ты говорил мне, это правда?
Сейчас он не помнил, что он ей говорил, но он поймал ее руку своими руками, сжал в ладонях ее голубоватые пальцы с ярко-оранжевым, сочным маникюром и как только мог серьезно ответил:
— Все это правда, да... Я хочу, чтоб ты стала моей женой... Если ты не передумала, если ты тоже не обманула меня, я буду самым счастливым человеком на земле.
— Правда?! —спросила она так, будто все еще не верила ему. — Ты не передумаешь потом? Ты будешь всегда любить меня?
— Всегда...
— Если ты будешь любить меня, то и я тоже обязательно буду очень, очень любить тебя. Но ты мне скажи правду — у тебя действительно нет сейчас жены или ты придумал вчера это?
— Нет, я ничего не придумывал, — отвечал он ей, все больше и больше удивляясь этому странному и наивному, глупому разговору, который они без тени усмешки и иронии вели между собой.
«Может быть, так и нужно? —спрашивал он себя в изумлении. — «Если ты будешь меня любить, то и я тоже обязательно...» Черт побери! Может быть, это и есть та истина, от которой бегут все люди, рассчитывая только на любовь к себе и не желая тратить сил и напряжения, чтобы любить самому? Отсюда и все недоразумения. В этом какая-то детская непосредственность, святой наив и доверчивость... «Если ты будешь меня любить, то и я тоже...» Ах ты, господи! Как хорошо это сказано, как просто».
— А теперь, — сказала она с жеманством. — Ты уходи отсюда, я буду делать гимнастику и одеваться... Кстати, ты помнишь, мой чемодан остался в камере хранения, ты привезешь его? У меня там всякие... тряпки...
И Красков, совершенно ошеломленный всем услышанным, закрыв глаза, поцеловал ее руку и почувствовал такую слабость в теле, что его опять шатнуло, когда он поднялся и пошел к двери. Он оглянулся, когда она уже, спрыгнула с кровати на пол и изогнулась дугой, закинув руки и голову в каком-то молитвенном восторге.
— Слушай! — воскликнул он. — Ты мне скажи, почему именно я? За что это мне? Я ничего не понимаю! А чего-то очень боюсь! Ты понимаешь? Мне страшно.
А она расслабилась вдруг, уронила руки на грудь и полушепотом с полукнвком согласия ответила:
— Мне тоже... Ну, а что же делать?
— Я люблю тебя, — сказал Краснов, схватившись за дверную ручку.
— Я тоже...
Днем она проводила его до станции, просила не задерживаться и как можно скорее приезжать обратно. А он, очутившись в вагоне, среди людей, стал наконец-то осознанно представлять себе все то, что произошло с ним, все, что она сказала ему по пути на станцию. «Возвращайся, — просила она, — а то я совсем не знаю, о чем мне говорить с твоей мамой. Она меня, по-моему, невзлюбила».
«Да, да, конечно, — думал он в смятении, не в силах избавиться от глупой улыбки, которая здесь, среди людей, смущала его. — Я, конечно, не задержусь. Но что происходит? Такое чувство, будто тебя разыгрывают, а ты поддаешься как дурачок...»
И он снова мысленно шел рядом с пей вдоль затоптанной, измятой опушки леса, уже лиловеющей фригийскими васильками.
— Да, был муж... Я вышла замуж, когда мне было восемнадцать, и ему столько же. Он учился в институте... сейчас еще учится, —говорила она так, будто речь шла не о ней самой, а о женщине хорошо ей знакомой и достойной искреннего сочувствия. — Ты ведь знаешь современных мальчиков! Еще не научились зарабатывать, зато тратить чужие деньги... просто гении! Я работала в детском саду воспитательницей, я и сейчас там, а он учился в институте, и там очень большая стипендия, я зарабатывала столько же, сколько платили ему за то, что он учится... Странно, правда? Может, поэтому он совсем не ценил меня? Сейчас это смешно вспомнить, но ты не поверишь, я страдала на полном серьезе, разыскивая себе американские джинсы, настоящие «супер-райф», потому что ему так хотелось... Я их, конечно, не нашла, у меня таких знакомств нет, и вообще я в этом смысле непрактичная... Было очень обидно. Мне не нужно ничего, кроме... Кроме знаешь чего? Кроме того, чтобы он был мужчиной. Я все время чувствовала, будто в семье не он, а одна только я сильная, а он — именно мальчик... В саду целый день развлекаешь детишек, танцуешь, поешь с ними, а придешь домой — то же самое, то же самое... Мы с ним прожили год и три месяца и разошлись, потому что я поняла вдруг, что все это — капризы, пьянство его и, я даже сканцу, разврат, не тот, о котором все знают, а тот, который никому не заметен, или, вернее, не разврат, а какое-то извращение, что-то неестественное... Я не знаю, как эго сказать. Иждивенчество во всем. Понимаешь? Когда я стала задумываться над этим, то кажется, ничего особенного! Ничего плохого не могла бы сказать. Просто у меня не было мужа. Был холодненький, жиденький мальчик, которого надо было кормить и ублажать. А я не могла. Понимаешь? Это какое-то извращение. Ненормальность. Я всегда хотела любить человека, который тоже любит меня и понимает, что я всего-навсего женщина. Ты, например, можешь подумать обо мне все что угодно. — Она остановилась и с надеждой посмотрела на Краскова. — Но я знаю, — продолжала она, —ты этого не подумаешь, потому что ты мужчина. Мне сейчас кажется, что я тебя знаю очень давно. Ты слышишь меня, Борис? Я когда увидела тебя, как ты подошел со своим товарищем, сел за столик, взглянул на меня, я тогда сразу подумала, что ты будешь моим мужем. Ты мне не веришь? Ну и не верь, пожалуйста, а я знала. Я поняла, что гы мне родной. Вернее, даже не поняла, а просто почувствовала себя так, будто назначила тебе свидание, а ты пришел. И как будто мы с тобой давно уже муж и жена. Ты, конечно, можешь не верить, но я вчера это знала, что так все будет. А иначе могла бы я разве сейчас вот так идти с тобой и все тебе рассказывать?! Ну сам подумай — могла бы? Нет, конечно! Господи, я сама удивляюсь своей смелости! То есть даже не смелости! Какая смелость, если совсем не страшно с тобой? Мне с тобой совсем не страшно! Понимаешь? Это невозможно объяснить. Тебе ведь тоже, да? Скажи, не страшно? Нет? Я знаю, что тебе тоже не страшно со мной. Я тебя совсем не знаю, но в то же время знаю, знаю так хорошо, так хорошо!
Тропинка светло и сухо ушла в сосновые посадки, в снегозащитную полосу. Перевитая змеями сосновых корней, она была вся усеяна черными муравьями, которые по какой-то безумной прихоти избрали ее тоже, как люди, своей дорогой. Для муравьев тропинка была, наверное, чем-то вроде бурного океана, — казалось, каждый из них обречен... Но сколько похмнил Краснов, на ней никогда не иссякали вереницы деловитых упрямцев.
— Но ведь слушай, — сказал он, взглянув в отчаянии на юную провидицу. — Я на двадцать шесть лет, на целый век ближе к могиле, чем ты! Разве тебя не смупдает зто? Ты, наверное, знаешь... Это всегда было! Всегда неравный брак вызывал в людях отвращение или, во всяком случае, никто никогда не одобрял его и считал безнравственным...
— А ты разве не понимаешь? —удивленно откликнулась она. — Разве тебе не понятно, почему это так всегда было? Потому что раньше все было не так, как теперь. Во-первых, там были богатые и бедные... Бедная выходила за старика. А во-вторых, тогда умели любить и молодые люди, а старики не умели. А теперь все наоборот. Я в этом абсолютно убеждена и даже не собираюсь доказывать это. Это так! Уверяю тебя! Мне, честное слово, страшно подумать, что тебе, например, было бы сейчас двадцать лет, как и мне. Я бы умерла от ужаса! Что ты смеешься?! Не веришь мне? Наверное, ты прав, я смешно все это объяснила, но как бы я ни старалась, тебе все равно не понять. Ты увидишь потом, через сто лет, что вся эта разница не имеет никакого значения.
— А твои родители?
— Они тоже поймут.
— Через сто лет?
— Может, и так... И что я еще хочу сказать. Я ведь не бедная, а ты не богатый. Мне просто с тобой не страшно жить. Вот и все. Ты не представляешь, как эго важно для женщины: жить с человеком, с которым не страшно. Я ведь знаю, ты не считаешь меня сумасшедшей. Я не сумасшедшая... Я только что обошла всех врачей и невропатолога в том числе, иначе мне не дали бы путевку... Я здоровая и вполне хорошенькая женщина, которая хочет жить с тобой всю жизнь... Вот увидишь, ты будешь со мной счастливым. Очень счастливым будешь! Кстати, а что же делать с путевкой? Ее ведь нельзя продать или кому-нибудь подарить, верно? Я никуда не хочу. Пусть все думают, что я уехала, а я буду жить у тебя... Ты рад? Скажи мне, ты рад?
— Очень, — отвечал ей Краснов, который, увы, ничего не мог понять, или, вернее, не мог осознать себя рядом с этой женщиной, почувствовать, что он ее муж, а она, эта девочка, его жена. —Я рад, — повторил он в каком-то восторженном испуге и непроходящем удивлении. — Я не могу только поверить! Хотя все очень логично, пожалуй, все точно... Я тебе вот что скажу: если мы будем вместе, ты тоже, поверь мне, будешь со мной счастливой. Да, конечно, я не богатый, я такой же, как все, но я все сделаю, чтобы ты ни в чем никогда не нуждалась. Это я тебе гарантирую! Я знаю себя, я... Ты можешь об этом и не думать. У нас все будет! Я всегда верил в будущее, и мне вдруг начинает казаться, что оно уже началось — наше с тобой будущее. Я бываю злой, да, бываю! Но ты никогда не увидишь зла в моих глазах. Я тебе обещаю это! —он умолк и нахмурился, недовольный собой.
— Ты так хорошо говоришь. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь... чтобы мне кто-то так говорил... — полушепотом сказала она. — Спасибо! Ты у меня будешь самым красивым и самым молодым! —добавила она с убежденностью пятилетней девочки. —А теперь иди скорей. Иди, иначе мы лопнем от счастья. Мне уже страшно опять... Наверно, не надо все время говорить о будущем, а то это страшно: вдруг не сбудется.
Она поцеловала его и быстро пошла к дому, который уже считала своим.
Кстати, ее совсем, казалось, не удивило и почти не обрадовало то обстоятельство, что он в этот день вернулся не на электричке, а на собственном автомобиле: она и это восприняла, как нечто само собой разумеющееся, хотя вскоре и вспомнила о машине.
А у Краснова началась неправдоподобная жизнь. Всего себя, все силы отдавал он юной своей супруге. Он каждый день, как о приданом, рассказывал ей о своем туристском снаряжении, о лодках, о раскладной мебели, о палатке, в которой их ждала райская жизнь. И был совершенно счастлив, видя на лице ее искреннее восхищение.
— А почему бы нам куда-нибудь не скатать? —спросила она однажды, проснувшись вдруг среди ночи. — Мне еще никогда не приходилось путешествовать на машине.
И они не спали до утра, обдумывая во всех подробностях дальнюю дорюгу, которая к рассвету уже заскользила перед мысленным взором Краскова. Он уехал в это утро в Москву «зубами вырвать у начальства отпуск». И добился своего, хотя неделю назад и подумать не смел бы о таком легкомысленном поступке. Он привез жену в московскую свою квартиру и не мог нарадоваться, глядя на эту спортивную девочку в белых брючках, которая с каким-то вожделением и восторженными восклицаниями ощупывала и разглядывала его овеществленное будущее, которое становилось наконец-то явью.
Правда, надо сказать, что она боялась выходить лишний раз из квартиры, чтобы, не дай бог, не встретиться случайно с каким-нибудь знакомым человеком: ее ведь считали уехавшей. Он уже однажды возил ее в Москву или, вернее, на окраину, в мотель, откуда она позвонила по автомату родителям, сообщив им, что доехала благополучно и что все хорошо у нее, все отлично...
— Пусть они думают, что я отдыхаю. Я потом нм все расскажу, когда приеду, — говорила она ему так, будто сама верила в то, что она в Одессе, из которой должна когда-то приехать.
Она и на этот раз позвонила из квартиры и очень естественно громко, как обычно люди говорят по междугородному телефону, рассказывала о себе, о море, о прогулке на теплоходе, о пляже, о питании, а потом заторопилась:
— Ну ладно! Целую... У меня монетки кончились... Целую... Да! Все... все... Осталось тридцать секунд... Папу поцелуй. Все в порядке... Скажи, что все хоро... — и, прервав разговор пальчиком, которым она нажала на рычаг, счастливая, положила трубку.
Родители ни на йоту не могли усомниться, что дочь говорила с ними из Одессы, что это недоговоренное «все хоро...» было прервано автоматическим отключением таксофона...
— Может быть, ты и напрасно так, —сказал ей Краснов, —А вдруг...
— А что «вдруг»? —не переставая смеяться, спрашивала счастливая обманщица. — Если что-нибудь случится вдруг, я все равно придумаю какую-нибудь историю... Я люблю придумывать! Так веселее жить. Ты думаешь, я обманывала сейчас? Совсем нет. Какая ей в конце концов разница, где я сейчас, в Одессе или в Москве? Ей ведь главное, чтоб я была счастлива, верно? А если бы я сказала, что я никуда не поехала, то получилось бы, что я ее жестоко обманула, она бы ужасно расстроилась. Пусть уж лучше знает, что мне хорошо. А мне ведь и в самом деле очень хорошо. Ты представить себе не можешь, как я. счастлива с тобой! Я тебя безумно люблю.
И она прилегла на его грудь, сразу вдруг затихнув. Веселье исчезло из глаз, а полураскрытые губы зашептали какую-то очень серьезную и очень пошлую, мил« лиарды раз повторенную, но вечно волнующую, сводящую с ума то ли просьбу, то ли приказ.
— Мы так никогда не соберемся, —говорил ей Красков, словно просил пощады.
Но они собрались и через два дня были уже в Эстонии, в полудиком кемпинге на берегу мелкого каменистого моря. Поставили палатку среди сосен, стол и стулья, газовую плиту, надули яркие красные матрасы, и, когда Красков сел в это мягкое кресло-матрас, душа его наконец-то воспарила.
Стояли солнечные, тихие дни. Эстония млела в запахе смолы и моря, даже камни, вросшие в песок, успевали раскалиться к полудню на жарком солнце. Серое море искрилось, чернея -клыками мрачных прибрежных камней. И вся эта предосенняя жара была так же случайна, как были случайны люди, поселившиеся в придорожном кемпинге: по-осеннему нахмурившаяся Эстония со старческой и мудрой усмешкой смотрела на это случайное солнце, на случайных людей, радующихся беззаботно теплу, заранее зная, что скоро придется опять ей купаться в сером дожде и стонать под холодным ветром.
Но именно эта случайность еще более обостряла, усиливала радость. Каждый чувствовал себя здесь счастливым избранником, потому что именно ему, прикатившему сюда издалека, повезло с погодой, как, может быть, никому другому. Август и солнце, теплое море и горячий песок — разве это могло случиться в последних числах месяца? А вот случилось! Даже ночи были теплыми. И день за днем над морем мутно голубело безоблачное небо и розовые чайки летели в утренних лучах.
Красков порой чувствовал себя так, будто они жили на склоне притихшего, угасшего вулкана, и каждый вечер, укладываясь спать в теплой палатке, с каким-то сквознячком в душе думал о том, что этот вулкан способен в любую минуту обратить их в бегство. Уже две недели непрестанно светило солнце!
Но вулкан молчал. Море весь день искрилось. Песок был весь измят, истоптан лежащими, прыгающими, прохаживающимися, бегающими людьми. Волны давно не зализывали эти раны, и иногда казалось, что море искрится в нетерпеливой и мрачной злобе, готовое каждую минуту броситься шипящей и пушечно бухающей волной на этих беззаботных прыгунов, испоганивших его пески, белое его ожерелье.
Красков никогда в жизни не играл в волейбол, а тут вдруг увлеченно включился. Но стало стыдно перед молодыми ребятами, когда он не то чтобы не принял несколько легких пасов, а просто промахнулся по мячу.
Зато его посмуглевшая за эти дни красавица играла божественно! Она часами могла плясать в этом странном .хороводе, среди атлетических молодых парней, которые словно бы избивали друг друга хлестким мячом, но всякий раз мягко, кончиками упругих пальцев подавали мяч своей красивой партнерше, а она вдруг с мужской и резкой силой тут же отсылала его в сторону какого-нибудь ловкого игрока, в изящном падении подымавшего мяч чуть ли не над самым песком.
И Краскову казалось, что эти молодые и красивые блондины всякий раз с ненавистью и презрительной насмешкой поглядывали в его сторону, когда она усталой походкой приближалась к нему и падала возле и не их, а его звала в море купаться.
Он впервые ощущал так остро и болезненно свой возраст, и его мучила ревность, когда он опять и опять видел, как играет она, прыгает, приседает, падает и бежит за скачущим мячом, чтобы снова ударить по нему и в азарте ждать, когда этот летающий, мечущийся мяч помчится в ее сторону.
— Я поиграю? —спрашивала она всякий раз, когда видела мяч в руках какого-нибудь великана.
— Не надоело?
— Что ты! Я, кажется, всю жизнь играла бы! Пойдем! Ничего, научишься. Где ж еще учиться?
Но он шел в море, забирался там на камень и, просыхая, согреваясь на солнце, слыша, как стучит далеко сзади волейбольный хоровод, смотрел в искрящуюся серость моря...
Он забывался в блаженном парении, и лишь изредка какое-то горделивое чувство заставляло его отвлечься от созерцания, спуститься на землю, увидеть близкий берег и бегущую к нему в брызгах по отмели разгоряченную женщину, в которую переселилось теперь его будущее.
Иногда он думал о ребенке, который может родиться у нее, и душа его истекала нежностью к этому возможному и желанному сыну или дочери. Чувство это было похоже на какую-то сладкую тоску, какую испытывают, наверное, только деды к своим внукам. Но он не понимал этого и хотел быть отцом, забывая о взрослых своих сыновьях, словно бы их и не было никогда.
Однажды после волейбола и долгого купания, когда она так далеко заплыла, что он не на шутку стал беспокоиться, утомленная и озябшая, с синими губами, она упала рядом с ним на горячий матрас и, тяжело дыша, сказала с загнанной улыбкой:
— Все-таки хорошие ребята эти эстонцы.
— Да, мне тоже нравятся, — с неохотой согласился он. — Особенно нравится молодое семейство, из соседней палатки, с мальчиком, с Валтоном этим. Ты заметила, кстати, у женщин и у мужчин, у молодых совсем, есть одна особенность в телосложении... Это может нравиться или нет, мне, например, нравится... Какая-то очень прочная заземленность в фигуре. Ты обрати внимание, они, как эти сосны, вцепившиеся в песок, словно бы тоже рождены в борьбе с ветром. Эстонка идет по земле легко, но в поступи ее такая уверенность, прочность и твердость... У большинства, ты заметь, тяжелая стопа, все почти монументальны: тяжелые, длинные, упругие ноги, словно бы ваятель их специально удлинил и утолщил, словно на высочайший постамент... Они очень скульптурны, верно? А как тебе нравится наш сосед Валтон? Голыш этот... Тебе бы хотелось иметь такого?
Она лежала на животе, отвернувшись лицом от Краскова, то ли слушая, то ли не слушая его, и лишь вкрадчиво тихий этот вопрос как будто хлыстом ударил ее, и она вздрогнула, приподнялась на локтях... Удивление и страх мелькнули в ее быстром взгляде и мгновенно сменились каким-то насмешливо-изумленным интересом, незнакомым Краскову, и, протянув к нему свободную руку, стала задумчиво перебирать серые его, посветлевшие за эти дни, густые и жесткие волосы, оттененные загорелым лицом.
Сочувствующая улыбочка играла на ее губах, брови ее чуть заметно вздрагивали, точно недавнее изумление все еще жило в ней, готовое в любое мгновение отобразиться на лице.
— Угу, — чуть слышно ответила вдруг она и согласно прикрыла глаза.
— А ты знаешь, — говорил ей по многу раз в день Красков, словно хотел сообщить ей радостную новость, — я, оказывается, очень тебя люблю. Только сейчас это понял.
На что она ему отвечала с игривой миной удивления:
— Да что вы говорите! Какое совпадение. Ах-ах-ах!
Но в день, когда он спросил ее о ребенке, она на привычное: «А ты знаешь...» —ответила каким-то сочувствующим и грустным «угу».
— Ты не заболела ли? —спросил он, усмиряя страх, который вдруг захолонул ему грудь.
— Нет, просто вспомнила, что моя путевка кончается через шесть, нет, теперь уже через пять деньков. Надо что-то придумать, чтобы мои родители не встречали меня на вокзале. Они ужасно любят встречать...
И он отвез ее в ближайший курортный городок, в котором был телефон.
Грусть ее бесследно прошла на другое утро, она опять играла в волейбол, была весела и хлопотлива возле газовой плиты, готовя на обед жареную колбасу с картофелем, а вечером перед закатом звала его гулять на шоссе, заигрывала, словно бы ей ужасно хотелось повозиться с ним или даже игриво подраться, и была похожа на подрастающего веселого звереныша, который заигрывает, упражняясь в ловкости, со своей родительницей.
— Ты ужасный, ужасный флегматик, —говорила она, скаля в игриво-злой улыбке белые зубы, стараясь задеть его рукой, шлепнуть по лицу, по шее, по уху. И ей это удавалось, хотя он и ловил, и захватывал, держал ее сильные и ловкие руки. —Ты совсем... совсем обленился.
Все этн дни, — говорила она с протяжной ворчливостью в голосе, — все дни провалялся на матрасе или просидел на камне... Тебе надо двигаться, надо ходить, бегать, играть в... волейбол. Отпусти мои руки! Вот так. А теперь— получай... Чго? Получил? Сейчас еще... надо разогнать твою кровь, ты совсем отбился от рук... Ну что ты так вцепился? У меня синяки останутся. Вот тебе за это! Ничего, ничего... Царапина заживет... Я не львица, у меня когти не заразные... Не умрешь...
Она так разыгралась, удары ее были так сильны, что он уже не в шутку стал защищаться и держать ее руки, не решаясь на большее, то есть не позволяя себе сделать то же, что делала она, боясь сделать ей больно, стыдясь своей неловкости.
Наконец он взмолился, избитый и исцарапанный, а она прекратила возню, но не сразу с лица ее слетела воинственная, уж очень не шутейная, не игривая озлобленность. Он не мог никак понять, что эго с ней вдруг случилось. Одно лишь совершенно точно знал; был момент, когда он испугался ее искаженного гримасой, оскаленного рычащего и шипящего злобой лица.
Она же, запыхавшись, смеялась, устав от возни, но смех ее был похож на отрывистые взрыды, на какое-то рычание...
Весь вечер они молчали, гуляя по песчаной обочине серого, чистого и гладенького шоссе, прорезавшего сосновую чащобу, росшую тоже на песке, затянутом сухими мхами.
В эту ночь он проснулся с ощущением непоправимой, могильной какой-то беды и в тот же миг уловил тихий всхлип в душной тьме палатки.
— Ты?! —шепотом воскликнул он. — Что случилось? А? Ты плачешь?
Они спали под разными одеялами, а точнее, под расстегнутыми спальными мешками, но лежали рядышком, на сдвинутых матрасах, и он тут же обнял ее...
— Что с тобой?
Рукой ощутил ее волосы, лоб и щеку, которая была мокрой от слез. Она увернулась от его руки и неузнаваемо жалобным голосом ответила:
— Страшно.
— Глупенькая! Отчего же?
— Не знаю.
— А где у нас фонарь? Он, кажется, с твоей стороны.
— Не надо.
В тишине он вдруг услышал шум, хриплое и тяжкое дыхание серого великана. Наконец-то он пробудился от ленивого сна и пока еще не грозно, пока еше размеренно вздымал свои волны, которые гасли на отмелях среди камней, облизывая берег пенными, шипящими языками... Хорошо угадывался ритм этого волнодышащего гиганта— продолжительный вдох и шумный, энергичный выдох. Нестройно и тревожно посапывали сосны над палаткой.
— Это тебя ветер напугал, — с улыбкой сказал Краснов. — Море расшумелось. Тебе не холодно?
— Почему-то очень страшно. Дай мне твою руку.
— Да ты вся дрожишь! — насмешливо и нежно сказал он, когда она вцепилась в его волосатую руку н легла на ладонь мокрой щекой. — Все будет хорошо. Не волнуйся, пожалуйста. Хочешь, завтра уедем? Можно вернуться в Москву знаешь как? Через Пярну, Таллин, Ленинград, Новгород... Хочешь?
Она вздохнула, как крошечное, теплое и жалкое море, в том же ритме, что и настоящее, и вдруг шепотом запричитала в отчаянии:
— Ужасно, ужасно, ужасно, все ужасно...
Кожей большого пальца он чувствовал волны ее дыхания. Лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к ней, к неслышным ее вдохам и выдохам, которые порой совпадали с морским хрипом и шумом, и бессмысленно улыбался, радуясь этому совпадению. А когда она уснула и он почувствовал это по расслабленности ее рук, которыми она держала запястье его руки, он тоже отметил это улыбкой, хотя и знал, что ни один мускул не дрогнул на его оцепеневшем лице, но он отчетливо почувствовал, что его согрела улыбка, глубоко спрятанная, как никому не ведомая улыбка спящего человека. Ни мысли, ни сна. Какое-то странное, печальное пребывание на земле, точно он превратился в растение. А рядом с ним другое, более нежное и совсем беззащитное существо, вся суть которого, вся плоть как будто бы уместилась на его ладони, — тоже растение. И ему приятно ощущать этот симбиоз, это соединение, никому не понятный союз. Н все. Ни сна, ни мысли. И совсем не важно, что о них думали все эти вежливые соседи, за кого принимали, и не важно, если чесали языки, осуждая их союз. Ему просто приятно чувствовать, как немеет его рука, захваченная и накрепко сжатая руками той, которая положила всю себя на его уже не ощущаемую им ладонь.
Эта онемевшая рука вывела его наконец-то из оцепенения, и он с величайшей осторожностью, затаивая дыхание, стал освобождать из плена свою погибающую ветвь, пребывая еще в образе ожившего растения, ольхи, оплетенной хмелем. А та, щека которой очутилась на холодной подушке, глубоко вздохнула во сне и словно бы надолго затаилась.
Шипение сосен усилилось к утру, волны издавали утробно лопающиеся, резкие звуки, в грохоте разрушения слышались уже какие-то крики, стоны, хохот, плач... И вдруг по натянутой парусиновой крыше кто-то несмело царапнул острым коготком и побежал, побежал, побежал, приплясывая и все убыстряя, раздувая свой дьявольский праздничек.
На рассвете все побережье озябшей за ночь Эстонии укрылось под серой, промокшей насквозь шинелью: так неуютно, бездомно и холодно было на душе у Краскова, когда он вышел из палатки. Кто-то уже подогревал мотор, пахло недогоревшим, обогащенным бензинным газом. На крыше палатки черные иглы и черный сор... Грязно-пенные волны...
«Надо было бы вчера сматываться, — подумал он с сожалением. — А она-то и в самом деле как растение: цветы свои закрыла перед непогодой».
И даже заулыбался, объяснив так легко и просто ночные ее слезы и страх.
А через два дня они были под Смоленском. Не торопились. Ночевали на берегу Немана, под Каунасом, потом под Минском среди разноязыких, ярких туристов, а теперь собирались заночевать под Смоленском.
Вся Прибалтика была затянута дождем. Грязные, как чушки, встречные машины, махая по стеклам «дворниками», обдавали грязным, липким туманом ветровое стекло. Ехать было трудно и неинтересно. Особенно вблизи больших городов. Ничего нового, кроме номерных знаков автомашин. «ЭС» сменилось на «ЛА», латышские литеры сменились литовскими «ЛИ», потом появились минские номера, и вот, наконец, побежали по чистой, сухой дорожке, под неярким солнышком «смоляне»... Дожди закончились за Минском, а солнце показалось только здесь, на смоленской земле.
— А как там живет моя красавица? —с пошловатой бравадой в голосе спрашивал ликующий Красков, чувствуя себя чуть ли не героем. — Устала моя девочка хорошая?
Для него эта дорога под дождем была сущим адом, он безумно уставал от нервного напряжения, хотя и старался не подавать виду. А «девочка его хорошая» сидела нахохлившись на заднем сиденье, пряча подбородок в пушистой мохеровой кофточке нежно-лилового цвета, и только улыбалась в ответ.
— О чем задумалась моя хозяюшка? Может быть, нам остановиться и перекусить?
— Я об Одессе все время думаю, — ответила оиа однажды на подобный вопрос.
— То есть?
— Я однажды была уже там... Хожу теперь, вспоминаю... —Она вдруг хрипловато рассмеялась и закашлялась. — Господи! Когда же я смогу выкурить хорошую сигарету? Это черт знает что! То ли мох, то ли солома...
— Ну и что же ты вспоминаешь?
— Одессу! —удивленно ответила она. — Я ведь приеду в Москву из Одессы, верно? Вот и вспоминаю. Море тепленькое-тепленькое! Но глубокое. И песочек...
Теперь, когда они катили под солнцем, она тоже, как и Красков, ожила, оживилась и стала причесывать свои потрескивающие, развевающиеся на ветру волосы. Она сидела рядом, и Красков слышал это электрическое потрескивание и запах польского лака, которым она пользовалась, укладывая волосы. Даже его иногда просила, чтобы он опрыскал ее конфетно-приторным туманом. А он чувствовал себя садовником, поливающим цветок. От былого лоска ее ногтей не осталось и следа. Да и вся она опростилась за это время, очень загорела и похудела, чему была несказанно рада, хотя Красков и не разделял этой радости. «Брюки у меня соскакивают, платье, как на вешалке!» — говорила она с хвастливым восторгом.
— Господи, как хорошо, —вдруг сказала она. —Какое счастье, когда солнце. Ты себе не можешь представить, и ты знаешь, я очень-очень хочу есть. И вообще все очень-очень хорошо. А главное, я уже привыкла к мысли, что была не в Эстонин, не в Прибалтике, и не с тобой, а была одна-одинешенька в Одессе, на Черненьком-Черненьком море! Я так уже привыкла, что даже страшно! Как будто я и в самом деле еду домой из Одессы.
— Я рад за тебя, — откликнулся Красков, выбирая место для стоянки, какую-нибудь съездную дорожку, чтобы можно было отдохнуть в лесу.
— Я страшно не люблю обманывать! Потому что, когда обманываешь, чувствуешь себя такой подлой и противной, просто ужас! Я терпеть не могу неуверенности в себе, а когда обманываешь, такая неуверенность тошнотворная. Я не выношу обмана!
— Умница!
— А теперь я еду из Одессы. Ты мне не веришь? Смеешься? Но я-то знаю это! Я в самом деле была в Одессе, честное слово! Меня никто не собьет. Никто! Даже ты! — И она тоже рассмеялась.
И так, смеясь, они съехали с шоссе по проторенной сухой дорожке, которая сразу же исчезла в траве, среди осинок, берез и елок. Красков свернул в лесной тупичок, машину сильно качнуло на кочке, и он выключил зажигание.
— Поцелуй своего шофера, — приказал он.
Согретая солнцем придорожная лужайка, не тронутая съезжающими автомашинами, так густо и ярко заросла цветами, так звенели в этих перепутавшихся цветах кузнечики, такая тишина вдруг ударила в уши, что Красков, отойдя от горячей машины, свалился будто в обмороке в эту мешанину цветов, в эту красотищу, в тягостно-приятную, благовонную запашистость земли и цветущих трав и закричал:
— Эй, золотая моя и сиреневая! Иди сюда! Ты посмотри, что тут творится! Какая тут жизнь, господи! Ах, как я люблю все это! Как люблю! Ты смотри, какие цветы! Они похожи на тебя... Ты, конечно, лучше! —говорил он, глядя снизу вверх на подошедшую жену. — Но ты посмотри! Здесь тоже золотые цветы, как твои волосы, и лиловые, как твоя кофточка... Лиловых больше. Это осенние цветы, самые поздние и поэтому самые чудесные! Ты знаешь, как они называются? Вот этот, желтый, видишь, соцветие какое тяжелое, как будто желтые ягоды, и все собрались в щиток —это дикая рябина. Правда, похож на гроздь рябины, и даже листья похожи. А этот, желтый?! Знаешь? Ничего ты не знаешь! Это золотая розга! А это козлобородник... Видишь, похож на одуванчик, а стебель другой совсем, как будто весь в паутинке? А это? Этот лиловенький цветок называется васильком. Это василек, но только фригийский. Ты приглядись к нему! Он очень похож. Видишь? Очень похож. Только больше и пушистее. А по красоте ничуть не уступает голубому. Хочешь, я совью тебе венок из этих васильков. Ты приедешь в Москву в венке из фригийских васильков. О, златокудрая!
— Боренька, милый, — изумленно воскликнула она. — Откуда ты все это знаешь?
— Как откуда?! — с таким же изумлением отвечал он чуть ли не криком. — Я родился среди этих цветов. Меня научила мама в детстве, а маму, наверное, моя бабушка... Все очень просто! Я очень люблю эти цветы... васильки эти фригийские! Они цветут чуть ли не до октября. Это цвет осени: лиловый и желтый... А ты! Ты у меня соцветие! Кстати, василек — это тоже соцветие, это не один, как все думают, а много цветов. Каждый лепесток — отдельный цветочек. Ты тоже мое соцветие. В тебе так много этих лепестков, что я даже не знаю, какой из них мой. Ты мой фригийский василек. Мой поздний цветок. Ты меня сделала счастливым. Я это говорю тебе самым серьезным образом. Я тоже ненавижу обман, как и ты. Я не знаю тоже, куда мы ездили, в Одессу или в Прибалтику, — я знаю, куда мы приехали. Я понимаю тебя! Какая разница, где мы были. Важно, где мы сейчас! Где были всегда... На будущий год мы с тобой поедем знаешь куда? Мы поедем куда-нибудь на берег какого-нибудь озера или реки. Ты согласна?
Она стояла, возвышаясь над Красковым, и зачарованно смотрела на него, на седеющего этого мальчика, лицо которого было исполосовано резкими тенями качающихся стеблей. Губы ее, казалось, пересохли вдруг от возбуждения, она беспомощно пожевала ими, а лицо ее неожиданно тронула то ли улыбка, то ли жалкая гримаса отчаяния.
— Зачем ты все это, — сказала она, страдальчески вскинув брови. — Ты это все мне зачем говоришь?! Я ужасно боюсь...
— Чего же ты боишься? —спрашивал он, провожая ее до машины и успокаивая ее, плачущую. — Не надо ничего бояться, девочка моя!
— Я боюсь, — говорила она, глотая слезы и дергая мокрым носом. — Что ты... Ты такой хороший, что я боюсь, что... ты разлюбишь меня. Я не привыкла... Нет... Я привыкла, что...
— Ну, успокойся, родная моя, успокойся. Я все понимаю. Ты теперь устала. Мы так долго едем... Все едем, едем... Если хочешь, мы сегодня же будем в Москве. Зачем нам ночь еще ночевать в Смоленске?
— Нельзя, — всхлипывая, сказала она, словно простуженная. — У меня ведь только завтра кончается путевка... Я и так уж... придется обманывать маму.
И они остались в Смоленске. А па следующий день после полудня приехали в Москву.
— Слушай, а ведь вот какая штука! — воскликнул Красков. —Я даже не знаю, где ты живешь, не знаю твоего адреса! Не было случая спросить. Ничего себе, а?!
А она, присмиревшая и очень сосредоточенная на чем-то своем, нервно ответила:
— Я сойду где-нибудь около стоянки такси.
— Что за глупость!
— Так надо. Я подъеду к дому на такси.
— Но ты хоть скажи мне адрес.
— Я тебе сразу же позвоню.
— Ну хоть... Я даже телефона не записал! Хоть телефон!
Но она вдруг встрепенулась и быстро, суетливо заговорила:
— Вон такси! Вон такси! Ты можешь меня здесь... высади меня здесь. Да, да! Здесь. Здесь можно, наверное. Здесь — да, стоянка.
И он подъехал к тротуару. С холодным равнодушием поднес ее чемодан к такси и, опустошенный, очень усталый, измученный тоскливым предчувствием, хмуро попросил ее:
— Все-таки дай мне свой телефон.
А она засмеялась и удивленно спросила:
— Ты что, не веришь мне? Ты пойми, я жутко волнуюсь! Жутко! Я ненавижу вранье, а мне сейчас придется врать... А в общем-то! Почему врать?! Нет! Я ведь была в Одессе. Да, я была в Одессе. Море тепленькое и глубокое. И каштаны. Я тебе обязательно тут же позвоню.
Она поцеловала его, села в машину, хлопнула дверцей. Испуганно взглянула на Краснова, с каким-то заискивающим видом помахала, а вернее, пошевелила пальцами, прощаясь с ним, и уехала.
Она не позвонила ему.
С больной головой, вялый, обессиленный, он боялся и на следующий день выйти из квартиры, боялся сходить даже за сигаретами, все прислушиваясь к молчавшему телефону и к себе, к своему собственному удивленному и все еще живущему надеждой оптимисту.
«Может, у меня телефон не работает? —осенила его счастливая мысль, —Черт побери, как же это я... как же... сразу-то…»
Он торопливо набрал номер точного времени, и железный голос ответил: «Шестнадцать часов тридцать две минуты».
«Да, но, может быть, что-нибудь со звонком?»
Позвонил приятелю:
— Что-то у меня с телефоном, слушай. Ты набери мой номер, я звонок проверю, работает ли, — и положил трубку, в тайной надежде поглядывая на аппарат.
Резкий, пронзительный дребезг заставил его вздрогнуть, Со злостью поднял он трубку и сказал раздраженно и нетерпеливо:
— Да, все в порядке. Спасибо. Приехал, да. Где был? А черт знает, где! Везде был. Да. То ли в Одессе, то ли в Прибалтике. Я потом, при встрече все расскажу. Да, все хорошо. Ну что ты!.. Все оглично. Да. Будь здоров.
У него пощипывало глаза. Он все время жмурил их и придавливал пальцами, словно бы они вылезали у него из орбит.
Он вспомнил о мокрой палатке в чехле и подумал, что, пока светит солнце, надо бы расстелить ее в комнате и просушить. Еле справился с неподатливой мокрой тяжестью.
И вдруг понял, что в жизни его произошло что-то очень важное и серьезное. Звонка не будет. Он это знал...
«Почему же она так испугалась, когда я про цветы говорил? —подумал он отрешенно. — Знала, что обманет?»
Бездонная тоска. И те же, как будто рыдающие вздохи... «Что за чертовщина?!»
С печальным спокойствием и даже с удивлением подумал, что в жизни его нарушилась связь времен: только что будущее было в его рука.х, он жил в этом будущем, а теперь навсегда оно ушло в прошлое. Красков даже улыбнулся, довольный трезвым своим анализом.
Он и мысли не допускал, что наконец-то несколько недель прожил не в иллюзорном будущем, а всего лишь навсего — в настоящем.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
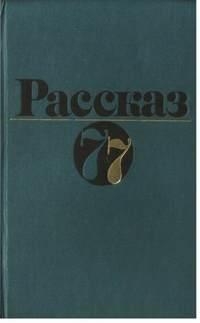




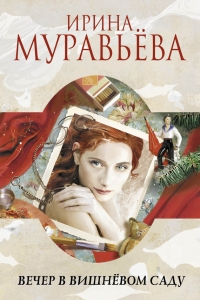

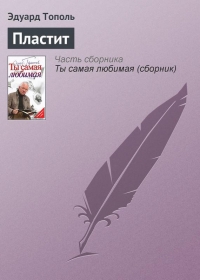


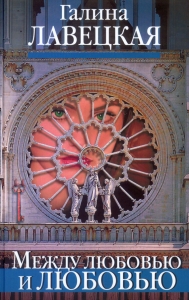
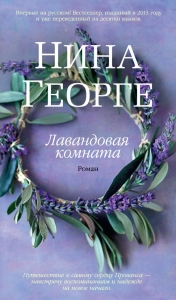

Комментарии к книге «Фригийские васильки», Георгий Витальевич Семёнов
Всего 0 комментариев