Дмитрий Иванов Как прое*** всё
© Иванов Д., текст, 2016
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Я ненавижу книги.
Каждое утро я встаю, пью кофе, смотрю в окно и ненавижу книги. Одиннадцать лет. Каждый день и даже во сне я ненавижу книги и ищу истории, которые могли бы ни много ни мало… изменить мир. Мой мир, ваш мир, наш мир. Превращаю истории в кирпичики из бумаги и картона, кирпичики побольше и кирпичики поменьше, потолще и потоньше, черные и белые (только не горелые)…
Толстой. Достоевский. Гоголь. Ну, Булгаков. Ну, Чехов. Висят над школьной доской, пылятся. Их профили выбиты на медальках, напечатаны на конфетных фантиках, отлиты в бронзе, высечены в мраморе. А есть другие. Без фантиков, мрамора и даже без школьной доски. Неизвестные, не знакомые ни мне, ни вам (порой до самого выхода тиража из печати), но похожие друг на друга в одном: у них за душой есть классные истории.
Эти истории могут стать для вас… ничем не стать. А могут – утешением, советом, помощью, путешествием куда-то, откуда вы вдруг все увидите в невероятно четком свете и тут же все поймете, как будто знали всегда. Написанные из радости и боли, но никогда – из равнодушия. Из любви и ненависти, но ни разу – из душевного холода.
Берите, читайте или просто пролистывайте. Мните, разглаживайте, загибайте и отбивайтесь от (подставьте каждый что-то свое). Забудьте сразу по прочтении или запомните навсегда.
А я… я найду еще;)
Ваша Юлия КачалкинаУ меня дома всего пять книг. Большая, маленькая, синяя, коричневая и… Мураками! Я не очень помню, кто автор у четырех из пяти, а с Мураками я люблю пить вискарь и слушать джаз.
Главное, зачем мне нужны эти книги дома – затем, что я их люблю перечитывать. Вот эта – про любовь и прощение, вот эта – по приколу, а вон та – про то, что грустное на самом деле часто – очень смешно – помогает не драматизировать всякую житейскую фигню.
Для меня книга – это кино, которое я сам режиссирую в своем воображении. Ни больше ни меньше. Посмотрел, получил эмоции и дальше ищешь что бы такого «снять». Меня интересует только история. Хорошая и хорошо написанная. И, желательно, не про вселенскую тоску, какое бы имя ни стояло на обложке и какие бы литературные премии книга ни получила.
Вообще не понимаю, зачем литературу сделали знаменем снобизма. Я обычный нормальный читатель, и я хочу просто развлечься. Хоть с Чеховым, хоть с этой, в черной обложке.)
Лишь бы история была клевой, и автор не зануда)
Владимир Чичирин, обычный читатель.У меня никогда не было книжных полок, но я всегда покупала книги и закапывала их по углам в квартире, заваливала столы, набивала ими пакеты и откладывала на время, пока не приобрету большие такие, высокие книжные полки. Когда они появились, книги легли на них все своей массой и… застыли во времени, в ожидании, когда я их возьму и перечитаю. А я не брала и не перечитывала, некоторые даже ни разу не открыла. И стою я теперь периодически, любуясь на полки, и не поднимается у меня рука, чтобы нарушить порядок. И я стала думать, почему так: вроде бы все как надо – есть коллекция, живущая в уютном месте, а интереса прочесть нет, что случилось? И поняла, что случилась жизнь: «постарели» эти книги, а я как бы «помолодела». И неохота мне читать ладно скроенные по шаблону произведения, открывать одни и те же угрюмые обложки НАДОЕЛО. Хочется легкости «книжного бытия», хочется по-настоящему талантливой литературы, умеющей простым и веселым языком сказать о любых вещах, даже мрачных.
Теперь у меня есть книжные полки, и, хотя я знаю, что когда-нибудь и это новое осядет тяжелым нечитаемым грузом, я готова произвести революцию: повыбрасывать сегодняшнее избитое старое и поселить там то, что действительно будет пусть временно, но «работать» на меня – с удовольствием читаться…
Ольга Байкалова, пока лояльная коллегаБуквы и пробелы
Мой дорогой читатель! Я нечетко тебя представляю, я даже не знаю, есть ли ты. Но если ты есть, наверняка ты иногда ходишь по книжным магазинам. Я не знаю, для чего ты это делаешь, что ты там ищешь, в этих магазинах. Ведь буквами и пробелами сыт не будешь. Может, ты приходишь в книжный магазин, чтобы познакомиться с хорошенькой девушкой – ведь они часто ходят туда, правда, я не знаю зачем. А может, ты, читатель, и сам девушка, тогда зачем ты ходишь в книжные магазины, неужели для того, чтобы с тобой познакомился какой-нибудь неудачник? Но как бы там ни было, если ты ходишь в книжные магазины, ты наверняка видел полки, заваленные книгами «Как стать успешным за месяц», «Как стать сексапильным за 100 дней», «Как написать бестселлер», «Как продать родную мать», и так далее. Эти книги хорошо покупаются. Я не знаю точно, кто их покупает, но могу предположить: те, кто задает себе этот вопрос. Просыпается, видит полоску солнечного света на полу и спрашивает сам себя: «Как же, сука, мне стать сексапильным?» Пойду куплю книжку, там все написано.
Да, это правда, и я не могу скрывать ее от тебя, дорогой читатель: 98 процентов населения планеты – кретины, и с этим ничего нельзя поделать. Но как быть с оставшимися двумя процентами? На полках нет книг, отвечающих на вопросы, которые мучают их. Эти два процента не спрашивают себя по утрам: «Как мне стать сексапильным». У них другие вопросы. Значит, для них должны быть готовы другие ответы. «Как так и не найти себя в 37 лет», «Как не обрести много-много друзей и потерять одного-единственного друга, потому что он авангардист и наркоман»… Ну а бестселлером для двух процентов, без сомнения, должна стать книга «Как про***ть всё». Такую книгу, а вернее, эту самую книгу, ты и держишь сейчас в руках, дорогой мой читатель.
Ничего не обещаю. Я не могу бросить спасательный круг, я могу бросить тебе только камень.
В этом тексте ты не найдешь босых следов античности и окаменелых философских ракушек. Буквы и пробелы. Вот все, что я могу тебе предложить.
Мой долг
Мой долг – рассказать, как это случилось со мной. Как я распорядился тем немногим, что у меня было, – жизнью. В другой ситуации я не стал бы об этом рассказывать, потому что это не престижно. Я имею в виду, это не престижно – рассказывать, как просрал свою жизнь. Но долг заставляет. Я расскажу.
Вот сейчас все говорят – нет современного героя! Искусствоведы в панике. Искусствоведы плачут: нет героя, где герой? Нет его. Беда? Да. А ведь искусствоведы, хоть чаще всего они и извращенцы, в данном случае правы. Плохо без героя. Когда нет героя, искусству нечем заниматься. Потому что искусство без героя – это псевдоискусство. Сейчас вокруг одно псевдоискусство. Делают его люди, которые, может, с радостью делали бы искусство. Но они не могут, потому что у них нет героя. Потому что на том месте, где раньше были герои, сейчас пидарасы. Печально? Да.
Онегин и Татьяна
Кто в первую очередь приходит на ум? Конечно, Евгений Онегин. Созданный гением Пушкина герой просрал все: имение, состояние и, наконец, Татьяну. Онегина, как истинного героя, огорчила только последняя потеря. Потому что во все времена имение и состояние были для героя не важны. Нет, состояние для героя важно – его внутреннее, сумеречное состояние. Но это другое. Онегин проебал Татьяну. Она любила его, но он был слеп, потому что был эгоистом. Герои всегда эгоисты, и зачастую именно это приводит их к полному просёру. Когда Онегин просрал весь бабос, это его не огорчило. Хотя потеря бабоса, как принято считать, ведет к потере респекта. Но Евгений был героем и знал: даже если он просрет весь бабос, а с ним и весь респект в современном и отвратительном ему обществе, у него все равно останется огромный запас самореспекта. А это для героя главное. Потому что герой, который знает про себя, что он уже не герой, – это кто? Это пидарас натуральный, которых во множестве я наблюдаю в современном и отвратительном мне обществе.
Когда Евгений просрал любовь, он расстроился. Как правило, после этого следует кончина героя, которую Пушкин не стал описывать – ему было это трудно, ведь он любил Евгения. Но мы можем быть спокойны за Онегина: Евгений долго не прожил. Что это за герой, который, просрав все, просрав любовь, после этого спокойно живет? Это не герой. Это пидарас. По-другому не скажешь.
Джим и папа
Авот еще пример. Герой так герой, с него пример брали многие мои покойные друзья, потому что дурной пример заразителен: Джим Моррисон. Упрекнуть Джима не в чем. Конечно, многие упрекали: что ж так рано умер, что ж так мало оставил альбомов и так много вопросов. Тора для кретинов – «Википедия» и вовсе заявляет: «…Судьба Джима представляла собой скоростной спуск по наклонной плоскости: пьянство, аресты за непристойное поведение и драку с полицейскими, превращение из идола для девочек в толстого бородатого неряху…» Гори в аду, «Википедия», что с тебя взять, в тебе статья про Владимира Путина в тридцать раз больше статьи про Джима Моррисона.
Зачем Джим поступил так со своей жизнью, со своей группой, со стихами, которые не написал, хотя мог? Нет. Не геройские это вопросы, не геройская тема. Потому что геройская тема – это оставить после себя обязательно короткий и обязательно трагический след. Джим принадлежал к легендарному поколению, просравшему все. Будучи мажором, он рано понял, что вокруг него и в окружении папы – одни пидарасы, и его самого, адмиральского сынка, ждет та же участь. Джим не мог с этим смириться. Он был решителен, он сделал все правильно. Просрал большие поэтические планы. Но что это такое – «большие поэтические планы»? Это только у пидарасов могут быть планы издать полное собрание сочинений и перевести его на языки экономически развитых народов. Потому что экономически отсталым народам переводная поэзия не нужна, у них, как правило, до хуя своей поэзии, свою-то девать некуда, а вот экономически развитые народы своей поэзии не имеют и поэтому вынуждены читать в переводах чужую.
Как поэт может жить долго? Сейчас нет героев, но есть поэты-старики. Поэты-пердуны. Посмотрите на них. Какой позор! И еще есть поэты-стартаперы. Они молодые, они с утра не пьют и не курят, не жахаются героином, а занимаются своей карьерой. Просыпаются, умываются, тщательно, как кошки, потом – нет, не бреются, борода у них не растет, потом снимают пижаму, они спят в пижамах, потом завтракают, овсянкой и апельсиновым фрешем, чтобы жить долго. Потом занимаются, своей карьерой. Стартапом. С утра. До вечера, когда опять надевают пижаму и мажут кремом лицо, чтоб оно не старело. Поэты-пердуны и поэты-стартаперы.
Джиму было бы тяжело это видеть. Он умер в 27, сейчас ему было бы, наоборот, – 72. Он всё правильно сделал. Прожил короткую жизнь, как герой. Просрал все, но не просрал главное. Остался героем. Джим положил свой мощный хуй на современный ему американский истеблишмент. Хуй поэта пережил его. И мы и сегодня наслаждаемся замечательными подвигами Джима, сохранившимися на аудио и видео.
Лексические нормы
Здесь следует, то есть пора, сделать небольшое отступление по поводу лексических норм в данном произведении. Читатель, вероятно, заметил, что в тексте нет-нет, а встречается слово «хуй». Автор понимает, что употребление таких слов может оттолкнуть неподготовленного читателя, но что еще более страшно для автора – неподготовленного издателя. В этой связи автор даже размышлял, не обойтись ли ему вовсе без подобных терминов. Но очень скоро пришел к пониманию, что без слова «хуй» разговор о героях и полном просёре будет до обидного неполным. Чего я позволить категорически не могу.
Тогда я стал размышлять: а может, подготовить неподготовленных, то есть сделать комментарий, в котором объяснить читателю (и издателю), что в данном произведении слово «хуй», как и другая непотребщина, употребляется в совершенно особенном смысле? То есть под этим словом автор понимает чаще всего не столько собственно пенис Джима Моррисона или других парней. Под этим словом автор понимает символ, своего рода флаг над сожженной дотла, но не покорившейся врагам крепостью; хуй героя дорастает до сверхсимвола, сверхсимвола, который на законных основаниях может быть употреблен автором.
Русская традиция
Что касается русской героической традиции, то здесь понимание слова «хуй» как сверхсимвола наиболее заметно. Не секрет: когда нигеры пишут на заборе слово fuck, они чаще всего понимают его буквально, то есть пишут о том, о чем мечтают, – ведь для человека так естественно писать на заборе о том, о чем он мечтает. А во все времена нигеры мечтали о простых вещах – чтобы собираться на улицах «черных» районов, петь, виртуозно играть на музыкальных инструментах, танцевать брейк и спариваться. Принято считать, что исключением был Мартин Лютер Кинг, который мечтал о равноправии для нигеров, но, по мнению автора, Кинг лишь упорно добивался равноправия для себе подобных, из-за чего и был убит белыми, а мечтал он о том же, о чем мечтали и другие нигеры, более того, если бы Мартин Лютер Кинг добивался того, о чем мечтал, он бы остался жив и стал бы рэпером, то есть богатым нигером, уважать которого приходится даже белым. Здесь, кстати, открывается важная вещь: добиваться следует того, о чем на самом деле мечтаешь, а не гнать по социалке, что беспонтово, да еще и опасно. Тут можно вспомнить Джона Леннона, который пошел воевать с Белым домом вместе с Йоко Оно, вместо того чтобы просто и нежно пороть японку, и это опасное хождение в сторону Белого дома стоило жизни Джону, и стоило Джона – бедной японке. Очевидно, что джаз, блюз, рэп являются для нигеров лишь простым способом понравиться нигершам и получить право на спаривание. Поэтому нигеры и пишут на заборе слово fuck, имея в виду то, что русский человек с присущей ему теплотой называет поркой.
Русский человек пишет на заборе слово «хуй» совсем из других побуждений. Издревле на Руси (со времен Ярослава Мудрого) это слово на заборе пишут не только и не столько подростки (подростки здесь наиболее близки к нигерам), но и взрослые – отцы, а иногда даже деды, уважаемые на работе и в обществе люди. Почему они это делают? Когда взрослый человек пишет на заборе слово «хуй», он имеет в виду, конечно, не хуй, предмет хоть и радостный, но обыденный и понятный. Он говорит о себе – предмете непонятном и чаще всего безрадостном. Он дает себе наиболее точное и емкое определение. Русский человек поступает честно, когда таким образом признает, кто он есть на земле, тем более что, как правило, в этот момент его никто не видит, а это всегда облегчает честность признания перед самим собой и Богом. Некоторые русские люди, а именно они наиболее интересны автору, так как они и есть герои, напротив, пишут на заборе, когда их все видят. В этом есть мужество. Слово «хуй» на заборе – это всегда крик, обращенный в космос, это протест, это осознание собственной малости в сравнении с раскинутой над головой насмешливой бездной.
Вот в таком смысле все это видится.
Малые частицы
Но потом автор понял, что все это сложно и что все это тем более отпугнет неподготовленного читателя и издателя. Почти потеряв надежду найти выход из этой ситуации, я даже позорно размышлял, не замаскировать ли слово «хуй» каким-то не обидным, приемлемым и для издателя, и для читателя образом – так, чтобы смысл оставался ясен, а внешняя грубость термина ушла. Вертелись в голове такие модуляции, как, к примеру, «хуц». Например: Онегин положил свой бледный хуц на светский Петербург. Вроде бы и довольно понятно, и вместе с тем не грубо. Хуц – в этом даже есть какая-то интеллигентность, это даже похоже на фамилию какого-то физика-еврея. Так и видится статья в «Педивикии», Торе для леммингов: «Иосиф Израилевич Хуц, академик, друг и соратник академика Иоффе». Фотография: бородка, над ней взгляд печальный, чуть тухлый от формул. Хуц всю жизнь работал как проклятый, чтобы на закате, уже перед смертью, открыть, вывести на кончике карандаша новую малую частицу. Это престижно, считается у физиков, – на кончике карандаша вынуть из тьмы какие-то частицы, столь малые и жалкие, что никому, кроме открывателей, они и не нужные, но важные для понимания законов Вселенной.
Иосиф Израилевич открыл новую малую частицу, позвал ученика Борю, показал ему эту частицу, все про нее объяснил, подарил Боре микроскоп, дошел до своего любимого диванчика без одной ножки и умер. Да. Так оно чаще всего и бывает: для понимания законов Вселенной нужно найти частицу, самую малую и жалкую. Автор находит это печальным. Открыватель находит частицу, но счастья от открытия ощутить не успевает, силы покидают его – слишком много он отдал их науке. По концовке ученый гибнет. А частица, открытая им, живет. Автор находит это все… нет, не просто печальной, а подлинно трагической хуйней.
Итак, хуц. Но – нет и еще раз нет. Есть в этом что-то стыдливое, позорное; это как прикрыть хуй Джима Моррисона фиговым листком – что хоть и придало бы Джиму определенную античность, но порядком огорчило бы его. И тогда автор принял мужественное решение смотреть правде в глаза. Это страшно, но честно. Поэтому здесь и далее хуй в тексте будет фигурировать как хуй, а не как физик И. И. Хуц. Да, таким решением автор решительно отсекает многомиллионную армию неподготовленных читателей и издателей, сделав ставку на подготовленных, а их мало. Но в этом есть героизм. О героях моральное право говорить имеет только герой.
Мосфильм
Продолжая разговор о героях и просёре, нельзя не вспомнить тусовку Олега Даля, Владимира Высоцкого, Василия Шукшина. Это была крепкая водочная туса. У них просто не было мазы взять ЛСД, как у Джима Моррисона, потому что в буфете Мосфильма ЛСД не продавали, и они убивались водкой. Водка – короткий путь к успеху. Герои идут прямо к цели. Герои не виляют жопой, как пидарасы. Потому что только у пидарасов целью может быть жизнь и все ее блага. Цель героя – смерть и все ее блага. Посмертная слава, посмертные издания, посмертные гонорары для пидарасов-наследников. Характерно, что герои никогда не могут воспользоваться благами своей цели. Поэтому они – герои.
Широко известно, что Олег Даль, Владимир Высоцкий, Василий Шукшин чувствовали себя в современном и отвратительном им советском обществе один хуже другого. От этого они жались друг к другу, вместе бухали и, как следствие, так и отъехали, всей тусой. Это вызывает уважение. Хорошая организация, синхронность. Они заимствовали ее у пловчих-синхронисток. Синхронно выставили ноги на прощание и под трагический музон синхронно погрузились. Это красиво.
Сейчас все только изображают героев. На том же Мосфильме сейчас – где герои? Нет их. Взял в руку пистолет – уже герой. Но что это за герой? На экране он с пистолетом в руке, а в жизни педик, и голос тонкий.
Плохого кино больше, чем хорошего. В плохом все кончается хорошо. В хорошем все кончается плохо. Взять «300 спартанцев». Что сделали «300 спартанцев»? Вышли толпой из трехсот пацанов на миллионную армию пидарасов-персов и проебались. «Лицо со шрамом» – герой проебался. «Гладиатор» – тоже. «Последний самурай» – и тот проебался. А что еще мог сделать последний самурай? Открыть суши-бар? Нет. Смерть лучше суши.
Пол Маккартни
Изображать героя может любой пидарас. А герои не изображают героев. Скорее, наоборот: герои часто выглядят, да и ведут себя, как скоты. Это традиционная, чисто геройская маза. В основе ее лежит, ясен-опасен, протест. Так, кстати, можно легко отличить героев от мимикрирующих под них пидарасов. Герои часто выглядят как скоты. А пидарасы всегда опрятны и пахнут Hugo Boss. Многие и многие имена героев упомянуть можно в этой связи. Это и вечно пахнущий не Hugo Boss, а навозом Геракл, и пачкуля Ван Гог, и упоминавшийся выше парень-мишень Джон Леннон. А вот Пол Маккартни, к примеру, явный пидарас: достаточно одного взгляда на его лживые коровьи чичи и многомиллионные вклады в банке, чтобы это понять. Но задача моя сейчас, конечно, не в том, чтобы перечислить имена героев. И уж тем более не в том, чтобы перечислить имена пидарасов, тем более что их списки были бы в миллионы раз длиннее списков героев, и кроме того эти списки постоянно надо было бы обновлять, а это адский труд, потому что каждую секунду на Земле кто-то рождается, и чаще всего это пидарасы, потому что герои рождаются редко, раз в сто или тысячу лет.
Пидарасы и геи
Здесь пора дать определение и часто встречающемуся в этом тексте термину «пидарасы». Не нужно путать «пидарасы» и «педерасты», то есть геи. Пидарасы – не значит геи! То есть не обязательно они геи. Сексуальный аспект в этом термине не является определяющим. Более того: хоть и редко, но геи бывают не пидарасами, а, наоборот, героями: широко известен гей и при этом не пидарас, а хороший вокалист и прекрасный человек Фредди Меркюри; также педерастом, пиздатым по своей экспрессивности балеруном, героем по жизни был Рудольф Нуриев.
Под пидарасами в этом тексте понимаются люди без стыда и совести, пустые и меркантильные, как бы выжженные изнутри – то есть большинство (98 процентов) взрослого населения планеты. Пидарасов всегда большинство. При этом их все время становится больше за счет высокой рождаемости. А героев мало, и при этом их постоянно становится меньше – за счет высокой смертности.
Доволен детством
Конечно, все проследить надо с детства. Все прекрасное в человеке и весь кал в нем – всё начинается там, в детстве.
Доволен ли я своим детством? Не всегда.
Жалею ли, что детство прошло? Да. Каждый день.
Все дети – хорошие люди. Я не верю в детей-пидарасов. Дети верят, что мама красивая, а папа починит. Потом дети вырастают и понимают, что их наебали. В зависимости от того, какое решение они принимают в этой связи, они и становятся либо пидарасами, либо – много реже – героями.
В детстве я не знал, что впереди меня ждет полный просёр. Вот почему мое детство было счастливым.
Полный просёр – определение
Здесь следует, наконец, уточнить понятие – «полный просёр».
Следует различать простой просёр – он бывает не только у героев и может случиться у рядовых пидарасов. Простой просёр – это неудачный день, или невыгодный контракт, или упавшая цена на акции. Также простой просёр может случиться от соединения в желудке несоединимых продуктов – в этом случае он сопровождается газами. Впрочем, и упавшая цена на акции также нередко сопровождается у пидарасов газами.
Сильно и очень невыгодно отличается от простого просёра так называемый полный просёр (тотал проёб). Случается он только у героев, так как пидарасы полного просёра боятся и не допускают. Полный просёр – это чисто геройская маза. Это быстрое и необратимое разрушение карьеры, судьбы и, как правило, самого организма героя. Это скоротечный распад героя на части, не подлежащие повторной сборке. Процесс этот, как правило, эффектен как зрелище, из-за чего привлекает толпы зевак-пидарасов.
Справедливости ради надо признать, что полный просёр в отдельных случаях также может – но только сознательно, это важно! – сопровождаться у героев газами (см. выше о героях и скотском облике).
Новый год настает
Однажды папа и мама готовились к Новому году. Папу и маму я очень мало помню вместе. Мама ушла от папы, когда я был маленький, потому что он много пил и дрался. На самом деле он был добрый. Мама говорит, что он много пил и дрался, потому что рано попал под дурное влияние друзей. Но я знаю, что это не так. Я сам провел под дурным влиянием друзей много лет. И знаю, что друзья ни при чем. Они сами мучаются.
Что-то есть такое внутри у человека, из-за чего он пьет и дерется. Что-то мучает его, а как избавиться от этого, он не знает. А окружающие его люди вместо того чтобы помочь ему, только и говорят, что вчера он снова вел себя как скот, всех обидел, а себя унизил, и теперь все они, кто видел это, будут это долго помнить, и ни за что не забудут, и будут всегда ему об этом напоминать, потому что люди пять минут помнят хорошее и всю жизнь помнят плохое, и от этого возникает злость, и начинаешь бить окружающих за их такую памятливость.
Близкие героя – бедные люди. Они не хотят верить, что в семье появился герой. Потому что для семьи это всегда большая беда.
В тот день папа не пил и не дрался. Он улыбался и был в белой рубашке. Они с мамой поставили в комнате огромную елку. Мы жили тогда в доме с очень высокими потолками. Елка была большая, и она пахла, как пахнет в детстве елка. Сильно так. Потом папа и мама стали вешать на елку игрушки. Игрушки тоже были очень волшебные. Их купил мой дедушка, он был чекист, палач. Он как-то достал по своим секретным палаческим каналам немецкие игрушки, таких тогда нигде не продавали. Фарфоровые католические домики, гномики, феи – в общем, всякая сказочная хуйня, очень красивая. Мама и папа мне показывали каждую игрушку, я любовался ею, а затем игрушка отправлялась на елку. Скоро елка стала вся в игрушках. Папа зажег гирлянду, это были маленькие лампочки в форме свечечек разных цветов. Свечечки горели. В комнате мама выключила свет. Стало вообще сильно волшебно. Горели свечечки, переливались на елке игрушки. Я помню, даже затаил дыхание, так это было красиво. Потом мама и папа ушли из комнаты резать птицу, на кухню. А меня оставили наедине с елкой.
Я долго ходил вокруг елки. Смотрел на нее. Я тогда не знал, что все это навсегда запоминаю. Я бы это и не запомнил, если бы не то, что случилось потом. Я потянул одну игрушку, хотел ее рассмотреть. Это был маленький сказочный домик, в маленьком окошке уютно горел свет. Я помню, мне очень хотелось попасть в этот домик, побыть там, внутри. Но это было невозможно, и я это понимал, несмотря на все свои странности, а в детстве я был странным, молчаливым, многие соседи даже думали, что, когда я вырасту, я буду дебилом, и мама плакала, когда ей это говорили. Но потом она показала меня врачу, он сделал мне снимок черепа и, улучив секунду, когда мама не видела, потому что рассматривала снимок моего черепа, вдруг подмигнул мне. А маме сказал: «У вас нормальный ребенок, поздравляю!»
Думаю, этот врач сам был такой же, как я. Он подмигнул мне, как бы говоря – не бойся, я тебя не выдам, мы должны поддерживать друг друга. Потому что это чисто геройская маза – поддерживать друг друга в мире, где все друг другом питаются. А героями питаются все. Героев всегда легко узнать по тому, что они стоят, а вернее, чаще всего лежат, на самом дне, внизу пищевой цепочки. То есть они никого не едят, потому что они сами – еда. Так вот, я не мог попасть внутрь волшебного домика. Тогда я решил хотя бы заглянуть внутрь через окошко. Там я предполагал обнаружить волшебство. Потому что был уверен: волшебство существует. Я и потом, когда вырос, всегда был уверен, что волшебство существует. У меня никогда не было доказательств. Но я всегда знал, что оно есть. Так всегда начинается полный просёр – он всегда начинается с волшебства. Точнее, с твоей уверенности в том, что оно, волшебство, существует. И ты начинаешь действовать так, будто оно существует. И попадаешь в полный просёр. Но ты сам выбрал этот путь. Теперь иди.
Мой папа, как оказалось, плохо закрепил елку. Или она была слишком большая и от этого неустойчивая. Так бывает. Величие часто напрямую связано с неустойчивостью, шаткостью, падкостью, наконец. Я всегда это чувствовал на себе. Когда я потянул игрушку, вся елка вдруг пришла в движение. Я успел посмотреть вверх. И увидел, как сверху на меня падает огромная ель. Сверху на меня летели с разной высоты, как бомбы, игрушки. Они сыпались сверху и взрывались, падая на паркетный пол. Потом елка накрыла меня полностью. Темным, колючим, пахучим кошмаром. Это был настоящий, трагический, полный просёр. В ту секунду я подумал, что было бы спасением сейчас умереть. Потому что родители теперь – за то, что я сделал, – будут меня страшно убивать.
Но, к моему огромному удивлению, меня не убили. Наоборот, мне очень повезло – так бывает в детстве, так бывает только в детстве. Мама испугалась за меня и поэтому совсем меня не ругала. И даже сказала, что игрушки ей совсем не дороги, а я дорог, и что я могу их все разбить, если хочу, лишь бы я сам был цел. А я заплакал, потому что мне, наоборот, было очень жалко игрушки. И я подумал, что лучше бы я разбился, а игрушки уцелели.
Когда я вырос, я потом много раз, при самых разных обстоятельствах, пытался исполнить это свое детское желание.
И еще я навсегда запомнил – что сказка может упасть на голову сверху, как бомба.
Слава и почести
Выше уже было сказано, что моя молчаливость в детстве была причиной серьезного беспокойства моей мамы. Она опасалась наследственности по линии папы. Ведь дедушка (отец папы) был чекист (палач), а его сын и мой папа – синяк (алкоголик). Мама очень боялась, что две эти романтические профессии наложатся как-то одна на другую и в результате миру в лице ее сына явится монстр. И действительно, я все время молчал. Все младенцы плачут, гукают, пукают, дают миру знать о своем отношении к нему. А я молчал, и от этого у мамы все холодело внутри. Она думала, что все-таки наложилось по линии папы. Но однажды произошел случай, который избавил маму от этих тяжелых мыслей.
У нас во дворе жила девочка, дочка соседей. Она любила играть со мной. Ее звали Лиля. Лиля была красивая. Мне очень нравилось, когда она брала меня на руки. Я хотел Лилю. Однажды Лиля – она не подозревала о том, что я ее хочу, и чмокала меня всюду, не подозревая, что от этого я хочу ее еще больше и именно поэтому писаюсь, – так вот, однажды Лиля взяла меня на руки и стала играть со мной в «ура». Лиля любила играть со мной, а точнее, играть мной в эту игру. Она подбрасывала меня высоко в воздух и кричала: «Ура!» Мне это нравилось. Как всякому герою, мне нравились слава и почести. Я улыбался. Улыбался я скупо, как подобает герою, которому почести нравятся, но которого они не слепят.
В тот памятный день Лилю неожиданно позвала ее мама. Лиля обернулась – то есть на секунду отвлеклась. Я взлетел в небо, подброшенный смуглыми руками Лили, я парил в синем небе (было летнее утро). И вдруг вместо женских рук меня встретил асфальт. Я упал. Это был полный просёр. Все соседи выбежали смотреть. Моя мама сразу отъехала в обморок. Лиля тоже отъехала. Даже мама Лили отъехала, но она притворялась, она меня не любила и была рада, что я упал.
И тогда я закричал. Но что это был за крик! Младенцы так не кричат. Я кричал громко, долго, потому что понял: славы нет и почестей нет, нет чуда, нет величия, нет женских рук, нет летнего утра. Ничего нет. Есть только асфальт. Я кричал. Мне было обидно и больно, больно и грустно. Потом это вошло в привычку. В том смысле, что именно так я потом чувствовал себя всю свою жизнь.
Бабушка
Бабушки бывают тусклые, бесполезные, бесформенные. Это можно понять, старость не радость. А моя бабушка была красивая. Она была трансильванкой. Широко известно, что Трансильвания – родина графа Дракулы, вампира и романтика, и, насколько я знаю, родственника моей бабушки по отцовской линии. У моей бабушки были черные волосы и присущие трансильванкам синие, такие синие-синие глаза, холодные и очень гордые. А лицо у бабушки было матово-белое. Топ-модели бьются за это сочетание: черные волосы, синие глаза, белая кожа. Но бабушка не билась за красоту, а просто носила ее, как платок.
Моя бабушка воспитала меня. Мой папа не смог воспитать меня, потому что он синячил и в его голове постоянно пели цыгане, вот так: «Ай-нэ-нэ-нэ, ай-нэ-нэ!» Это свело папу в могилу. А мама тоже не могла воспитывать меня, потому что в голове папы пели цыгане – «Ай-нэ-нэ-нэ, ай-нэ-нэ!» – и на маму легла вся ответственность. Маме пришлось много работать, чтобы обеспечить меня всем необходимым: фломастерами, пеналом и ранцем, а также лечить меня от детских болезней, поэтому мама сильно уставала. И меня воспитывала бабушка.
Бабушка была свирепа. Ее даже побаивался дедушка, то есть ее муж, старый винодел, молчун, человек мощный, изготовленный из цельной глыбы гранита.
Бабушка умела так взглянуть своими холодными синими глазами, что внутри у человека разливался холод и человек моментально заполнялся льдом. А будучи заполненным изнутри голубым, прозрачным льдом, человек полностью утрачивает волю. Это очень опасно. Если это состояние вовремя не прекратить, человек может погибнуть. Конечно, бабушка редко доводила дело до этого.
Бабушка видела будущее. Когда в детстве я узнал, что бабушка видит будущее, я очень удивился и спросил, как она это делает и зачем. А бабушка ответила, что она не знает, как это делает, а нужно ей это для того, чтобы готовить галущи – трансильванскую долму. Для приготовления очень вкусной долмы важно знать многое: в какой день сорвать виноградный листок и какой именно листок сорвать из тысячи возможных, сколько рисинок спрятать в каждый виноградный листок, в какой час зажечь огонь под казаном, а в какой погасить, и в какую минуту подойти к казану, снять крышку, понюхать вкусный воздух и сказать: всё.
Дар предвидения позволял бабушке, конечно, не только готовить галущи. Попутно она знала, кто когда родится и умрет, когда будет дождь, когда снег, когда засуха. Часто к моей бабушке приходили разные люди с нашей улицы и просили сказать им, что с ними будет. Бабушка одним говорила что-то на ухо, и они смеялись и благодарили бабушку, а другие, наоборот, плакали и спрашивали бабушку: «И что, ничего нельзя сделать?» А бабушка говорила, что нельзя. А некоторым, кто ей не нравился, бабушка ничего не говорила, прогоняла их, и они убегали с треском: это трещал заполнявший их лед.
Бабушка всегда была очень доброй ко мне, она никогда не смотрела на меня так, чтобы я заполнился льдом. Она мне пела очень старые песни. Бабушка сама не знала, на каком они языке. Эти песни ей пела ее бабушка, а той – ее, и даже бабушка Дракулы, звавшая его просто Владик, не знала, на каком они языке. Песни были разные, веселые и грустные. Грустных было больше. Я спросил однажды бабушку, почему грустных песен больше. Бабушка сказала, что я глупый.
Первое появление Светки
Героя всегда можно узнать по этому признаку: детство у него затянувшееся. Потому что герой только в детстве чувствует себя хорошо. Только пидарасу хорошо быть большим. Герою хорошо быть маленьким.
Герой до конца своих дней ждет. Чего? Чуда. Ждет, что наступит другая, настоящая жизнь. А пидарас ничего не ждет, потому что знает – в жизни надо выебать Светку и купить квартиру. Это ему, если положить на вышеназванные великие цели всю жизнь, чаще всего удается. Так человек и становится пидарасом. А герой скорее умрет, чем станет пидарасом. То есть справедливости ради надо сказать, герой тоже может выебать Светку, но всегда сразу же горько сожалеет об этом и убегает. А пидарасы остаются со Светкой.
Как-то я отвлекся, и откуда-то появилась эта Светка. Вымышленный, демонический персонаж.
Виновата среда
Конечно, во всем виновата она, пидараска-среда. Родители героев, они всегда, даже если отрицают это потом в интервью, виноваты в том, что вырастили героев. Часто это происходит оттого, что родители стараются дать ребенку все лучшее, чего у них не было, и оградить его от всего худшего, что у них было. Вот так и получаются герои. Так делать нельзя.
Звездолеты
Мой папа никогда не говорил мне, как надо жить. Папа сам этого не знал. В его голове всегда пели цыгане, вот так: «Ай-нэ-нэ-нэ», и еще вот так: «Ай-тыщ-тыщ-тыщ», и еще громче: «Ай-нэ-нэ-нэ, ай-тыщ-тыщ!» Папа был счастливым человеком. В ранней юности он взял в руку стакан вина, и стакан этот выпал из его руки только с последним вздохом. Я не осуждаю папу за прожитую так жизнь. Конечно, я всегда сожалел, что не могу поговорить с ним. Потому что он умер, когда я был маленький. Но потом, когда я сам вырос, я стал понимать его. Лучше, чтобы в голове пели цыгане: «Ай-нэ-нэ-нэ!», чем чтобы пели свои песни иерофанты. Во-первых, иерофанты поют намного громче цыган, и сделать тише нельзя. Во-вторых, цыгане в голове иногда поют веселые песни, хотя чаще – печальные. А иерофанты всегда поют очень громкие, очень бодрые, страшные песни. Они поют марши. У меня в голове с детства иерофанты поют. Я расскажу о них, иерофантах, потом.
Мой папа в юности подавал надежды. Это чисто геройская маза – подавать надежды. И это довольно легко: надо просто обладать каким-то божьим даром. А больше ничего не надо – подаешь надежду с утра, тебе за это наливают, и все. Наступает ночь. Еще одно удобство заключается в том, что каждое следующее утро можно подавать ту же самую надежду, потому что она никуда не девается, ведь она – божий дар. Ну а когда в одно прекрасное, а точнее, ужасное утро вдруг обнаруживается, что подавать надежду больше не получается, потому что божий дар ты просрал, – это далеко не конец, а только начало праздника, потому что все оставшееся – как правило, недолгое – время жизни можно всячески поминать божий дар. Ведь то, что божий дар вообще был, – большая честь и большое счастье, поскольку дается он не каждому.
Вот так мой папа и прожил свою жизнь. Он был ученым. В сфере его интересов находились такие науки, как математика и химия. Не могу признаться в любви к математике, а вот любовь к химии, забегая вперед скажу, мне по наследству передалась. По всему нашему дому были разбросаны смятые бумажки, исписанные формулами. У папы был очень мелкий, шизофренический почерк, совершенно неразборчивый, исключающий всякую возможность для кого бы то ни было воспользоваться записанным на бумажке знанием. Нередко уже на следующее утро тайным это знание оказывалось и для самого писаря. Но папа не отчаивался, и каждый вечер, если только в голове его цыгане не пели настолько оглушительно, что работать было невозможно, он покрывал формулами новые бумажки.
Всю жизнь папа искал способ создать новый, охуенно твердый металл. Он рассказывал, что если он когда-нибудь создаст этот металл и из него сделают тонкую полоску, то эта тонкая полоска всех переживет. Переживет сам мир. Библейски древний мир. Потому что эту полоску ни погнуть, ни расплавить, ни подвергнуть ржавлению – вариантов нет. Папа утверждал, что когда он создаст этот металл, то именно из него будут сделаны звездолеты. Как нетрудно понять из этого утверждения, мой папа сам был мощный звездолет. С присущей настоящему ученому и звездолету скромностью папа ожидал, хоть, конечно, и не собирался просить об этом Академию наук, что, когда металл будет создан, он будет назван в папину честь. Фамилия у моего папы была Иванов. Папа всегда говорил, что это очень хорошая фамилия, потому что она настолько всеобщая, что это все равно что иметь фамилию Космос. Так что, говорил папа, его вполне устроит, если новый космический металл получит пафосное и одновременно скромное имя – ивановий. В периодической системе Менделеева новый металл должен был потеснить самых тяжелых соседей и расположиться где-то между курчатовием и нильсборием. Такая компания тоже вполне моего папу (и созданный им ивановий) устраивала бы. Но потом случилось ужасное. Или прекрасное. Что, впрочем, в судьбе героя часто значит одно и то же.
Первые ответы в детстве, вторые – в беспечной юности героя, смертного человека, выбравшего путь полного просёра – путь, о котором самураи говорили, вонзая меч в печень: да, этот путь круче, чем наш, и нам, самураям, срать и срать до него. В юности папа попробовал вино. Ему, вероятно, понравилось, судя по тому, что случилось с ним потом. Папа стал пить вино каждый день. С друзьями. В жизни героя друзья играют важную, то есть роковую, роль. Герой всегда окружен друзьями. Это весело. Друзья героя – всегда харизматичные, яркие, пропащие ребята. С ними интересно. Трудно сказать, почему с ними так интересно. Вряд ли потому, что они харизматичные. Пидарасы тоже бывают харизматичные. А пропащими не бывают никогда. Пропащими бывают только герои.
Роса на травинке
Когда в жизни героя появляются друзья – это дурной знак. Первыми дурной знак обычно замечают родители героя. Родителями моего папы были, во-первых, его отец и мой дед – чекист, палач. О нем сначала расскажу.
С детских лет дедушка любил мучить людей. Вскоре это стало его профессией. Тут очень кстати грянула Великая Октябрьская социалистическая революция, и дедушка стал пыточных дел мастером. Как всякий палач, он знал о людях все, потому что часто слышал правду. Может, поэтому дедушка любил природу. Когда прошли годы и свое дедушка уже отпытал, он увлекся фотографией. Любил фотографировать виды и делал прекрасные видовые снимки. Аккуратно вклеивал их в альбомы и подписывал так: «Осенний лист», «Утка на озере», «Жук», «Муравей», «Роса на травинке».
Рыбалку дедушка тоже любил. Она его успокаивала. Это всегда было важно для дедушки – успокоиться и ненадолго забыть о содеянном. Потому что, если дедушка помнил о содеянном, в нем просыпались его наклонности, и он снова хотел содеять что-нибудь из содеянного. Так что всегда для всех было лучше, если он был на рыбалке.
Его жена, моя бабушка по линии папы, была актриса. Я ее не видел. Она умерла до моего рождения. Она была красавица и закончила первый выпуск ВГИКа, Института кинематографии, в те легендарные времена, когда в стенах ВГИКа трудились пионеры, новаторы кино – Эйзенштейн, Мейерхольд и другие гениальные евреи, замученные впоследствии моим дедушкой и его товарищами по клещам и ножовкам.
История знакомства дедушки-палача и бабушки-актрисы была романтична. Бабушка, тогда юная актриса, была красива и по этой причине была замужем. Ее мужем был преуспевающий коммерсант. Он покупал ей кольца и браслеты, водил в Большой и Малый. Но однажды в Питере состоялся бал, который давали питерские чекисты, молодые, красивые палачи. На бал были позваны девушки-актрисы из Москвы. Мой дедушка сразу же положил свой холодный глаз на юную актрису. Они станцевали, он прижал актрису к себе так, что у бедняжки перехватило дыхание, и сказал: будешь со мной, сейчас или никогда, да или нет? Дедушка был романтик – обычное дело для хорошего палача.
Бабушка сказала: да! Потому что «да» – это слово, которое во все времена женщина говорила герою. Стали они жить-поживать и папу моего наживать. Когда папа вырос, они его как-то упустили. Это случается с родителями сплошь и рядом. Потому что время летит быстро. Вчера еще – ребенок, при котором можно ругаться матом и спариваться. А завтра – взрослый парень, который уже сам бранится и спаривается с кем попало в родительском доме.
Когда папа стал подростком, он стал пить вино. Дедушка снимал росу на травинке, и его никто не решался от этого занятия отвлечь, это было опасно. А бабушка любила искусство. Она ходила на спектакли и оперы. С собой она брала маленький позолоченный бинокль, чтобы видеть гланды оперных примадонн. На своего сына, моего папу, она в этот бинокль не смотрела.
И папа стал ученым и синяком.
Если с другом вышел путь
Друзья первый раз налили папе полный стакан, папа попробовал и сказал: хорошо! Друзья спросили: еще? Папа сказал: еще. Друзья налили, папа снова выпил, друзья налили еще, уже не спрашивая, хорошо ли, потому что и так по папе было видно, что хорошо. Папа пил, а друзья все наливали, друзьям не жалко, на то они и друзья. Когда папа первый раз выпил восемь лишних стаканов, в его голове запели цыгане. И не смолкали потом никогда. Если в голове человека запели цыгане, заставить молчать их может только лопата могильщика. Цыгане, конечно, мешали папе работать, и папа даже иногда жаловался на них маме, но вскоре приспособился и научился работать, даже когда цыгане поют в голове.
Папа очень своеобразно работал. Он писал свои формулы в самых противоестественных позах. Он писал стоя, лежа на полу, стоя на коленях перед табуреткой. Он начисто отрицал письменный стол. Наверное, потому, что чем противоестественнее была поза, в которой папа находился за работой, тем ярче и жестче выжигал формулы на бумажках светоч папиной мысли. А стоило папе сесть за стол, как цыгане брали свои источающие повидло гитары, окружали папу и, тряся курчавыми головами, начинали: «Ай-тыщ-тыщ-тыщ, ай-тыщ-тыщ!»
Из-за того что в голове папы либо пели цыгане, либо зрел эмбрион сверхпрочного металла, папа был довольно рассеян в быту. Он не замечал, например, что мама переставляла мебель. Скорее всего, он не замечал и саму мебель. Скорее всего, он не замечал и маму, переставляющую мебель. Конечно, для мамы это было обидно. Однажды мама переставила папин любимый диванчик. Папа был мыслитель, поэтому, едва войдя в дом, обычно падал на свой любимый диванчик, который стоял при входе в комнату. Когда мама переставила его любимый диванчик, папа вошел в дом и упал на пол. Потом встал, огляделся, нашел свой любимый диванчик в другом углу комнаты, пошел и выпал на него. И стал размышлять. И ничего не сказал. Мама сначала обрадовалась, что папа упал, она подумала, что он заметит неожиданную перестановку и ее, маму, эту перестановку совершившую. Потом ей стало жалко папу, потому что папа упал на пол, гремя мозгом ученого. Потом маме стало обидно, потому что папа ничего не сказал и ничего не заметил. Вот какие разные чувства посетили маму. А папу тоже, вероятно, посетили разные чувства. Но он о них умолчал. Вот так они и жили.
Друзья папы, первые, самые лучшие, самые полно наливавшие, самые все понимавшие, скоро все умерли. Таково свойство первых, самых лучших друзей. Они всегда живут намного меньше вторых. Потому что они первые. Они если и спаивают кого-то, так только силой личного, своего примера. Я видел первых папиных друзей на старых фотографиях. Папа и его друзья стоят в ободранных послевоенных дворах в ободранных послевоенных штанах и смеются. Они не знают, что скоро умрут.
Папа в юности занимался плаванием, плавал очень хорошо и мог многократно и совершенно бесцельно переплыть реку. Первые друзья папы тоже были пловцами. Все они утонули.
Феномен
До сих пор не разгадан феномен, почему пловцы так часто тонут. Известно только, что всегда при этом они пьют. Почему пловцы много пьют – понятно. Юность пловцов проходит в жидкой среде, и они потом к ней тяготеют. Но почему они тонут? Моя основная рабочая гипотеза заключается в том, что пловцы больше не могут терпеть унижения этой жизни. Ведь как устроена жизнь? В ней, чтобы чего-то достичь, надо унижаться. Это закон. Его открыли давно и с тех пор скрывают от детей. Путь к успеху лежит через унижение. Всегда. Ты можешь, к примеру, стать удачливым пловцом. Олимпийским чемпионом, любимцем судей. Но для этого тренер должен много лет стоять на бортике и кричать тебе, ребенку: ну как ты плывешь, жаба, ну как ты работаешь руками, жамбон! – и энергично бить тебя длинной палкой. У тренеров по плаванию всегда в руке такая длинная палка, они стоят на бортике, и, чтобы больно ударить на расстоянии ребенка, нужна палка достаточной длины. Потом ребенок становится олимпийским чемпионом. Но всю юность его били длинной палкой по мокрой голове. Это формирует определенное отношение к жизни. В нем много горечи. Я сам занимался плаванием, я через это прошел. Или вот взять писателя. Я и через это прошел. То же самое. Писатель, чем он лучше пловца? Да ничем. Писатель даже хуже пловца. Писатель тоже может достичь успеха. Ему могут даже выдать Нобелевскую премию. Казалось бы, успех.
Нобелевская речь
Нобелевка – это да, так мы думали раньше с друзьями. У меня даже с двенадцати лет была заготовлена Нобелевская речь. Это же самое главное, это то, ради чего. Лауреат выходит во фраке, к нему медлительным, величественным таким захером выходят члены королевской семьи, все во фраках строго, в кроссовках – никого; лауреату вручают баблос и диплом, а он, как бы в знак благодарности, произносит традиционную короткую речь, в которой объясняет, как он сюда попал, что случилось и как он собирается теперь потратить свалившийся на голову кэш.
Фрак заранее, с двенадцати лет, готовить я не стал, и это было с моей стороны трезво, потому что я не выдержал бы и наверняка надел его до Стокгольма, на какую-нибудь рядовую синьку, и замызгал бы винищем и скумбрией. Так что фрак, если что, я решил купить перед самым вручением. А вот речь заготовил. Правда, я несколько раз ее дорабатывал, внося несущественные изменения. Дольше всего я бился над концовкой речи. В ней я хотел подчеркнуть, что бабос не сделает меня продажным пидарасом, а слава не сделает меня счастливым, и я не сдамся, лишь бы были гранаты, ну и все в таком духе.
Одна из ранних, пылких юношеских версий Нобелевской речи предполагала даже такой радикальный поворот, как сжигание чека и показывание оголенных ягодиц членам королевской семьи. Потом я отказался от этого хода. Это было бы нечестно, ведь члены королевской семьи – несчастные люди, а показывать ягодицы несчастным могут только пидарасы.
Потом я думал в финале речи обратиться к женщинам мира и сказать им что-то вроде: женщины мира, бледнокожие аристократки, и не бледнокожие, и не аристократки, я обращаюсь к вам; существует банк спермы Нобелевских лауреатов – это ж надо было такое придумать! – и я слышал, что вы, мои бедные женщины, платите огромные деньги, чтобы получить сперму какого-то престарелого физика, а я молод, здоров и готов не продать, а подарить свою сперму, и если вы красивы и любите русскую литературу, просто подойдите ко мне после тусовки.
Был, помню, еще такой вариант, неплохой тоже: я выхожу, видно, что выпивший, со мной пара индейцев, из самой неблагополучной в социальном отношении резервации, пара цыган, напряженных немного, потому что они в розыске и гитары в их руках тоже, трое пьяных молдаван, вообще не понимающих, что такое и кто все эти люди, затем пара огромных, толстых, черных блюзовых женщин в шикарных платьях и банных полотенцах на головах. Я молча принимаю чек, кладу его в задний карман фрачных брюк, и мы поем. Старую песню, ту самую, которую пела мне моя бабушка. Члены королевской семьи встают как один, кто напуган, кто растроган, какой-то смешной старичок предлагает мне корону, я говорю: «Оставь себе эту хуйню». Потом я говорю всем по-шведски: «Спасибо!» По записям турне великих рок-групп я знаю, это всегда круто, когда фронтмен может сказать слово «спасибо» на местном наречии. После чего мы – я, цыгане, нигерши и так ничего и не понявшие молдаване – уходим. А в зале еще долго аристократки утирают слезы с ухоженных плоских грудей. Вот так.
В общем, варианты были разные. К чему я это говорил? – а, да, писатель может получить даже Нобелевку. А все равно он будет помнить, как всю жизнь прожил в трэше, надеясь во сне: скоро слава, но утром все то же, немытое окно, денег нет, жена ноет: когда же у нас будет всё, и зачем я только родила ребенка от тебя, маргинальное говно, правильно мама о тебе говорила.
Так вот, я прикидывал. Стоишь ты у зеркала, фрак сел как надо, лицо тебе мажут голубые стилисты мягкими кисточками, через минуту идти в зал за Нобелевкой, все удалось, ну, и что ты чувствуешь? Ведь унижения по дороге в Стокгольм нельзя забыть? Нет, некоторые как-то могут забыть. Видимо, фрак так влияет.
Все, что со мной случилось, случилось со мной потому, что я так и не смог забыть.
Второе появление Светки
Друзья моего папы утонули. Так уходят из жизни герои, так уходят пловцы. Заплывают на середину реки, на берегу выпив всё. Говорят, уходя: «Светка, я пошел», а Светка говорит: «Хочешь, я пойду с тобой сплаваю, голенькая, и там, у буйка, ты узнаешь, что значит любовь?» Но герой говорит: «Нет, Светка. Я сам. А ты… Жди здесь».
И он плывет. Река – сестра ему. Река женского рода. Он плывет. Взмахи ритмичные, мастер спорта. И вот он на месте. Середина реки. Над ним ночь, под ним тоже, и пловец говорит, глядя в звезды: «Ну, всё, спасибо тренеру и всем ребятам, кто за меня болел. Я пошел». И выдыхает воздух из своих безразмерных легких, и сам становится не легче, а тяжелей воды, и ложится на дно, как камбала, и больше не всплывает – река забирает его. Река – сестра ему, река женского рода.
Опять появилась эта Светка, опять. За что?
Прощание с бессмертным металлом
Первые друзья папы утонули. Те, которые не утонули в реке, утонули в море. Те, которые не утонули ни в реке, ни в море, утонули в ванной. Папа остался один. Вокруг него были могилы друзей. На могилах друзей росла трава. Она была зеленая, сочная. В ней были соки первых папиных друзей.
Потом появились вторые друзья. Их было много. Вторых друзей всегда больше. Считается, что старый друг стоит новых двух. На самом деле двое новых, то есть вторых друзей не стоят одного старого. Чаще всего двое новых друзей вообще ничего не стоят. Потому что новые друзья не умирают. А что это за друзья?
Вторые друзья знали, что мой папа – мощный звездолет. И они растащили звездолет на запчасти. Известно, что запчасти к звездолетам всегда в цене. А сами звездолеты – нет. Парадокс? Да. А сколько их еще. Вместо того чтобы придумывать свой бессмертный металл, папа стал по просьбе вторых друзей придумывать металлы попроще, более смертные, но более нужные – его новым друзьям. Вторые друзья знали, что мой папа синяк, и приносили винище, лучшее топливо для звездолета. Папа любил выпить, в его голове вечно пели цыгане. А когда папа обнаружил, что его растащили на запчасти, было поздно. И он не сумел это исправить. Однажды ночью он пришел со дня рождения одного из своих новых друзей. Там он опять выпил. Восемь лишних стаканов. Хотя врачи говорили ему: не пей, умрешь и отодвинешь эру звездолетов хуй знает на сколько. Папа понимал, что звездную эру отодвигать он не имеет права, и старался не пить. Однажды он не пил целый год. Было грустно. Снова начал. Не было у него силы воли. А она нужна.
После дня рождения папа пришел домой и прилег на диванчик. Мамы и меня не было рядом. Папе стало страшно, наверное. Потому что он вызвал «скорую». Приехала «скорая», ею оказалась молодая девушка, она набрала шприц, а потом раз двадцать пронзила иглой руки папы, пытаясь найти вену. У нее не было опыта. Папа стал смотреть в потолок. Я не знаю, что он там видел. Может быть, формулу своего металла, который открыть так и не успел, и теперь не будет открыт Ивановий, потому что открыть его некому, и металл этот будет теперь вечно летать в темноте, сверхпрочный, но не открытый. Может быть, папа видел свою юность и первый стакан вина, самый лучший, самый сладкий. Может быть, он видел лица негодяев-цыган, которые всю жизнь пели в его голове и наконец его погубили. А может, он видел своих первых друзей, пловцов. Они плыли под водой дружной стаей, как сельди, и улыбались папе. Я никогда не узнаю, о чем папа думал в последние секунды своей жизни. Вообще, я никогда не узнаю многого о нем. Я был маленький, когда все это случилось, так что можно сказать, я никогда не узнаю о нем ничего.
Когда фельдшерица наконец попала в вену, папа закрыл глаза. Губы его посинели. По щеке сбежала слеза. «Скорая помощь» заплакала и упала перед мертвецом на колени.
Загробная жизнь
Некоторые мои друзья верили в загробную жизнь. Они не были верующими. Хотя многих моих друзей можно было назвать верующими. Но обязательно нужно уточнить, во что именно они были верующие. Они верили в разные вещи. Смешные и страшные. Я тоже верил. Я верил, что когда-нибудь кончится это издевательство и я войду в сад. Сад будет большой, цветущий. В нем будут мои друзья и другие хорошие люди. Мы будем есть персики.
Когда я был маленький, я отказывался верить, что умру когда-нибудь. Это неправильно. Я умру, а всё остальное не умрет, и козы будут щипать траву и радоваться, и люди будут бухать и радоваться, а я не смогу присоединиться ни к козам, ни к людям. Это неправильно. И поэтому с детства я верил в загробную жизнь. Я верил, что буду есть персики. С этой верой я прожил много лет. Но однажды я проснулся рано утром, и проснулся в аду. Это было, конечно, не в детстве. Это было потом.
Когда я вырос и когда с вечера выпивал восемь лишних стаканов, я всегда просыпался раньше всех, с кем пил, и всегда не в саду, а в аду. В аду я всегда был один. Все еще спали. Меня мучили угрызения. Нет, не совести, а чего-то еще более страшного, чем совесть. Я всегда многого из вчерашнего дня не помнил, но я знал, что оно было – многое, чего я не помню, и оно, это многое, было страшным, постыдным, непростительным. И я просыпался с этим чувством вины, и думал: я снова вел себя вчера как скот, и я этого даже не помню.
Обычно находился кто-то, кто вчера меньше пил и все помнил. Например, мой друг Стасик Усиевич, он пил меньше других, потому что ему нравилось наблюдать падение друзей, и он боялся напиться и что-то пропустить. Утром он всегда смотрел так, что было ясно: он все видел, он это навсегда запомнил и теперь будет подробно это рассказывать всем.
Стасик говорил:
– Ты ведь не помнишь, что ты вчера делал?
Я спрашивал, похолодев:
– А что я делал?
Тогда Стасик смеялся и говорил:
– Ну что ты! Всем за тебя так стыдно! Что ты творил! Сейчас я подробно тебе все расскажу.
И он рассказывал, и мне становилось стыдно. Но если честно – не навсегда. Стыдно мне было недолго. Чтобы избавиться от чувства стыда и от Стасика, я снова начинал пить. И вскоре мне не было стыдно, а было опять хорошо, и я опять вел себя так, что всем было за меня стыдно, а Стасик опять это запоминал.
Однажды утром я проснулся, как обычно, в аду. И вдруг я почувствовал, что мне все равно, что я вчера натворил и что запомнил Стасик. Я понял, что не будет сада, не будет персиков, не будет ничего. Не будет темно и пусто, не будет также светло и пусто. Я вдруг тихо понял, что все это, что со мной происходит, все это – чистовик, работы над ошибками не будет, весь этот смятый черновик – и есть моя жизнь. И это нельзя исправить.
Я заплакал.
Сыр
Моя мама – давно, когда меня еще не было на свете, – была веселая. Ее детство пришлось на послевоенные годы. Голод, холод, сталинская готика. А мама все равно была веселая. Потому что была маленькая. А когда человек маленький, ему хорошо. Он видит только жучков, паучков и траву под ногами. Весь ужас – Сталин и готика – находятся выше.
Мама была рыжая и склонная к хулиганским поступкам. Она любила бить мальчиков портфелем по голове. Поэтому она часто приносила домой портфель с оторванной ручкой. Мама смеялась часто и по любому поводу, смеялась так, что слышала вся улица. Ей нравилось жить. Когда ей стукнуло тринадцать, она влюбилась в моего папу. Это была большая ошибка. Маме надо было влюбиться в такого же веселого, рыжего мальчика, и они поженились бы, и всю жизнь лупили бы друг друга портфелями по голове, и были бы счастливы. Но она полюбила моего папу. Они жили на одной улице. Папа гулял с компанией постарше. Он уже выпил свой первый стакан молодого вина. Все уже было предрешено. Мама знала, что папа уже выпил стакан, но ей казалось это романтичным. Так часто бывает с женами героев: романтичным им поначалу кажется то, что потом сделает их вдовами. Мама была послевоенной дворовой голью, а папа не был, потому что был сыном полковника. Он умел играть на пианино. Можно сказать, он был послевоенным мажором, но не был пидарасом, как известная часть мажоров, потому что подкармливал улицу.
Его отец и мой дедушка, палач и фотограф росы на травинке, доставал откуда-то сыр. Тогда это было круто – сыр, в магазинах его не было. Сыр был не желтый, а красный. Это был особый, трофейный, немецкий сыр, я думаю, дедушка забрал его у какого-нибудь важного немца.
Это было так: ночью, когда отгремел бой, в офицерском теплом блиндаже важный немец собирался полакомиться. Включил радио, запела холодная блонда Марлен, немец достал из офицерского подсумка серебряную коробочку с гравюрой на крышке – на гравюре была кратко рассказана история его старинного тевтонского рода. Коробочка при открывании сыграла зловещий гимн старинного тевтонского рода. И в коробочке был красный сыр. Тевтонец не стал есть сыр сразу, это было бы не по-тевтонски. Чтобы растянуть удовольствие, он еще немного послушал Марлен и, вспомнив о далекой родине, опечалился, как это умеют делать только немцы, мрачно глядя вдаль, на оккупированную территорию. Наконец барон вздохнул и решился съесть сыр. В это время сзади подполз мой дедушка, разведчик, и, когда немец собрался съесть сыр, мой дедушка вонзил ему в сердце нож и прикрыл ему рот, чтобы тот не смог закричать или съесть сыр в конвульсиях. «Не шуми, браток», – шепотом сказал он врагу на ухо, тихо вынул сыр из ослабевших рук гота и рукой с сыром закрыл тевтонцу глаза – из воинского уважения.
Вот так, я думаю, мой дедушка доставал сыр.
Мой папа приносил этот сыр на улицу и подкармливал послевоенную голь. Маму тоже. Она ему нравилась. Может быть, он надеялся, что она спасет его от полного просёра, то есть от того, что неминуемо ждет его впереди. У моего папы, несомненно, были геройские наклонности. Он был мажором, но не был пидарасом, это уже редкость. Папа был задумчивый, молчаливый, он уже тогда думал о своем бессмертном металле для звездолетов. Эти мысли никогда не делают человека веселей.
Мама в папе не ошиблась. Он мучил ее так, как умеют это делать только герои. Полжизни она прожила с моим папой и его формулами и цыганами в голове. Потом папа умер, но от папы родился я, и мама сначала верила, что я – ее утешение на старости лет. Но я оказался еще страшнее папы, оказалось, что у нас династийность.
Моя бедная мама…
Пушкин в ссылке
Вдетстве я жил в маленьком старом дворе, в самом сердце маленького старого города, и даже не в сердце, а где-то в желудочке сердца. Старые города доживают до старости, потому что сердца у них стучат медленно. Двор, где я рос, был надежно укрыт от холодных ветров, там всегда было тепло, там почти всегда было лето, и пока я сам не сбежал, никто не мог меня там найти.
Я родился в месте ссылки Пушкина. Именно этот факт сформировал меня как мыслителя. Или не сформировал. Известно, что Пушкин в месте моего рождения, в Бессарабии, чувствовал себя плохо, скучал – там не было балов, мазурок, красавиц и их ножек, которые Пушкин, как честный нигер, так любил и так ловко рисовал на полях своих текстов, а были только декабристы из маломощного и малочисленного Южного декабристского общества, о котором известно, что оно ничего не добилось, и слава богу. Пушкин скучал, пил винище и мечтал о развратном Петербурге.
Примерно так же здесь провел свои юные годы и я. Здесь прошел процесс моего становления, если таковой вообще у меня был. Многие особенности моей личности, вероятно, объясняются сильным наклоном улицы, на которой я вырос: она сбегает с холма, на котором когда-то захотел появиться город, под углом градусов в сорок. Под таким же углом, а лучше сказать – креном, испокон веков сбегают вниз по улице и ее обитатели. Если идти по этой улице, наоборот, снизу вверх, в гору, то сначала обнаруживается патологическое количество фотографических ателье, управляемых старыми евреями. Их семь, в пределах трех кварталов, евреев в ателье тоже семь, и есть в этом какой-то знак каббалистический, но расшифровать его не берусь, опасно. Приезжий человек от такого количества фотографических ателье мог бы заподозрить у местного населения запущенный нарциссизм, но я, родившийся здесь, могу развеять этот миф – местное население редко любуется своим изображением, еще реже любуется собой, еще реже для этого есть повод, а отдельные представители местного населения даже не догадываются, как они выглядят.
Далее улица проходит, толкаясь, сквозь городской базар, производящий главное достояние южного города – запахи. Брынзы, укропа, вина, помидоров, перца, подвешенных за ноги кур, сатирически смрадной косметики, торгующих ее быстроглазых цыганок, творога, масла, снова вина, кваса, клозета, рыбы, свиных голов на крюках с презрительно скривленными пятаками: нет, этот меня не купит, не тот человек; сала, хрена, вымени, дынь, гогошаров – это такие красные сладкие перцы, в этих местах говорят о проблемах: влип по самые гогошары. Ну и главный запах – муста, муст – это молодое вино, чуть не добродившее, в этом суть юга, все здесь немного не добродившее, стоит дешево, пьется легко, похмелья нет, раскаянья нет.
Если прошел сквозь базар – уже значит выпил и с собой взял, ну а дальше – наверх, все время наверх, в гору, по старому одноэтажному городу, который Пушкина помнит, а может, не помнит; дорогу в гору осилит идущий, хорошо, что не с пустыми руками. А завершается улица на высшей своей точке, на вершине холма – тем, чем и должна завершаться. Старым, наполовину уже вросшим в землю, заросшим сорняками и небылицами кладбищем.
Много историй тут было. Моя история тоже здесь началась.
История полного просёра.
Контент
Лена Гашевская. Ей было пятнадцать. Она была наша местная дива. Глаза у нее были зеленые. Сама она говорила, что у нее глаза редкого бутылочного цвета. Я не знаю, кто ей так сказал. Но глаза были – да. Все пацаны с нашей улицы, когда Лена смотрела на них своими глазами, становились потными, красными и способными на все – становились мужчинами. За Леной ухаживали, а точнее будет сказать – убивались, все. А сама она оставалась холодна и нетронута. Она была дива. Высшим знаком внимания было, если Лена подходила сама к пацану и с ним хоть пару секунд говорила. В этом случае счастливчик сначала получал от других пацанов поздравления, смешанные с завистью, черной и белой, а потом убегал куда-нибудь мастурбировать.
Лена Гашевская почему-то выделяла меня. Конечно, это не могло быть сексуальным предпочтением с ее стороны. Ведь ей было пятнадцать, а мне одиннадцать – это приговор. Но когда я выходил на улицу, она бросала толпу дрочащих на нее и шла ко мне. И могла простоять со мной час. Это было очень много. И очень престижно. Меня уважали на улице – из-за нее. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю тебя, Лена, за это. Где ты сейчас? Я не знаю.
А тогда ко мне подходили ребята постарше с вопросом:
– Слышь, чё она к те ходит? Про чё вы базарите? А?
Я пожимал плечами и отвечал важно:
– Да так. Обо всем.
Потом однажды ко мне подкатили два ключевых хулигана всей улицы и сказали:
– Слышь, ты, хуйня в шортах! Будешь рядом с Ленкой крутиться – отпиздим. Ты понял?
Я сказал:
– Понял.
Было страшно отвечать по-другому.
Но об этом сейчас же узнала Лена: у нее была агентура из некрасивых девочек. У каждой красивой девочки есть агентура из некрасивых. Они ходят с ней повсюду, подчеркивая ее красоту, прислуживая ее красоте, и так далее. Некрасивые все донесли Лене. Лена сказала что-то хулиганам. После чего те опять пришли ко мне и сказали:
– Слышь. Мы, эта. Нехорошо получилось. Приносим свои. Сожалеем. Ну, ты понял.
Я сказал:
– Понял.
Лена заставила хулиганов выучить этот текст наизусть, это ясно – сами они так говорить не умели. Она была на самом деле не только очень красивая, но и очень серьезная. У нее и родители были такие – серьезные. Папа ее убил человека, получил большой срок, в тюрьме убил еще одного человека, получил еще один срок, а потом его самого там убили. А мама у Лены была красивая, как Лена, но пьющая, от переживаний разных. Она часто лежала в разных местах нашей улицы. Семейные традиции сделали Лену тоже серьезной. Она могла в любой момент ударить в глаз любого человека. Она была дива. Почему она приходила ко мне? Я ей рассказывал, точнее пересказывал, книжки, которые читал. Лена не читала книжки. Но она любила слушать, как я их пересказываю для нее. Вот почему она могла простоять со мной час. Ей было со мной интересно. Я не пытался ее щупать. Хотя хотел, конечно, и сильно. Но я рассказывал ей истории. Я брал контентом. Именно тогда я открыл этот ценнейший, важнейший инструмент героя. Контент. Если женщине интересен контент, с ней можно делать что хочешь.
Лена Гашевская. Где ты? Куда, на кого смотрят сейчас твои глаза, цвета бутылки вина? Я не знаю. И знать не хочу.
Максимум
Это было осенью. В пожарную часть, расположенную на пересечении нашей улицы и улицы Садовой, поступили три новые машины. У них были пушки – последний писк пожаротушительной моды. У одной из трех машин на крыше была не просто пушка, а гаубица с коротким толстым стволом. Она могла с земли тушить пожар на двенадцатом этаже. Зачем это было нужно в одноэтажном городе? Не знаю.
Пожарные буквально жарились в лучах славы. На глазах всей улицы – все вышли смотреть – и так и эдак мыли алых чудовищ, разматывали-сматывали брандспойты, навинчивали-свинчивали штуцеры и производили много других операций со всякими по-немецки называющимися предметами. Потом они столпились вокруг машин и оживленно зажестикулировали.
– Испытать надо пушку! – услышал я.
Одна из машин выехала на середину площадки перед ангаром и развернулась пушкой к кладбищу. Ствол пушки начал медленно подниматься. Все замерли. И я.
Здесь следует дать более подробное описание волнующей панорамы, так как она в этой истории играет существенную роль. Слева и справа от пожарной части находились бедные постройки, обнесенные низенькими деревянными заборами. Между пожарной частью и одним из прилегающих к ней старых двориков стояла высокая котельцовая стена. Котелец – это такой строительный материал известковой природы, белый, размером и весом раз в пять превышающий кирпич, с хорошими теплоизоляционными свойствами, к этой истории, впрочем, касательства не имеющими. Зачем стояла там эта белая стена – неизвестно, скорее всего, она была частью путаницы, бессмыслицы и тайны, которую принято считать наукой историей. Наконец, за пожарной частью, за темной каменной оградой располагалось кладбище, старое. Такова волнующая панорама.
В ближайшем к пожарной части дворике, за белой стеной, жила слепая бабушка. Совсем слепая. Она была знакома мне. Она дарила нам, пацанам без отцов и без совести, конфеты. Стоило подойти к ее калитке и постучать громко, как она появлялась из дома с бумажным свертком, полным шоколадных конфет. Не было случая, чтобы конфет у нее не нашлось. Такая любовь к детям требовала определенных расходов. Но слепая бабушка могла себе это позволить, потому что разводила на продажу кур. В ее крошечном дворике, по которому она передвигалась с филигранной точностью слепого, жили куры. Они были белые.
И вот пожарные стали проверять пушку. Водяной столб ударил по одному из кладбищенских тополей, снес множество веток и воробьев, которые, смешавшись с тонной воды, опали на могилы. Наблюдатели – все мы – были впечатлены, воробьи – деморализованы, обитатели старых могил – удивлены обильным орошением, а испытатели, пожарные – нет. Не удовлетворены результатом. Не то чтобы совсем, но – нет.
– Нет той! – сказал один из пожарных, имея в виду, я не знаю что, может быть, мощность, а может, радость.
«Нет той». Так он сказал, я это запомнил. Я много раз это повторял потом, в жизни, когда не наблюдал должной мощности, радости, скорби и красоты. Нет той.
Следующей мишенью для испытания, на этот раз не пушки, а гаубицы, была выбрана котельцовая стена – та самая, белая, отделявшая пожарную часть от дворика слепой бабушки. Трудно сказать, что двигало пожарными. Душа пожарных – потемки. Как бы там ни было, гаубица заняла исходную позицию – по белой стене, прямой наводкой, метров с десяти.
– Максимум! – закричали пожарные. – Ставим на максимум!
Удар был ебанистический. Котельцовая стена повела себя, как горячее шампанское. Камни брызнули во все стороны, стена вся высыпалась во двор слепой бабушки и котельцовым дождем опала на куриные головы. Над бабушкиным двориком поднялось облако белых перьев. Мы все – дети, взрослые и пожарные – бросились смотреть, что там: кто умер, кто жив. Это всегда интересно.
Картина во дворе слепой бабушки была страшной. Куры, камни, пыль, кровь. Прозрачное облако белого пуха и перьев. А потом из дома вышла бабушка. Она слышала шум и подумала – это шалим мы, дети. И она прихватила с собой сверток шоколадных конфет, хотела угостить нас, как всегда. Она сделала несколько осторожных слепых шагов, предлагая пустоте и темноте перед собой конфеты. Но никто их не взял, и бабушка напряженно прислушивалась. Белые невесомые перья летали вокруг нее в воздухе. Одно из них коснулось ее лица, она вздрогнула, вытянула вперед руку, повела ею перед собой.
Так я запомнил это: бабушка стоит в облаке перьев, со свертком конфет, и все слепое святое лицо ее спрашивает – кто здесь?
Так я понял тогда, что есть хаос, и он не захочет конфет, когда придет. И так я открыл для себя значение важного, для героя, понятия: «максимум».
Английский газон
Ярос. Как трава. Солнце светит, дожди поливают. Я рос и никому не мешал. Конечно, трава может мешать – если, например, там, где она растет, кто-нибудь хочет сделать английский газон. В таком месте траву начинают сначала стричь, надеясь, что так из нее можно сделать газон. Но не получается, стриженая простая трава наутро опять выглядит как стриженая простая трава, а не как английский газон. Тогда траву начинают пропалывать. Тот же итог. Много новой простой травы, прополка ей только полезна. Тогда траву перекапывают. Тот же итог. Тогда пригоняют тяжелую технику и рабов, и вырывают траву, и вместе с метровым слоем земли увозят ее подальше от этого места, на помойку. И она там растет. И хорошо себя чувствует. Потому что увезла с собой в корнях метровый слой родной земли. И потому что простая трава любую землю за один дождь может сделать родной.
Кстати, вот интересно. По простой траве понятно, кто ходит. Коровы, бомжи и философы. А вот по газону ходят либо гольфисты, либо футболисты, либо иные пидарасы, любящие английский газон. Справедливости ради надо сказать, что гольфисты нередко бывают пидарасами. Да что там говорить – гольфисты сплошь пидарасы. Футболисты тоже бывают пидарасами, но много реже гольфистов. Да.
Все мои друзья вышли из простой травы, и в нее все ушли.
Шайбу!
Ярос, и многое удивляло меня. Я не понимал, почему у взрослых людей, не у всех, но у многих, такие лица. Похожие на маски хоккейных вратарей. В детстве я любил хоккей, и мне нравились вратари, они были похожи на рыцарей. Понятно, зачем вратарю маска, – шайба, если вонзится в незащищенное табло, доставит боль и унижение. Но почему обычные люди, не хоккеисты, тоже ходят в хоккейных масках, я не понимал. Ведь все они не могут быть вратарями! Более того, вокруг не было видно ни одной шайбы. Именно поэтому я, когда был маленький, часто кричал, видя лица людей:
– Шайбу! Шайбу!
Я слышал – так кричали на хоккейных матчах, по телевизору.
Однажды к моей маме пришли сослуживцы. Мама в то время стала жить в квартире, которую ей дали. Мама редко брала меня туда, она была занята – ей приходилось ночами работать, зарабатывать деньги на мое лечение. Я болел все время. По этой причине мама редко брала меня к себе в квартиру, а я был мал и хотел быть с мамой, поэтому болел, и мама не могла меня взять, ей приходилось работать, чтобы зарабатывать деньги на мое лечение. В общем, довольно запутанная тема с этой квартирой. Но когда я все же попадал в квартиру мамы, это был праздник. Я любил смотреть на печатную машинку мамы и слушать, как она печатает. Машинка у мамы была большая, немецкая. Все, что делают немцы, исполнено пафоса, изготовлено из металла и безотказно работает, с характерным лязгом. Я думаю, у немцев внутри тоже есть лязг. Моя прабабушка была немка. В нашей семье говорили, что она была чистокровная немка. Не знаю, почему про прабабушку говорили, что она чистокровная, как про овчарку. Я думаю, потому что это престижно – быть чистокровной немкой, да и чистокровной немецкой овчаркой быть тоже престижно.
Мне нравилось смотреть на печатную машинку, а иногда, когда мама разрешала, я ударял по кнопкам, и машинка с лязгом вонзала в бумагу красивые буквы. Мне это понравилось сразу – вонзать в белый лист буквы. Когда мама заканчивала печатать страницу, она крутила такой специальный барабан, и со скрежетом из машинки выползал белый лист, весь в буквах. Это была магия. Белая, как чистый лист формата А4. Есть магия в чистом листе формата А4. В компьютерной клавиатуре нет магии, потому что нет бумаги, ничего не лязгает. Просто внутри экрана, который одновременно и жидкий, и кристаллический, что до сих пор я считаю усмешкой над собой и своим пониманием, появляются буквы. Любую из них можно стереть в любой момент. Нет в этом непоправимости, нет лязга, нет вечности.
Суровая окончательность. Это главное. Если стукнешь по кнопке с буквой «а», стальная спица с кулачком на конце вылетает и сильно, навсегда припечатывает к бумаге букву «а»: на тебе, бумага, букву «а»! И всё, бумага уже с буквой «а», и уже ничего не поделать.
Если мама вдруг ошибалась и впечатывала в бумагу не ту букву, она тут же сминала лист и выбрасывала его себе за спину. Это было красиво, в этом тоже была красота. И беспощадность. Мне это понравилось. Возможно, поэтому, а скорее всего только поэтому я и стал писателем. Конечно, если бы я знал, когда становился писателем, что, для того чтобы стать им, мало печатать на машинке, надо еще быть готовым к духовному подвигу, я бы еще подумал, так ли уж мне нужен этот подвиг. Тем более что подвиг писателя вообще на хуй не нужен никому, кроме него самого, да и то.
Мама не была писателем, и, следовательно, печатала она не романы. Мама, по сути, была фрилансером: она осваивала коммерческие заказы. Это были диссертации вьетнамцев. Я никогда не узнаю, потому что я и не пытался никогда узнать, почему заказчиками моей мамы были вьетнамцы. Мне страшно думать, что в этом есть какой-то смысл или, хуже того, символ, и я надеюсь, что его нет. Дело в том, что вьетнамцы приезжали в наш город учиться. Когда приходила пора защищать диссертацию, вьетнамцы покупали диссертацию у какого-нибудь мощного русского звездолета вроде моего папы. Сначала вьетнамцы покупали контент. Затем контент надо было размножить. Но так как в те времена еще не было принтеров, приходилось размножать контент на машинке, за деньги. Когда мама печатала диссертации вьетнамцев, она всегда громко приговаривала:
– Боже, какая ахинея! Боже, что пишет этот идиот!
Или иногда она говорила так:
– Боже, чтоб ты сгорел со своей диссертацией!
Мама не могла механически относиться к тому, что печатает. Она невольно вдумывалась в содержание текстов и давала оценку работы, а иногда и личности вьетнамского диссертанта. Я навсегда запомнил эту прямую и честную мамину оценку. Потом, много позже, я всегда помнил об этом. И часто сам себе я говорил, перечитывая свои тексты:
– Боже, какая ахинея!
Или:
– Боже, что пишет этот идиот!
Синие танцы
В тот вечер к маме первой пришла тетя Клара. Она была большая, тучная и носила на голове пышный парик, как будто она была Людовиком XIV. Но тетя Клара не была Людовиком XIV, она была народным судьей. Мама мне сказала, что народный судья решает, кто прав, а кто виноват. Я стал бояться тетю Клару, когда узнал, что она это решает.
Тетя Клара всегда приходила к нам с тортом. Мама давала мне кусок торта, я уходил с ним и ел в одиночестве, а мама с тетей Кларой играли в карты. Моя мама всегда выигрывала у тети Клары, потому что была дочкой трансильванской цыганки. А тетя Клара была дурой, потому что играла в карты с дочкой цыганки.
Однажды тетя Клара осталась у нас ночевать. Когда она ложилась спать, она позвала меня и показала глаз. У тети Клары был стеклянный глаз, и она на моих глазах вытащила его из головы и положила в стакан. Тетя Клара думала, что мне это понравится. Я убежал. Во сне потом плакал, мне снилось, что глаз тети Клары убежал из стакана и бегает по квартире за мной. Вот такой была тетя Клара. Народным судьей.
Потом пришли другие подруги мамы, с мужьями. Они сели за стол полный мяса. Меня позвали, и мама сказала, что я сейчас прочитаю стихи. Про Новый год. Но стихи я не смог прочитать. Я посмотрел на гостей моей мамы. Никогда я не видел одновременно столько хоккейных вратарей, столько их не было даже в НХЛ. И я закричал:
– Шайбу! Шайбу! Шайбу!
Мама бросилась закрывать мне рот, унесла меня быстро из комнаты, потом стала объяснять сослуживцам, что я странный, с рождения странный, поздно начал говорить, а когда начал – нес ахинею, но она водила меня к врачу, и он выдал справку, что я не кретин. Я уже рассказывал об этом враче. Он помог мне. Да, он нарушил клятву Гиппократа, обманув мою маму и даже выдав письменную справку, что я нормальный. А может, в этом и есть смысл клятвы Гиппократа, кто знает. Вряд ли Гиппократ вообще знал о своей клятве. Это все пиар.
Я заметил давно: когда люди пьют, после пятого стакана они снимают хоккейные маски. Не после первого, после первого стакана людям маски не мешают. После третьего начинают мешать, они снимают маски, вытирают с лица пот под масками и снова надевают их, потому что все еще боятся. Это и есть социальное чувство. Это чувство, что шайба уже летит.
Но после пятого стакана, именно после пятого, я считал, люди перестают бояться. Они снимают маски. Им становится по хуй, летит ли шайба. Люди перестают быть вратарями после пятого стакана. Они становятся форвардами. И они начинают танцевать. Это сильное желание, в нем мало смысла, но много свободы. Оно прекрасно. Пьяные люди хотят петь и танцевать. Это самые доступные виды искусства. Конечно, отдельные люди, под влиянием Мейерхольда, начинают хотеть экспериментальных постановок, авангардного балета. Но нормальные, простые люди не хотят авангарда, они не хотят и не могут балета. Они хотят просто петь и просто танцевать. И они это делают. Как умеют. Умеют все это примерно одинаково. Это тоже прекрасно, в этом есть первобытное равенство. Оно есть в танцах туземцев. Кто-нибудь слышал, чтобы из толпы африканских голышей выдвинулся Рудольф Нуриев? Нет. Потому что в дикости все равны, все прекрасны. А если кто-то и пытается выдвинуться, его сейчас же заметит и пометит вонючей жидкостью шаман. Только в извращенной среде балета может вспыхнуть Нуриев. Это и есть самая питательная среда для рождения гения, это для него – как навоз для растения. Гений рождается в среде извращенцев, а примитивное искусство гениев не знает. В примитивном искусстве каждый – гений.
Таково и искусство синего танца. В нем есть красота, хоть ее бывает трудно разглядеть. Я всегда любил смотреть, как люди сдвигают столы и стулья, и летят куда-то в угол хоккейные маски, и глаза у теток горят, и набухают у мужиков мошонки, и вот уже наебнули шестой и седьмой стакан, а кто-то отважный, таким был всегда я, впрочем, это я забегаю вперед, вонзает сгоряча и восьмой, тот самый, главный, лишний стакан. И начинается.
Петь начинают первыми женщины. А танцевать – мужчины. В этом есть Африка. Когда человек танцует, он перестает быть человеком. Он становится собой.
Третье появление Светки
Когда человек трезвый, он петь не может. Мешает петь что? Не пиджак, не галстук, не плохая акустика. Мешает петь чувство стыда. Стыд – враг героя. Если человек испытывает стыд, героем ему не стать. Героем быть стыдно. Дело в том, что за соблюдение рамок приличия отвечает определенный участок головного мозга. Он называется сторожевым участком. Так совпало, что этот участок больше ни за что не отвечает, поэтому он так важен. Он отвечает за то, чтобы человек не упал лицом в грязь. А пока лицо не в грязи – ты не герой, а пока не герой – можешь жить. Сторожевой участок называется так, потому что он сторожит судьбу человека. Не дает человеку просрать все и погибнуть. Но когда сторожевой участок отключается, стыд уходит и хочется петь. Так возникает состояние синего героизма. Это специфическое состояние. Налицо все признаки героизма, но человек не до конца, не навсегда герой. Он временно герой. От истинного, полного, временное состояние героизма отличается тем, что, во-первых, наступает лишь на фоне синьки, в то время как герой и без синьки – герой. Хотя это редкость – герой без синьки. Во-вторых, человеку, побывавшему в состоянии временного героизма, после прекращения этого состояния всегда плохо, налицо токсикоз и стыдно перед Светкой. А герою наутро – так же, как с вечера, так же, как всегда: подташнивает, но не от выпитого, а от понятого.
И перед Светкой не стыдно, по хую Светка, кто она, это вообще неизвестно. Да что ж такое, опять эта Светка, откуда она берется, просто проклятие какое-то!
В тот вечер, у мамы на квартире, сначала женщины запели. Прижались друг к другу, как пингвины в блузках, и запели. Грустные песни, про мужчин, но никакую песню не пели полностью, потому что они были городские женщины, а городские женщины не знают ни одну песню целиком. Мужчины в это время догнались и решили танцевать.
Дядя Гена поставил пластинку Аллы Пугачёвой и сказал громко:
– Танцы!
Сказано – сделано.
Дядя гена и море
Яне знаю, понимает ли Алла Пугачёва, какие безобразия творили люди по всей стране под ее песни. Испытывает ли певица чувство вины? Вряд ли.
Мужчины стали танцевать под Пугачёву. Я тогда еще не пил и потому поступал, как Стасик Усиевич, то есть я не пил, а только смотрел и запоминал. Правда, Стасик все запоминал с другой целью – чтобы наутро рассказать людям, какие ужасные они были, а я все запоминал, чтобы когда-нибудь рассказать людям, какие прекрасные они были.
Дядя Гена танцевал, как раненый бог. Он выпрыгивал куда-то под потолок, туда, где жила посещаемая только молью люстра чешского хрусталя, потом оттуда обрушивался вниз, на женщин, как сель с гор. Женщины кричали:
– Гена! Да! Да!
Женщины всегда так кричат – «да», когда видят героя.
Тетя Клара, народный судья, тоже танцевала, пьяная, и тоже кричала «да» дяде Гене, и у нее выпал глаз на ковер, и его чуть не растоптал дядя Игорь.
Потом дядя Гена вдруг перестал танцевать и сказал, что море проверяет людей. Он был матросом в юности. Дядя Гена налил себе вазу водки. У мамы на столе стояли хрустальные вазы. Дядя Гена вытряхнул грильяж, наполнил вазу водкой, выпил, громко, как волк кость, разгрыз один грильяж и знаком приказал всем следовать за ним. Он не мог говорить после вазы водки и объяснялся знаками. Все пошли за дядей Геной. И я пошел.
Дядя Гена всех привел на балкон. Посмотрел вниз. Третий этаж. Подтянул носки. Вздохнул глубоко. И прыгнул с балкона.
Все охуели.
Был слышен стук. Потом тишина. Все стали смотреть вниз. Я тоже. Я увидел, что внизу стоит дядя Гена. Он приземлился на ноги и даже не согнул их. Он был похож на памятник кому-то великому. Он им и был. Все закричали:
– Гена! Ты живой?
Это был глупый вопрос, потому что было видно, что дядя Гена живее всех, кто смотрел сверху. Дядя Гена ничего не сказал. Он слушал звук моря. Северного серого моря, на котором служил, когда был юн. То море было далеко. Непоправимо далеко. Но дядя Гена в тот момент оказался там, на том сером море. Холодные волны разбивались об дядю Гену – я это увидел. А над головой дяди Гены витали они. Альбатросы.
Потом дядя Гена вернулся в квартиру, но не на лифте. А залез обратно по винограднику.
Виноград в нашем городе рос везде, в самых неподходящих местах. Потому что его везде сажали – жители, ветра и птицы, своим пометом. То есть только птицы, конечно, сажали пометом. Своим пометом – это относится к птицам. Ветра не имеют помета. А что касается жителей, то и они, возможно, этого не стоит полностью исключать, порой сажали виноград своим пометом. Но, как правило, жители сажали его все-таки своими руками. Виноград возле дома, в котором была квартира мамы, посадил сосед, дядя Коля, он был парализован. В юности он был спортсменом-гимнастом, и его любили женщины. Однажды он поехал куда-то в село на свадьбу, и там его тоже любили женщины, он напился, сел в грузовик, не в кабину, а в кузов, полный женщин, и, когда грузовик быстро ехал по селу, дядя Коля решил показать женщинам прыжок в полтора оборота назад, прогнувшись. Полтора оборота назад, прогнувшись, – из кузова грузовика. В итоге: перелом позвоночника, паралич. Дяде Коле тогда было двадцать один. Остаток жизни он прожил в инвалидной коляске. Дядя Коля раньше жил в доме на земле, там у него был виноград, он из него делал вино, потом дядя Коле дали квартиру на пятом этаже нашего дома. Но жить без вина дяде Коле было грустно, потому что только пьяным во сне он видел себя не в коляске, и он тогда взял лозу от своего старого винограда и посадил ее возле нашего дома.
Растениям повезло, у них есть это свойство. Можно растение срубить под корень. Но если срезать одну тонкую веточку, посадить ее в землю, неделю-другую поливать – вырастет такое же растение. Более того, с точки зрения ботаники вырастет это же растение, то же самое – того же сорта и вида, и сок в нем будет течь тот же, и лист у него будет такой же, и плод. А вот если человека срубить под корень? Что с него не срезай, другого такого же человека уже не получишь. Что будет, если отрезать, к примеру, у погубленного обществом и временем писателя, скажем, у меня, руку и посадить ее в землю, и поливать водой неделю? Появится еще один, такой же писатель? Нет. Так и будет торчать из земли моя рука. Угнетающее зрелище.
Посаженная дядей Колей лоза пошла в рост с такой силой, как будто знала, что очень нужна дяде Коле, она сразу не только достигла пятого этажа, но и устремилась выше, до седьмого, и достигла бы девятого, но на восьмом лозу обрезали соседи – за то, что от пьянства погиб их сын Алеша. А в чем виноват виноград? Алеше просто надо было заметить яркий глаз паровоза, когда переходил в пьяном виде ж/д пути.
Молодая лоза доставляла неплохой урожай винограда прямо на балкон дяди Коли – это было удобно. За годы лоза стала толстая, как канат. Вот за этот живой виноградный канат и взялся дядя Гена. На одних руках поднялся вверх. На наш третий этаж. Залез на балкон. Вернулся к столу. Выпил – уже не вазу, а рюмку, и закурил. Молча.
Что там говорить – мне все понравилось. Я решил, что стану героем, когда вырасту. Надо вырасти, чтобы мочь так беспредельничать, как дядя Гена.
Он потом много раз еще приходил к нам в гости, и несколько раз его просили прыгнуть с балкона, и он это делал. Но радость с каждым разом покидала дядю Гену. Один раз он прыгнул с балкона, но моря внизу не увидел, и альбатросы не прилетели. Они почувствовали ложь. Дядя Гена перестал быть интересен альбатросам. Тогда дядя Гена ощутил одиночество. Он не стал подниматься по виноградной лозе, а вернулся с позором на лифте. И больше не прыгал с балкона. Через несколько лет он завербовался на Дальний Восток, боцманом на рыболовецкое судно, и там дядю Гену смыло штормом в море. Его даже поминали дома у нас, на столе поставили рюмку, накрытую куском хлеба, – так был обозначен смытый в море дядя Гена. Выпив на поминках, дядя Игорь хотел в память о покойном спрыгнуть с третьего этажа на прямые ноги, но жена и дети дяди Игоря отговорили его, они закричали:
– Папа, не надо! Не надо!
И дядя Игорь не стал прыгать. Вместо этого выпил еще и впал в ничтожество.
Я долго не верил, что дядя Гена погиб. Очень уж он был крепкий. Я не верил, что он мог просто утонуть, как оторвавшийся якорь.
Таким я его запомнил навсегда. Живым, твердо стоящим на прямых ногах.
И волны. Они бьются не об скалы. Волны, как женщины, бьются об героя. И всегда говорят ему «да».
Вездесущий дядя Игорь
Утром, после песен, танцев и прыжков с балкона, взрослые, которые оставались у нас ночевать, просыпались. Пили помидорный рассол, потом бросались искать по дому потерянные вчера хоккейные маски. Довольно быстро их находили, пили в хоккейных масках крепкий чай и расходились.
А мама после их ухода была злая, долго пылесосила ковры и приговаривала:
– Ну ты посмотри! Сколько наблевал здесь этот дядя Игорь!
Потом мама мыла туалет и приговаривала:
– Ну ты посмотри, сколько наблевал и здесь дядя Игорь!
Потом мама мыла на балконе пол и приговаривала:
– Ты посмотри, сколько наблевал и здесь этот дядя Игорь!
Дядя Игорь, если верить маме, был вездесущий, и везде он яростно блевал.
Почему так блевал дядя Игорь, я теперь понимаю. Он хотел быть героем, но не мог. Он хотел прыгать с балкона, танцевать с чужими женщинами, владеть ими, как своими, жить смело и грубо. Но не мог, потому что жена и дети всегда ему кричали:
– Папа, не надо! Игорёша, не надо!
Он хотел быть героем, но ему не давали. Скорее всего, он бы не смог, и все это знали, и поэтому не давали ему даже попробовать. Поэтому он блевал. А вдруг дядя Игорь смог бы стать героем, если бы хоть раз попробовал? Вдруг? Кто знает…
Шли годы.
Онанист
Среди моих одноклассников в школе был Саша Файзберг. Он был хулиган, при этом был еврей, но он был неправильный еврей.
Однажды в школьном мужском туалете Саша отвел меня в сторону и сказал шепотом:
– Сделай дома так и так, и будет приятно.
И Саша показал мне на своей писе пару простейших приемов. Я удивился. Я много читал и редко думал про писю. Саша делал все наоборот. Конечно, я тоже порой уже чувствовал, что пися нужна не только для того, чтобы писать. Я это чувствовал, когда смотрел на голые ноги девочек из старших классов. Но я на этой мысли не замыкался. А Саша Файзберг замыкался.
В тот же день дома я попробовал сделать так, как показал Саша, мне понравилось, и я делал так потом. Много лет.
А Саша на следующий день попал в переплет и одновременно в анналы истории – так бывает. Оказалось, Саша многим мальчикам из нашего класса показал то же, что и мне. Саша был страстным пропагандистом онанизма. Но двое мальчиков дома спалились при попытке сделать так, как показал Саша, и все рассказали на допросах родителям. Родители объединились и пришли к директору школы с требованием прекратить разнузданную пропаганду онанизма в начальных классах и изолировать Сашу Файзберга от их детей.
Сашу вызвала директриса школы. Она потребовала, чтобы Саша признался, кто его этой гадости научил и кто ему дал поручение всех мальчиков в школе научить тому же. Видимо, были подозрения, что за Сашей стоит кто-то – враг, взрослый, опасный. Но Саша никого не выдал, потому что выдавать было некого – он сам как-то до всего дошел, а рассказывал всем потому, что ему понравилось и он хотел поделиться с друзьями радостью.
Тогда директор нашей школы, Ада Алексеевна, спросила коварно:
– А почему ты всех этому учил в туалете, тайком и шепотом?
Саша не знал ответа на этот вопрос. Действительно, почему? Откуда Саша знал, что учить этому друзей надо в туалете и шепотом? Конечно, это было инстинктивно. Но Саша не знал этого слова, потому что был третьеклассником, и он молчал.
Тогда директриса, полагая, что Сашу почти надломала и нужно надавить еще чуть-чуть, чтобы он выдал имена своих опасных покровителей, вызвала из нашего класса нескольких девочек, самых красивых, поставила Сашу перед ними и сказала:
– Смотрите, девочки. Перед вами – онанист!
Директриса думала, что для Саши это будет позор.
Но это был не позор, это был звездный час – в жизни героя, кстати, иногда они довольно тесно смыкаются, даже накладываются. Девочки не стали смеяться. Одна из девочек, Наташа Лареску – забегая вперед, скажу, она потом играла на бас-гитаре в рок-группе, потом стала проституткой, потом наркоманкой, но это было позже намного, уж очень сильно вперед забежал, – спросила с интересом:
– А что это такое – онанист?
Тогда директриса приказала Саше при девочках сделать то, что он показывал мальчикам. Ставка была на то, что Саша должен был сгореть со стыда, навсегда проклясть онанизм и назвать имена покровителей. Но ставка проиграла: Саша охотно показал девочкам то же, что мальчикам. Девочки покраснели, но смотрели на Сашу с большим интересом. Им понравилось. Это был крах педагогики. Педагогика – лженаука.
Сашу Файзберга исключили из нашей школы, и он покатился по наклонной: часто дрался на улице, занимался карате. Учился он потом в другой школе, спортивной, говорили, что там директор бьет учеников лицом об парту, а иногда старшеклассники били директора, когда удавалось подловить его вечером на улице, синего, и оставались безнаказанными, потому что директор наутро после синьки ничего не помнил. Он был бывшим спортсменом, боксером, и у него был поврежден мозг.
Но в нашей школе Саша Файзберг навсегда остался легендой. Так бывает: героя могут отовсюду исключить и выгнать, но он все равно остается там, откуда его исключили, – остается легендой. Саша был первый и последний третьеклассник в истории школы, который дрочил на глазах самых красивых девочек и директора, более того, дрочил по приказу директора, и лучших девочек привели ему тоже по приказу директора. Конечно, он был герой. Как героя, его украшает и возвышает то, что он об этом не знал. Герой часто не знает, кто он.
Много лет спустя я встретил однажды Сашу Файзберга на улице. Саша стал успешным бизнесменом. Я тепло поблагодарил его за все, чему он научил меня и всех ребят тогда, в школе. Саше было приятно, что я помнил его все эти годы. Он даже смутился и сказал:
– Да ладно, не за что. Будет чё надо, звони мне прямо в офис.
И дал визитку.
Как видно из этой истории, героем человек может стать, пропагандируя что угодно, даже самые простые вещи. Главное – ничего не бояться.
Гоголь
Когда я научился читать, я начал страшно читать. Я читал по книге в день. Сначала я прочитал все книги в нашем доме, их было много, их собирала моя мама – тогда было модно собирать книги. Я читал всё подряд, детскую литературу, потом взрослую, я прочитал всего Гоголя, а когда мама откуда-то достала Гегеля, я прочитал и Гегеля. Несколько раз в школе я порывался рассказать моей первой учительнице все, что я знаю. Я рассказал ей про Гоголя и Гегеля, и она запретила мне в школе рассказывать то, что я знаю. Меня это насторожило, но учительница мне объяснила – другие дети не знают пока ничего про Гоголя, тем более про Гегеля, и если я буду рассказывать то, что другие не знают, получится, что я – задавака. Это меня убедило. На время.
Когда я прочитал все книги в доме, мама испугалась. Она опять подумала, что все-таки что-то наложилось по линии папы, мощного звездолета. Каждый раз в таких случаях мама хватала меня за руки и вела к врачу. К одному и тому же. Но мы были с ним заодно. Он всегда выгораживал меня и всегда продлевал справку, что я нормален. Мама на какое-то время успокаивалась.
Когда я прочитал все книги в доме, мамой овладело плохое предчувствие. Она вспомнила предсказание моей бабушки-трансильванки. Когда я родился, всем, кто при этом присутствовал, бросились в глаза два обстоятельства. Первое заключалось в том, что я был очень большой, под шесть килограммов. Акушер даже сказал, что я богатырь и чтобы мама назвала меня Святогором, а маме в этот момент было очень больно, и она сказала акушеру, чтобы он пошел на хуй. А второе обстоятельство всем бросилось в глаза, когда меня уже принесли домой. Меня развернули, и все увидели, что у меня бакенбарды. Охуенные черные бакенбарды. Бабушка, которая видела будущее, посмотрела на меня, засмеялась и сказала моей маме:
– Пушкин!
Мама испугалась. Ее испугало, что я – Пушкин. Вот как на самом деле люди относятся к Пушкину. Он их пугает.
А потом бабушка вышла во двор и стала смотреть в небо. Был август. Собиралась гроза. Бабушка долго смотрела в тучи, а потом сказала своему мужу, моему дедушке:
– Вот кто всем покажет… Козма (так звали дедушку), иди в погреб, принеси вина.
Бабушка не уточнила, что именно я всем покажу. Но мама сочла это предсказание бабушки тревожным. Трудно сказать, какое предсказание показалось ей тревожным: что я – Пушкин, что само по себе тревожно, или – что я всем покажу, что тоже тревожно, хотя для Пушкина и вполне естественно. Потом мама отгоняла от себя эти мысли и до последнего надеялась, что все рассосется. Даже бакенбарды мама мне, новорожденному, состригла. Но не помогло. Конечно, дело было не в бакенбардах.
Когда в доме читать мне стало больше нечего, мама отвела меня в главную библиотеку. Это была самая большая библиотека в городе, имени Гоголя. Там нас встретила библиотекарша. Она была величественная и очень надменная. У нее была красивая белая прядь в волосах, как у Индиры Ганди. Еще у нее были очки в тяжелой роговой оправе. Когда мама спросила, достаточно ли в библиотеке большие фонды, так как я много читаю, библиотекарша посмотрела на меня насмешливо поверх роговой оправы и сказала:
– Фонды? Ему на десять жизней хватит. Мальчик, что ты хочешь взять для начала? Про Чебурашку?
Я сказал:
– Давайте начнем с античной литературы.
Библиотекарша сказала с достоинством (я удивил ее, но она была не из тех, кто легко выказывает удивление):
– С античной… Ну, хорошо. Проходи.
Потом я приходил в библиотеку каждый день. Утром. Я брал утром книгу, на следующий день приносил ее, уже прочитанную, и брал новую. Иногда брал две-три книги в день, если они были не толстые. Скоро библиотекарша стала очень хорошо ко мне относиться. Еще чуть позже, когда я приходил, она переставала обслуживать других посетителей. Они возмущались, громко:
– Почему вы меня не обслуживаете? Я не знаю, где найти Маркса! И кто этот мальчик? Что вы с ним носитесь?
А библиотекарша отвечала, суровым шепотом:
– Говорите потише, вы не в овощном магазине, вы в храме! Будете кричать, лишу читательского билета. А этот мальчик, он, может быть, будущий Маркс!
Я читал много, все больше. Но я понимал, что все это пока – все, что я читаю, все эти сотни томов – не то, что мне нужно. Это все были интересные, умные, но не главные книги.
Через три года библиотекарша шла со мной мимо полок, как мимо сожженных Мамаем деревень, и говорила:
– Это ты читал. Это тоже. Это вторично… Это тоже… Это ты читал… Это тоже… Бедный мальчик, что же тебе дать? Неужели пора?
– Пора? – удивился я.
– Завтра, – вдруг взволнованно сказала библиотекарша. – Дорогой Дима! Больше я не имею права скрывать… Приходи завтра утром и… приготовься… Завтра!
Я был страшно заинтригован. Я не мог заснуть, ворочался, не мог дождаться, когда наступит завтра, я знал, что было бы лучше уснуть, потому что проснусь я, когда наступит завтра, но именно от этой мысли я и не мог уснуть. Провалился в сон под утро. Когда проснулся – завтра уже было вовсю, и я побежал в библиотеку.
Она ждала меня. Нина Яковлевна, так ее звали, была торжественно одета, в темный костюм с белой блузкой, на шее у нее была старомодная брошь с профилем какой-то княгини, и все это не на шутку меня насторожило. Я замер.
Нина Яковлевна сказала:
– Дорогой Дима. Вот и пришел этот день. Ты приближал его ежедневным трудом. Ты прочитал все, что тебе могли предложить наши открытые фонды. Я много думала, имею ли я право… Вчера я решила… Если уж этот мальчик не имеет права, то никто не имеет этого права, и тогда все это надо сжечь! Но ведь книги сжигали только нацисты! Я понимаю, как это может повлиять на тебя… Да… Это может быть очень трудно, и… опасно! Всю жизнь потом ты будешь страдать. Но это мой долг. Я не могу отказать. Я… должна!
Голос Нины Яковлевны задрожал. Нервное напряжение во мне в этот миг достигло предела. Я понимал, что сейчас со мной что-то случится, и не был уверен, прекрасно ли будет то, что случится, или ужасно.
Нина Яковлевна тоже, судя по всему, не была уверена. Но она достала большой ключ и открыла им ящик своего большого и старого письменного стола. Там, в ящике, лежал еще один ящик, поменьше. Нина Яковлевна другим ключом, поменьше, открыла и его. В нем лежал еще один ящичек. Его Нина Яковлевна маленьким ключиком открывала мучительно долго.
– Долго не открывала, – сказала, как будто извиняясь передо мной, библиотекарша. – Было не для кого… Заржавел…
В ящичке оказался совсем маленький и совсем уже ржавый ключик. Я засмеялся. Сам не знаю, почему я не сдержался и засмеялся, это, конечно, не соответствовало торжественной минуте. Я подумал, что происходит какое-то волшебство, но волшебство как бы не совсем исправно, и мы можем заколдоваться сильно, а обратно не расколдоваться.
Нина Яковлевна сказала:
– Ты будешь вторым человеком, для которого я это делаю…
– А кто был первым? – самолюбиво спросил я.
– Я, – сказала Нина Яковлевна. – Это было сорок шесть лет назад.
Она взяла маленький ключик и повела меня в глубь читального зала. Там она с большим трудом отодвинула шкаф, полный Маркса. За ним была дверь в подсобку. На двери подсобки была табличка: «Под напряжением! Убьет!»
Нина Яковлевна и сама была в тот момент под напряжением и не боялась, что ее убьет. Она вставила ржавый ключик в ржавый замок. Дверь открылась. Мы зашли в подсобку. Я ожидал увидеть клад, который охраняет скелет.
Но в подсобке лежала швабра. Она была вся в паутине. А на стене был портрет Гоголя. Пыльный.
Нина Яковлевна дала мне в руки швабру и велела вымыть пол в подсобке. Я удивился, но подчинился. Пылища на полу была страшная. Я чихал, но старательно мыл пол. Нина Яковлевна в это время достала из кармашка ангельски белый платочек и вытерла им пыльного Гоголя. Платочек погиб. Гоголь, напротив, открылся, улыбнулся как будто.
– Как ты думаешь, что это? – спросила Нина Яковлевна, указав на портрет Гоголя.
– Это Гоголь, – я удивленно посмотрел на Нину Яковлевну, ведь я читал все, что написал Гоголь, все, до единой запятой.
– Это дверь! – сказала Нина Яковлевна.
Я внимательно посмотрел на нее, чтобы понять, в себе ли она. Она была в себе, насколько вообще может быть в себе человек, тайно хранивший маленький ключик сорок шесть лет.
– Николай Васильевич! – сказала Нина Яковлевна. – Это я, Нина. Я его привела…
Вот тут я испугался так испугался. Нет, я испугался не тогда, когда Нина Яковлевна обратилась к портрету Гоголя, а когда Гоголь с портрета посмотрел на нее и сказал:
– Доброй ночи, Нина.
– Сейчас утро, Николай Васильевич! – сказала Нина Яковлевна.
– Да? – удивился Гоголь. – Утро… Доброе утро…
У него был негромкий и какой-то рассеянный голос.
А глаза были не полные сарказма по отношению к царизму, как принято считать, а тоже какие-то рассеянные, грустные. Потом Гоголь посмотрел на меня и сказал:
– Ну, негодяй, почему ты так долго не являлся?
Я растерялся. И сказал:
– Да я как-то… Извините, Николай Васильевич… Троллейбусы не ходят…
– Возьми меня за нос, – приказал Гоголь.
В голове моей зашептались иерофанты. Один из них, Этот-за-Спиной, я расскажу о нем подробнее потом, зашептал мне в ухо:
– Делай, что он говорит, а то рассердишь его.
Я всегда слушался Этого-за-Спиной, поэтому осторожно, с подчеркнутым уважением взял Гоголя за нос. Нос у классика был холодный, как морковь из холодильника, которую иногда заставляла меня есть мама, чтобы у меня не портилось зрение от чтения. Когда я взял Гоголя за нос, Гоголь вдруг весь подался назад. И утащил меня в темноту.
Когда я очнулся, рядом потрескивал огонь. Я очень осторожно открыл глаза. Оказалось, я сидел в кресле, забравшись в него с ногами. В соседнем кресле сидел Гоголь. Он смотрел на огонь в камине и то и дело подбрасывал в огонь рукописи.
– Холодно, – сказал Гоголь, потерев длинные белые руки.
– Мертвые души? – спросил я, с сожалением проводив глазами очередную кипу рукописей, которую писатель отправил в огонь. – Николай Васильевич! А можно мне хоть пару страниц прочитать? Перед тем как…
– Мертвые души? – рассмеялся Гоголь. – Разве я стал бы сжигать их, глупый мальчик? Я закопал их. В саду. Под вишней, я покажу тебе место. А это – Минаев, Донцова… Сейчас разгорятся… Холодно…
– Кто это? – удивился я, так как таких не читал. – Писатели?
– Нет, – улыбнулся Гоголь. – Бумагомаратели. Они появятся позже. А горят уже сейчас. Я жгу макулатуру будущего. Я это придумал. Талантливый я сукин сын, что скажешь?
– Да, конечно, ну что вы! – замахал я руками на Гоголя. – Вы – гений!
– Да, – печально согласился Гоголь. – Нина сказала, тебе уже можно… Бери, читай. Я тебе разрешаю, – и Гоголь указал куда-то назад.
Только тут я огляделся и увидел, что мы в небольшой библиотеке. Я встал из кресла и подошел к книжным полкам.
Книг было мало. Во много раз меньше, чем в фондах библиотеки имени Гоголя.
– Все, что ты прочитал раньше, – это не книги. Это макулатура, – сказал Гоголь и подбросил в огонь еще пару книжек.
Мне было обидно это услышать. С другой стороны, я верил Гоголю, и если он говорит, что это так, значит, это так.
Я взял с полки одну толстую книгу, сдул с нее пыль и прочитал на обложке: «ДЕКАДЕНТЫ».
Так я познакомился с ними. С теми, с кем знакомиться мне, конечно, не стоило.
Каждый день я потом приходил в эту секретную библиотеку. Не имени Гоголя, а Гоголя – он был здесь библиотекарем. Я читал книги, которые больше нигде нельзя было взять. Нигде нельзя было даже узнать, что они есть, эти книги. Иногда здесь, в этом тайном хранилище, собирались авторы книг. Однажды зашел Бунин. Я очень обрадовался – все-таки Бунин.
– Что смотришь, мальчик? – ядовито спросил меня Бунин. – Как будто Маяковского увидел.
– Да нет, – ответил я; я знал, что Бунин очень не любит Маяковского. – Вы совсем не похожи на Маяковского.
– Слава богу. А ты не глуп, мальчик, – сказал Бунин, мой ответ ему явно понравился.
Бунин, когда заходил, всегда брал с полок только свои книги, книги других писателей он не признавал за книги. А свои он брал не для того, чтобы перечитать, – он все время в них что-то переделывал. Гоголь смеялся над Буниным, говорил мне тихо:
– Смотри. Все бьется, над каждой строкой. Поэтому не дописал при жизни. Хы-хы!
Гоголь любил посмеяться над Буниным. В библиотеке Гоголя хранились книги, которые были не изданы, утеряны, запрещены, сожжены или прокляты авторами или издателями, или были начаты, но не дописаны, были и такие, которые не были даже начаты, – задумал, например, автор книгу, а написать не успел, и даже начать писать не успел, и даже рассказать, что задумал, никому не успел – умер.
Иногда заходил Хлебников. Общеизвестно, что при жизни он свои стихи и всякие гениальные наброски складывал в подушку, а подушку эту таскал с собой. Потом он умер от простуды, в дороге, когда путешествовал неизвестно куда неизвестно зачем. Когда Хлебников умер, его кое-как похоронили, а подушку выбросили. Поэтому из всего наследия Хлебникова почти ничего не сохранилось. Все его наследие – один томик. В общем, не повезло так не повезло Хлебникову, так считается.
Но подушку эту нашел на помойке и теперь хранил Гоголь. Он Хлебникова уважал. Когда тот приходил, Гоголь говорил:
– Чу! Председатель земного шара пришел! Проходи.
Даже ядовитый, как кобра, Бунин, и тот признавал его председательство. В библиотеке Гоголя было одиннадцать томов Хлебникова – все из подушки. Я прочитал все. Я с ним заговорить даже пробовал, с Хлебниковым. Но он только улыбался стеснительно мне в ответ. Он был очень стеснительный.
Собирались иногда и большие компании: и вечно больной Блок, все с ним вечно возились, лечили его, злобный Бунин – и тот лечил его чаем с медом, приходил Салтыков-Щедрин с бородой и Достоевский с картами, он все время в карты играть подбивал Тургенева, а Тургенев все время выигрывал и смеялся над Достоевским, что тому не везет, приходили веселые Гаршин с Есениным – эти вечно ходили вдвоем, и Моррисон с микрофоном. Он почему-то любил читать стихи в микрофон.
Конечно, не все писатели ладили друг с другом. Особенно тяжелым в общежитии человеком был Бунин. Он постоянно травил Блока, он Блока лечил, но травил – за то, что тот написал «Двенадцать»; Бунин говорил, что назвать поэму надо было «Тринадцать» или лучше «Четырнадцать». Бунин попытался однажды травить даже Моррисона – за то, что тот не работает над редактурой, а целый день колется героином и слушает музыку, но Моррисон ему прочитал кое-что из не написанного, а только задуманного, и Бунину понравилось, и больше Моррисона он не травил, и даже сам однажды укололся с ним за компанию.
Опасения, которые я испытал, когда Нина Яковлевна достала последний ржавый ключик, подтвердились. Все, что я прочитал в библиотеке Гоголя, заколдовало меня, а расколдоваться я уже не смог. Волшебство действительно было не совсем исправно. Таким и должно быть волшебство.
Роман-катастрофа
Истории из моей нелепой жизни многим, да, наверное, всем, могут сослужить добрую службу: научить, как не надо. Проследить путь полного просёра, его короткие фазы и широкие шаги – вот задача данного романа-катастрофы, который в стилистическом отношении представляет лирический экстремизм. С точки зрения же методологии текст может быть рассмотрен как своего рода философская криминалистика, где представлены улики, доказывающие вину.
Последний звонок
Детство кончилось внезапно. Ведь оно не навсегда. Я этого не знал. Мне сказала это мама. Она мне сказала солнечным майским утром:
– Сегодня у тебя последний звонок. Ну, вот и все. Детство кончилось.
Мне не понравилось, как это звучит: последний звонок. Я не знал, что мне теперь делать. И пошел в школу. Там были девочки в белых передниках, вокруг бегали первоклассники, я смотрел на них нехорошо, с завистью. У них детство было впереди, а у меня – позади. Если верить маме. Потом мы с моим другом Кисой пошли за здание школы. Там была стройка, на стройке мы выпили вина.
Так началась юность.
Стемнело.
Когда я очнулся, я пил вино с друзьями. Давно, уже несколько лет, по утрам, вечерам и ночам, в «Алкогольном опьянении». Так называлось легендарное заведение, старейшая площадка для коллективной деградации в городе. Если верить преданиям, люди впадали в ничтожество на этом месте последние триста лет. Вместе с тем ничто в этом месте не говорило о славных традициях. Это была рюмочная, не знавшая ни рекламы, ни сервиса, ни репутации. Впрочем, во всем этом она не нуждалась. Потому что находилась на пересечении четырех дорог. Мимо нее не мог пройти тот, кто куда-либо шел. Когда-то по этим четырем дорогам скакали варвары. Иногда они останавливали своих безобразных коней на этом месте, поили их и пили вместе с ними. В те времена рюмочная, скорее всего, носила другое название. Или не носила никакого. Я думаю, варвары, когда говорили о ней, называли ее «Там». Я это место застал под названием «Алкогольное опьянение». В конце прошлого века оно часто сменяло владельцев – их убивали из-за долгов. Это доказывает, что никем из тех, кто владел «Алкогольным опьянением», не владела жажда наживы. Да и нельзя было разбогатеть, управляя местом, где последние триста лет всегда можно было выпить в долг. В этом месте всегда считалось, что долг красен не платежом, а ростом.
Но как же я попал сюда? Ведь еще вчера был последний звонок, девочки в белых передниках. Где я так упал? Почему у меня порваны штаны? Кто эти австралопитеки? Мои друзья? Как случился со мной полный просёр?
Судьба пилота
Друзей у меня всегда было много. Моя мама этого не одобряла, она говорила, что друзей, если они хорошие, не может быть много. Но у меня их было много, и все они были хорошие, не знаю, почему у меня так получалось.
Моего самого старого друга звали Киса. Мы дружили всю жизнь. Мы ходили в один детский садик, хотя он в него почти не ходил, он был из интеллигентной семьи, а дети из таких семей всегда часто болеют, и, если бы не антибиотики, они бы вообще давно все вымерли. Потом мы ходили с ним в одну школу. В десятом классе Киса стал расти, как лиана. Вырос под два метра.
Однажды он пришел к родителям и сказал:
– Папа и мама. Я хочу летать.
Родители Кисы были ученые, они честно ответили сыну:
– К сожалению, левитация человека невозможна.
Но Киса уже решил стать летчиком. Правда, на медосмотре председатель медицинской комиссии сказал, указав на рост кандидата:
– В какой же самолет… это влезет?
Киса тут же заверил председателя, что сможет влезть в любую кабину крылатой машины, потому что обладает охуенной пластичностью. И показал вариант складывания своего тела в кабине самолета, сев на красный ковер и с силой прижав к себе ноги. Сделал это он с такой силой и верой, что на хуй заклинил себе тазобедренный отдел и от адской боли стал орать. Все врачи медкомиссии сбежались в ужасе и пытались расклинить таз кандидата. По предложению хирурга Кису поставили на ноги, точнее на ступни, и пытались за голову выломать тело в сторону, противоположную заклину. Киса при этом стал кричать так, что председатель, полковник медицинской службы, бывалый человек, закрыл лицо фуражкой. Потом Кисе вкололи сильный седативный, вроде тех, что используют для оказания помощи диким животным, Киса выключился, суставы размякли, и только тогда удалось расклинить тазобедренный отдел. Ясно, что в тот день в летчики Кису не взяли.
Но Киса был упрям. Герои упрямы. Киса решил стать летчиком-испытателем. Не просто летчиком, а именно испытателем. Эта специальность в летной профессии считается самой престижной. Испытатель потому так называется, что он постоянно испытывает терпение Бога. Я тоже всегда был испытателем, только не летчиком, а мыслителем-испытателем.
Испытатель первым пробует на себе такие вещи, которые никто до него пробовать не решался на себе – потому что лучше эти вещи пробовать на ком-то другом. Но герои – вот, еще один базовый отличительный признак – всегда стремятся испытать на себе что-нибудь непроверенное или проверенное, но хуёво, кое-как, наспех. И ведь герою, главное, все говорят – может, завтра испытаем, проверим еще раз все? на земле, спокойно, как люди? Ответ героя всегда звучит: а на хуя? На хуя проверять на мышах и на кроликах? Я лучше кролика, потому что я могу говорить. Давайте сегодня все испытаем, ну его на хуй, ждать до завтра.
Конечно, бывает так, что иногда испытателю трудно рассказать об испытанных им ощущениях, например, если он не успел выйти из штопора или гондола въебалась в голубую планету. Но в этом случае люди могут обратиться к черному ящику. В нем сохраняются свидетельства мужества, которое проявлял пилот до последних секунд. Люди услышат из черного ящика спокойный, уверенный голос героя:
– Товарищи! Приближаюсь к земле со скоростью звука. Ощущаю перегрузку. Лезут чичи на лоб. Плющит. Основной парашют не раскрылся. Пробую запасной. Запасной не раскрылся. Товарищи, передаю результаты уникального эксперимента: муха-дрозофила и я при перегрузках минус четырнадцать жэ ведем себя одинаково – погибаем, на хуй. Многовато это все-таки – четырнадцать жэ, товарищи. Ребята, передайте всем в ЦУПе, что я до последнего… Блять!
Тут в записи – глухой звук удара гондолы об землю. Дальше – тишина.
Потом из черного ящика слышны голоса пастухов:
– Товарищи, что это? Похоже, гондола! Давайте откроем ее, в ней, вероятно, герой!
– Давайте! Осторожно! Ай, горячо!
– Вот и он. Герой. Расстегните скафандр! Осторожно!
– Какой молодой! Какое лицо! Спокойное. Светлое.
– Смотрите, фотография девушки в кармане, у сердца! Невеста, наверное… Красивая… От Маши, написано, почерк такой аккуратный…
– Товарищи, снимите тюбетейки. Герою пизда. Сообщите невесте.
Потом гроб с телом героя везут на пушечном лафете три белых коня. Гривы в косы заплетены, в косах черные ленты. Тысячи людей нескончаемым потоком идут, чтоб проститься с героем, тут и дети, и старики, и друзья-пилоты, и женщины. Женщины плачут. Пилоты молчат. На алых подушечках – награды героя.
Так думал Киса. Если гондола об землю – ничего, есть черный ящик и есть награды на алых подушечках.
Так думают многие, когда решают стать испытателями. Но может случиться, что не будет потом ничего. Ни черного ящика, ни алых подушечек. Так думать страшно. Так могут думать не все. Так могут думать только герои.
Когда Киса понял, что стать пилотом ему мешает рост, он стал искать решение. Можно было, например, отсечь ноги. Туловище Кисы без ног точно соответствовало стандарту роста летчиков. Но у медицинской комиссии могли возникнуть, и скорее всего возникли бы, вопросы к безногому кандидату в испытатели. У Кисы был заготовлен встречный вопрос: а как же Маресьев, как же «Повесть о настоящем человеке»? Конечно, медицинская комиссия могла возразить: позвольте, Маресьев сначала стал летчиком-асом с ногами, потом стал безногим асом, а вы просто молодой наглец, который сам себе цинично отрезал ноги и теперь хочет стать асом.
На другом конце туловища тоже были трудности, потому что, во-первых, усекновение головы мало что давало по части уменьшения роста, а во-вторых, безголовый кандидат мог вызвать еще большие вопросы у медицинской комиссии, такие вопросы, на которые Маресьев в качестве ответа уже никак не годился, да и Генри Пойндекстер не подходил, так как не был летчиком.
В итоге Киса нашел решение, хоть оно и потребовало немалых усилий. Он научился ходить на полусогнутых ногах, как танцор фламенко. Когда через год он снова пришел на медкомиссию, все прошло гладко.
Впереди у пилота были еще годы учебы и занятий на тренажерах, имитирующих свободу полета. Такие тренажеры называются симуляторы, они позволяют летать, не летая. У героя, тут нужно заметить, такого полезного тренажера обычно нет. Герою обычно приходится сразу летать, минуя симулятор. Это очень опасно.
Спустя годы Киса получил то, о чем мечтал, – фуражку, ботинки и возможность скромно отвечать девушкам на вопрос «Кто ты?»:
– Я? Да я, в общем-то… Летчик.
Но фуражка и ботинки не спасли потом Кису от вопросов, ответы на которые ищет любой испытатель. И главный вопрос: а еще выше можно?
Иерофанты
Когда прозвенел последний звонок, я пришел к своему дедушке по линии мамы, он был виноделом, и взял у него трехлитровую банку каберне.
В школе был выпускной вечер. Мы с Кисой пошли за здание школы на стройку. Я открыл банку вина. До того как сделать первый глоток, я вдруг почувствовал, как за моей спиной собрались мои иерофанты. Они тихо сели вокруг меня, заняв площадь в несколько квадратных километров. Они ждали.
Они живут со мной с детства, мои иерофанты. Они сопровождают меня повсюду, они советуют, шепчут, кричат, они мешают, они утешают, они толкают в спину, толкают к краю. Я мог бы рассказать о них потом или совсем о них умолчать, но это нехорошо. Я расскажу.
Иерофанты – это гигантские духи. Их у меня семнадцать. Я не помню, когда я начал их видеть и когда они у меня появились. Давно, примерно в то время, когда я понял, что я – это вот это недоразумение в зеркале.
Иерофанты огромны. Просто пиздец. Некоторые размером с шестнадцатиэтажный дом. Некоторые еще больше и шире, размером с пароход. Большая часть из них летают, некоторые хорошо плавают, и все без исключения отлично передвигаются по суше. Иерофанты очень умны. Они могут говорить, некоторые из них болтают на разных языках, довольно бегло, по-русски, по-молдавски, по-японски. Некоторые иерофанты хорошо поют. Они всегда или рядом со мной, или где-то поблизости. Раньше я пытался дать им имена, чтобы обозначить сущность каждого иерофанта: Гнев, Лень, Полное Скотство. Но позже выяснилось, что у иерофантов нет четкой специализации. На самом деле каждый из них отвечает за самые разные области порока и, кроме того, в качестве добровольной нагрузки занимается делами добра. То есть все это одной кашей существует как-то. Поэтому я стал называть своих иерофантов домашними именами, как питомцев. В тот день я сначала увидел Винтокрылого и Этого-за-Спиной.
Винтокрылый похож на птеродактиля, у него кожистые огромные крылья, только он крупнее, размером со здание МГУ. Он может летать быстро, как истребитель, но может и зависать в воздухе, как муха. У него есть четыре турбовинтовых двигателя на крыльях. Поэтому я его и называю Винтокрылым. Еще от птеродактиля он отличается тем, что разговаривает человеческим голосом. Винтокрылый всегда появляется со мной рядом, когда я нахожусь в движении, – еду на машине или в поезде, лечу в самолете, плыву на покрышке. В такие моменты он обычно появляется в окне или иллюминаторе. Он смотрит на меня своими желтыми глазами. Глаза у иерофантов бывают разные: желтые, голубые, черные, белые. У одного иерофанта глаза разного цвета, я называю его Волчок.
Этот-за-Спиной со мной с детского садика. Существо размером с аэропорт «Домодедово». Он всегда находится у меня за спиной, нависая чудовищной тенью. Поэтому я так его и называю – Этот-за-Спиной. У него огромные руки, которыми он бережно обхватывает меня и окружающий меня участок в пару гектаров. Этот-за-Спиной всегда говорит мне, что делать. Иногда его советы полезны, часто – вредны, и в обоих случаях очень опасны. Я всегда слушался его советов.
А у Волчка один глаз голубой, а другой – черный. Он выглядит как волк. Он не очень большой по сравнению с другими иерофантами, размером со слона, не больше. Волчок плохо дрессируется, хотя за еду охотно выполняет команду «Голос». Голос у него хриплый. Волчок очень страшный. Я привязан к нему.
Вот кто такие иерофанты.
Конечно, у читателя может возникнуть вопрос. Я боюсь, у читателя вообще может возникнуть много вопросов ко мне. А вопрос вот такой: пытался ли я что-то сделать, чтобы избавиться от всего этого, от иерофантов? Чтобы жить как человек, без этого всего. Вот мой ответ. Да, я пытался. Я много раз пытался их прогнать, я угрожал, я просил. Все бесполезно. Иерофанты только смеются в ответ, и особенно смешат их слова «жить как человек». Они прямо хохочут, когда это слышат, иерофанты. Но однажды я разозлился сильно. Это случилось, когда был Новый год. Для чего придуман Новый год? Чтобы было на что надеяться. А поскольку надеяться на себя нет никакой возможности, остается надеяться на смену дня и ночи, смену времен года, круговорот воды в природе – в общем, на то, что все исправится само собой и завтра все будет иначе, будет новый год, новая жизнь, настоящая жизнь, и так далее. Психоз, конечно, но человеку нужно на что-то надеяться. Вот так и я пал. Захотел новой жизни. Перед самым Новым годом я нарядил елку и созвал всех иерофантов. Созывать их нетрудно – они и так всегда рядом. Нужно только спросить тихо: вы здесь? Они говорят: да, мы здесь.
Так я и сделал. Они сказали – да, мы здесь. Тогда я сказал:
– Я больше не могу. Жить с вами тяжело. Другие же живут как-то без вас. Я тоже хочу. Имею я право хотя бы попробовать? Я хочу, чтобы вы ушли. Навсегда. Пожалуйста. По-хорошему прошу.
Этот-За-Спиной сказал печально:
– Да мы бы и сами…
А Винтокрылый засмеялся и сказал:
– Когда по-хорошему просят – это приятно.
Мне не понравилось, как он засмеялся. А Этот-За-Спиной сказал с интонацией мэра маленького городка:
– Если бы от нас все зависело!
Я очень удивился, ведь Иерофанты – гигантские духи, их размеры чудовищны, их мощь несомненна, и если уж не от них все зависит, тогда от кого?
Этот-За-Спиной мне объяснил. Для того чтобы избавиться от иерофантов, мне нужно повстречаться с их главным. Только он такие вопросы решает. Я никогда его не видел, только слышал – от самих иерофантов. Говорили они о нем всякое. Говорили тихо. Все иерофанты его боялись. Они называли его: Он. Он повелитель средних и высших адов, можно сказать – топ-менеджер. Его зовут Иерограммат. Именно он придумал, как записывать человеческие мысли, изобрел первую азбуку и алфавит, письменность и грамматику – поэтому его зовут Иерограммат. Я никогда его не видел, потому что низшие ады – а к ним, как известно, относится все на нашей гостеприимной планете – он обычно не посещает. Брезгует.
Когда я попросил иерофантов о встрече с их главным, они переглянулись. Потом стали смотреть на Волчка. Волчок глянул на меня своими разноцветными глазами, выражение было таким – мол, зачем ты меня заставляешь этим заниматься. Потом он поднял голову, закрыл глаза и завыл. Принято считать, что, когда воют волки, – это страшно. Когда завыл Волчок – это было не страшно, это было душераздирающе. Как будто громко плачет ребенок, но необычный, дикий ребенок. Типа Маугли. Все иерофанты притихли. Я никогда не видел их раньше такими – они как будто стали даже меньше и сели теснее друг к другу, как замерзшие солдаты в окопе. Волчок подушераздирал так с минуту, я еле выдержал этот плач Маугли, и, как мне показалось, иерофантам тоже было не по себе.
Потом Волчок замолчал. Некоторое время было тихо. Иерофанты слушали тишину, как будто ожидали ответа. Я тоже ждал. Через некоторое время я сказал:
– Хорошо.
Я сам тогда удивился, зачем я так сказал и о чем это я. Я тогда не понял ничего. Нет, не понял.
А Волчок покрутился, потоптался на месте, лег и укрыл нос хвостом, как это делают звери перед наступлением холодов.
Этот-За-Спиной сказал мне:
– Он придет.
Потом подумал и добавил:
– Зря ты его позвал.
А Винтокрылый обиженно погудел двигателями и сказал:
– Что мы тебе плохого сделали…
И хотя я мог привести довольно длинный список всего, что натворили плохого иерофанты в моей жизни, я уже и сам в тот момент сомневался, а правильно ли я сделал. Если сами иерофанты опасаются встречи с Иерограмматом, то чего ждать от этой встречи мне? Я же не гигантский дух, я же не размером с «Домодедово», я маленький человек.
Встреча была назначена за городом. Я не удивился. Я предполагал, что Иерограммат совершенно неебических размеров, больше остальных иерофантов, раз он их топ-менеджер, в городе даже иерофантам тесно, так что они хорошо чувствуют себя на природе, где можно занять собой часть пейзажа, разместившись без давки. Иерограммату, вероятно, еще трудней найти спокойное, не тесное место – как трудно бывает найти чешки балерине, у которой 46‑й размер, я, правда, не знаю, есть ли такие балерины, наверняка есть.
Место гиблое, я сразу понял. Лес, березки – с одной стороны. С другой стороны – река. Зеленая. Между лесом и рекой – русское поле в синих васильках и желтых одуванчиках. В таких полях в древние времена, если верить историкам, проходили честные сечи. Я не понимал, как же я проведу честную сечу с Иерограмматом, силы-то явно неравны. Да и нечестную сечу провести было непонятно как. У меня не было возможности в решающий момент битвы бросить свежий резерв, коварно спрятанный где-то в крыжовнике, как это обычно делал Дмитрий Донской, – потому что я не мог отделить от себя резервную часть и спрятать в колючих кустах.
Я ожидал, что небо потемнеет и появится циклопический монстр, закрыв собой солнце. Или раздвинется земля, и, в ярости стряхивая с себя васильки, во весь свой тектонический рост из-под земли восстанет чудовище. Но ничего этого не случилось. Конечно, и хорошо, что не случилось, потому что – ну а что бы я делал? Как такого врага поразишь? У меня ни коня, ни меча нет.
Каково же было мое удивление, когда раздался голос. Голос сказал негромко, спокойно:
– Ну. Я здесь.
Я не сразу понял и даже переспросил, хотя это было и глупо:
– Где – здесь?
– Хотел поговорить? Говори, – сказал голос.
Сомнений быть не могло. Голос звучал изнутри меня.
Это был мой голос. Иерограммат сидел внутри меня. Как рассказали потом иерофанты – а ведь могли бы и заранее предупредить! – он всегда так поступал. Он всегда был внутри того, с кем имел дело. В этом был его секрет. Поэтому он и стал топ-менеджером – другие гигантские духи так не умели. Нельзя было понять поэтому, каких он размеров и как выглядит.
Я, конечно, очень удивился и прямо спросил:
– Вы что, во мне?
– В тебе, – сказал Иерограммат. – Можем на «ты».
– Но как ты во мне поместился? – спросил я.
– Да в тебе полно свободного места, – сказал Иерограммат.
Мне стало нехорошо. Но что делать, если уж вызвал на встречу повелителя средних и высших адов, нужно иметь смелость сказать.
И я сказал:
– Я хочу, чтобы иерофанты ушли. От меня. – На всякий случай я уточнил: – Насовсем.
– Да, это можно, – после паузы сказал Иерограммат. – Но есть одно «но».
– Какое? – спросил я.
– Если они уйдут, ты останешься один. Не боишься?
– Боюсь, – честно сказал я. – Да и привык к ним уже, конечно… Но с ними тоже, по правде говоря, не сладко… На ухо шепчут все время, мешают, толкают, понимаешь, к краю… Так что я, уж, может, ну, как-нибудь поживу один? М?
– Ладно, – неожиданно легко согласился Иерограммат. – Но есть одно «но».
– Еще одно? – усмехнулся я.
– Да, – сказал Иерограммат. – Если уйдут они, я тоже уйду с ними.
– Да, я понимаю… Неудобно, конечно, – сказал я тактично. – Ну, в конце концов, мы же можем с вами, с тобой то есть, встречаться как-то, иногда… или как-то… по переписке…
Иерограммат засмеялся. Скажу тебе, читатель, это довольно непривычное чувство – когда внутри тебя кто-то смеется, а тебе не смешно. Потом Иерограммат сказал:
– Если уйду я, ты больше не сможешь писать буквы. Так что решай.
Поэтому его и звали – Иерограммат. Он придумал буквы.
А чтобы я поскорее принял решение, Иерограммат сказал:
– Ну, скажи что-нибудь. Попробуй. Стих прочитай. Какой-нибудь. Давай.
Я хотел прочитать «Белеет парус одинокий». Но у меня не получилось. Получилось только сказать:
– Лена. Таня. Наташа.
Это были имена девушек моих, первых. Я очень удивился. Опять хотел про «Белеет парус» и опять произнес только:
– Лена. Наташа.
Иерограммат сказал:
– А теперь скажи свое самое первое слово.
– Мама, – промяукал я, как младенец.
– А теперь скажи свое самое последнее слово, – приказал Иерограммат.
Я сказал тогда одно слово:
– Хорошо.
Так и сказал. Мое последнее слово – теперь я его знал. Я здорово испугался.
А Иерограммат сказал:
– Ну, давай говори, что же ты молчишь.
Я хотел сказать, что он сволочь и чтобы он прекратил это. Но не смог. Я только мычал, как немой. Я забыл буквы. Иерограммат отнял у меня то, что им было придумано, – речь.
Я мычал. Он смеялся надо мной.
Когда я устал мычать и указывать рукой на свой рот, как пойманный карась, я стал кивать. Я все понял. Я согласился.
Вот так это было. Так я оставил иерофантов у себя. Я выбрал буквы.
В тот Новый год мы ходили хороводом вокруг елки с моими иерофантами. Им нравится водить хороводы. Гигантские духи вроде бы, а как дети.
После того как я сдался, я сразу смог снова говорить. И читать стихи, и про парус, и не про парус, и писать. Это большое счастье, читатель, знать буквы. Правда?
Хотя. Что за счастье… Не знаю.
Моим первым словом после того, как Иерограммат вернул мне речь, было «мама».
Это Иерограммат так посмеялся надо мной напоследок.
…Когда я налил себе и Кисе вина, взятого у деда, иерофанты затихли. Винтокрылый даже сел на землю и заглушил двигатели. Они смотрели на меня своими разноцветными глазами. Ждали.
Когда я сделал первый глоток, иерофанты зашептались. Я слышал, Этот-за-Спиной сказал:
– Началось.
– Началось, началось, – зашептались другие иерофанты.
– Что началось? – не понял я и спросил вслух.
– Началось? Ты чего? – переспросил Киса, который был рядом и не понял, с кем я разговариваю.
– Началось, началось, началось! – шептались, и переглядывались, и улыбались друг другу иерофанты.
– Тише, Киса! – сказал я. – Не слышу, что они говорят!
Но иерофанты так и не сказали, что началось. Они встали вокруг меня в круг, потом пошли тихо хороводом. И запели. Грустную песню, с такими словами:
– У-у, у-у-у, у-у-у-у…
Винтокрылый даже включил свои двигатели и загудел ими тихо, печально. Мы еще выпили с Кисой, и он сказал:
– Здорово как-то стало, да? Вот бы так всегда было. Да?
Я сказал:
– Да.
Потом, уже синие, мы пошли в школу. Вместе с нами пошли мои иерофанты. Но внутрь школы они не могли попасть – они были слишком большие. Поэтому они облепили здание и смотрели в окна своими глазами, желтыми и голубыми, черными и белыми.
Прости меня, Элла Ли
Дома у нас были проигрыватель и куча пластинок, их покупала мама. Когда мамы не было дома, я включал музыку и танцевал. Как павиан. Это было нетрудно, потому что меня никто не видел. Но на людях вот так танцевать я не мог, там была вся школа, и если бы я начал танцевать так, как танцевал дома, я был бы, как Игги Поп. То есть для нормальных людей – танцор непонятный, пугающий. А вот одноклассники все танцевали. Довольно убого. Я смотрел на них, как Игги Поп на Стаса Пьеху.
В холле школы были огромные окна. Я увидел в одном окне большой, во все окно, желтый глаз, а в другом окне – голубой. Это иерофанты смотрели, что я буду делать. Они знали, что будет интересно.
Ноги сами в пляс пошли. Нас с Кисой вставило винище. Я выбежал и стал танцевать. Одноклассники сначала были в шоке, но потом им понравилось, они встали в круг и принялись хлопать в ладоши. Я понял, что я король диско, и стал танцевать, как Джимми из индийского фильма «Танцор диско». Никто не ожидал. Все кричали и прыгали вокруг меня. Все вращалось, все блестело. Это было великолепно. Я сразу понял, что вот так, только так, я хочу провести всю короткую жизнь.
Потом меня вставило еще сильнее, и я стал танцевать, как дядя Гена. Танец дяди Гены я хорошо помнил, напомню и читателю. Самобытный этот танец включает в себя высокие прыжки в сторону люстры, эффектные и довольно опасные для окружающих махи ногами и другие пограничные па. Финальная часть танца дяди Гены обычно включала в себя элемент «зайчик в домике». Элемент этот сложен технически. Для его исполнения надо сложить над головой руки, изобразив крышу домика, а ноги надо держать вместе и прыгать. Казалось бы, это просто. Но на самом деле нет. Это сложно. Сами попробуйте, читатель.
Когда я включил зайчика в домике, я ощутил, что люди не готовы к авангарду. Танцор диско людям понравился больше. Все не знали, как это понимать, как ко мне теперь относиться. Но была одна девочка, которая поддержала меня в моем врожденном стремлении к авангарду. Ее звали Элла Ли. Она была кореянка. Расскажу о ней вкратце.
Элла была девочкой трудной судьбы. Ее родители были красивые люди, корейцы. Она тоже должна была стать красивой кореянкой. Но когда она рождалась, врач наложил щипцы и помял Эллу. Когда она выросла, так все и осталось. Голова у Эллы была длинная, сплюснутая. Руки и ноги тоже были непомерно длинные и худые, и они очень плохо слушались Эллу. Когда она ходила, казалось, через секунду она упадет навзничь. Вдобавок у Эллы была длинная, ниже пояса, ниже попы даже, черная тугая коса. Когда Элла отвечала на уроках, ее иногда замыкало, она начинала мигать и как будто перегорала. Учителям тогда приходилось выводить Эллу на свежий воздух. Там она остывала немного и снова могла говорить.
Конечно, издеваться над такой бедолагой было ублюдством и скотством, но именно эти черты, как известно, присущи детскому коллективу. Все это делали. И я. Мы смеялись над Эллой, зажимали ее в коридорах, плевались в нее, влепляли ей в волосы жвачку, задирали ей юбку, в общем, мы отравляли несчастному созданию и так горькую жизнь. Впрочем, может, это было полезно. Элла рано узнала, каковы они, то есть мы, люди. Она была с детства готова ко всему, что с ней будет потом. Хуже того, через что она прошла в школе, не могло быть уже ничего.
Однажды мы с Кисой написали ей любовную записку. Это была моя идея. Мы написали: «Дорогая Элла! Я твой поклонник. Я влюблен в тебя с первого класса. Я считаю тебя самой красивой. Элла, будь моей. Умоляю о взаимности». Мы положили записку на ее парту на перемене.
Когда начался следующий урок, мы стали смотреть. Мы думали, она разозлится. Она всегда злилась, когда ее донимали. Но Элла прочитала записку, вся раскраснелась и записку спрятала.
На следующий день мы написали новую записку: «Элла, всю ночь я думал о тебе. О твоем лице, глазах, волосах. Ты прекрасна. Умоляю, будь моей». Элла прочитала записку, раскраснелась и улыбнулась. Мы с Кисой ничего не поняли.
Мы написали третью записку. Четвертую. Пятую. Элла читала записки, краснела и прятала их. Было непонятно уже, кто над кем издевается.
Потом Элла вдруг как-то переменилась. До этого мы не просто травили Эллочку – мы ее не любили. При всех своих физических недостатках она была отличницей. Первой тянула руку, первой, хоть и с трудом, выходила к доске, устремляла куда-то поверх наших голов остекленевший взгляд и с лицом партизанки на расстреле, слово в слово, повторяла текст учебника. Она была фанатичка. Она знала наизусть все формулы, все элементы таблицы Менделеева, все словарные слова, все исключения из правил. Память у нее была абсолютная. Элла хорошо училась, но никому не помогала, она называла нас всех тупицами. И еще – уродами. Это было наглостью, потому что вроде бы уродом была она. В общем, Эллу мы не любили. И вдруг, после нашей с Кисой очередной записки, Эллу вызвали к доске.
А она встала и заявила:
– Я не выучила.
– Что? – не поверила учительница. – Ты? Не выучила?! Плохо себя чувствовала, наверное… Ну, ничего, садись, Эллочка…
– Нет! – настаивала Элла. – Я хорошо себя чувствовала. Просто не выучила.
– Но… почему? – удивилась учительница.
– Просто так, – сказала Элла, глядя куда-то в окно. – Не было желания!
– Но, Элла, – сказала учительница подавленно. – В этом случае… Я должна поставить тебе двойку?
– Ставьте, – безразлично сказала Элла и села.
В классе воцарилась тишина. Было слышно, как движутся относительно друг друга молекулы в воздухе.
За неделю Элла получила несколько двоек. Она часто и беспричинно стала смеяться на уроках. Или демонстративно расплетать свою косу. Мы ведь раньше всегда видели ее косу только заплетенной, она была такая толстая, черная. Когда Эллочка вдруг на наших глазах, на уроке, взяла и расплела ее, все ахнули. Это было целое море черных-черных волос, густых, как хвост мустанга, роскошных. Все остальные девочки тоже ревниво порасплетали свои косы, но смотрелись они на Эллином фоне как мышиные хвостики.
Потом Элла стала ходить в школу только в парадной форме с белым передником. Один из учителей спросил ее:
– Элла, у тебя день рождения? Поздравляю, желаю тебе…
– Нет, – сказала Элла. – День рождения у меня был зимой. А сегодня – просто у меня такое настроение.
В классе над выходками Эллы ржали, но уже не зло, с уважением. Появилось в поведении Эллы что-то, что сразу и всех заставило ее уважать. Только мы с Кисой знали, почему Элла так изменилась. Мы не сразу поняли, конечно. Но когда поняли, решили никому не говорить. Мы решили хранить тайну.
Потом Элла получила двойку по своему любимому предмету – по русской литературе, за то, что вместо сочинения про образ Болконского в романе Толстого написала в тетрадке и сдала на проверку стихи. О любви. Свои стихи. О своей любви. К некоему N. Стихотворение так и называлось: «Прекрасный незнакомец N». В классе у нас над этим наивным стихом пытались было поржать пацаны. Но девочки, которые нравились этим пацанам, пригрозили им полным лишением всех эротических надежд, а потом переписали себе стихи Эллы. О любви. Элла стала поэтессой. Как Белла Ахмадулина.
Когда мы с Кисой поняли, что натворили, нас охватил ужас. Потом мы решили, что выход один – продолжать переписку. Было бы слишком жестоко сейчас лишить Эллу света, который мы нечаянно впустили в ее мрачную жизнь. Мы написали ей новую, явно вызывающую записку: «Элла, невыносимо терпеть эти муки. Давай увидимся и сгорим в огне любви». Я надеялся, что это испугает Эллу.
На следующем уроке Элла вдруг подняла руку. В классе пронесся вздох разочарования. Элла давно не тянула руку, ничего не учила, коллекционировала двойки и, как говорили учителя, «катилась по наклонной плоскости». Учитель алгебры, напротив, был приятно удивлен поднятой рукой Эллы и сказал:
– Ну, наконец-то, Эллочка, я тебя узнаю. Пожалуйста, к доске.
Элла своей корявой походкой вышла к доске и, глядя куда-то в окно, негромко, нежно произнесла:
– Прекрасный незнакомец N, Не знаю я, кто ты, Но всех на свете лучше ты. Не знаю я, куда писать тебе ответ, Но знаю, что тебя на свете лучше нет. На твой вопрос в письме последнем Отвечу я: конечно, да!Шок был всеобщим. На глазах у девочек были слезы. Учитель охуел. Он сначала хотел рассмеяться, но весь класс посмотрел на него так, что он понял – сейчас он может обосраться как педагог навсегда. Тогда, закашлявшись, он произнес:
– Ну, что ж, Элла… Прекрасные строки… К алгебре это имеет, конечно, косвенное… Ну, все равно… Спасибо. Садись.
В этот же день мы с Кисой созвали экстренное совещание. Было ясно, что Элла не испугалась. Она согласна увидеться с прекрасным незнакомцем и на первой же встрече сгореть в огне любви, как ей предлагалось. Но мы с Кисой не были готовы выпустить на встречу с Эллой прекрасного незнакомца, потому что он был плодом нашего воображения и в силу своей эфемерности для встречи с Эллой не годился. Мы стали разрабатывать теорию, что незнакомец – таинственный. Мне очень нравилось это слово. Следующее письмо мы так и подписали: «Таинственный N». В последующих письмах мы с Кисой впали в байронизм. Мы писали Элле, что незнакомец бродит один по краю скалы, он хочет заключить Эллу в объятия, но не может, потому что хочет оставить любовь высокой и чистой, как помыслы голубя.
Элла от этих тревожных известий совсем обезумела. Она писала свои ответы незнакомцу амфибрахием и включала их в свои ответы у доски.
Что дело совсем худо, мы с Кисой поняли, когда однажды к доске Эллу вызвала учительница физики. Элла вышла и, сразу положив на законы Ньютона, вдруг сообщила золотой осени за окном, что согласна бродить по скале на холодном ветру с таинственным N. Учительница все это выслушала. Потом спросила потрясенно:
– Элла, чем от тебя пахнет? Ты что, куришь?
Элла своими ясными глазами фанатички взглянула на учительницу и сказала:
– Да. И что? Вы тоже курите, Софья Зиновьевна. Всем известно.
Учительница физики закашлялась хроническим кашлем курильщика и выгнала Эллу из класса.
Мы с Кисой так и не нашли выход. А потом решили, что без переписки с Эллой нам будет неинтересно жить. И ей тоже. Так мы и писали ей письма, два года.
Ты в лифчике?
Теперь можно снова вернуться на дискотеку на выпускном вечере.
Когда я исполнил танец дяди Гены, я ощутил одиночество. Одиночество авангарда. И вдруг Элла Ли вышла в круг, встала рядом со мной и стала танцевать брейкданс.
Этот электронный танец, придуманный негритянскими низами, дошел до города, в котором я тогда жил, не сразу. Лет через пять после своего появления в негритянских низах он дошел до негритянских верхов, потом Майкл Джексон еще лет пять добирался до Питера, потом еще года три брейк добирался от Питера до Москвы, потом еще столько же – от Москвы до Кишинева. И все равно, не все в виноградном крае оказались готовы к негритянскому танцу.
Элла, хоть и не выросла в Гарлеме, всю жизнь провела в верхнем, а нередко и в нижнем брейке – из-за родовой травмы, о которой было рассказано выше. Танцевала Элла отчаянно. Сначала она продемонстрировала верхний брейк в стиле робота, потом упала на пол, попробовала прыжком встать – а тут уместно заметить, что все это она проделывала в платье, длинном нарядном платье в депрессивном стиле Эдиты Пьехи, – но подъем из нижнего брейка в верхний в платье Пьехи не прошел, Элла снова упала на горб, но все окружающие в этот момент находились в таком ахуе, что приняли ее падение за технический элемент этого нового, невиданного танца.
К Элле метнулись учителя и категорически потребовали прекратить безобразие. Меня под горячую руку, за то, что я исполнил танец дяди Гены, тоже признали брейкером, и нас двоих отправили на улицу проветриться.
Мы оказались вдвоем с Эллой. Я был синий, и мне так многое хотелось сказать ей. Как-то вдруг все сложилось в голове. И ее наивные ответы прекрасному незнакомцу, бесстрашно, напоказ, перед всем классом написанные мелом на доске, и черные волосы, которые она распустила на уроке и которые были как южная ночь, и ее кошмарный брейк-данс – все это было прекрасно, прекрасно. Я хотел все это сказать Элле и наверняка сказал бы, потому что был синий, но Элла в этот момент полезла куда-то под платье и достала оттуда флягу. На фляге был герб СССР. Она открыла флягу, сделала пару глотков, потом протянула мне. Я тоже сделал глоток, я был уверен, что Элла пьет из фляги «Тархун». Но это был коньяк, он обжег горло, он наполнил грудь теплом, он предопределил все, что будет потом.
Потом Элла сказала:
– Пойдем потанцуем.
Мы пошли на дискотеку опять. Там играла песня Софии Ротару «Горная лаванда». Песня была препошлая, медленная. Элла взяла меня за руку и повела танцевать. Я был синий, поэтому я пошел, взял Эллу за талию и прижал к себе. Я почувствовал, что к моей груди прижимаются груди Эллы. Вообще-то, груди у нее были с гулькин нос, но соски выперли и упирались в меня, я это чувствовал. И я спросил Эллу, очень серьезно:
– Элла, ты в лифчике или без?
А Элла посмотрела на меня и сказала:
– Я не ношу лифчик. Не люблю.
У меня закружилась голова, потому что я подумал, что передо мной не Элла Ли, а женщина. Я заволновался как-то.
А Элла сказала:
– Пойдем.
Мне хотелось спросить, куда это мы вдруг пойдем, но я не стал спрашивать, потому что был синий.
Элла привела меня в женский туалет. Я стал было упираться у дверей женского туалета, но Элла впихнула меня внутрь. Там были три кабинки. Элла повела меня в самую дальнюю кабинку. Мы там закрылись, и Элла снова достала свою флягу с гербом СССР. Я еще выпил и стал совсем синий. А Элла очень быстро, как мне показалось, нырнула в какой-то кокон. Я испугался. Но на самом деле Элла не ныряла в кокон, а стала снимать платье, а снималось оно через голову. Снималось оно плохо, да и Элла тоже уже была синяя. Кровь стучала в мои виски так, что голова у меня дергалась в разные стороны, но я стал помогать Элле, по ее просьбе. Я потащил платье вверх, Элла из кокона кричала, что ей больно, а я шипел, чтобы она не кричала, потому что кто-то может услышать и найти нас, и будет пиздец.
Наконец платье, слегка надорвав, удалось снять. Когда я увидел полуголую Эллу, мне стало страшно и жарко. А Элла схватила мою голову и, приставив к своей маленькой груди, сказала требовательно:
– Поцелуй.
Я разволновался, но делать нечего, стал целовать грудь Эллы. Крошечные груди мне понравились, они были вкусные. Тело Эллы пахло духами, мне это тоже понравилось. Я стал представлять, что я Аль Капоне. К этому времени я любил джаз, мне нравилась субкультура джазменов и гангстеров Америки сороковых, и я стал представлять, что я Аль Капоне, который в туалете ресторана в Чикаго уединился с хорошенькой сучкой. Конечно, на Аль Капоне я не был похож, да и Элла не была хорошенькой сучкой. Но чего не представляют пьяные люди.
Потом Эллочка сказала шепотом:
– Раздевайся.
Я подчинился. Деловито и очень быстро, как на медкомиссии в военкомате, разделся до трусов, аккуратно и быстро повесил все свои вещички на крючочек в кабинке. А Элла совершенно бесстыже сняла с себя трусы, и я обомлел: на худом лобке были такие же шикарные черные волосы, как на голове, только, конечно, не такие длинные. Я стал размышлять, что же мне теперь делать. Но Элла освободила меня от этих размышлений, потому что вдруг рукой залезла мне в трусы. Я сейчас же обмочил трусы генофондом. Трусы пришли в негодность, а я очень смутился. Но Элла оказалась смелее меня, она снова зажгла во мне огонь, как в Джиме Моррисоне в его лучшие годы. И сказала:
– Ну, давай. Еще.
Мы с Эллой оба знали, что сексом надо заниматься путем совмещения каким-то образом наших органов. Но порнофильмов в то время мы не видели, поэтому не знали, что делать. Мы стали крутиться так и эдак по тесной кабинке туалета, примеряясь друг к другу. Пол в туалете был кафельный, холодный, и у меня мерзли кегли, потому что я, выполняя приказ Эллы раздеться, снял носки.
Наконец первой осенило опять-таки Эллу. Все-таки женщины во всех главных вещах намного сообразительнее мужчин. Она усадила меня на унитаз и села на меня сверху. Долго возилась. Что-то там не получалось. Потом мне стало больно и Элле тоже, она вскрикнула:
– Ой!
Я не стал вскрикивать «ой», подумал, что Аль Капоне так бы не поступил.
Потом она закрыла глаза, прижалась ко мне и не издавала больше никаких звуков, и не шевелилась, а только дрожала всем телом все сильнее. Потом она задрожала сильно-сильно и обняла меня за шею так, что у меня потемнело в глазах от асфиксии, я хотел закричать «На помощь!», но не стал, все из-за того же Аль Капоне.
Потом Элла сказала, что надо еще, чтобы закрепить тему, она ведь была отличницей, и опять стала дрожать на мне, такая у нее была манера, и снова лила в себя и меня коньяк, и не слезла с меня, пока не выжала из меня все мужские соки, а из фляги – весь коньяк. Может быть, Элла, хоть и была очень синяя, трезво понимала, что следующий такой фестиваль в ее жизни может случиться очень нескоро, и поэтому она так делала. А может, она просто делала, что хотела. Первый раз в жизни.
Потом Элла просто обняла меня. Мы сидели на унитазе обнявшись и молчали. Было тихо и хорошо. Я сказал Элле:
– Элла… Я должен тебе сказать… Таинственный незнакомец… Те записки…
А Элла не больно, нежно, дала мне щелбан в лоб и сказала:
– Я знаю. Молчи.
Наверное, это все очень символично. Что первый раз у меня был такой. Все было, как должно быть у героя. По синьке, на унитазе, в женском туалете, с самой некрасивой девочкой в школе, а может, и в мире, и при всем этом я был таинственным N. На что все это указывает? На эстетику безобразного. К которой я всегда тяготел, к которой я пришел потом и от которой потом уже никуда не ушел.
Наташа и пилот
Потом мы с Эллой стали одеваться. Мои трусы были мокрыми, и надевать их было противно. Тогда я решил отказаться от них. Я хотел спустить их в унитаз, но Элла меня, синего, отговорила. Тогда я просто выбросил трусы в корзину для мусора и надел брюки без трусов. В брюках без трусов мне понравилось, это было очень брутально, я был как Моррисон, или как Аль Капоне, или даже еще хуже.
Но когда мы с Эллой хотели выйти из кабинки, дверь туалета вдруг грохнула, и послышался громкий шепот моего друга Кисы:
– Не пойду в женский!
– А я не пойду в мужской! – зашептал громко женский голос.
– Пошли на стройку за школу! – предложил тогда Киса. – Там клево.
– Не хочу на стройку, там не клево, там хуёво! – в ответ заявил женский голос.
Голос принадлежал Наташе Лареску, в третьем классе именно она была одной из тех красивых девочек, которых по приказу директора привели к Саше Файзбергу, чтобы отучить его от пропаганды онанизма. Все увиденное тогда навсегда изменило Наташину жизнь. В старших классах Наташа уже гуляла с учениками из спортивной школы, в которую перевели Сашу Файзберга за пропаганду онанизма. Поговаривали, что Лареску не просто гуляет, а порется со спортсменами. Вероятно, так оно и было. Потому что мы с Эллой услышали диалог Кисы с Наташей. Они сначала препирались, а потом хотели зайти в нашу с Эллой кабинку. Мы затаили дыхание, а я даже залез на унитаз и забрал на унитаз с собой туфли, на случай, если Киса или Наташа заглянут под дверь.
Никто не стал заглядывать под дверь. Киса прошептал удивленно, дернув дверь в нашу кабинку:
– Не понял. Закрыто. Вдруг там кто-то…
– Хуй с ним, – сказала спокойно Наташа.
Как уже было сказано, случай в третьем классе повли ял на Наташу. С шестого класса она ругалась матом.
Они зашли в соседнюю кабинку. Некоторое время была слышна ожесточенная возня. Потом Наташа сказала:
– Блять, трусы снимай, что ты стоишь.
Потом Кису вообще не было слышно, говорила только Наташа:
– Давай. Да не сюда, дурак. Ну, где ты там. Щас. Да. Вот сюда. Ну, давай. Да. Блять, да согни ты ноги, ты же длинный. Да. Теперь давай. О! О! Блять, ты что, все? Давай еще. Да. О! О! О!
Скоро Наташа стала орать, как Шиннед О’Коннор, а Киса только говорил:
– Наташа, тише, вдруг услышит… Кто-то…
А Наташа только говорила:
– Хуй с ним. О, о, о!
Мы с Эллой не решались выйти. Боялись. Не знаю, чего. То ли того, что нас заметят Киса с Наташей, что было глупо, то ли того, что помешаем хрупкой близости Кисы с Наташей Лареску. Что было еще более глупо. Ничто уже не могло помешать хрупкой близости Кисы с Наташей Лареску.
Потом мы все же вышли. Киса с Наташей нас увидели, потому что лицо Наташи торчало над дверью кабинки, она, как выяснилось, стояла на унитазе, чтобы компенсировать разницу в росте с Кисой, а Кисино лицо тоже торчало над кабинкой, потому что Киса был длинный. Лицо Наташи Лареску не изменилось, она продолжила свои «о, о». А Киса улыбнулся нам с Эллой дружески и сказал:
– О, ребята! Привет.
Потом мы с Кисой опять пошли на стройку, там еще выпили. Киса важно сказал:
– Теперь мы мужчины.
– Да, – подтвердил я эту мощную мысль. – Жалко только, детство кончилось.
Кубаноид
После школы мы с Кисой начали подготовку к будущим подвигам. Я готовился стать мыслителем, а Киса – летчиком-испытателем. Однажды Киса сказал, что ему надо познакомиться с каким-нибудь пилотом, подружиться с ним, потому что дружба пилотов – она как дружба моряков, охуенно крепкая. Мы поехали, взяв с собой бутылку вина, в аэропорт. Там мы ходили и искали подходящего пилота.
Вскоре я заметил, что мимо нас проходит такой. Мы сразу прижали его к стене, как шайбу. Я сказал:
– Товарищ пилот, можно с вами познакомиться?
– Зачем? – спросил пилот.
– Мой друг – будущий летчик! – сказал я возвышенно. – Он хочет у вас научиться. Многому. У нас есть вино красное, хотите?
– Хочу, – ответил пилот.
Так мы познакомились с Яшей. Мы вышли из здания аэропорта, пошли в парк, сели там на скамейке. Когда Яша выпил всю бутылку вина, он рассказал:
– Ну, что я могу сказать, ребята, про эту ёбаную летную работу. Платят мало. С тех пор как пришел Горбень, полетов стало мало. Целый день бухаем или спим. Кобыл ебем редко. Раньше кобыл ебали часто, потому что зарплаты были нормальные, уважение было, кобылы сами пилотов искали. Ебаться с пилотом было почетно. Сейчас кобылы ищут ебарей с баблом, рэкетиров. А пилоты сосут хуй. Вот такая ситуация в авиации, ребята.
Конечно, после этой первой информации у нас, особенно у Кисы, возникли вопросы. Мы стали задавать их Яше. Он отвечал откровенно. Выяснилось, что Горбень – это Михаил Сергеевич Горбачёв. Именно с его приходом к власти Яша связывал те грустные перемены, которые происходили в авиации. Пилот очень плохо отзывался о прорабе перестройки, называл его не иначе, как «ебучий председатель колхоза» и «кубаноид хуев». Я удивился выражению «кубаноид», я ведь любил и собирал редкие слова. Оказалось, что кубаноид – это уроженец юга России. А что касается председателя колхоза, то Михаил Сергеевич и с моей точки зрения был похож на председателя колхоза, а насколько ебучего – трудно сказать. Дело в том, что моя мама одно время по своей работе инспектировала колхозы и пару раз даже брала меня с собой. В этих поездках я видел председателей колхозов. Это были такие круглоголовые люди с глупым выражением лица. Они волновались, когда мама приезжала к ним с проверкой, потому что мама была лютой. Председатели колхоза всегда были одеты так: пыльный пиджак, пыльные туфли и штаны, а на голове – идиотская шляпа. Вернее, шляпа была как шляпа, идиотской она становилась из-за того, на что была надета. Именно так шляпа сидела и на Михаиле Сергеевиче Горбачёве – он по виду был вылитый председатель колхоза. Еще я помню, что моя мама всегда говорила, когда мы покидали проинспектированное хозяйство:
– А ведь был колхоз-миллионер. Вот что один идиот может сделать с колхозом-миллионером.
Моя мама тоже не любила Горбачёва. Она, правда, не говорила, что он кубаноид хуев, а употребляла такие выражения: трепач, брехун, дешевка, подкаблучник, чтоб ты сгорел со своей перестройкой, и еще говорила, что, если был бы жив деда Женя, мой дедушка по линии отца, чекист и фотограф, он бы лично задушил эту дешевку одной рукой. Но деда Женя уже умер к этому времени и задушить дешевку Горбачёва одной рукой уже не мог.
Яша рассказал, что у пилотов есть два вида отдыха, который им полагается: предполетный отдых и послеполетный отдых. Мне эти термины понравились, и, забегая вперед, скажу, что я потом заимствовал эти понятия из авиации и удачно адаптировал их к работе мыслителя. С приходом Горбачева граница между предполетным и послеполетным отдыхом оказалась стерта. Теперь пилоты спали месяцами, как гризли. Это угнетало пилотов.
Яша так и сказал:
– Я тупею без работы. Нельзя пилоту без полетов. Без полетов пилот становится долбаёбом, ребята.
Потом мы пошли домой к Яше. Яша был молдаванин, у него был добротный дом с винным погребом. Яша вынес из погреба трехлитровую банку вина. Мы ее выпили. Яша впал в ничтожество и подарил Кисе фуражку. Киса сказал Яше, приняв из его синих рук помятую фуражку:
– Яша, а как же ты?
– Я – пиздец, – сказал Яша, вытерев сопли.
А я тогда подумал: поэты и пилоты похожи. Забери у поэта полет – и тот же результат, что с пилотом. Поэт без полета становится долбаёбом, ребята.
Белогривые лошадки
Яша пил с тех пор, как однажды в небе увидел облака, белогривые лошадки. Было это несколько лет назад, Яша управлял самолетом, дело было под Днепропетровском. Летел Яша сквозь облака. Они были кудрявыми, белыми и золотыми, как волосы ангела, и Яша думал, что ему повезло: ведь простые люди не могут увидеть такой красоты. Яша напевал песню «Облака, белогривые лошадки». Песня была из любимого мультика Яши. Яша пел, а облака плыли мимо.
Вдруг Яша перестал петь. Потому что увидел, как из облаков посыпались чемоданы. Пилот удивился. Потом из облаков стали сыпаться люди. Они были живыми и махали руками и ногами. Яша подумал, что пробил час расплаты. Яша ведь и раньше пил, пилоты вообще люди пьющие, потому что надо снимать стресс, постоянно надо снимать стресс.
Яша сейчас же связался с землей и сказал:
– Прошу аварийной посадки связи хуёвым самочувствием пилота.
Так принято в радиообмене – не употреблять предлогов и союзов. Автор находит это лапидарным.
Уже на земле Яша узнал, что он видел. Он стал свидетелем печально известной авиакатастрофы в небе над Днепропетровском. Там, на километр выше того воздушного коридора, по которому летел Яша, столкнулись два самолета. Оба от удара развалились.
И их содержимое просто высыпалось вниз. Что и наблюдал Яша.
После этого случая Яша взял отпуск за свой счет и провел его в тяжелом делирии. Его постоянно преследовала песня «Облака, белогривые лошадки». Он не мог уснуть, а когда засыпал, ему снились люди. Радостные, улыбающиеся, они летели вниз сквозь золотистые облака к земле и махали руками, как птицы, а рядом с ними летели чемоданы, они открывались, как рты, и пели: «Облака-а-а, белогривые лошадки!» Яша просыпался и кричал, кричал. Потом бежал в подвал, там наливал, пил. И опять. Кричал, кричал.
Вот так. Облака могут быть белыми и золотыми. Но однажды из них могут выпасть чемоданы. Автор находит это поэтичным.
Черный ящик
Выше уже было рассказано о том, что Киса верил в черные ящики – бортовые самописцы. Мне всегда казалось, что внутри меня тоже есть такой черный ящик. Он все запоминает, чтобы потом, уже после катастрофы, люди могли спокойно во всем разобраться, извлечь уроки. Это очень полезно – извлекать уроки из чужой катастрофы. Этот роман и есть черный ящик. В нем изложено все, что со мной случилось. Как сначала все было отлично, потом отказ первого двигателя, потом второго, затем отказ всей гидравлики, конечно, пожар, я пытался дотянуть до запасного аэродрома, но нет, не получится. Когда понял, что не получится, – принял решение. Ухожу подальше от города, ведь там дети и женщины. Упаду на лесок. Березы все ближе. Прощай, жизнь. Взрыв, огонь. А город подумал – ученья идут…
Киса однажды сказал, показав мне толстую книгу, которую ему подарил Яша, это был сборник правил для пилотов:
– Видишь эту книгу?
– Вижу, – сказал я.
– Видишь, какая она толстая?
– Толстая, – признал я.
– Каждая строчка в ней написана кровью, – сказал страшно Киса. – В авиации нет мелочей!
Мне очень это понравилось – и что каждая строчка написана кровью, и что нет мелочей. Я подумал: надо научиться вот так писать буквы – кровью и без мелочей.
Позже тот же Яша лишил Кису иллюзий относительно черного ящика в авиации. Яша рассказал, что пилотов иногда собирает руководство на закрытое совещание, которое называется красиво, мне понравилось: «Разбор крайних катастроф». Я подумал сначала, что «крайние катастрофы» – это страшные, жуткие, крайне катастрофические катастрофы. Но оказалось, в авиации просто не принято употреблять слово «последний». Не принято говорить «последний полет», «в последний раз» и т. д. – считается плохой приметой. Поэтому говорят: «крайний полет», а про последние катастрофы говорят: «крайние катастрофы». Так вот. На разборе крайних катастроф пилоты слушают записи черных ящиков. Но однажды Яша напоил водкой одного сотрудника, который неизвестно чем занимался в летном ведомстве. И тот по синьке признался, что переозвучивает черные ящики, чтобы потом можно было слушать их на разборах крайних катастроф. Яша удивился – как же так, получается, от пилотов скрывают бесценный опыт, ведь пилоты в последние, то есть крайние, минуты жизни сообщают очень важные вещи: показания приборов, свои действия для спасения самолета, и так далее. Но сотрудник, которого напоил Яша, сказал:
– Да ни хуя они не сообщают. Вот на днях иркутский черный ящик я переозвучивал. Так там командир сказал: «Пиздец, мне пиздец. Аленка, прощай».
Эту запись потом Яша слушал. В записи был действительно несколько иной текст:
«Аленка, прощай, ни в чем не вини авиакомпанию, катастрофа связана с человеческим фактором, то есть со мной».
Киса был подавлен, когда Яша ему все это рассказал. И я был подавлен, когда Киса с Яшей мне это рассказали. Получается, подвиг пилота стирают даже из черного ящика. Его последние, то есть крайние, слова, такие настоящие, честные, заменяют чужими словами. Получается, нет никакого черного ящика. Это трагично. Просто пиздец.
Скотник и пилот
С Иркутской авиакатастрофой связана еще одна история из моей коллекции полных просёров. Киса мне ее рассказал.
Самолет после взлета поломался и стал падать. В это время на земле жизнь шла своим чередом. Под Иркутском была ферма, в ней жили коровы. За ними присматривал скотник. Он был созерцателем. Утром он давал коровам еду, потом выпивал, выходил на улицу и садился на скамейку. Там он сидел, смотрел на все вокруг и размышлял. О природе – что все в ней устроено правильно: вот прошло лето, уж небо осенью дышало, лес, словно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, утки клином небо шьют, и все щемящей исполнено высью. Вот о чем думал скотник, он был созерцателем. И вдруг скотник увидел – на него летит самолет. Еще через миг – ведь скорость самолета огромна – он увидел перед собой большой белый нос лайнера. Гигантский белый лебедь подлетел совсем близко. Это было красиво. Еще через миг скотник увидел глаза пилота. Пилот смотрел на скотника. А скотник – на пилота. До их встречи оставалась секунда, но как же о многом успели сказать друг другу эти люди – одним только взглядом. Потом все кончилось.
Может быть, где-то в другом мире они все летают теперь вместе, пассажиры и коровы, а пилот пьет со скотником, потому что пилоты пьющие, как уже было сказано выше. Пилоты пьют потому, что им необходимо снимать стресс. Скотники пьют тоже поэтому. А может, и не летают они все вместе нигде. Одно можно утверждать – за ту последнюю секунду скотник и пилот успели подружиться. И это была настоящая дружба – такая, какой должна быть она у героев. Дружба за секунду до катастрофы.
Пиши, друг!
Потом Киса поступил в свое летное училище. Я радовался за него, хотя мне было грустно. Училище было далеко, и Киса уезжал на много лет, а может, и навсегда – из города, в котором мы стали мужчинами и выпили первый стакан, в котором мы первый раз решили стать героями и где первый раз у нас это получилось.
Когда я провожал Кису, он махал мне из поезда рукой, и кричал:
– Пиши, друг!
Я кричал:
– Ладно!
Я сдержал обещание, данное другу.
Лев толстой как зеркало
Яостался один. Без друзей герой себя чувствует плохо. Иногда и с друзьями герой себя чувствует плохо. Но все-таки с друзьями – лучше. Вскоре я разговорился со Стасиком Усиевичем. Мы жили по соседству. В детстве Стасик среди сверстников выделялся тем, что смех у него был заразительный. Когда Стасик смеялся, всем вокруг него тоже становилось смешно. Он смеялся, когда видел, как кто-то упал и разбил себе лицо, – Стасика смешили страдания людей. Когда мы встретились после школы, Стасик сказал, что хочет стать актером. Я подумал, что он хочет стать комиком, ведь смех у Стасика был заразительным. Но Стасик сказал, что комики получают копейки (сегодня трудно поверить, но тогда так и было), а Стасик не хотел ни жить, ни умирать в нищете. Поэтому решил стать драматическим актером. Он сказал, что драматическим хорошо платят, потому что людям нравится смотреть на страдания других людей, – как это бывает, Стасик приписал всему человечеству свое личное свойство.
Конкурс в актерских училищах, как рассказал Стасик, был просто азиатский: что-то около тысячи человек на место. Я удивился – столько человек хотят быть актерами!
– А как ты думал? – сказал Стасик. – Все хотят славы.
– Да, – сказал я. – Понимаю.
Я действительно понимал. Я тоже хотел славы. Но я не спешил к ней. Я знал – если за славой бежать сломя голову, она испугается и начнет убегать, а бегает она очень быстро, как поросенок по деревне, – мне рассказал это Гоголь. Поэтому я считал, что только пидарасы могут гоняться за славой. Герой должен сидеть, бухать и ждать, пока слава сама начнет гоняться за ним. Когда это случится, убежать от славы герой обычно не может, пьяные бегают плохо, сразу падают.
Для поступления в актерское училище Стасик разучил басню, стих и кусок прозы. Басня была Крылова, проза – Толстого, а стих – Стасика. Стасик писал стихи, как оказалось.
К этому моменту я знал всю мировую поэзию, от корки до корки. Выше я уже рассказывал, как Нина Яковлевна познакомила меня с Гоголем, а Гоголь познакомил меня с декадентами. Мне понравилась поэзия, и я, чтобы не разбираться долго, прочитал ее всю. Именно поэтому стихов я не писал. Я считал, что если я начну писать стихи, то это должны быть такие стихи, которые мне не стыдно будет прочитать Блоку, Бунину и Маяковскому; я дружил с Маяковским – конечно, тайком от Бунина. А такие стихи ко мне не приходили. Это Бунин так выражался. Он говорил, что писать стихи может только Маяковский, да и то про революцию и обувь. А настоящие стихи не пишутся, а приходят. Сами. Ко мне стихи пока не приходили. Иногда я думал, что стихи не приходят, потому что их пугают иерофанты, которые всегда со мной рядом. Я серьезно поговорил с иерофантами, и мы договорились, что они должны немедленно покинуть помещение, если придут стихи, – чтобы не спугнуть их своими жуткими мордами. Иерофанты согласились.
Стасик Усиевич решил прочитать мне всю свою конкурсную программу. Начиналась она логично басней Крылова. Сыр выпал. Потом был кусок прозы. Он был о том, как Наполеон Бонапарт бродит по полю брани и находит раненого Болконского. И говорит своей тонконогой французской свите, указывая на русского князя: «Этот не выживет. Слишком желчный».
Читатель, вероятно, заметил, что в компании писателей, в которую меня привел Гоголь, ни разу не упоминалось имя Льва Николаевича Толстого. Это не случайно. Гоголь не любил Толстого, и Бунин не любил, и Маяковский не жаловал. Толстого даже Горький не любил, хотя в юности был им увлечен, но потом созрел, разобрался и разлюбил. Никто Толстого, в общем, не любил, и поэтому его не звали.
Я тоже не любил тогда Льва Николаевича. Потому же, почему его не любил Бунин. За то, что Толстой – позер. Нет, спору нет, он – прекрасный хозяйственник, рачительный крепостник. Но писатель? Это что-то другое. Писатель – форма страдательная. А Толстой страдал, но чем? Хуйней. Вот Пушкин – страдал. Нет, Пушкин, конечно, тоже страдал хуйней, ведь тот, кто не страдает хуйней, вообще не может стать поэтом. Но Пушкин страдал хуйней редко, на балах, а чаще всего страдал по делу. За любовь, за совесть, за то, что все вот так вот. Это настоящие страдания, без пизды, без бронежилета. Вот почему я говорю, что Пушкин – страдал. И Гоголь. И Маяковский страдал, что бы ни говорил Бунин. И Бунин страдал, хоть и в Париже. А Толстой очень хотел страдать, потому что понимал: великий, а тем более русский писатель обязательно должен страдать. И он очень старался, но – нет. Не получалось. Получалось только страдать хуйней. Хуйня это была очень опасная – проповедничество. Ничего нет хуже проповедничества – даже благотворительность. Толстой думал, что если у тебя выросла борода приятного белого цвета, можно взять палку в иссохшую клешню и пойти по миру проповедовать. Но борода еще не делает козла мудрецом. И потом, это же наглое позерство – автостопом проповедовать. Любой бомж на этом основании мог бы проповедовать, да и по части самоистязания и аскезы встречаются в московском метро бомжи, которые серьез ную фору могут дать Толстому.
Стасик Усиевич не разделял моего мнения о Толстом и все время спрашивал, почему же тогда все считают его великим.
– Все дураки, один ты такой умный? – спрашивал Стасик.
Я возражал Усиевичу просто: нет, наоборот. Я дурак, это все вокруг умные. Все, наоборот, попадают под влияние Толстого, потому что умные. А умные впечатлительны. Они берут в руки книжку: о, какая толстая книга, не может быть, чтобы такая толстая – и полная хуйня. А ну-ка, почитаем. О, какие искания! О, глубоко! Смотрят на обложку, кто же такие искания наложил таким толстым слоем? О, Толстой! О! И пошло, и поехало.
А там же нет ничего. Толстой – это сплошные дворянские селфи. Сцена с Наполеоном и Болконским в этом плане наиболее показательна. Не секрет, в России во времена Толстого дворяне были увлечены всем французским – шампанскими винами и Наполеоном Бонапартом. Любовь к шампанским винам я еще кое-как приемлю, хотя шампанское, как все французское, – это много пены и мало толку. А вот любовь к Наполеону – откуда она взялась?
Разберем же, читатель, личность Наполеона Бонапарта. Пора.
Коротышка
Наполеон был коротышкой. Он понимал, что шансов обратить на себя внимание телочек у него ноль. Потому что он жил во времена рослых красавцев. Кому мог понравиться коротышка? Никому. Но Наполеон был амбициозным. Коротышки амбициозны. Ленин был коротышка. Это только в бронзе его потом делали с фигурой порноактера. Но гляньте на его ухоженную мумию. Она коротенькая. Гитлер был коротышкой. Сталин тоже. Все тираны – амбициозные коротышки. Они не могли завоевать любовь женщин обычным способом. Ну какая телочка поведется на Ленина? Маленький, лысенький, картавит, все время с книжкой в руках, брата повесили. Ну и кому такой нужен? Или Сталин? Маленький, рыженький, рябенький, говорит медленно, тормоз потому что, ну и как ему выделиться на фоне красивых, вечно поющих грузин? Никак. Ну а Гитлер – тут и говорить не о чем, взгляд загнанный, тощий, на торчка похож, ну и какая немка такого полюбит, если рядом полно высоких голубоглазых блондинов?
И коротышки придумывали необычные способы понравиться телочкам. Как правило, самый действенный всегда был связан с насилием. Опять же, с необычным насилием. Чтобы кровь рекой, чтобы вода в реке стала красной – вот что надо, чтобы телочки обратили внимание. Потому что телочки любят насилие. Оно их возбуждает. Каждая телочка тайно мечтает, чтобы ее хоть раз изнасиловали. Конечно, телочка обычно мечтает, чтобы изнасиловали ее не в будний день на помойке, а в избранный ею момент, в Новый год, красивый мальчик на куче розовых подушек, а сама она чтоб была в босоножках на шпильках. Но, конечно, не всегда все проходит так гладко. В этих случаях, недовольная тем, как все прошло, телочка бежит к мусорам – строчить заявление.
Древние коротышки поступали просто: они на глазах возлюбленной мочили рабов пачками. Возлюбленная смотрела и говорила: шоу понравилось, костюмы хорошие, я твоя, на.
В XIX веке, когда жил Наполеон, так уже было не принято. Поэтому он стал полководцем, чтобы мочить людей под предлогом войны. Пока красавцы играли в картишки, Наполеон сидел над картой. Скоро он хорошо знал каждое поле в Европе и придумывал хитроумные планы сражений. Стал побеждать, и француженки, пахнущие печеньем, повалили в его походную палатку, как комарики на фонарик.
Интересно заметить, что у всех амбициозных коротышек усыхала клешня. У Гитлера была сухой одна клешня. У Сталина – тоже. Он поэтому ее и совал за шинель. Подражал другому коротышке – Наполеону. Все коротышки соревнуются друг с другом. Гитлер с сухой клешней, когда отымел всю Европу, пошел на другого коротышку с сухой клешней – Сталина. Большая ошибка. Немцы не умеют спать, подложив под голову седло. Им, чтобы спать, нужна подушка и томик Канта под ней. А русским – седло, и пиздец. Губит коротышек самонадеянность. Не пошел бы Гитлер на русских – еще долго бы Европу имел, ведь это не трудно. Полный просёр наступает у коротышки, потому что он не умеет вовремя остановиться.
Поскольку я употребил термин «полный просёр», а ранее я говорил, что полный просёр – это геройская тема, у читателя может возникнуть вопрос. Были ли амбициозные коротышки героями? Гитлер, Сталин, Бонапарт – были ли они героями?
Сложный вопрос. Сразу ответить «нет» было бы не совсем честно. Потому что пороть Европу – не рядовая движуха, не каждому по плечу. Но сказать «да» – значило бы поставить в один ряд Гитлера и Ван Гога, Сталина и Пушкина, Наполеона и Вийона. Что не могу позволить категорически – ни себе, никому. Следует объяснить свою позицию читателю. Объясню. Есть один, самый главный признак у героев, по которому их можно отличить от маньяков. Признак этот, так уж совпало, тоже связан с насилием. Истинный герой, и я на этом настаиваю, тоже порой привлекает внимание телочек, используя насилие, и порой даже в извращенной форме. Но это насилие над собой. Людей ему жалко. А себя – нет. А коротышкам, наоборот, себя жалко, а людей – нет. Гитлер, правда, по концовке покончил с собой, так считается, но я думаю, это пиар, съебался он с Борманом в Южную Америку и там много лет болел за сборную Аргентины, но даже если он и шмальнул-таки себе в башню, это не по-пацански, и это не считается. Роднит всех упомянутых маньяков-коротышек не то, что они герои, ни хуя они не герои. Роднит их только то, что у них усыхала от злости клешня. Но калека – еще не значит герой.
Вот на что хотелось обратить еще раз внимание читателя.
Просрал болконского
Толстой не был коротышкой. Это был рослый крепостник. Рука у него иссохла, потому что, когда просыпался, тут же начинал строчить. Но строчил он не косяки, а романы.
Теперь вернемся к сцене, которую Стасик Усиевич собирался читать при поступлении в актерское училище. Итак, Наполеон на поле брани обнаружил Болконского, который был прекрасен, потому что был с флагом. И вот, подходит коротышка Бонапарт, видит – лежит Болконский с флагом. И Бонапарт говорит: «Этот не выживет, слишком желчный». Коротышки всегда так говорят о героях. Свысока. Потому что коротышка стоит, а герой лежит. Да, герои часто желчные. Потому что они не могут спокойно смотреть на все это. А коротышки – могут. Спокойно смотреть, как смешались в кучу кони, люди, и ядрам пролетать мешает, нет, не куча – гора кровавых тел. Они не только могут, они любят на это смотреть. Так и случилось, Бонапарт как в воду глядел. Болконский вскоре умер. А Толстой, как он об этом заявлял, плакал, когда умер Болконский. Но, позвольте, хочется спросить: что значит – умер? Он не умер. Он был не старый. Толстой сам его убил. Своей усохшей клешней взял и замочил Болконского. Которого так любил якобы. Но почему? Да потому, что Болконский был героем. Он был живым. Толстой жаловался даже: вот как поведет себя в следующей сцене Пьер Безухов – он, граф, всегда знает заранее. А вот как поведет себя Болконский – он, граф, не знает заранее. Болконский его не слушается. А с чего, хочется спросить, стал бы Болконский Толстого слушаться? Пьер – понятно, слушался, он был Толстым с себя, нежного, списан. Конечно, он слушался. А Болконский был героем. С чего он вдруг станет слушаться? Только с того, что этот назойливый бородач его выдумал? Но это еще не повод. Буратино и тот не слушался папу Карло. И только выиграл от этого, и круто поднялся, как известно.
А дальше у Толстого – какой выход? Мочить Болконского. Пока он живой, он не слушается, и от него одни неприятности. Все герои таковы. Но если героя замочить, сунув ему в руки флаг предварительно, – ну, это другое дело. Теперь люби его, сколько хочешь.
Общеизвестно, что, когда дело дошло до сцен предсмертных мук Болконского, Толстой попал в сложную ситуацию. Ведь ему надо было описать страдания. А как их описать, если нет личного опыта? Трудно. Но граф был изворотлив. Оглядевшись, он обнаружил, что прямо под боком у него умирает в муках Некрасов. Большая удача. Некрасов, конечно, обрадовался, когда к нему приехал Толстой, поэт был герой, а герои наивны, – он подумал, что граф захотел поддержать его, выразить сопричастность. Но потом Толстой пришел еще раз, и еще. И, сидя у смертного одра Некрасова, стал подробно того расспрашивать. Что чувствуешь? Какие образы возникают? Не хочется умирать, а? Жизнь-то идет своим чередом, все будут жить, вот и я, Толстой, буду жить и крепостных девок колоть, а ты умираешь, Некрасов, скажи, ну как, обидно тебе или как? Ну, поделись по-братски, по-писательски. Некрасов и тут, бедолага, все еще в наивности пребывал. И все Толстому рассказывал. Но потом видит поэт: граф его наивные ответы аккуратненько своей усохшей клешней фиксирует в блокнотик. Некрасова эти ментовские замашки Толстого насторожили. И он прямо спросил:
– Лев, что это вы там пишете?
– Да так, наброски, – скромно ответил Толстой.
– Что за наброски? – спросил бедный Некрасов.
– Да понимаешь, Некрасов, у меня герой, Болконский Андрей, умирает в муках, и я вот подумал, что я буду сидеть придумывать эти муки, что мне, делать нечего больше, спишу-ка я эти адские муки да вот хоть с Некрасова, что далеко ходить!
Некрасов привстал, ему было трудно, но он был герой, он привстал из последних сил и как закричит:
– Пошел вон от моего смертного одра, пидарас!
Скандал был жуткий, но дело было сделано – картину мучительной смерти Толстой списал с Некрасова и влепил в свой роман, как там и была. А читатель, дурак, читает потом и думает – о, Толстой, о, как выписал сцены страданий, наверное, и сам пострадал! Вот как строится этот обман. Вот почему Толстой не герой. Герой – тот, кто сам страдал, ни у кого страдания не одалживал, не брал в аренду.
Приходите на следующий год
Когда Стасик Усиевич прочитал мне фрагмент прозы Толстого, я не дослушал до конца и холодно прервал его:
– Достаточно. Теперь прочитайте стихотворение.
Мы со Стасиком так договорились – я изображал приемную комиссию актерского училища, тренировал Стасика.
Усиевич, хоть перед ним была не комиссия, а просто я, разволновался. Стихи он писал давно, с пяти лет. Теперь ему было семнадцать, значит, стихи он писал двенадцать лет. Это был опыт, если не сказать – стаж.
Первое же стихотворение, к моему удивлению, оказалось патриотическим. В нем Стасик просил райвоенкомат первым же рейсом Кишинев – Ташкент отправить его в Афганистан.
Стасик писал:
«Товарищ военком, направь меня в Афган, Там за каждым кустом Душман…»Дослушал я стихотворение в смятенных чувствах. Я не знал, что сказать Стасику. Я не мог назвать стихотворение своевременным, я даже мысленно спросил, на секунду перестав быть приемной комиссией актерского училища и став призывной комиссией военкомата:
– Товарищ призывник, как же нам выполнить вашу просьбу, если в данный момент как раз полным ходом идет вывод советских войск из Афганистана?
Кроме того, почва в Афганистане бедная, каменистая, растительности мало, так что если бы за каждым кустом притаился душман, их было бы мало, и война в Афганистане закончилась бы за неделю, а она шла десять лет. Правда, в долинах там имелись плантации анаши и мака, но в таких долинах за каждым кустом притаиться должен был не душман, а растаман. В общем, имелись неточности.
И все же мне понравилось стихотворение, в нем был ритм, этот срыв ритма, эта синкопа, это хорошо: там за каждым кустом – синкопа – душман. Вообще, это в стихотворении главное. Музыка. Поэзию ошибочно считают литературой, я не знаю почему. В поэзии вообще, знай, дорогой читатель, совершенно не важны ни рифма как таковая, ни тем более смысл. Поэзия – это не литература, это музыка, только вместо звуков бубна или баяна используются буквы, слоги, слова. Хорошая поэзия находится в близком родстве с шаманизмом, хорошие поэты – шаманы, поэтому их поэзия не трогает – она торкает слушателя, это только плохая поэзия «трогает», а хорошая торкает, шевелить частями тела заставляет, хорошая поэзия вставляет, поэзия и делится вообще – на ту, которая вставляет, и на ту, которая не вставляет. Поэтому хорошие поэты похожи на музыкантов – они не слишком умны. Музыканты – те вообще нередко бывают глупы, бас-гитаристы, к примеру, те сплошь имбецилы, а играть не мешает. Моцарт тоже, я думаю, не был мастером спорта по шахматам, зато музыку какую писал – до сих пор торкает. Был, правда, Иосиф Бродский – он не был глупым, так считается. Но вообще-то был. Сам признавал. Молодец.
В прозе тоже есть ритм, услышать его бывает трудней, но он есть, если проза хорошая. Такую прозу обычно пишет хороший поэт, то есть такой человек, который раньше писал стихи. А потом перестал. Почему перестал? Потому что понял: чтобы писать стихи, нужно быть молодым – чтобы кататься на трехколесном велосипеде, которым, в сущности, и является поэзия. Как будет смотреться старичок на трехколесном велосипеде? Как сбежавший из родного местечка, Альцгеймервилль. Таким образом, хорошие прозаики – это поэты, как бы потерявшие трудоспособность с возрастом или в результате травмы. Иначе говоря, хорошие прозаики – это поэты-инвалиды.
Дослушав Стасика, я сказал, обращаясь к невидимым коллегам по приемной комиссии:
– Ну что ж. Я думаю, выражу общее мнение. Юноша, несомненно, способный. Есть музыка, есть синкопа. Но пока сыровато. Приходите на следующий год.
Стасик страшно расстроился, убежал на кухню. Налил себе борщ и стал есть. Слезы капали в борщ. Я не мог это видеть и сказал:
– Стасик, ну ты же сам просил. Чтобы построже…
– Да, да, – согласился Стасик. – Скажи, ты считаешь, не стоит даже и пробовать?
– Пробовать всегда стоит! – сказал горячо я.
Да. Я всегда так считал. Что пробовать всегда стоит. Герой потому и герой, что бросается в шортах на танки. И танки, я всегда в это верил, поворачивают назад. Отступают, пасуют. Правда, выстрелив сначала один раз из пушки в героя в шортах. Отступают танки не перед ним. А перед воронкой, которая от героя осталась. От героя всегда остается большая воронка. Но даже она иногда заставляет отступить пидарасов на танках.
Я всегда считал, что пробовать стоит – да, у них танки, самолеты, пушки, но это хуйня. У нас шорты. И буквы. По хуй на танки.
Большая ошибка.
Стасик вскоре уехал поступать в актерское училище. Напоследок я строго наказал ему не читать стихи про Афган, а прочитать Блока: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» Я любил это стихотворение и – позже – много лет провел в точном соответствии с его первой строкой.
Мыслитель
Яопять остался один. И стал размышлять. Киса уехал в летное, Стасик Усиевич – в актерское, а я никуда не поехал. Я не знал, куда ехать и зачем. Я думал, почему мне так не повезло. Ведь есть люди, у которых с самого начала все ясно. С детства мечтал стать поваром, папа был поваром, и дед им был, и самый давний предок-каннибал тоже был поваром. Мечтаешь быть поваром – стань им. Профессия нужная, все едят. Кто не ест, тот мертвец. Все тебя уважают, потому что все едят. Карьерная лестница: поваренок, потом младший повар, потом просто повар, потом шеф-повар. Уважение, стаж, обучение молодежи. Потом мудрая старость повара. Потом: лепил дед-повар свою последнюю котлету, в глазах потемнело, сказал «ы», упал головой о плиту. Так и нашли – с котлетой в руке. Коллеги сняли колпаки. Какой человек. До последней секунды лепил. Хорошая жизнь.
А я? С детства я решил, что, когда вырасту, стану героем. Мама говорила: герой – нет такой профессии. Может оказаться необеспеченной старость. Нет профессии – нет пенсии. И что тогда? Бесплатный гроб за счет ЖЭКа из досок для опалубки? Я возражал – ну и что, Моцарта тоже похоронили за счет ЖЭКа, а музыка живет и до сих пор торкает. В общем, с мамой у нас были разногласия на этот счет.
Я спрашивал себя – что я могу делать? И получалось, что ничего. Нет, кое-что я могу. Постигать, точно выхватывать – это могу. Больше ничего не могу. Мне всегда не нравилось слово «работа». У него корень – «раб». Работа унижает человека. Работа сделала из обезьяны раба. Наверное, так говорила во мне русская кровь. По линии отца в моем роду русские. Это мечта всей русской нации – не работать. Нация готова делать для этого все: изгонять орды монголов, давить коричневую чуму в ее логове, защищать вьетнамцев от янки, ссориться с янки, одалживаться у янки, создавать величайшие памятники культуры руками евреев, ломать евреям их культурные руки, заливать пастбища и глаза, лишь бы не работать. Работа – не волк. Вот основной догмат русской философии. Даже в русской тюрьме – кто самые уважаемые люди? Воры в законе. А что они делают? Они не работают – никогда, ни за что. Они сидят и смотрят, чтобы все было правильно. Поэтому они и называются смотрящие, а не бегущие или копающие.
Через некоторое время я пришел к выводу, что ближе всего к этой русской доктрине – никогда не работать – профессия мыслителя. Мыслитель – он как вор в законе. Он смотрящий, но не за отдельной тюрьмой – за всем мирозданием, тем более мироздание – тоже тюрьма, это же ясно. Хорошо быть мыслителем – так я думал. Лежишь в тени кедра ливанского. С жалостью смотришь на современников. Ученицы в тонких туниках за тобой все записывают. Говоришь ученице, самой смышленой: «А ну, ты, да, ты, с ножками, пойди сюда. А ну, прочитай, что ты там за мной записала». Читает. Да, все правильно, но там, где «мой оппонент – не философ, а простой демагог», исправь: «мой оппонент – не философ, а простой пидарас». Исправила? Умница. Иди сюда. Ножками. Да. Хорошо. Все. Теперь иди отсюда ножками. Остался один. Скинул сандалии. Все. Мыслей нет. Мандариновый фреш. Созерцание. Да.
Конечно, есть в профессии мыслителя и свои минусы. Их всего два. Первый: непонятка со стажем и пенсией. Но можно до пенсии не дожить, это не трудно – достаточно употреблять не мандариновый фреш, а виноградный, полусухой. Второй минус – зима. Зимой в тени векового дерева сыро и хуёво. Но можно мигрировать на юг, вместе с птицами.
С детских лет я был мыслителем, потому что прочитал много книг. От прочитанного я очень вырос. Я стал акселерат. Но я вымахал не вверх, как мой друг-пилот Киса. Я стал духовный акселерат. Я вымахал внутрь.
Я понимал, что мысли – плоды труда мыслителя – могут оказаться слишком опережающими свое время, слишком смелыми, невостребованными, другими словами – на хуй никому не нужными, и тогда никто просто-напросто не узнает, что был такой мыслитель, – я умру, а заводы не будут печально гудеть, и фабрики тоже не будут, и пароходы не будут. Нет, понятно, потом, после смерти, признают. Но почему только у пидарасов слава прижизненная, а у героев всегда посмертная? Что за традиция такая хуёвая, кто ее выдумал?
Скоро я понял, что у них просто разная слава. У пидарасов слава – как жрачка. Вкусная, горячая, сытная, но быстро портится. А слава у героев – она холодная, белая, как вечная мерзлота. Мне нравится, как это звучит. Вечная мерзлота. Это красиво. Вот и слава героев – она такая. Она не портится и может пролежать подо льдом миллион лет – по хуй, может и больше. Значит, я хочу не той славы, которая жрачка, а той, которая вечная мерзлота? Если так – значит, мне надо готовиться. Нужны кальсоны с начесом, унты, собаки, тушенка и синька. В вечной мерзлоте тоже можно жить хорошо. Если ты Амундсен. Ну, или, в конце концов, можно хорошо умереть. Если ты Амундсен.
Я выбрал свой путь. И пошел. Компаса не было. Даже солнце и звезды были не всегда. Но я всегда знал, куда идти.
Туда. Примерно туда.
Мировое господство
Первым делом я решил завоевать мировое господство. Мне нравилось это сочетание слов: мировое господство. В нем горланили трубы и плакали аккордеоны. Я знал, что завоевать весь мир в один заход трудно – из-за потерь на дорогу, взаимоудаленности континентов. Поэтому я разбил мир на ряд зон. Сначала следовало завоевать Москву, потому что Москва – столица нашей родины, а каждый захватчик должен начинать с захвата собственной родины. Затем огнем и мечом по Европе: Лондон, Рим и Париж падут быстро, как сёла. Затем будет атакован Нью-Йорк. На него в моем плане отводился целый год. Это много. Нью-Йорк, все-таки. И, наконец, Токио – тут все просто, мне принесут ключи от города два японца, один будет молчать и даже глаз не подымет, а другой что-то выкрикнет, пару коротких яростных фраз по-японски, потом оба – и тот, что молчал, и тот, что кричал, – сделают сэппуку. Сэппуку – то же, что харакири, но круче, это когда живот себе вспарывает благородный человек из древнего рода, рука его не дрожит, намерения чисты, дух тверд, и перед тем как умереть, он еще немного почитает Лотосовую сутру, перечитает фрагмент, который для него всегда оставался непонятным немного и только теперь стал понятным. Потом напишет свой последний стих, каллиграфически красиво напишет, как генерал Акаси Гидаю после проигранной им битвы за своего господина Акэти Мицухидэ. И только потом сделает сэппуку. Вот как правильно. А харакири – это когда неподготовленный человек себе вспарывает живот кое-как, второпях, на бегу. В общем, сэппуку – это круто, а харакири – это тупо, и его может сделать любой японский долбоёб.
Ну, хорошо, думал я, допустим, мировое господство захвачено. Что дальше?
Единый менеджер
Завоевав мир, надо им как-то править. Здесь на горизонте появляется одиозная фигура единого менеджера. Каждый герой мечтает иметь такого. Потому что у героя есть житейские, не геройские потребности. Купить вина и хлеба, постирать фрак, встретить любимую в Домодедово в четыре утра, наконец, заключить контракт с издателем на баснословные тиражи новой книги и получить баснословный же гонорар. Все это – нужные, но не геройские дела. Вот для чего нужен менеджер. Единым он называется потому, что он один все решает. Он делает все, что герою делать неинтересно. Он отвечает на телефонные звонки и письма – а у меня даже нет телефона, и я не знаю, как им пользоваться. Я даже не знаю, как ходить за сметаной, я уверен, что она просто стоит на улицах всюду и каждый берет, сколько хочет. Я беззащитен и чист, как дитя. Таким и должен оставаться мыслитель. Я даже не знаю, где я живу. Я могу зайти в чужое владение и там уснуть. Но меня и там найдет мой менеджер, все объяснит владельцам, заплатит за облеванный пол и бассейн и отвезет меня домой. Он возит меня домой в машине без окон – чтобы не узнавали, не приставали. В фургоне с надписью «Хлеб». Это стильно.
Конечно, я знаю, что менеджер немного шельмует – оставляет себе часть моего гонорара, но я не жадный, пусть, ради бога, ему ведь тоже живется не сладко со мной.
Единый менеджер ужинает со мной за одним столом – герои, в отличие от пидарасов, демократичны. Тем более что он, менеджер, ужин и приготовил – как известно, лучшие повара – мужчины. За ужином я пью и курю. Менеджер не пьет и не курит. Ему нельзя.
Потом я засыпаю с улыбкой. Менеджер укрывает мои ноги пледом, подбрасывает пару дровишек в камин и неслышно уходит. Его комната рядом с моей, в ней аскетично все так – мой портрет на стене, стол, стул, калькулятор. За столом, сидя на стуле, мой менеджер спит чутким сном леопарда. Из правой руки он никогда, даже во сне, не выпускает телефон. Он – моя связь с миром. Завоеванным мной миром.
Когда я умру, менеджер будет сидеть на моей могиле. Родные, близкие – все уйдут, потому что зима, снег, на хуй мерзнуть. А он будет сидеть. А потом на снег упадут капли крови. Мой менеджер сделал сэппуку. Свой последний стих он посвятит мне. В нем он извиняется, что служил мне так плохо.
Конечно, такого единого менеджера у меня никогда не было и не будет никогда. Такие бывают только у пидарасов.
У героев менеджеров нет.
Жена поэта
Улитератора может быть жена. Редко, но может быть. Иногда жена литератора может стать его менеджером. Это плохо.
Всем известно, что жена Толстого переписывала по сто раз его романы. Непонятно зачем. Это Толстой заставлял жену быть его менеджером. Ну как можно после этого любить Толстого?
У Бунина тоже была жена. Он ее любил. Но быть своим менеджером ее не заставлял. Наоборот, Бунин даже жаловался мне однажды на жену, в библиотеке Гоголя:
– Ну, вот так и знал ведь, так и знал! Как умру – засядет сразу писать мемуары обо мне и назовет их «Жизнь Бунина». Ну, зачем писать мемуары? Было бы о ком! Писатель-то так себе! – Тут Бунин улыбнулся незаметно – он так не считал, конечно. – Ну, ладно, села писать, ну так назови мемуары, чтоб на меня похоже было, чтоб меня передавало: «Не жизнь, а сплошные мучения Бунина» – ну, хоть так. Что это такое – «Жизнь Бунина»! Тьфу!
Ну как можно после этого не любить Бунина?
А есть еще такой поэт – Евгений Рейн. Не все его знают. Потому что все знают Бродского. Евгений Рейн – хороший поэт, и человек неплохой, но он был другом Бродского. Не повезло. Это все равно что в XIX веке написать стихотворение, которое начиналось бы словами «Я помню чудное мгновенье» или «Белеет парус одинокий». И всё, ты пропал – все будут говорить, что у Пушкина мгновенье более чудное, а у Лермонтова парус более белый.
Вообще, русская литература – жестокая вещь. В ней можно пострадать ни за что. С Евгением Рейном так и случилось, потому что он дружил с Бродским. Лучше бы он с ним не дружил – теперь все, кто приходит брать у Рейна интервью, что первым делом спрашивают? Может, «Как вы стали поэтом?» или, может, «Ну, как вам живется на свете?» Нет! «Как вы познакомились с Бродским?» Рейн теперь для всех не поэт, а тот, кто может рассказать что-то прикольное о Бродском. Горькая участь.
Так вот, у Рейна есть жена. Он ее своим менеджером быть не заставлял. Она сама им стала, потому что Евгений Рейн человек добрый. Однажды пришли к нему две хорошенькие критикессы. Пришли по известному делу – узнать, как Рейн познакомился с Бродским. Ну, сели, критикессы включили свои диктофоны, Рейн по привычке уже начал было: «Я хорошо помню тот день, когда впервые увидел Иосифа…» И тут вдруг входит жена (это мне потом одна из критикесс рассказала, по синьке). Входит и говорит:
– Женя! Ты почему не пропылесосил?
– Да я… Я забыл, – улыбнулся Рейн беззащитно.
– Забыл? А ну, бегом пошел пропылесосил! – сказала жена.
Критикессы охуели. Стали смотреть на друга Бродского. Друг Бродского встал, поджал лапки, как зайчик, и пошел. Девчонки, пока он гудел по всем комнатам, так и сидели в ахуе. Диктофоны писали звук пылесоса.
Потом Рейн вернулся и сказал:
– Так на чем мы… А, да. Я хорошо помню тот день. Я впервые увидел Иосифа…
Печальное зрелище, когда жена у поэта – менеджер. Это неправильно. У поэта или вовсе не должно быть жены, или, если уж она завелась, нельзя ее заставлять и нельзя ей давать стать его менеджером. Потому что и то, и другое – жестоко по отношению к женщине. Да, герой может и должен быть жесток к женщинам. Но не так же, не так!
Да. А о Бродском в этом тексте еще выпадет случай поговорить отдельно, читатель.
О пафосе
Герою всегда пастух интереснее царя. А пидарасам – наоборот. Пафос для пидараса – питательная среда. А для героя – вонючая радиация.
Как представляет себе славу пидарас? Зовут в Канны, показ нового фильма, артхаус, фабула завораживает: два гермафродита пытаются понять, кто они, во время прогулки на велосипедах. Надо бы поехать, конечно, там ведь будут все наши. Послал менеджера купить билеты. Тот купил. Жлоб, что за билеты ты мне купил, это что, дневной рейс? Ты что, забыл, я люблю летать ночью, чтобы видеть звезды в иллюминаторе, они же, как я, – им холодно там, в этом космосе, и одиноко. Поменяй на ночной. Поменял? Кто сосед в самолете? Что, Мадонна? Эта лохушка? Поменяй, хочу рядом с Мэттью Макконахи, он мне нравится, он такой худенький. Поменял? Хорошо. И знаешь что? Нет. Не поеду. Настроения нет. Или поеду. Не знаю. Пусть Мэттью попросит.
Такая пидарастия называется пафосом.
Я представлял себе славу иначе. Захожу в книжный. Меня не узнают. Потому что меня не знают в лицо, а в лицо не знают, потому что меня не зовут на ТВ. Один раз позвали – Татьяна Толстая и с ней девочка смешная какая-то. Я говорю: «Татьяна Никитична, поехали в баню, и эту смешную с собой тоже возьмем». Смешная обиделась, Толстая согласилась, она мне понравилась, кстати, с юмором женщина. В бане с Толстой про поэзию не говорили, просто помылись, водочки выпили, помолчали. Хорошая женщина. Но больше на ТВ не зовут. И вот, захожу в книжный, спрашиваю девочку-продавщицу: «Родная, ну, как продается мой текст?» Она говорит: «Ой, я сейчас девчонок всех позову». Обнимаются со мной, фотографируют, не люблю это, но терплю, девчонки хорошие, не могу отказать. Говорю: «Ну так как продается роман мой, родные? Никто не купил?» Они говорят: «Ой, что вы, вы на втором месте по продажам после “Как найти мужа”». Я кричу тогда: нет, нет! Подбегаю к покупателям, вырываю у них мою книгу, подписываю ее словом «Нет!», кричу им: «Не надо, не покупайте, это не то! Как вы можете покупать это, вон туда посмотрите, на те полки, – там Пушкин, там Гоголь, там Бунин, там Чехов, там Хлебников, а я, а мы все, мы же так… На фоне гигантов мы карлики, которые пытаются подпрыгнуть». Я плачу. Со мной плачут девчонки-продавщицы. Они не понимают, что я говорю. Но чувствуют. Они все чувствуют. Родные мои. Одна из них меня забирает домой, в Зеленоград, я неделю живу у нее, она меня кормит варениками, поет мне колыбельные русские, я засыпаю у нее на белых коленках. У нее на коленках даже веснушки. Но однажды утром я ухожу. В метель. Она плачет сначала: «Не ходи, не пущу», но я ухожу, и она машет мне вслед через окошко в морозных узорах и гладит свой белый животик в веснушках – в нем мой сын, она назовет его Васенькой. Я не оборачиваюсь. Вот так.
Пафос я отвергаю.
Что же касается славы посмертной – еще раз о ней. Ладно. Пускай. Но это не значит, что при жизни люди имеют право надругаться над героем как хотят. Что это за привычка такая – вытирать о героя ноги? Бляди, он вам не тряпка.
Герой боится всего, чего боитесь вы. Но вы и живете так, как будто вам страшно. А герой живет так, как будто – нет, не страшно.
Уважайте героя. За это.
«Творчество»
Слово «творчество» необходимо запретить полностью. Это слово употребляют только пидарасы. Им оно нравится, это их слово. Они говорят – «мое творчество». Какой позор. Посмотри на себя – ну какое у тебя, сука, может быть «творчество»?
Я употребляю слово «тексты». Сухое слово, ничего лишнего. Только буквы и пробелы. Потому что в начале были буквы и пробелы.
Земфира
Киса поступил в летное, а Стасик Усиевич в актерское – нет. Домой он приехал, как освистанный Шаляпин, – в недоумении. Я спросил Стасика:
– Провалил? Басню?
Стасик признался, что пренебрег моим советом и вместо «Ночь, улица, фонарь, аптека…» прочитал свои стихи. Причем сначала громко заявил, что прочитает Блока, а потом от волнения стал читать свои. То есть стал выдавать себя за Блока. Приемную комиссию стихотворение, в котором символист просит послать его в Кабул, шокировало. Стасику, как было мной напророчено, сказали:
– Приходите на следующий год.
Теперь Стасик не знал, как ему жить до следующей попытки попасть на подмостки. На подметки. В общем, до следующего лета.
И тут я Стасику говорю:
– Слушай, можно же стать поэтами.
Стасик подумал некоторое время. И сказал:
– Ну, да. Можно. Но нужны стихи!
Я сказал:
– Так это хуйня. Стихи будут.
Я сказал так потому, что стихи ко мне пришли, как сказал бы Бунин. Пришли они потому, что я полюбил девушку, которую звали Земфира.
Она училась со мной в одной школе. Она была спортс менкой, прыгала в высоту с шестом. Я тоже в своей внутренней, никому не заметной работе мыслителя то и дело совершал прыжки в высоту. Без шеста. Это намного трудней.
Земфира была долговязая, худая, похожая на заблудившуюся выпь. В старших классах ей дали мастера спорта. Мне это понравилось – что я люблю мастера спорта. Но потом, ближе к окончанию школы, с Земфирой сделался переворот. Не в смысле гимнастический элемент – ими-то она владела. Она прочитала Достоевского и бросила спорт.
Однажды я тайком вынес для нее из секретного хранилища пару неизданных романов Достоевского – и у Земфиры совсем съехала крыша, а меня на месяц лишил читательского билета Гоголь. Скандал был жуткий, к тому же книги Земфира после прочтения вернула заплаканными, то есть сырыми.
Она сутками плакала на мраморном надгробии человечества. После Достоевского я подсадил ее на Хлебникова, и Земфира стала декаденткой. С собой она всегда теперь таскала томик Зинаиды Гиппиус. Ей очень нравилось, что у покойницы-декадентки инициалы такие же, как у нее, и вообще они похожи: обе тощие, нервные, носатые, и обе – З. Г. Только старшая уже померла, а младшая доживает последние дни. В знак своей скорой гибели Земфира взяла псевдоним «Гиппиус». Земфира Гиппиус. Так она просила ее называть. Но я все-таки чаще называл ее короче и ласковей – Зяма.
Она была высокая, выше меня на полголовы. Я полюбил этот печальный блоковский фонарь. Кроме того, я чувствовал ответственность за судьбу Зямы. Ведь это я впервые дал ей в руки томик декадентов, я дал ей в руки черный флаг женской поэзии, черный флаг с черепом.
Мы говорили с Зямой по телефону, ночами. Мы могли проговорить три, четыре часа или пока не начинало светать. Ухо от трубки болело, тогда я прикладывал трубку к другому уху. Но скоро и оно начинало болеть. Ушей было мало, а прекращать разговор не хотелось, было важно все это, хотелось иметь три уха, четыре. Больше никогда потом, ни с кем, я так долго не разговаривал. Конечно, иногда я говорил по телефону с друзьями, они тоже были кончеными романтиками. Или просто кончеными. Но с кончеными мы решали все коротко:
– Есть, – говорил я.
Это значило – есть вино, или наркотики, или то и другое.
– Е! – говорил друг и бросал трубку.
И сам бросался. Ко мне. Ну, или наоборот. Я бросался к другу.
Если с другом вышел путь – веселей дорога. И намного короче.
А иногда Зяма звонила мне и, ничего не говоря, ставила трагическую музыку, положив трубку напротив колонок, а я слушал. А потом, тоже ничего не говоря, в ответ ставил Зяме тоже какой-нибудь трагизм, которого у меня было навалом на виниле. Такой у нас был типа диалог диджеев-анонимусов – считалось, что мы оба не догадываемся, кто это звонит в час ночи и ставит музыку. Это Зяма придумала.
Вне школы мы встречались редко, Зяма была нелюдима. Зяма была радикальная декадентка, можно сказать, фундаменталистка. Поэтому там и речи быть не могло про «пойдем вина попьем, поцелуемся». Все было очень торжественно. Зяма часто ходила гулять в зимний, заснеженный парк. Она любила зиму, говорила, что с зимой они сестры и почти тезки – обе на «з». В парке Земфира накидывала вуаль, которую сшила сама, отодрав предварительно от папиной шапки, ее папа был пчеловод. В вуали Зяма плыла по парку печальной тенью, выслеживая, как охотник-бурят, того, кто даст ей любовь. Земфира искала бурного, всепоглощающего романа. Меня она как кандидата в бурные романы не признавала и говорила, глядя в сторону полной луны:
– Ты друг мой, спутник мой, В пути моем коротком…
Она хотела страдать – так положено по декадентским понятиям. А вместе с ней и даже больше нее самой должен был страдать почему-то я. Земфира стала меня мучить. Она звонила мне ночью, рыдала, угрожала, что сейчас бросится в окно под Рахманинова, или жаловалась, что ее выгнали из дому родители, за то, что она пришла домой синяя и облевала папин замшевый плащ. Я бросался в другой конец города на помощь. Когда я приезжал, Зяма уже сидела на подоконнике, холодная, равнодушная, и смотрела в окно. Я говорил:
– Зяма! Вот я. Ты звала. Вот я…
Зяма смотрела на меня, как на аквариумную рыбку, и говорила что-то вроде:
– Зачем ты здесь… Все кончено. Прощай.
После школы Земфира вдруг исчезла. Никому ничего не сказала, не сказала мне даже «прощай» – просто уехала в другой город, поступила учиться, я не знал, на кого. Следы Земфиры Гиппиус затерялись в снегу.
Но остались стихи. У меня остались стихи, которые пришли ко мне, когда я полюбил Зяму. Иерофанты, надо отдать им должное, держат слово – они ушли, когда пришли стихи. Мы ведь так договаривались с иерофантами.
У меня остались стихи, посвящены они были прекрасной даме с шестом. И непременно увенчивались вензелем «З. Г.».
Карьера поэта
Поскольку мы со Стасиком решили стать поэтами, Усиевич первым делом решил выяснить, как строятся карьеры поэтов. Вскоре мой друг принес неутешительный отчет. Получалось, что поэты в разные времена действительно жили. Но жили недолго и умирали чаще всего в нищете, порой в неглиже, иногда даже и вовсе голышом, в ванной Марата. Не в смысле – Марата какого-то там случайного. Сафина, например. Большой теннис – это другое. Гонорары у поэтов ниже, чем у теннисистов, а ниже они потому, что у поэтов их лучшие матчи не публичны. И вообще, это странно – как поэт может оказаться в ванной Марата Сафина? Это же скандал. И не в смысле Марата Казея, хотя мальчик был герой, я настаиваю на этом, и даже, в конце концов, я об этом прошу. Нет, не в ванной Казея, у пионера не было личной ванной. Я имел в виду французского революционного мясника Марата, который, как известно, помылся однажды в ванной в крови, своей. До этого мылся в чужой крови, это престижно считается у политиков, а потом помылся в своей. Не престижно, но, что делать, бывает. В общем, получалось, что поэты долго не живут и карьеры, как таковой, не имеют.
– Как же так?! – сказал Стасик. – Что же теперь, мы должны жить вот так, как эти все?
– Как – так? – спросил я.
– Да вот так! – закричал Стасик, потрясая передо мной своим печальным отчетом – подборкой биографий поэтов. – Мало и… хуёво! Я не хочу, как Пушкин!
– В смысле? – очень удивился я. – Почему?!
– Не хочу, чтобы меня на дуэли убили в живот, не хочу умирать в муках, в долгах! – сказал Стасик.
– Ну, долги… Царь же отдал, – сказал я.
– А муки? Кто отдал? – возразил гневно Стасик. – Я вообще не хочу, чтобы у меня были долги!
– Ну, ладно, – сказал я. – Не хочешь – не надо… Ни у кого не одалживай тогда.
– Не буду, – твердо сказал Стасик. – И сам тоже никому одалживать не буду…
– Ну и все, – сказал я. – И потом, были же и другие поэты, не все же на дуэли…
– Кто? – спросил Стасик. – Ну, кто? Скажи еще – Лермонтов. Ну, кто? Гумилёв? Расстреляли. Маяковский? Застрелился. Кого не расстреляли, тот сам застрелился. Ну, что? Кто не застрелился – тот повесился. Есенин. Скажи еще – Шпаликов! Ну, что, кто еще? Хлебников твой любимый? Он вообще…
– Ну, Расул Гамзатов! – разозлился я из-за Хлебникова. – Что? И поэт прекрасный! И прожил 80 лет!
– Ну, мы же… – Стасик все же сомневался. – Не горцы.
– Поэты всегда горцы! – запальчиво сказал я. – Потому что они… Живут высоко! Так высоко, что другие там жить не могут!
– Так и они сами тоже… Так высоко жить, не особо могут… – печально сказал Стасик.
– Ну, что делать, – вздохнул я. – Да. А как ты хотел? Получить мировую славу, а взамен ничего не отдать? Так не бывает. Если хочешь стать поэтом, надо жертвовать чем-то. А что у поэтов есть? Только они сами. Значит, надо жертвовать собой.
– Ты же говорил, ты будешь импресарио нас двоих! Но я не хочу так, импресарио! – закричал Стасик. – Я не хочу умирать!
Мы со Стасиком помолчали. Мне нечем было его утешить.
Враги поэта
Много сказано уже было и написано о том, почему поэты живут именно так, как сказал Стасик: мало и хуёво. Казалось бы, трудно сказать что-то новое по данной теме. Но я смогу. Я прямо и сразу назову трех главных врагов любого поэта и попутно еще развею миф, что враги поэта – власти.
Начну с мифа. Поэтам самим удобнее, чтобы их врагами считались власти. Даже с Пушкиным ту же историю притянули, мол, царь хотел иметь Наталью Николаевну Гончарову и из-за этого унижал всячески наше всё и чуть ли не сам подстроил дуэль нашего всё с Дантесом. Но это не так. Да, Наталья Николаевна действительно это желание вызывала у всех современников – иметь ее, но ведь Пушкин и сам это знал, когда брал ее в жены. Тут что-то не так. Царь ни при чем. Власти поэту не враги. Они, можно сказать, поэту только лучше делают. Отправляют в ссылку в имение – а там у поэта тут же начинается Болдинская осень. За неимением имения могут выслать из страны – а там у поэта тут же Нобелевская премия. Власти поэту помогают стать большим поэтом. Даже в случае с Гумилевым и Мандельштамом, Хармсом и Клюевым – то есть такими поэтами, которых власти физически сгубили, ни за что ни про что, суки, замочили, – это все равно верно. Некоторым поэтам преследования со стороны царей и царьков помогают написать свои лучшие тексты. Некоторым помогают стать не просто поэтами, а героями. А герой должен умереть, это догма. Ну а некоторым, есть и такие, расправа помогает дойти до наших дней, то есть мы знаем их сегодня потому, что их расстреляли, сослали и так далее. Многие ли знают, что был такой поэт – Павел Васильев? А ведь, когда он был живой, многие думали, что он будет круче Есенина. До того как Сталин его замочил, поэт написал:
Тяжелый мед расплескан в лете, И каждый дождь – как с неба весть. Но хорошо, что горечь есть, Что есть над чем рыдать на свете…Что скажешь, читатель? Ведь за одно это уже можно поэта считать таковым. А упоминают Васильева потому, что Сталин сволочь. Но Сталин – это не главное. Сволочь не может быть главной. То есть может, но не вечно. А поэт остается главным навечно.
А Сергей Клычков? Когда случилась революция, он так поверил в это все, он написал даже, что «самым торжественным, самым прекрасным праздником теперь будет праздник Любви, к зверю, птице и человеку!». Вот человек. А что мы знаем о нем? Что его погубил Сталин? Но разве может коротышка погубить великана? Да, может. Но не навсегда. Все равно люди будут помнить великана, а коротышку забудут. Может, не сразу они это сделают. Но раньше или позже это случится. Поэты – это жертвы, которые всегда переживают своих палачей.
Ну и, конечно, всем поэтам, и тем, кто в ссылке увидел вдруг, что за окном не просто осень, а Болдинская осень, и тем, кто, присев на чемодан, думал, как потратить лучше Нобелевку, и тем, кто, как Клычков и Васильев, сохранились как бабочки в янтаре потому только, что Сталин закатал их в янтарь, – всем им, всем поэтам, власти оказывают самую главную услугу. Они помогают им пострадать. А страдания для поэта – как героин для наркомана. Это главное. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? Ну, что девушки… Потом.
Когда я был маленький, я удивлялся – откуда может взяться оливковое масло? То есть как его делают? Ну, понятно, как томатный сок делают, – сожми помидор в руке, и вот тебе сок, на руке и на лице. Виноградинки потверже, но у моего деда, винодела, был такой пресс специальный, дед называл его давилкой, он давил в ней осенью ягоды, чтобы сделать вино. Но оливковые косточки, удивлялся я маленький, они же такие твердые. Сколько ни сжимай их в руке или даже в виноградной давилке – не выжмешь ни капли. Но потом дед объяснил. Он сказал – нужна давилка побольше, потяжелей. Тогда можно выдавить даже из самых твердых косточек – масло. Вот и с поэтами так. Нужна давилка побольше, потяжелей, чтобы из поэтов полилось драгоценное масло, стихи. Вот и вся функция Сталина – он просто давилка, он выдавливал стихи из поэтов. Мы обязаны Сталину Хармсом. Факт.
Умные поэты – хоть, как было сказано выше, поэты близки к музыкантам и потому бывают глупы, – так вот, самые умные поэты всегда понимали все это. Вот Пастернак, например. Не терял время на глупости, делом своим занимался, писал. А вот Мандельштам, когда написал «Мы живем, под собою не чуя страны», прочитал Пастернаку. И умный Борис Леонидович говорит:
– То, что вы мне прочли, Ося, это не литературный акт, это акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал.
Пастернак только поэтому и не попал в давилку для косточек – умный был. Но Осип не послушал совета Бориса. Он отправился на битву со Сталиным. Это была битва чижа с птерозавром. Птерозавр, правда, так и не узнал, что битва была. Он в тот день плохо выспался, снились кошмары, как будто он скоро вымрет, проснулся разбитым, полетел без настроения как-то. А в это время навстречу птерозавру летел чиж, летел с отчаянным боевым криком «ура». А летающий ящер не выспался, ну и зевнул. Вот и кончилась битва. Чиж проебал все, но стал героем. И кто знает, что потом было? Может быть, именно в этот день и началось вымирание птерозавров? Может быть, динозавр отравился чижом? Потому что тот и в животе у него еще какое-то время орал свой крик боевой, нелепый, рифмованный? Да, так и было. Спросите любого биолога в мятом свитере. Птерозавры вымерли, потому их вытеснили птицы. Проглоченные ими птицы их вытеснили.
Есенин не был умный. Поэтому он даже дружил с чекистом Блюмкиным. Многие до сих пор удивляются – как же так, Есенин и Блюмкин, как они могли дружить? Но в этом нет ничего удивительного. Во-первых, оба любили выпить и женщин – классическое двоеборье. Но главное – оба они были преступники. Блюмкин убил посла Мирбаха и еще очень много других людей. Есенин никого, кроме себя, не убил (да и то оспаривается), но он тоже был преступником. Поэт – всегда преступник, потому что нарушает главный закон: что надо жить по-человечески. Поэт живет не по-человечески. Поэтому живет мало и хуёво, как емко заключил Стасик Усиевич. Конечно, два преступника дружили – Есенин и Блюмкин. Рыбак рыбака, и так далее. Блюмкин однажды даже познакомил Есенина с Троцким, и Есенин страшно этим знакомством гордился, сказал даже, что считает Троцкого «идеальным, законченным типом человека». Ну, да, Есенин не был умным, поэты близки к музыкантам. Что же касается Троцкого, то его действительно можно принять за тип человека – только не «законченный», а точнее будет сказать – конченый, и не идеальный, конечно, а просто типический. На смерть Есенина Троцкий, блеснув пенсне, черкнул статейку: «Умер поэт. Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя. Да здравствует поэзия!» Как вам это нравится, читатель: «Сорвалось в обрыв незащищенное дитя»? Это говорит человек, который придумал две вещи красного цвета – Красную армию и красный террор. По делу получил ледорубом в буденовку в Мехико. А Есенин попал в давилку, но масло вытекло, драгоценное масло осталось.
Поэты мало живут – нет, это ни хуя не трагедия. Трагедия – это то, что я не могу назвать сейчас всех поэтов, не могу привести полный список. У меня даже есть преимущество – о некоторых поэтах, уж совсем неизвестных, мне рассказал Гоголь и дал почитать их неизданные тексты. Но были ведь и такие, о которых даже террор узнать не помог, которых даже Гоголь не знает, о чем, кстати, он всегда сожалел. Я не смогу назвать их имена, и никто не может, и никто не узнает, что они были на свете и принесли свою жертву, максимальную жертву. Сволочи, какие же мы все сволочи, мы даже хуже, чем Троцкий. Герои все просрали. А мы все забыли. Кто же мы после этого. Пидарасы мы все.
Да, герой должен умереть, чтобы его признали героем. Вдруг читатель спросит, почему? Откуда взялась эта догма? Отвечу. Потому что это правильно. Потому что это догма, блять! Запишите в тетрадки. Хороший герой – это мертвый герой. Он получает бессмертие в обмен на жизнь. Все честно. Живой герой – это не герой, это его эмбрион. Вампилов утонул – его Сарафанов и Зилов, наоборот, всплыли. Шпаликов повесился – но до сих пор шагает по Москве, и даже стоит при входе во ВГИК, гляньте. Клычкова убили, но, когда он стоял у сосны и ждал пули в затылок, я уверен, он улыбался. Потому что он думал: я умру, но никуда не денется любовь. К зверю, птице и человеку.
Все честно, все правильно.
Сергей Михалков
Вот только придется что-то сделать с Сергеем Михалковым. Потому что на этом месте читатель, вероятно, может спросить: позвольте, а как же Сергей Михалков? Я могу, конечно, прикинуться Есениным и сказать: а что Михалков? Но читатель может настаивать: позвольте, тут нестыковка какая-то. С одной стороны, Михалков-старший, как известно, автор Гимна СССР, стихов про ментов, любимец режима и так далее. Но с другой – на его стихах детских много людей выросло хороших, да и стихи неплохие; попробуйте написать стихи про ментов, еще неизвестно, как у вас это получится, а у него получалось.
Как же так? Получается, с одной стороны, он не герой, а с другой стороны – он хороший поэт. А поэт – герой. То есть поэт должен им быть. Даже детский поэт должен быть героем. Иначе во что детям верить?
Придется разъяснить читателю это узкое место.
Все дело в жертве. Всем пожертвовал – всё получил. Сверху. Откуда-то. Чуть поменьше, чем всем, пожертвовал – чуть поменьше, чем всё, получил. Сверху. Все это очень просто устроено на самом деле. Все дело в жертве. Да, написал Сергей Михалков стихи хорошие, детские. Талант у него был, но что он с ним сделал? Он его проебал. Кто знает, что бы он написал, если бы пожертвовал не мелочь, которую все равно в кошельке носить тяжело, а все бы отдал, с кошельком вместе? Может, он написал бы не про ментов, а про людей? Может, он написал бы не Гимн СССР, а гимн всего вообще? Но для этого надо было отдать все. А он не мог, потому что хотел и рифмовать, и жить по-человечески, быть обласканным и музой, и властью, а так не бывает, потому что женщины моногамны, и две женщины одного мужчину ласкать одновременно не станут, если только это не порно. Но искусство – не порно, а порно – не искусство. Да, имел тиражи, как у Снуп Дога. Но путь большого поэта проебал. Все честно, все правильно. Нет с Сергеем Михалковым никакой нестыковки.
Три белых коня
Теперь, когда миф о том, что враги поэта – власти, развеян, пришло время сказать правду, кто же на самом деле враги поэта. И вот она, правда. Она страшная, потому что правда. Есть три белых коня, читатель. Они топчут поэта своими белыми ногами всю его короткую жизнь. Имя этим коням – Любовь, Водка и Слава. Получается, правда, что это не три коня, а три кобылы, но это не главное. Как ведут себя три этих коня или кобылы, удобно рассмотреть на примере Шпаликова, раз уж он все равно появился в этом тексте.
У Геннадия Шпаликова, поэта и героя, была любовь. И не одна, конечно. Герои полигамны. Но одна любовь была вообще сильная. Он любил актрису Инну Гулая. Она была очень красивая снаружи и очень на голову ёбнутая, как это обычно бывает с актрисами. Бодрый толстячок, кинорежиссер Сергей Соловьев, любит рассказывать, какая у них – у Гулая со Шпаликовым – любовь была всесокрушающая, и еще любит рассказывать, что он дружил и пил со Шпаликовым, и всегда в этих рассказах называет его Генкой: «Генка пришел ко мне и говорит – я не пойму, кончилась оттепель или нет, давай выпьем, что ли, Сережка. А я говорю ему, Генка, давай».
Шпаликов пил и в итоге спился, а Соловьев пил, но в итоге не спился и теперь всем рассказывает про Генку. Так и хочется спросить Соловьева: какой он тебе, на хуй, Генка, буженина ты кинематографическая? Он тебе не приятель, не ровня.
Но одну вещь про «любовь всесокрушающую» толстячок Соловьев однажды рассказал и правда хорошую. Инна Гулая много раз выгоняла со скандалом Шпаликова из квартиры, в которой они жили, а чтобы вернуться не мог, вызывала слесаря и меняла замок. Потом они мирились, и Гулая отдавала Шпаликову не только себя, но и ключ от нового замка. Потом опять выгоняла его и опять меняла замок, потом опять мирились. Через некоторое время вся дверь в их квартиру сверху донизу была унизана замками. Эта дверь… Любовь. Да.
Любовь герою – первый враг. Она и сводит героя в могилу. Любовь – вот первый конь белый. Герою кажется, что он оседлал коня. А на самом деле это конь оседлал его. А с конем на спине ни скакать, ни жить невозможно. Если в больницу поступает герой в тяжелом состоянии, первый возможный диагноз, который должны проверить врачи, это любовь.
Второй белый конь – Водка. Горячка не случайно названа белой, а не золотой или багряной, как лес в стихах Пушкина. Про то, что алкоголь делает с человеком, написано немало специальной литературы, да и про то, что алкоголь делает с поэтом, тоже написано немало специальной литературы. Но как-то не сказано главное. Так бывает – когда написано многое, но не сказано главное. Первая жена Шпаликова, Рязанцева, с трогательной улыбкой как-то вспоминала: «Гена хотел, чтобы каждый день был праздником, но это редко получалось». Обращу внимание читателя на эти замечательные слова – «редко получалось». Но все-таки получалось! Вот что значит герой. Понятно, почему «редко» – для того, чтобы всегда был праздник, нужны деньги и нужны участники праздника. От последних можно отказаться и бухать в одиночку – трудно, грустно, но можно, да и не трудно и не грустно на самом деле, если настроиться правильно. От денег отказаться сложней, их нужно зарабатывать, а работа не волк. Но можно одалживать – тоже немного унизительно, хотя на самом деле не очень, еще неизвестно, кто унижается больше – поэт, который одалживает, или тот, кто одалживает поэту и потом будет считать, что поэт ему должен, а ведь поэт никому, кроме Бога, ничего не должен. Вот что главное – праздник. Алкоголь – это праздник. Синька возвращает человека в детство, когда каждый день – праздник. Много выше в этом тексте уже было сказано, что только пидарасу хорошо быть большим. Герою хорошо быть маленьким, чтобы деревья были большими. Мама красивая. Папа починит. Лето, каникулы. Лена. Вот бы ее потрогать за ноги. На ногах у нее, когда на них светит солнце, видны тоненькие такие волосики. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось. Конечно, редко получалось (у всех, кто это пробовал) сделать так, чтобы лето не кончалось. А мчались за всеми, кто это пробовал, чаще всего не лето, а менты или «скорая» психиатрическая. Вот ответ – герои пьют не потому, что это приятно, это на самом деле неприятно – бухать, а ощущения, муки совести после – и вовсе ужасны.
Герои пьют и не потому, что считают синьку геройством. Герои всегда понимают отчетливо, что это слабость, сопливость – бухать, это отступление, драп, хорошо, что отступать есть куда, страна большая. Герои пьют и не потому, что таким образом рассчитывают произвести хорошее впечатление на женщину, они понимают, что облеванный икающий человек не может такое впечатление произвести. И уж, конечно, герои не рассчитывают, что синька поможет им совершить подвиг или стихи написать хорошие. Герой знает: подвиги и стихи совершать нужно трезвым, на чистяке – так тяжелей и страшней, но они получаются зато настоящими, стихи и подвиги.
Герой пьет, потому что он знает, чувствует: нет, не такой должна быть жизнь, какой ее сделали люди и теперь считают нормальной, не такой, блять, ну не такой. Она должна быть сплошным карнавалом бразильским. Человек рожден не для того, чтобы в семь утра ехать в метро с лицом зомби, а обратно в семь вечера ехать с лицом зомби, которого отпустило, то есть с лицом трупа. Если нет праздника, зачем тогда жить? Герой искренне этого не понимает, вот в чем дело.
Лучше всего это доказывают дневники Геннадия Шпаликова. Теперь их может читать кто угодно. После смерти героя все читают его дневники, это обычное дело, и это нормально. Считается, что это нехорошо – читать чужие дневники, но к героям это не относится, они пишут дневники не от одиночества, а от кокетства, они заранее знают, что после смерти их дневники будут читать, и таким образом дают возможность потомкам заглянуть в свой жуткий внутренний мир.
Вот что пишет Шпаликов в своих дневниках:
«…Почему весной так много девушек?
Почему я один? Неужели всех мадонн разобрали?
…Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось упасть лицом в высокую траву и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов…
…Надо, чтобы человеку, как старику и Хемингуэю, снились львы! Снятся ли мне львы? То ли я вижу ночами?
…Вот Коля стоит, значит, еще жив…»
Вот какими вопросами мучился Шпаликов – снятся ли львы? Не снятся? Значит, не то видишь ночами, значит, не так живешь. Без праздника, тухло, как мертвая рыба. А вот Коля стоит – значит, жив. Пиздец бесконечный открывает нам образ Коли, созданный Шпаликовым. Весь мир, не знающий праздников, кроме Нового года с его обрыганной елью, представлен поэтом в лице этого Коли. Этот Коля даже страшней Светки, которая преследует меня. И вот опять появилась.
Герой хочет, чтобы каждый день был праздник. Когда не получается, герой пьет в знак протеста. Когда получается, герой пьет в знак триумфа. Водка – вот второй белый конь, который несет героя вперед, туда, где висит знак «Тупик».
Ну и, наконец, третий конь – Слава. На примере жизни Геннадия Шпаликова роковая роль славы видна хорошо. Слава пришла к нему рано, легко. И ушла так же – рано, легко. Слава, как проститутка, – остается ровно настолько, за сколько заплачено. У нее нет к тебе чувств, она не целуется в губы, но сосет, ее задача – все высосать из тебя, всю жизнь, все силы, все соки и уйти дальше, к другим, кто заплатит. Нормальный человек принимает это как должное, но герой всегда норовит полюбить проститутку, он думает, что он Раскольников, и в этом есть гуманизм. Гуманизм в этом, положим, есть. Но есть и опасность – после ухода славы герой остается как альпинист после покорения вершины. Куда дальше идти? – невольно спрашивает себя любой альпинист на вершине. Некоторое время он думает – мышление затруднено из-за кислородного голодания мозга, оно, кстати, всегда наступает от славы. А после паузы понимает: в общем и в целом, есть два пути. Вниз и вверх. Альпинист обычно выбирает первый путь, ну, или лавина за него это делает. А герой всегда выбирает второй.
А еще выше – можно?
Когда слава уходит, как проститутка, герой остается один. Он опустошен. И денег нет, чтобы взять еще на пару часов ту славу, что ушла только что, и искать новую славу нет сил и желания. Слава – вот третий конь, который добивает героя вслед за первыми двумя. Когда по герою пробегут три этих коня, когда рассеется пыль, можно увидеть, что случилось. Герой погиб.
Можно ли сказать, что Шпаликов не выдержал испытание славой?
Для меня это трудный момент. Говорить так не хочется, ведь Шпаликов герой, свой. Но, начав писать этот текст, я поклялся, что напишу все как есть, без скидок для своих. Да, он не выдержал. Плюс любил, плюс пил. Вот так. Конечно, погиб.
Кстати, три упомянутых белых коня и есть огонь, вода и медные трубы, о которых говорят, что их трудно пройти. Любовь – огонь, синька – вода, ну а слава – помятые медные трубы. Пройти их труднее всего, да. Поэтому медные трубы сначала играют герою триумфальный, а потом похоронный марш. Им все равно, что играть.
Не власти герою страшны и опасны. Опасен и страшен для героя он сам. Он сам себе власть, сам себе царь, сам себе раб, он сам себе гора и сам себе лавина. Три коня несут его в бездну, но ему это нравится, он сам вызвал коней громким свистом из темного леса. Они прискакали, герой думал, что запряжет их сей же час в бричку и будет вечно кататься и всегда будет праздник, а они растоптали его, и бричку заодно растоптали, кони дикие, что с них возьмешь, и ускакали обратно в темный свой лес, где им самое место.
Три рубля
Прощаясь с поэтом Шпаликовым в этом тексте – впрочем, может, он еще захочет в нем появиться, не знаю, – нельзя не сказать про три рубля. Как известно, в свой последний день на земле Геннадий Шпаликов одолжил у Григория Горина три рубля. На которые купил дешевого винища, выпил его, после чего повесился на шарфе. Григорий Горин даже однажды высказал совершенно удивительное по форме сожаление: зря дал Шпаликову так мало, только на вино хватило, если б больше дал, например, пять или десять рублей, хватило бы на водку, а водка силы отнимает, так что повеситься поэт бы не смог. Такое нелепое, открыто высказанное сожаление говорит о том, что Григорий Горин постоянно думал об этом.
Горин и раньше давал Шпаликову деньги, и Шпаликов не отдавал, а Горин не напоминал, он знал, что поэт никому не должен ничего, кроме Бога. Но в тот день Горин сразу почувствовал – он же сам был драматург, – нет, тут что-то не то, тут пьеса какая-то пишется прямо сейчас, и мне в ней дали роль идиотскую, без слов почти. Шпаликов: Гриша, дай три рубля! Горин: На. Что за роль такая, я ее не хочу! И что за пьеса такая? Горин так подумал и побежал на дачу в Переделкино, где жил тогда Шпаликов. Но тот дверь не открыл – повесился уже. Горин первым нашел его, а потом пришлось ему даже везти тело Шпаликова в морг, потому что набежавшие зеваки-писатели ехать с мертвецом не хотели, а ехать кому-то надо было, и тогда кто-то из писателей сказал: «Да вон пусть Горин поедет, он на “скорой помощи” раньше работал, ему с мертвецами кататься не впервой». И Горин – фигура во всей этой истории страдальческая, не столь уж многим менее, чем сам Шпаликов, – сделал, что должен был, отбыл этот ад до конца: поехал, сдал тело.
А потом он думал. Много дней, много лет думал про это все. Почему именно я дал ему три рубля, а он взял и повесился… Почему именно меня теперь будут упоминать в этой истории? Конечно, никто не скажет, что я виноват, если б я не дал ему три этих ёбаных рубля, он все равно нашел бы, одолжил бы у кого-то другого, отнял бы у кого-то, продал бы что-то, продал бы шарф… стоп, получается, в этом случае не повесился бы. Тоже ерунда – не в тот день повесился бы, так в другой, не на шарфе, так на веревке от спасательного круга. Он жить больше не мог, не хотел, он был поэт, все понятно. Но все-таки. Блять, но почему я? Почему три рубля?
Точно, Горин так думал, я знаю.
Он знал, что он не виноват, но чувствовал иначе – что виноват. Горин тоже был героем. А герой всегда себя чувствует так, как будто он виноват. Даже если его никто не винит.
Может, Григорий Горин поэтому и написал «Тот самый Мюнхгаузен»? Да, точно. Поэтому и написал.
Ну, а на прощание, на самое уже прощальное прощание со Шпаликовым не могу не вспомнить его стихотворение про грустного парня. Если бы я составлял мировой топ‑5 стихов о любви, оно занимало бы вторую позицию, сразу после «Я помню чудное мгновенье». Вот оно, это чудное стихотворенье:
Грустный парень с острова Суматра На рассвете девушку доел.Как просто, и как хорошо.
Прощай, Шпаликов.
Поэт-мускулист
Стасик хотел дожить до ста лет и не увянуть. С этой целью он следил за собой. Каждое утро он делал омолаживающую гимнастику для мышц лица – чтобы предотвратить его (лица) старение. Гимнастику для лица мой друг делал страшную. Он становился у зеркала и строил гримасы. Я тоже один раз сделал за компанию со Стасиком эту гимнастику. Лицо потом болело, как ушибленный копчик.
Еще Стасик накладывал себе компрессы на глаза, чтобы оттянуть появление старческих мешочков, которые неизбежно образуются под влиянием силы тяжести. Выражение «старческие мешочки» мне понравилось, я взял его на вооружение и впредь стал так называть земные ценности, которые отвергал, – «старческие мешочки».
Огромное внимание Стасик уделял зубам и чистил их, как сапоги, по нескольку раз в день. Он прочитал где-то, что для зубов очень полезна кора дуба. Поэтому кора на всех дубах в округе была ободрана, как в голодные послевоенные годы.
Я был не против, чтобы Стасик дожил до ста лет. Будучи героем, я, напротив, не рассчитывал дожить до ста лет, зато Стасик, дожив, мог рассказать обо мне, дать потомкам прикоснуться к моему живому, грубому образу. Я всегда считал, что поэт должен быть больным. Да, все правильно. Чем более велик поэт, тем более болен. Правда, в этом есть одна проблема. Скорость убывания здоровья намного превышает скорость признания, и в этом смысле первое любопытство широких кругов читателей: «А кто это там появился?» – может застать поэта уже непосредственно в гробу. Грустно? Да хуй его знает. Вообще, нет.
Иногда Стасик приходил ко мне и принимал ванну. Из ванной в собственной квартире его прогоняли домочадцы, потому что принимал он ее три часа. Одновременно из нашего холодильника стали пропадать творог, огурцы и яйца. Мама моя работала в КГБ, ее устроил туда мой дедушка, палач и фотограф росинки. В КГБ маму научили полезным вещам. Например, задавать любому человеку советской страны вот такие вопросы: «Почему вы так плохо работаете? С какой целью? Почему вы молчите? Почему вы отводите глаза? Почему вы вспотели? С какой целью? Почему вы плачете?» – и так далее. Мама долго и совершенно скрытно, этому ее тоже научили в КГБ, наблюдала за Стасиком. Вскоре она установила, что пропажа продуктов всегда совпадает с сеансами омоложения Стасика в ванной. Мама стала разрабатывать версию, что Стасик ворует продукты и пожирает их в ванной. Она ясно дала мне понять, что таскать яйца из холодильника Стасику неприлично, потому что он человек, а не хорек. И обещала: если Стасик явится с повинной, она сама его покормит, раз уж он так голодает, что совсем обезумел и ворует яйца. Это был трюк из арсенала КГБ – мама склоняла Стасика к даче признательных.
Стасик, в надежде на амнистию и обильную кормежку, во всем сознался. Он и правда таскал яйца и творог, но не ел их, а накладывал на себя. Сначала втирал в голову творог, чтобы замедлить облысение. Затем разбивал себе на голову яйцо для питания волосяных луковиц. Ну и, наконец, натирал огурцом лицо, для омоложения.
Мама, наоборот, от признательных Стасика еще больше рассердилась и сказала:
– Твой Стасик – педик. А я против них, и особенно против педиков в моей ванной!
Моя мама гомосексуалистов не любила, потому что всю жизнь проработала в суровом мужском коллективе. Стасик вовсе не был педиком, и я говорил, конечно, это маме. Но мама отвечала, что она чует говно за версту. Это был еще один специальный навык, которому маму обучили в КГБ.
– Зачем твоему другу жить до ста лет? – спрашивала мама.
– Ну, чтобы увидеть зарю новой поэзии, – отвечал я.
– Какая, на хрен, заря поэзии, сынок? – говорила тогда мама.
Мама моя иногда могла выразиться грубо, потому что работала в мужском коллективе, а там все говорят то, что думают, и делают, что говорят.
– Он хочет прожить до ста лет, чтобы похоронить всех друзей, – сказала однажды мама. – И тебя, дурака, – первого.
– Ты не права! Он пишет стихи. Он поэт! – говорил маме я.
– В шестнадцать все пишут стихи! – сурово возразила однажды мама. – Запомни! Поэт – не тот, кто пишет стихи.
– А кто? – спросил я удивленно.
Гормоны
Действительно интересно, почему в юности все пишут стихи? Ответ прост. В юности стихи пишут не люди, их пишут гормоны. Хорошее, кстати, название для сборника стихов: «Гормоны».
Но есть такие люди, что и потом стихи писать не перестают. Уже за сорокет, а то и за полтос, уже яйца седые, радикулит, геморрой, простатит, а он все ходит в редакцию журнала «Юность», романтично так вбегает по ступеням, плащ нараспашку, глаза горят, и к редакторше: вот, принес свои новые стишата, вы меня не помните, а я уже был у вас, так вот, мои новые, напечатайте их, ну, почему сразу «на хуй», нет, пожалуйста, не надо охранника, я сам, я уже ухожу, но напоследок я скажу всем вам в глаза, да как ты смеешь, сучка тупая, да как вы можете так со мной, я же поэт, у меня везде так тонко…
Живой поэт сорока лет – это позор.
Поэт и деньги
Стихи – это повод. Поэт – это путь. Плохой поэт всю жизнь пишет стихи, как мудак, потому что только мудак может всю жизнь писать стихи, как будто больше нечем заняться.
Не знаю, стояли ли когда-нибудь у постели Булата Окуджавы кредиторы. Если стояли, это хорошо. Потому что это честно – писать о том, что сам видел. Отгонять от постели героя кредиторов и погашать его долги, как известно, должны две категории невозвратных инвесторов – царь и женщины. Но царя уже давно нет, его убил коротышка Ленин. Остаются женщины. Я был бы не против, чтобы мои долги отдавали женщины. Как можно отказать им в этом? Разве это не будет жестоко? Да, это будет жестоко. Ну а кроме того, женщины ведь оплатят мои долги после моего же ухода, стало быть, я этого не увижу, и, стало быть, никто не сможет упрекнуть меня в альфонсизме, потому что упрекать покойного поэта в альфонсизме глупо и поздно.
Вообще, литература – это всегда вынужденное занятие. Литератором становится человек не от хорошей жизни. Им становишься просто потому, что не умеешь держать в руках молоток, зубило, руль, калькулятор. Тогда начинаешь высказывать мысли и надеешься этим заработать на жизнь. Глупо? Да. Отважно? Да ни хуя себе – конечно, отважно.
Так что деньги – с ними все просто. Их у поэта просто нет.
Стасик Усиевич был не согласен:
– Зря ты думаешь, что поэт должен быть бедным. Я не согласен. Я хочу быть богатым поэтом.
– Но как? – удивился я.
– Надо поехать на заработки, – сказал Стасик.
– Куда? – удивился я. – На Север?
– Да, наверное, на Север, – задумавшись, подтвердил Стасик.
Мне понравилась мысль Стасика. Ведь я был Амундсен духа. Я представил, как свистит ветер в ушах, свистит даже в ушанке, а мы со Стасиком идем, а идти еще долго. И я сказал:
– На собаках?
– Что – на собаках? – удивился Стасик.
– На собаках пойдем, – сказал я. – А ночью можно спать с ними в снегу, так теплее.
– Я с собаками спать не собираюсь, – сказал, как отрезал, Стасик. – Мы пойдем на север, но немного не дойдем до Арктики. Нам нужно в Москву. В столицу. Там все. Там успех. Там деньги.
Так и решили.
О цое
Вюности все пишут стихи. И слушают музыку. Это очень интересно. То есть не то интересно, что все слушают. Слушают все примерно одно и то же. Интересно, как сказывается потом на их жизни то, что они слушают.
Вот, к примеру, слушает телочка Цоя. Телочки слушают Цоя одним из двух способов, в зависимости от того, к какому типу сами принадлежат. Типов у слушательниц Цоя всего два. Первый – гопницы. Это самые честные слушательницы. Они чаще всего страшные, грязно обесцвеченные, с облупленным маникюром, с короткими ногами в синяках и кроссовках, из неполной семьи. Гопницы Цоя слушают так: в подъезде, харкаются себе под ноги, плеер один на двоих, одна гопница вставляет наушник в свое корявое ухо, другая – в свое, и так вместе слушают. И пацан на двоих один. Игорь. Он одевается прикольно, носит джинсы, куртку. Он похож на Джастина Тимберлейка. Только децл ниже ростом и родился в Люблино. Когда гопницы вдвоем слушают Цоя, они думают про Игоря, харкаются, курят и плачут.
А второй тип телочек – это очаровательные клубнички. Одна из представительниц этого типа все время ела конфеты с таким названием: «Очаровательная клубничка». У меня развитое воображение. Я представил, что очаровывать меня будет клубничка. Огромная, красная.
Мне стало страшно. Конфета, кстати, оказалась адской – это был ярко-розового цвета сгусток каких-то медленно действующих на мозг ядов. Вкус держался в пасти сутки. А в почве такая конфета разлагается две тысячи лет, это точно. Очаровательные клубнички – они домашние, ухоженные, чистые снаружи, чаще всего носят длинные волосы и все время их причесывают, они не бухают в подъезде, потому что они женственные. Женственность – одна из самых отвратительных вещей на свете, нечего и говорить. Очаровательные клубнички слушают Цоя так: наполняют ванну водой, зажигают свечки, выключают свет, включают Цоя, ложатся в ванну и лежат в темноте, в воде и при свечах, как сатана. Скоро из-за двери раздаются возгласы домочадцев: мол, ебана рот, ты сидишь в ванной уже три часа, а мы тоже хотим помыть свои туловища! Тогда телочке приходится гасить свечки и выходить из ванной с мокрым лобком и ресницами.
Потом телочки становятся женщинами в блузках. И те, и другие. Парадокс? Нет. А в чем же еще им ходить, они же женщины. Гопницы становятся проститутками и продавщицами мороженого. А иногда так – сначала становятся проститутками, но так как у проституток ранняя пенсия, как у балерин, потом становятся продавщицами мороженого – чаще всего. Может быть, даже есть какая-то связь между проституцией и продажей мороженого. Но какая? Страшно об этом и думать. А очаровательные клубнички становятся бухгалтерами. Всегда.
Вопрос, как сказывается потом на продавщицах мороженого и бухгалтерах то, что в юности они слушали Цоя? Ведь как-то должен сказываться на них Цой? Ведь они слушали его в подъезде, и харкались, и бухали, и плакали. Потом стали женщинами, надели блузки, и что? И все. Никак Цой не сказывается. Это факт, и он впервые мной опубликован открыто.
Не знаю, как бы отнесся Цой к этому факту. Мне кажется, если бы он узнал про это, он бы романтично так закурил, поднял воротник плаща и ушел бы с гитарой в ночь, на хуй.
Черный авангард
Сдетства я был очень музыкален. Потому что в детстве я жил у кладбища. Часто по утрам я просыпался от звуков похоронного марша. Покойников на руках несли мимо нашего двора, вверх, в гору. Я воспитывался на классике.
Однажды мама принесла домой пару пластинок. Это был Луи Армстронг – ранние записи. Свободная импровизация бывших рабов мне понравилась. Я стал собирать джазовые пластинки, и вскоре у меня образовалась небольшая коллекция. Каждый день я протирал пластинки бархатной тряпицей, это был обрезок декадентской горжеточки моей подруги Зямы Гиппиус, который однажды она мне подарила, в очередной раз решив уйти из жизни. Мне нравилось смотреть на черный винил. Виниловый диск, тяжелый и черный, – это ощущение. По-другому описать не могу, потому что, кто пробовал, и так поймет, а кто не пробовал – тот дол боёб в плеере.
Вскоре я выяснил, что в нашем городе имеется джаз-клуб. Я сразу же нанес туда визит. Тусовка мне понравилась, она состояла из старых евреев, кошмарных снобов. Все они были знакомы с Утёсовым. У каждого была коллекция из тысячи редчайших пластинок. У каждого, кроме того, были, я сразу заметил, шикарные туфли. На председателе джаз-клуба были туфли из крокодиловой кожи. Еще он носил трость, белое кашне и золотые запонки. Одним словом, это была пафосная публика, таких людей теперь нет. Кто сейчас может надеть золотые запонки и белое кашне? Так, чтобы это выглядело не смешно, а круто? Никто.
На меня, имевшего за душой сто пластинок, старые сионисты-джазмены смотрели, как на сорняк, который зачем-то вырос на их ухоженной клумбе. Но, как известно, если на ухоженной клумбе вырос сорняк, это всегда о чем-то говорит. Часто – о больших переменах в жизни клумбы.
Когда я пришел повторно, они обсуждали серию лекций о джазе, которая должна была пройти в центральном лектории. Мне очень понравилось это слово – «лекторий». Мне захотелось побывать там. Лекции о джазе двадцатых и тридцатых годов были расписаны – их должны были читать сами старые снобы. Двадцатые и тридцатые были эрой свинга – это была любимая музыка снобов. Для читателя, не знающего о джазе ничего, поясню, что свингом называлась в двадцатые-тридцатые годы ХХ века не перекрестная порка, как мог подумать читатель, а джазовая музыка, исполняемая большим, классным оркестром. Это была «музыка толстых», как окрестил ее запутавшийся Горький, это была музыка гангстеров, кинопродюсеров и прочих белых, имеющих деньги и платиновых блондинок.
А вот читать лекцию о сороковых-пятидесятых никто из старых снобов не решался. Не потому, конечно, что они ничего не знали об этом периоде. Они знали о нем все. Вот именно поэтому и не решались. Потому что в это время в джаз вернулись черные. Но это были уже совсем другие черные. Они не собирались развлекать поганых белых. Они собирались развлекаться сами. Они были совсем другим поколением, нежели то, которое основал Луи Армстронг, солнечный джазовый клоун. В сороковые-пятидесятые годы родился бибоп. Это такое направление в джазовой музыке, черный авангард, с ярко выраженной бунтарской направленностью. Бибоперы были, все до одного, алкоголиками и наркоманами. Они носили черные очки, черные береты, вызывающе короткие штаны и стильные бородки. Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк, Джон Колтрейн – послушав этих нигеров, я, конечно, запал на бибоп. Я просто не мог пройти мимо такого анархического замаха, который звучал в каждой композиции. Белым приходилось называть их музыку именно композициями, потому что по-другому называть не получалось, ведь под резкие, отрывистые, какофоничные звуки бибопа нельзя было танцевать. Нет, в принципе, танцевать можно было, но это должны были быть адские танцы, но до брейк-данса оставалось еще сорок лет, до гарлем-шейка – семьдесят, и тогда, в сороковые прошлого века, не каждый белый был готов к авангарду, да и не каждый черный. Именно поэтому бибоп поначалу не был понят.
Когда первый раз в джазовом ресторане его заиграли отцы стиля, в зале повисло тяжелое недоумение. Пары, вышедшие в зал танцевать, замерли. Гангстеры за самыми дорогими столиками переглядывались – никто уже не был против стрелять. В эти секунды решалась судьба черного авангарда.
Конечно, пионеров бибопа могли просто-напросто перебить сразу, как вальдшнепов. И ничего бы не было тем, кто их перебил. Кто осудит белого, подстрелившего какого-то черного торчка с саксофоном? Никто. Но надо отдать должное американским гангстерам. Нашелся, видимо, среди них такой, который грубо оттолкнул липкую, как муха, платиновую блондинку и сказал:
– Сучка, дай послушать.
Официанты принесли еще виски. Он пил и слушал. Потом встал во весь рост и громко сказал:
– А мне нравится, что играет этот черный ублюдок! Авторитет гангстера был высок. Поэтому в зале все сказали:
– А что, интересная музыка. Потанцевать можно и в тюрьме, а мы ведь пришли в джазовый ресторан. Эй, ты, как тебя, Паркер, а ну, сыграй эту хрень еще раз.
Не знаю, зачем, читатель, я все это рассказал. Ведь тот, кто что-то знает о джазе, знает и о бибопе, а тот, кто считает, что музыку придумал Цой, вряд ли изменит свои взгляды. И вряд ли дочитает до этого места. Я рассказал все это скорее всего потому же, почему рассказываю и все остальное. Просто мне интересно рассказывать.
Вот и тогда, в джаз-клубе, я вдруг встал и сказал:
– Мне интересно было бы прочитать лекцию о бибопе.
Я сказал так потому, что мне хотелось побывать в лектории. Мне нравилось это слово – «лекторий».
Старые сионисты посмотрели на меня с удивлением. Председатель джаз-клуба подошел ко мне поближе, скрипнув туфлями из крокодиловой кожи, взглянул мне в глаза и сказал, как будто сыграл:
– Туб, бап-бап, тубиду пуп-пуп, тубиду папа, пабиду поп-пап!
Он любил бибоп, но всегда скрывал это, чтобы сохранить должность председателя клуба. Ведь там были сплошные снобы.
Я тут же ответил председателю:
– Ётиду мэп, мэп-мэп, тариду бап, тариду мап!
Старые джазовые семиты посмотрели на председателя с большим осуждением. Но он был героем. Герой может сколь угодно долго просидеть в подполье, может годами умело прикидываться снобом, любить музыку толстых и даже быть с виду толстым. Но стоит герою встретить кого-то из своих – он тут же поддержит его, сразу же поставив на карту всё – всё свое уважение, все свои должности.
Дело было сделано, я стал готовиться к лекции. Старые джазмены были взыскательной аудиторией, рассказать им о бибопе то, что они и так знают, было бы полным просёром. Я стал думать и бухать, бухать и думать.
Вскоре я понял, что пионеры бибопа были футуристами. Эра свинга с ее пафосными оркестрами, толстыми гангстерами и платиновыми сучками была в истории джаза тем же, чем был XIX век в русской поэзии, – золотым веком. А футуристы, как, возможно, известно читателю, открыли новый Серебряный век. Трудно, кстати, сказать, почему Серебряный век назвали серебряным. Получается, что Блок дешевле Пушкина. Но это неверно. И сам Пушкин ни за что бы с этим не согласился. А Блок согласился бы, потому что был очень скромен.
В истории джаза бибоперы сделали то же, что и футуристы. Сломали все, и даже успели на месте сломанного что-то построить. Конечно, нового капитального строения возвести не успели. Но такова судьба авангарда. Авангард нужен не для того, чтобы строить. А для того, чтобы сломать все и запечатлеть руины в образах. Поняв все это, я твердо решил, как проведу свою лекцию.
Велимир
Когда я вошел в лекторий, сначала я был раздавлен. Зал был огромен и подходил для заседания правящей клики Третьего рейха. Амфитеатром уходили куда-то за горизонт старые парты темного дерева. Глядя вверх, на последние ряды, хотелось провозгласить начало чего-нибудь. Громко провозгласить и утонуть в овации. Но хуже всего было то, что еще за полчаса до начала моей лекции стали собираться люди. Сначала их было немного, и я прикидывал, что даже если обосрусь, то при не очень большом стечении народа. Но потом люди стали прибывать. И хуже всего было то, что это были за люди. В зале не было ни одного гопника. Все были сплошь седые джазмены с молодыми шикарными подругами в вечерних платьях. Обосраться перед такой публикой – это был бы полный просёр. Кроме того, в первом ряду сидело атомное ядро джаз-клуба – сионисты-снобы. Среди них был и председатель. Было ясно, что, если я обосрусь, снобы заклюют его.
Когда началась лекция, я поставил пластинку Паркера. И некоторое время молчал. В зале установилась тишина. Но мне нужна была абсолютная тишина. Я ждал и молчал. Когда прошло уже минут пять и лектор, то есть я, не сказал ни слова, в зале установилась та тишина, которая и была мне нужна, – угрожающая скандалом через секунду.
Тогда я начал говорить.
Я сказал:
– Мне видны – Рак, Овен, И мир – лишь раковина, В которой жемчужиной То, чем недужен я. В шорохов свисте шествует звук вроде «Ч». И тогда мне казалось, что волны и думы – родичи. Млечными путями здесь и там возникают женщины. Милой обыденщиной Напоена мгла. В эту ночь любить и могила могла… И вечернее вино И вечерние женщины Сплетаются в единый венок, Которого брат меньший я.Это были стихи Велимира Хлебникова. А лекции, как таковой, и не было. Таков был мой замысел. Ровно один час звучал бибоп, играли героинщик Паркер, шизик Гиллеспи, мрачник Колтрейн и слепой Монк. А я ровно один час читал под эту музыку стихи футуристов. Они точно слились с музыкой бибоперов, потому что и стихи, и музыка были придуманы кучкой чокнутых авангардистов. Я сделал то, что решил сделать. Я познакомил Паркера с Хлебниковым, Гиллеспи – с Крученых, Монка – с Блоком. Они чисто случайно не были знакомы. Им помешали мелочи – полвека и Атлантический океан. Я исправил ошибку.
Обычно просёр бывает оглушительным, но тогда – редкий случай – я узнал не оглушительный просёр, а оглушительный успех. Я не был к нему готов. Когда перестала звучать музыка и перестали звучать стихи, сначала была пауза.
Потом председатель клуба встал и негромко, но четко сказал:
– Браво.
Через несколько мгновений зал аплодировал стоя. Снобы все встали. И хлопали, и кивали головами. Я почувствовал, что громкая слава – не хуй собачий. Это очень приятно, и очень не хочется, чтобы это кончалось.
Много позже я узнал, что стало с председателем клуба. Ничего особенного с ним не стало. Он умер. Потому что знал Утёсова и был старым. Мне рассказали, что умер он, как подобает джазмену, с пластинкой в руках. Хотел поставить пластинку, но не успел. Я позвонил ему домой. Трубку взяла его вдова, она была намного его моложе, так было принято у джазменов. Меня интересовало, какую пластинку он держал в руках, когда умер. Она не разбиралась в джазе, сказала, что сейчас пойдет и найдет эту пластинку и чтобы я подождал у телефона. Я ждал. Она нашла ее и прочитала мне в телефонную трубку:
– Тут написано, кажется… Паркер.
Черкесская княжна
После лекции ко мне подошла женщина. Она сказала, что восхищена и ее зовут Тамара. Я сказал, что мне очень приятно. Потом, когда все разошлись, она ждала меня у выхода из лектория. Это тоже было приятно. Я подумал: началось! У меня появились поклонницы!
Тамара была старше меня. Мне было 17, ей 45. Она была ягодка опять. Кстати, это довольно странно. Я имею в виду, почему «опять»? Подразумевается, что женщина была ягодкой, потом ягодкой быть перестала, потом стала ею опять. А кем же была женщина, когда ягодкой временно быть перестала? Не ягодкой, а чем? Корнеплодом? Вот вопрос.
Тамара была тощей вороной брюнеткой с ярко-красной помадой на хищных губах. На руках и шее у нее болтались массивные потемневшие серебряные хуйни – перстни, браслеты и амулеты. Нос был тонкий и с горбинкой. Брови у нее были тоже тонкие и черные, вразлет. Она была в целом весьма эффектной старой клушей, и отсветы ада на лице говорили о том, что на протяжении жизни многие мужчины ее замечали и ею пользовались.
В тот вечер Тамара позвала меня к себе домой обсудить мою лекцию. Мы пришли к ней домой. Дома у нее было интересно. На всех стенах висели кинжалы, сабли, старинные фотографии, изображающие суровых горцев, шкуры волков и еще какие-то странные волосатые шкуры, мне даже показалось, что скальпы. Я немного напрягся, потому что подумал: вдруг Тамара оккультистка и сейчас из сортира выбегут ее ассистенты и начнут приносить меня в жертву. Было бы обидно оказаться вот так бесславненько принесенным в жертву, когда только узнал вкус славы, подумал я. Но Тамара сказала, что она – черкесская княжна. И показала мне свое родовое дерево. Оно было прорисовано на куске сыромятной кожи какими-то бурыми чернилами, похожими на кровь. Предки Тамары владели седым Кавказом. Тамара знала всех своих родственников чуть ли не до нашей эры, и в роду у нее был даже один циклоп. Это было очень интересно.
Много позже, уже не от Тамары, я узнал, как черкесы потеряли свою родину. Это довольно поучительно. Оказалось, все случилось очень недавно, всего сто лет назад, ну, может, чуть больше. Всего сто лет назад черкесы жили на Кавказе. Никто, кроме них, жить там не мог, потому что, во-первых, на Кавказе свирепствовала малярия, а во-вторых, свирепствовали сами черкесы. Но потом русский царь посмотрел на карту и подумал – надо бы завоевать Кавказ, ведь там можно замутить курорт Сочи, столицу зимней Олимпиады. Идея была хорошая, но надо было что-то решать с черкесами. Царь бросил на Кавказ войска. Поначалу все складывалось не в пользу царя, а в пользу черкесов. Черкесы были свирепей сосланных на Кавказ русских декабристов, у которых были одни девки, Герцен да стихи на уме. Кроме того, черкесы знали козьи тропы, умело вели партизанскую войну, наконец, на их стороне воевали малярийные комары. Черкесы стали ебошить русских налево и направо. Но потом один из царских пиарщиков сказал, что знает, как надо поступить, чтобы победить черкесов. Русские войска сначала выявили всех стариков – черкесских садовников. Дело в том, что черкесы умели выращивать огромные сладкие персики. Они выращивали их на камнях, на глазах удивленных малярийных комаров. Русские убили всех садовников и выкорчевали все персики. Потом русские войска выявили священные рощи предков. У черкесов не было кладбищ как таковых. Когда они хоронили своих, на могиле сажали бук. Со временем таких буков стало много, целые рощи, потому что черкесы жили на Кавказе тысячу лет. Буковые рощи стали священными. Черкесы приходили в эти рощи, чтобы посоветоваться с предками, поговорить с деревьями. И деревья всегда с ними разговаривали, потому что они росли из их предков. Можно было вырубить рощи, но это был бы адский труд. Тогда вновь в дело вмешался пиарщик. Он сказал, что есть бюджетное решение. И скоро русские войска вырубили не сами рощи, а тех, кто умел говорить с деревьями. Это тоже были в основном старики. Так черкесы остались без персиков, которыми лакомился еще сам Одиссей, и без рощ. Говорить с предками они больше не могли, больше не могли с ними советоваться. И хотя оружие у черкесов еще оставалось, но в войне с русскими они стали просерать. Потому что все дело было в советах предков. И в персиках. Скоро черкесов всех перебили, а кого не перебили, тот соскочил в Турцию и там ассимилировался. Не стало черкесов. Остался от них только образ Бэлы в романе «Герой нашего времени». Оказалось, что если у народа отнять персики и рощи, народ исчезает. И не за тысячу лет, а меньше чем за сто. Просто лопается, как детский шарик.
А земли Кавказа стали российскими. Правда, потом русские сами захотели выращивать персики. Ведь все еще помнили, какими они были ништячными – черкесские персики. Русские сами ими лакомились, пока вырубали. Но ни у кого так и не получилось выращивать персики на Кавказе – не растут они, болеют, гниют, умирают, несмотря на удобрения, пестициды и давно побежденную малярию. Просто научить, как их вырастить, – некому. Нет садовников. Их закопали в буковых рощах. А буковые рощи есть, точнее, теперь они стали лесами. И никто не знает, какой из этих лесов раньше был священной рощей. Потому что разговаривать с деревьями никто не умеет. Всех, кто умел, закопали, и им теперь незачем разговаривать с деревьями, потому что они теперь и сами – деревья.
Можно было бы, конечно, каждый лес на Кавказе считать священной рощей. Но это отпугнуло бы туристов, потому что негде было бы жарить шашлык и баб. Так они и стоят теперь, тысячелетние священные рощи, и никому не говорят, что они священные. Тысячелетний опыт научил их, что так спокойнее.
Танец с саблями
Когда я ознакомился с родовым деревом Тамары, она предложила выпить коньяка и послушать джаз. Я согласился.
Мы стали пить коньяк и слушать джаз. Вскоре я стал синий. Княжна Тамара вместо Чарли Паркера поставила Арама Хачатуряна и стала учить меня танцевать танец с саблями. Сабель в ее доме было, как в армии Буденного, я выбрал две самые красивые и стал танцевать. У меня хорошо получалось. Я довольно ловко ходил на подогнутых пальцах ног, несмотря на то что они страшно хрустели и болели. Но я был синий и клал на боль. Когда дошло дело до вонзания сабель в пол, я пошел вразнос и искромсал часть паркета в квартире Тамары. Потом я устал. Сошел с пальцев ног и засобирался домой.
Тамара сказала, что она меня не отпускает. Я испугался, что все-таки она будет приносить меня в жертву своим черкесским кровям. И даже вынул из паркета саблю для самообороны. Но Тамара вдруг грациозно взмахнула клешней и рухнула на пол. Я бросился к ней. Она прошептала, что у нее все плывет перед глазами. Я ей сказал, что это нормально, просто она синяя и у нее вертолеты, так что если она хочет дать смычку, то может не стесняться. Она сказала, что она не хочет давать смычку, а хочет, чтобы я отнес ее на руках в спальню.
Я понес. Нести Тамару было не тяжело, потому что не далеко. Спальня у Тамары тоже была черкесская, вся в чеканках, на них были девушки, и все с одним миндалевидным глазом. Нет, девушки на чеканках не были циклопами, просто второй глаз был стыдливо прикрыт черной накидкой. Посредине спальни была огромная постель, устланная неправдоподобно огромной тигровой шкурой. Тигр должен был быть саблезубым, чтобы иметь такую шкуру.
Я положил Тамару на постель и сказал:
– Ну, я пошел?
Но Тамара вдруг применила ко мне эффективный удушающий прием, уложила меня на спину, что в дзюдо оценивается оценкой «иппон», то есть – чистая победа. Потом вдруг обвила меня, как кавказская гадюка, и впилась своим алым ртом в мой нефритовый стержень.
Дьявольский хобот
Здесь следует сделать отступление. Читатель, вероятно, помнит, что в начальной части этого текста автор уже говорил о лексических нормах. И что если в тексте будет встречаться слово «хуй», то всегда следует понимать данное слово не как непотребщину, а как символ, и все в таком духе. Но в главах, посвященных теме любви, автор столкнулся с прямо противоположной лексической проблемой. Как известно, говоря о любви, нет-нет, а приходится говорить о половых органах. Автор стал размышлять, как же ему называть их. Называть вещи совсем уж своими именами – то есть говорить, к примеру, что герой такой-то вонзил свой хуй в героиню такую-то, – автор находит убожеством, это может свести эстетику данного текста к примитивному порнороману. Конечно, этот текст можно, в какой-то мере, отнести к порно, но только к духовному порно. В том смысле, что на его страницах автор и сам предстает, и других застает в состоянии максимальной духовной наготы. С другой стороны, прикрывать фиговыми листками синонимов половые органы тоже глупо. Например, герой такой-то засунул свой пенис в героиню такую-то. Унылой безысходностью веет от такой строки.
И тогда автор решил прибегнуть к приему заимствования из худших образцов, прибег к наунитазной литературе, благо, авторов, работающих в этом жанре, полно. Жанр этот, напомню, получил свое название потому, что подобные произведения лучше всего усваиваются во время чтения на унитазе. Их авторы – чаще всего, кстати, женщины – придумали множество тактичных и одновременно романтичных обозначений для мужских и женских половых органов, а также для всех возможных манипуляций с их участием. Например, банальный хуй романистки-наунитазницы называют не иначе, как нефритовый стержень, или пурпурный рыцарь, или, например, такой пограничный оборот, как дьявольский хобот. Автор находит это охуенным – дьявольский хобот. Женские же органы получили титулы: бархатный грот, зовущий тюльпан и, наконец, замечательное сочетание, однажды обнаруженное автором и вполне достойное дьявольского хобота: черная дыра. Вот эти волнующие образы автор и решил использовать для обозначения половых гаджетов в данном романе.
Итак, Тамара впилась своим алым ртом в мой нефритовый стержень. Это было неожиданно, и стержень тотчас же оросил Тамару живительным нектаром. Тамара незамедлительно впилась в него уже своим бархатным гротом. Так Тамара и впивалась в меня то гротом, то ртом, и скоро я был полностью высосан ею, как маленькое озерцо африканским слоном во время большой засухи. И так выяснилось, что мне нельзя пить, и в частности нельзя пить коньяк. Как только я пил коньяк, со мной происходили вот такие страшные вещи.
Тамара пугала меня. Своей силой, своей страстью. Все погибшие на Кавказе черкесы жили в ней. Она была очень властная. Я ничего не мог ей возразить. Если она говорила: «Еще» – я вынужден был еще. Это было тяжело физически.
Только наутро я ушел от Тамары. Ушел на дрожащих ногах. Нефритовый стержень горел. Каждый шаг нес боль. Дома я окатил свой пылающий поршень холодной водой и кричал от ощущений.
Потом я долго избегал Тамары, но вскоре она меня отловила на заседании джаз-клуба и снова поволокла в свою саклю. Наутро я снова еле уполз от нее, как Мцыри после схватки с барсом.
Потом я прятался от нее. Но Тамара была черкешенкой и умело охотилась.
Однажды я сказал ей, что больше не приду. Она спросила почему. Я сказал, что не могу вечно оставаться с ней. Тогда Тамара сказала, что у меня, наверное, появилась девушка моложе ее. Это было странно слышать, потому что Тамара была на полгода старше моей мамы, и абсолютно все девушки, которых я знал, конечно, были младше Тамары лет на тридцать. Я сказал Тамаре, что девушки моложе у меня нет, хотя в то время я уже был влюблен в Земфиру Гиппиус, но Зяму я не выдал, потому что боялся, что Тамара ее зарежет.
Тогда Тамара вскинула свои брови вразлет. И сказала:
– Я тебя отпускаю. Уходи.
Я ушел. Она не обернулась, когда я уходил. Она была очень гордой. Ей было очень трудно быть такой гордой, я понял это много позже. Ведь она была черкесской княжной, у которой нет никого и ничего. Ни князя-отца, ни князя-мужа, ни князя-сына, ни рощи предков, ни персиков, ни Кавказа. Только родовое дерево было у нее. Больше ничего.
Я боялся. Такой взрослой, такой последней любви. Я был не готов к такой любви. И я перестал приходить к Тамаре. А она перестала приходить в джаз-клуб, перестала охотиться на меня. Она пропала.
Много лет спустя я приехал в свой город. И я увидел княжну Тамару. Ее вскинутые брови, ее тонкий нос с горбинкой, ее губы – все это было теперь черным мрамором. Великолепным надгробием. Тамара теперь жила на старинном кладбище, возле которого я вырос.
Служитель кладбища, увидев, что я целый час стою под снегом и пью винище у могилы Тамары, подошел ко мне и рассказал, что случилось потом, после того как мы с Тамарой расстались навсегда.
Тамара перестала быть ягодкой опять и стала бабушкой. Уже навсегда. Потом она стала немощной и не могла о себе заботиться. Тогда она упала на саблю. Так делали черкесы, когда силы покидали их. Тамара пронзила свое гордое сердце княжны.
Я спросил служителя, кто же поставил такой пафосный памятник? Служитель оглянулся на соседние старинные надгробия, это были мраморные ангелы и львы, и, убедившись, что ангелы и львы не подслушивают, сказал мне шепотом на ухо:
– Приезжали какие-то… Черкесы!
Я тебя никогда не увижу
Однажды ко мне пришел Стасик Усиевич. И сказал, что знает, как заработать на поэзии. Стасик рассказал:
– Андрей Вознесенский – богатый поэт. Потому что он пишет не в стол, а в струю. Написал «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду». Сколько времени он потратил, чтобы это написать? Ну, посидел, подумал, написал: «Я тебя никогда не увижу». Посидел еще, подумал, что дальше, написал: «Я тебя никогда не забуду». Не увижу, не забуду. Все понятно. А теперь прикинь, сколько он получает за это! Книжки вышли – ему деньги за тиражи. Потом композитор Рыбников песню написал, она на пластинках вышла – тоже Вознесенскому деньги капают. Концерты по всей стране пошли, разные артисты эту песню поют, Караченцов тот же все время ее поет, Караченцов надрывается, а деньги Вознесенскому капают. Марк Захаров спектакль поставил, «Юнона и Авось», и двадцать сезонов спектакль идет, Марк Захаров надрывается, Караченцов надрывается, а деньги кому капают? Вознесенскому. Ты на даче сидишь, а деньги капают. Конечно, Вознесенский дачу в Переделкино купил.
Дача в Переделкино была мечтой Стасика. Он сказал еще:
– Дача в Переделкино – это вложение. Такое вложение никуда не денется. Дача в Переделкино всегда только дорожать будет.
– А если она сгорит, например? – засмеялся я.
– Не сгорит, – ответил Стасик, у него все было продумано. – Можно пропитать огнезащитной пропиткой. В три слоя. Я дачу застрахую, все постройки, гараж и баню. Ну и охрана. У меня на даче будет охрана с собаками. Пусть только сунутся, сволочи.
– Кто? – спросил я. – Кредиторы?
– Да нет! – сказал Стасик. – Грабители. Богатого поэта каждый ограбить захочет. Да и бедные поэты тоже все время будут ломиться, я знаю таких…
И Стасик посмотрел на меня. Я понял, что если когда-нибудь стану ломиться на дачу Усиевича в Переделкино, я закончу жизнь в зубах собаки.
Принудительное раскрытие
Был конец декабря, приближался Новый год. Я предложил не медлить и отправиться в Москву в ближайшие выходные. Стасик сказал:
– Но у нас нет в Москве связей пока. К кому мы поедем?
– К Вознесенскому! – сказал я.
– А где же мы его найдем? – удивился Стасик.
– Как где? Ты же сам говорил – в Переделкино! – сказал я.
Сказано – сделано. Я тут же обратился к своей маме с просьбой помочь нам со Стасиком добраться до Переделкино.
Мама моя обладала одним удивительным свойством. Все мои начинания маме казались опасными, губительными авантюрами. Но она всегда мне помогала. Я даже однажды спросил маму:
– Мама, почему ты мне всегда помогаешь?
Мама ответила коротко:
– Материнское сердце.
Вот и в тот раз мне помогло многострадальное сердце. Мама была сотрудником КГБ и умела организовывать самые сложные операции. Она взяла трубку телефона, набрала какой-то номер и сказала:
– Алло, Матвей Матвеич, это я. У меня к вам есть огромная просьба. Личная.
Когда я услышал сочетание «Матвей Матвеич», я сразу понял, что все будет в порядке. Я представил, какой он, Матвей Матвеич. Он невысокий, крепкий, молчаливый, седой. С ним можно пойти в разведку. В разведке с ним можно расслабиться и слушать соловьев. Матвей Матвеич все сделает сам. Уползет куда-то в камыши, из камышей послышатся стоны врагов. Потом Матвей Матвеич выйдет из кустов, вытрет нож о траву и скажет:
– Пошли, сынок, дорога свободна.
Очень скоро мы со Стасиком стояли на военном аэродроме за городом. Моя мама приказала нам со Стасиком в этот час прибыть сюда. Был поздний вечер, было темно и очень холодно. Громадный и страшный военный самолет прогревал двигатели. Потом к нам подскочил какой-то бешеный человек и так громко крикнул мне в ухо, что я потом несколько часов ничего этим ухом не слышал:
– Поэты?!
– Да! – заулыбались и заорали мы со Стасиком.
– На борт! Бего-о-о-ом! – закричал человек так громко, что мы со Стасиком пригнулись.
Мы побежали бегом в самолет, придерживая руками шапки. Было страшно и холодно. И романтично. Я представил, что отправляюсь на опасное задание. Так оно и было.
В самолете этот же бешеный человек, который все, что говорил, не говорил, а кричал так, как будто его расстреливают из пушки в спину, как сипая, заставил нас со Стасиком надеть парашюты. Стасик стал сопротивляться:
– Какие парашюты? Зачем парашюты? Вы что?
Я тоже удивился и спросил:
– Зачем парашюты? У вас… Посадка в Москве?
– Посадка в Ханое! – закричал бешеный.
Мы со Стасиком переглянулись. Мы не хотели в Ханой. То есть, я хочу сказать, мы были не против посмотреть мир, а лично я даже не отказался бы посмотреть Ханой. Но все-таки мы как-то уже настроились на Переделкино и кроме стихов и вина ничего с собой не взяли. Кроме того, лица двух десятков крепких парней, которые сидели вместе с нами в самолете, ясно говорили о том, что в Ханой они летят не на поэтический слет. Я сказал:
– Извините, но нам надо в Переделкино!
Бешеный на пару минут закопался в какие-то мятые обгоревшие карты, потом что-то показал на карте пилоту. Пилот молча кивнул. Бешеный опять ужасно закричал, перекрикивая двигатели:
– Не ссыте, поэты! Выбросим в Переделкино!
Стасик стал сопротивляться еще сильней, кричать, что он не хочет, чтобы его выбрасывали, что он не прыгал никогда с парашютом. Но бешеный крикнул в ответ:
– Да ни хуя не будет! Не ссыте! Принудительное раскрытие!
Путь в Переделкино был недолгим. Самолет несколько раз закладывал такие крены, что мы со Стасиком катались по всему салону. Тогда парень с конопатым лицом привязал нас к стенке самолета. Потому что бешеный ему крикнул:
– Валера, пришвартуй поэтов, а то… Ебала себе разобьют!
Нас пришвартовали. Но легче от этого нам со Стасиком не стало. На мощных кренах и падениях в воздушные ямы Стасик рыгал и проклинал ту минуту, когда познакомился со мной и решил стать поэтом.
Потом нас вдруг стали отвязывать, а в салоне самолета угрожающе загорелась красная лампа. Пилот высунулся в салон и ужасно закричал бешеному, оказывается, пилот тоже не умел говорить, а только кричал так, что закатывались глаза и у него, и у слушателей:
– Поэты, блять! На выход!
Мы со Стасиком все еще не верили, что нас на самом деле сбросят с парашютами. Но, когда бешеный открыл дверь самолета и адский вой ворвался внутрь, стало ясно, что это не шутка. Я что-то хотел сказать Стасику насчет того, что сейчас мы войдем в историю, но сзади кто-то очень сильно ударил меня ногой в жопу. Я головой вниз выпал из самолета.
Потом я летел. Где-то рядом летел Стасик, проклиная поэзию. А я летел и смотрел по сторонам. Ночь была холодной и черной. Сердце как-то от всего освободилось. Перестало быть страшно. Вокруг была такая красота – холодная и черная Вселенная, а я лечу в ней, маленький, но смелый. Я летел сквозь ночь, и мне было все равно, погибну я или спасусь. Это было совершенно прекрасно и равноценно.
Вдруг я почувствовал сильный удар. Над моей головой раскрылся парашют. Это было принудительное раскрытие. Свободный полет кончился.
Позже я спросил однажды маму:
– Ты сказала Матвей Матвеичу выбросить нас с парашютом! А нам не сказала об этом. Почему? Ну а что было бы, если бы мы погибли? Ну, хорошо, не погибли бы, принудительное раскрытие, но могли покалечиться, перепугаться, в конце концов?
– Перепугаться? – усмехнулась мама. – Тогда вы не поэты, а барахло.
Мама, оказывается, вместе с Матвей Матвеичем проверила нас – поэты ли мы, справедливо полагая, что тому, кому страшно лететь сквозь холодную мглу, в поэзии делать нечего. Это справедливо.
Вообще, мне повезло с мамой.
Диверсанты
Скоро я стал видеть огни. Их был миллион, миллиард. Это были огни Москвы. А прямо подо мной был темный лес. Он приближался. Я упал на огромную ель. И снова вспомнил, как в детстве на меня упала новогодняя елка. Только теперь наоборот – я упал на елку. Поломал собой пару веток и упал в сугроб. В сугробе было тепло и уютно. Я даже специально пролежал там с минуту. Было хорошо. Вообще, хорошо быть живым.
Потом я вылез из сугроба, снял кое-как парашют и отправился на поиски Стасика. Мне все это уже нравилось. Было похоже, что мы со Стасиком диверсанты, которых сбросили на территорию, оккупированную врагом. Мне это понравилось: поэты-диверсанты.
Стасик повис на огромной сосне и был плох. Я крикнул ему, чтобы он специальным ножом перерезал стропы, как инструктировал нас бешеный. Стасик сначала не хотел, но я сказал ему, что в противном случае он так и будет висеть на сосне, как шишка, и не попадет к Вознесенскому на дачу. Тогда Стасик перерезал стропы, со страшным воплем полетел вниз, упал в сугроб, но в сугробе был пень, и Стасик больно ударился подбородком.
Я стал успокаивать Стасика и сказал ему, что мы не пропадем, что с высоты я видел московских окон негасимый свет, а значит, люди близко.
Когда мы вышли из леса, Стасик вдруг изменился в лице и тихо сказал:
– Вот оно…
– Что? – спросил я, думая, что Стасик тронулся от перенесенных испытаний.
– Переделкино! – сказал Стасик.
По обе стороны улицы прятались в заснеженных соснах старые дачи. В окнах горел желтый свет.
Стасик сказал:
– Здесь живут поэты! – И добавил: – Смотри, как живут… Сволочи.
Я посмотрел. Действительно, поэты жили хорошо.
Стасик придирчиво осматривал дачи и сообщал мне:
– Капитальные дачи. И бани. И у всех противопожарная пропитка, наверное. В три слоя сделали, точно…
Побродив немного по Переделкину и изучив, как живут сволочи, мы вдруг вспомнили, что не знаем адреса Вознесенского. Мы как-то об этом не думали. Я полагал, что, когда мы попадем в Переделкино, дачу Вознесенского легко найдем, потому что поэтов не может быть много и, следовательно, дач в Переделкино тоже не может быть много. Ну а в крайнем случае спросим у какой-нибудь литературной дамы в зимнем тулупчике, выгуливающей пуделя в зимнем тулупчике, и дама нам ответит:
– Милые юноши, конечно, я вам скажу. Я же вижу, вы поэты… Андрюшенька живет вон там, рядом с бывшей дачей Володеньки.
– Какого Володеньки? – спросим мы.
– Маяковского, какого же еще, он был такой губастый, смешной! – захохочет озорная старушенция.
И подарит нам на память коробочку с кокаином, которую однажды не донюхал и оставил у нее Маяковский.
Мороз стоял сильный, мерзли уши, носы, пальцы на руках и ногах. А дач в Переделкино оказалось очень много. Целые улицы. Я не верил своим глазам и все время спрашивал Стасика:
– Неужели поэтов так много? Что же все они пишут?
– То же, что и мы! – злобно отвечал заиндевевший Стасик. – Стихи…
Мы стали стучаться наугад в разные дачи, но вместо пуделей в тулупчиках выбегали рослые псы и бились своими широкими грудными клетками в заборы. В одном случае к нам вышла миловидная бабушка в шубке, я сразу обрадовался и закричал:
– Здравствуйте, с наступающим вас! Вы не подскажете, где живет Андрюшенька?
– Какой Андрюшенька? – удивилась бабушка в шубке.
– Вознесенский! – уточнил я.
– Ах, Вознесенский… – сказала бабушка, посмотрела на нас с подозрением и спросила: – А вы кто?
– Мы поэты, – сказал я просто.
– Ах, поэты, – сказала бабушка в шубке и опять посмотрела на нас с подозрением. – Сейчас.
Я решил, что сейчас она принесет и подарит нам какую-то памятную вещицу. Вскоре она действительно появилась с какой-то вещицей в руках. Мы доверчиво подошли ближе, а бабушка напрыскала в наши со Стасиком замерзшие лица слезоточивый газ из баллончика. Вот что она принесла нам вместо коробочки с кокаином Володеньки.
Мы со Стасиком бросились бежать от дома проклятой старухи. Она вслед нам кричала, что мы бандиты и чтоб мы были неладны. И мы ими были. Глаза ничего не видели. Мы со Стасиком бились друг об друга, как молекулы кипящего борща. Потом я первым додумался лечь лицом в снег. Сразу стало легче. Я посоветовал и Стасику лечь лицом в снег. Он так и сделал и плакал в снег.
Потом Стасик сел у сосны и сказал:
– Не могу идти. Не чувствую ног. Началась гангрена, наверное… Будьте вы прокляты, и ты, и Вознесенский.
Надо было что-то делать. Тогда я обратился к иерофантам. Ведь они следовали за мной повсюду. Когда нас выкинули из военного самолета в ночь, рядом со мной летел Винтокрылый, я видел. Значит, и остальные были где-то поблизости.
Я сказал про себя, не вслух:
– Иерофанты, мне нужна помощь. Где, блять, эта ебучая дача Вознесенского?
Немедленно из леса показался Волчок. Ничего не говоря, он побежал вперед, быстро глянув на меня своими разноцветными глазами.
Я сказал Стасику:
– Пошли. Я знаю, где живет Вознесенский.
По пути к Вознесенскому мы встретили мужика в большой меховой шапке и дубленке. Мне он показался смутно знакомым, и я прямо так и сказал Стасику:
– Это что – Евтушенко?
– Вроде да, Евтушенко, – сказал Стасик.
Я не любил Евгения Евтушенко. Не потому, что мне так уж не нравились его стихи. А потому, что Бродский не любил Евтушенко. А я любил Бродского и поэтому не любил Евтушенко.
Бродский
Вот и выпал случай, читатель, поговорить о Бродском в этом тексте. Что ж. О нем написано нестерпимо много, и, казалось бы, что еще можно о нем написать. Но опять-таки, сказано многое, но не сказано главное. Как же так получилось, что Бродский, с одной стороны, большой засранец, а с другой стороны – прекрасный поэт? То, что Бродский был большим засранцем, не нуждается в доказательствах – он сам так про себя говорил, и женщины, которых он бросил, заплаканных, тоже так про него говорили. То, что Бродский прекрасный поэт, тоже вроде бы не нуждается в доказательствах. Стихи свои он читает, конечно, как мертвец, который жалуется на геморрой. Но стихи хорошие! Значит, он герой – потому что поэт всегда герой. Но как же так? Как засранец стал героем? Возможно ли это?
Пример Бродского доказывает, что да, это возможно. Все дело в том, что у человека болит. Если болит живот или сердце – можно пойти к врачу. А что делать, если болит не живот и не сердце, а сразу всё, всё внутри, с рождения? К какому врачу идти? Нет такого врача. Тогда человек становится поэтом. У него болит, но все, что он может, это только орать, как младенец, который не умеет сказать, что болит и где. Поэту так же трудно помочь, как младенцу. Поэтому у поэтов такая же высокая смертность. А окружающие люди, нет чтобы попробовать как-то помочь, наоборот, восхищаются – как же точно он сумел рассказать, как ему больно! Ведь и у нас болит, пусть не так сильно, пусть не все внутри, пусть не с рождения, но тоже болит ведь. У всех людей болит внутри, и им становится лучше, когда они узнают, что у кого-то болит сильней и давней. Вот за эту большую боль, которую Бродский еще и приловчился описывать всякими интересными размерами, можно простить человеку все. Даже то, что он погубил много женщин, и погубил заодно Евгения Рейна.
Так что Бродский совершенно заслуженно считается большим поэтом и при этом большим засранцем. Поэт – это человек, у которого болит.
Вот главное, что не было сказано о Бродском, а теперь сказано.
Евгений Евтушенко
Встретив Евтушенко на улице Переделкина, я не мог пройти мимо. Я сказал:
– Здравствуйте, Евгений… – Я не знал его отчества. – Евтушенко.
– Здравствуйте, – сказал поэт удивленно.
– Гуляем, значит? – спросил я.
И посмотрел на Евтушенко, видимо, нехорошо, потому что он посмотрел по сторонам встревоженно и громко крикнул пару раз:
– Мороз! Мороз!
– Да, мороз просто пиздец, – сказал я. – А вам, наверное, тепло. Шапка у вас из кого, простите?
– Шапка волчья, – сказал Евтушенко настороженно.
– Волчья? – засмеялся я. – А почему не кроличья? Вы же не волк. В поэзии вы кролик. Или поросенок. Жалко, поросячьих шапок не бывает. Да?
Евтушенко охуел. На самом деле мне и самому было страшно представить поросячью шапку.
Потом Евтушенко еще раз крикнул:
– Мороз!
Только тогда мы со Стасиком Усиевичем поняли, что Евтушенко кричал это слово не потому, что лишился рассудка от страха. Мороз – это была кличка собаки, с которой он гулял и которая отправилась куда-то в снега по нужде и там застряла. И вот из леса показался огромный, косматый сенбернар. Увидев нас, пес застыл. А Евтушенко закричал, как Мик Джаггер:
– Мороз! Чужие! Чужие!
И указал на нас. Мороз – собака есть собака, за хозяина умрет, даже за хозяина-мудака – без колебаний побежал прямо на нас, взрывая рыхлый снег толстыми лапами, в горле у него на бегу заклокотало и низко забулькало что-то такое, от чего мы со Стасиком коротко переглянулись и бросились бежать. Но убежать не получилось. Мороз догнал Стасика первым. Я обернулся и увидел, как пес ударил Усиевича в спину своей квадратной головой. Стасик упал на колени, Мороз вцепился ему в спину, крутанул головой, чтобы вырвать из Стасика кусок побольше, но вырвал только кусок куртки. Пока пес злобно выплевывал синтепон, Стасик попытался снова побежать, но Мороз легко сбил его с ног и на секунду застыл над Усиевичем, примеряясь, как бы его убить побольней. Тогда уже я крикнул:
– Волчок!
Мне не пришлось звать его много раз, как Евтушенко своего сенбернара. Мои иерофанты всегда были рядом. Через секунду раздался громкий скрип. Это скрипели сосны. Я обернулся. Мороз тоже посмотрел удивленно в сторону леса. Раздвигая сосны, из леса показался Волчок. Он шел по снегу неспешно, опустив низко голову и посверкивая в темноте разноцветными глазами. Приблизившись и увидев меня, Волчок остановился. Потом посмотрел на Мороза. В горле у Волчка загудело так, что с сосен посыпался снег.
Мороз отреагировал правильно: он стремительно удрал в темноту с выражением – ну вас на хуй, ребята.
А Волчок задрал ногу и обильно пометил переделкинские сосны. Теперь это была его территория. У собак так. У людей, в общем, тоже.
Я посмотрел по сторонам – хотел найти Евтушенко и предъявить ему и за Бродского, и за Мороза. Но его нигде не было. Поэт убежал.
Мы были спасены. Стасик, правда, сразу же начал ныть, как Бродский, на тему того, что его куртке пиздец – с этим трудно было поспорить – и что я, в конце концов, наш импресарио и обязан сейчас же что-то сделать, чтобы все стало хорошо, потому что такова обязанность импресарио, – с этим тоже трудно было поспорить. Я успокоил Стасика, переключив его на приятную мысль – что когда-нибудь он обязательно купит дачу в Переделкино.
Андрей Вознесенский
Скоро Волчок привел нас к невысокому забору. Собаки во дворе не было – впрочем, может, она и была, но наверняка спряталась, когда почувствовала приближение Волчка. Иерофант легко переступил через забор – ведь в холке он был с дачу Вознесенского. Я понял, что мы у цели и через минуту-другую наши со Стасиком руки сомкнутся на шее Андрюшеньки. Я, правда, толком не знал, что скажу Андрюшеньке, когда мои руки сомкнутся на его шее. Но, рассуждал я, поэту, в конце концов, всегда есть о чем поговорить с другим поэтом.
Волчок заглянул в окна дачи своими разноцветными глазами и кивнул мне. Это значило, что Вознесенский дома.
Я тоже заглянул в окно. Стасик последовал моему примеру. Мы увидели поэта, он сидел у камина. Стасик сказал:
– Давай постучим в окно.
– Неудобно! – сказал я. – Вдруг он сейчас стихи сочиняет.
– Он свое уже сочинил! – безжалостно сказал Стасик. – Смотри, какую дачу отгрохал.
Мы постучали в окно. Вскоре к нам вышел Вознесенский. Он был удивлен, если не сказать, слегка напуган. Понять его можно было. Было около часа ночи. В его окно постучались два психопата, забрызганных слезоточивым газом и собачьей слюной, замерзших, диких.
А у него, беззащитного поэта, не было даже собаки. Я принялся улыбаться Вознесенскому, показывая, что намерения наши совершенно мирные.
Вознесенский улыбнулся в ответ и спросил:
– Что вы хотите, ребята?
Я понял, что нужно ответить поэту кратко и емко. Хотя бы для того, чтобы он пустил нас внутрь. И я сказал:
– Почитать вам стихи.
Вознесенский сказал:
– Ну… Проходите.
Это была первая победа. Нас пустили внутрь.
Скоро мы сидели у камина и молчали. Вознесенский присматривался к нам. Нужно было что-то говорить. Я сказал:
– Андрей Андреич, здесь так много дач! Неужели так много поэтов?
Это была вторая победа. Вознесенский улыбнулся и сказал мне:
– У вас ироничный склад ума. Это хорошо. Да, поэтов у нас очень много. Если верить справочнику Союза писателей, у нас десять тысяч поэтов.
– Сколько? – засмеялся я.
Я знал всю мировую поэзию, но вся она, по моему мнению, не могла приютить и полусотни настоящих поэтов.
Вознесенский печально подтвердил:
– Да, десять тысяч поэтов… Смешно, да…
– И у каждого дача! – возмущенно заметил Стасик.
– Да, – рассмеялся Вознесенский. – Конечно.
– Андрей Андреич, а почему у вас дача без противопожарной пропитки? – спросил Стасик.
Я испугался. Я-то привык к Стасику, а Вознесенский не успел привыкнуть, и вопросы Стасика могли шокировать его. Но поэт ответил с грустью:
– Да. Вы правы… У меня нет противопожарной пропитки…
– Поэту она не нужна! – сказал я со страстью.
Вознесенский кивнул. Моя мысль ему снова понравилась. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:
– Вы похожи на Лермонтова, вы знаете?
Я сделал вид, что удивился. На самом деле я знал. Да, в юности я был похож на Лермонтова. Тот же взгляд, та же осанка, та же манера неудачно шутить с вооруженными людьми.
Потом Вознесенский сказал нам:
– Прочитайте стихи.
Мы со Стасиком по очереди прочитали. Вознесенский сначала молчал и улыбался. Потом достал бутылку коньяка и налил нам со Стасиком. Мы выпили. Я хотел произнести тост: «За поэзию, блять!», который обычно поднимал, когда мы бухали со Стасиком и обсуждали стихи. Но я не решился. Мы выпили молча, но все равно – за поэзию, это было понятно. Потом Вознесенский принес сыр. Стасик ел сыр Вознесенского, а Вознесенский молчал и смотрел на огонь в камине. И улыбался. Я тоже стал улыбаться и по ходу даже засыпать, потому что коньяк и тепло камина мягко вставили.
Стасик, осмелев, уже сам налил еще по одной и сказал:
– Андрей Андреич, можете нам помочь? Ну, с признанием?
Вознесенский грустно улыбнулся и спросил:
– Поэтов и так десять тысяч. Вы хотите к ним?
– Ну, где десять тысяч, там еще для двоих всегда найдется место. Если потесниться немного! – сказал Стасик.
– Да, да, это хорошо сказано – потесниться! – рассмеялся Вознесенский.
Мне он начинал решительно нравиться. Он был веселый и мудрый, и даже лобовые атаки Стасика его не смущали.
– Так что же нам делать? – настаивал Стасик. – Чтобы пробиться?
– Пробиться? – удивился Вознесенский. – Куда?
– Ну, к вам, сюда, – сказал Стасик, обведя взглядом помещение. – У вас же все хорошо.
– У меня? – удивился Вознесенский. – Ну, я бы так не сказал. У Гомера все хорошо. У Пушкина…
– Нет, у Гомера, да, тоже тиражи, – согласился Стасик. – Но и вам жаловаться грех. – Мой друг снова по-хозяйски обвел взглядом помещение; чувствовалось, что он здесь все переставил бы. – Ну, Андрей Андреич, давайте не будем юлить.
– Юлить? – улыбнулся Вознесенский.
– Ну да! – сказал Стасик возмущенно. – Десять тысяч поэтов! Ну так что теперь! Понятно, самые теплые места заняты. Но мы согласны на более холодные для начала. Мы же молодое поколение. Мы пришли к вам. За помощью. Мы хотим знать, как попасть в струю, я тебя никогда не забуду, никогда не увижу, ну, в этом смысле. В общем, нам нужно знать. Что делать поэту, чтобы пробиться?
– Копить, – вдруг произнес кратко, как чиркнул одноразовой зажигалкой, Вознесенский, глядя на огонь камина.
– Сбережения? – уточнил Стасик.
– Впечатления! – с усмешкой возразил Вознесенский.
Стасик заулыбался и неодобрительно закивал. Он явно считал, что Вознесенский юлит.
Потом я засобирался, не хотелось мешать поэту смотреть на огонь в камине. Стасик сопротивлялся – ему у Вознесенского нравилось. Он спросил поэта:
– Андрей Андреич, вы не собираетесь продавать свою дачу?
– Да вроде нет пока, – обескураженно сказал Вознесенский.
– Ну, если соберетесь, я первый на очереди, – сказал Стасик жестко.
Вознесенский согласился.
Потом Стасик все же вырвал у Вознесенского обещание помочь нам пробиться. План был такой: вернувшись домой, мы со Стасиком готовим подборку своих стихов, высылаем ее Вознесенскому, он сквозь метель идет на почту, получает посылку, читает наши стихи, пишет на них восхищенную рецензию и опять сквозь метель несет наши стихи в «Литературную газету», «Новый мир», «Юность», в общем, несет всюду, куда сам вхож, а вхож он всюду – так сказал поэту Стасик: «Вы же вхожи всюду». Вознесенский добивается нашего первого успеха, ну а дальше мы уже сами, после первого успеха мы оставляем его в покое. Это, последнее обещание, уже самому Вознесенскому с трудом удалось вырвать у Стасика. Только договорившись обо всем этом, Стасик согласился уйти.
На пороге Вознесенский пожал не руку, а локоть Усиевича. Видимо, боялся, что если даст Стасику руку, тот ее ни за что не отпустит. Мне Вознесенский на прощание посмотрел грустно в глаза и сказал:
– Лермонтов… Да, да… Конечно… Удачи тебе…
А я вдруг сказал:
– Вы знаете, что мы с вами больше никогда не увидимся?
Я откуда-то знал это.
Вознесенский улыбнулся и сказал:
– Да, знаю… Но…
Вознесенский что-то еще хотел сказать мне, что-то хорошее, но Стасик перебил его:
– Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду… Да… Вот как надо писать. Написал, и все… Караченцов пускай надрывается…
Мы простились.
Потом мы опять шли по лесу. Стасик был в эйфории. Он все время говорил:
– Какой жук! А! Ну и жук!
Мне было смешно, что Вознесенский – жук. Потому что он действительно был похож на печального жука в осеннем засыпающем лесу. Но Стасик имел в виду другое. Он хвалил Вознесенского за то, что тот не открыл нам своих секретов. Стасик его не осуждал, а хвалил, потому что и сам бы секретов успеха никому не открыл, если бы их знал. Поэтому Стасик восхищенно называл Вознесенского не только жуком, но и высшим титулом – «жучара».
А я думал, что Вознесенский хороший, честный жук. Он мне понравился.
А еще я думал: все в жизни происходит одновременно, и в этом есть красота. Одновременно сейчас происходит все это – сидит у камина одинокий жук Вознесенский, а самолет, который выбросил нас, подлетает уже, наверное, к Ханою, а мы со Стасиком идем, и нам не холодно, потому что коньяк был хороший. И снег тоже идет в это же время, и время тоже идет в это же время. А за всеми нами плетется, опустив низко голову, мой верный, мой страшный Волчок.
Игорь южанин
Когда мы со Стасиком вернулись домой из Переделкина, Зяма приехала домой на каникулы, и мы увиделись. Зяма еще больше похудела и вытянулась. При этом у нее появились большие сиськи, из-за того что она кормила ребенка молоком, – она вышла замуж и родила сына. Все это очаровало меня. Зяма-мать показалась мне еще прекрасней, чем Зяма-девица.
Мы уединились с Зямой, как обычно, в ночном зимнем парке и стали беседовать. Зяма сказала:
– Когда я выходила замуж за Игоря, я думала, брак – это таинство.
– А оказалось? – спросил я.
– Оказалось, что брак – это… – сказала Зяма и заплакала.
Я никогда не мог видеть, как Зяма плачет. Что-то такое сжималось у меня внутри, а потом начинало вибрировать, как скрипичная дека. Я обнял Зяму за плечи и сказал, что спасу ее.
– Я заберу тебя у Игоря! – сказал я.
Надо сказать, что имя «Игорь» мне никогда не нравилось. Не то чтобы оно мне не нравилось само по себе, но просто мне всегда попадались только какие-то просратые Игори. Например, дядя Игорь, которого я помнил по детству и о котором было рассказано выше, так ни разу и не прыгнул с балкона, а только повсюду блевал. Поэтому я был уверен, что Зяма не должна принадлежать Игорю.
Я сказал это Зяме. Она спросила:
– Подожди. А как же Игорь Северянин?
– Ну, так то Северянин! – сказал я. – Твой муж разве северянин? Он вообще откуда?
– Из Краснодара, – сказала Зяма.
– Ну, вот. Он южанин. Игорь Южанин. Нет. Так нельзя. Ты согласна? Быть со мной?
– Да, – сказала Зяма и прижалась ко мне большими и мягкими сиськами.
Я горячо зашептал Зяме в самое ухо, у нее было такое красивое ухо, зашептал, что заберу ее у проклятого Игоря Южанина и отогрею ее холодные, как у Веры Холодной, руки. Я любил руки Зямы. Потому что я любил Зяму всю, целиком. Когда любишь человека, любишь в нем все, что только на глаза попадется. Я сказал Зяме, что сделаю ее самой счастливой декаденткой на свете.
Зяма сказала:
– Мой бедный друг! Неужели все это время ты любил меня?
– Ну… Конечно! – сказал я просто.
И набросился на Зяму, потому что больше не мог терпеть. Я целовал холодные Зямины губы, и ее длинные тонкие пальцы, похожие на градусники, пахнущие зимой, и ее большие мягкие сиськи, пахнущие кефиром, это была очень сильная смесь запахов, от которой у меня мозг вынесло, как грузовик с дороги в гололед. Потом я стал снимать с Зямы теплые колготки, а Зяма плакала. Я овладел Зямой на глазах у Пушкина – в парке был памятник нашему всему. Зяма рыдала на весь парк, пока я овладевал ею, я немного стремался и просил даже ее, чтобы не ревела так громко, потому что могут услышать люди и подумать, что я насилую Зяму, и могут вызвать ментов, и мне выкрутят клешни, и иди потом ментам рассказывай про декадентство. Тогда Зяма стала плакать беззвучно. Это было так беззащитно. Шел снег. Было холодно, а мы с Зямой дышали так жарко, что вокруг нас клубилось целое облако пара. А сверху на нас смотрел Пушкин и не знал, что сказать.
Поэты-хлопцы
Вту же ночь я вбежал домой и сообщил маме, что Зяма несчастна с Игорем Южанином и я должен ее спасти. Мама сделала себе крепкий чай, закурила и стала думать. Выше уже было сказано, что мама моя работала в КГБ – она любила крепкий чай и курила, когда думала. Все это были мужские привычки. Я ждал. Я наделся, что мама и в этот раз поддержит меня. Я верил, что в этот трудный час меня не бросит материнское сердце. Мама докурила, посмотрела в окно, помолчала и сказала:
– Привози.
Мама всегда говорила мало и делала, что говорила.
Потом она же разработала, по моему заказу, план похищения Зямы у Игоря Южанина – это было нетрудно, мама была мастером по похищению людей, по специальности. Ставка была сделана на внезапность. Зяма сообщила Игорю, что она немного задержится дома и пока не поедет в Краснодар, где они гнездились, поэтому Игорь должен прислать ей первым же поездом все ее вещи, а так как здесь часто меняется погода, Зяме нужны и все летние, и все зимние вещи. Ставка, как можно понять, была сделана не только на внезапность, но и на отчаянную глупость противника, то есть Игоря Южанина.
План сработал. КГБ – это была школа. Враг проглотил наживку, и вскоре приехали вещи Зямы. Я попросил Стасика помочь мне встретить вещи Зямы. Надо сказать, Стасик неодобрительно отнесся к моему решению полностью перебазировать к себе свою любовь. Стасик, конечно, понимал, что моя любовь к Зяме важна, потому что благодаря любви ко мне приходили стихи, а они были нужны для посылки Вознесенскому. Но вот решение похитить Зяму Стасик не одобрял. Он сказал:
– Лучше бы ты ее любил, пока она в Краснодаре. Любовь только сильнее от преград. А привезешь ее домой – вдруг любовь станет слабее? Вдруг ты от этого перестанешь писать стихи? Ты хоть понимаешь, как они нам нужны! Их ждет Вознесенский!
Стасик почему-то считал, что Вознесенский очень ждет наши стихи. Стасик в те дни часто рисовал мне такую жуткую картину: у калитки стоит Вознесенский, ждет почтальона, вот почтальон появляется, Вознесенский сразу бросается к нему, как баба-солдатка, а почтальон и рад бы обрадовать Андрюшеньку, да нечем, и только сочувственно качает головой, и Вознесенский идет сиротливо в свою дачу и тихонько сидит там у камина, несчастный.
Как бы там ни было, Стасик согласился помочь мне перевезти Зямины вещи. Мы пришли на вокзал. Нам нужен был проводник Жора.
Оказалось, что Жора – проводник почтового вагона. Он спросил нас:
– Машины где у вас, хлопцы?
– Мы не хлопцы, мы поэты, – сказал я.
– Ну так где машины у вас, поэты-хлопцы? – спросил Жора.
Мне понравилось это сочетание – поэты-хлопцы. Было в этом что-то хорошее, народное, фольклорное, гоголевское. Но мне не понравилось, что Жора настойчиво шутит про машины.
– Какие машины, Жора? – спросил я.
– Як какие! Грузовые! – сказал Жора.
И провел нас в свой почтовый вагон. Который под самый потолок был забит тюками. Это были Зямины вещи.
Конечно, мы со Стасиком не могли найти с ходу колонну грузовиков. Я в панике снова обратился за помощью к материнскому сердцу. Мама сделала звонок Матвей Матвеичу, и на вокзал скоро прибыли два больших военных «Урала». Битый час мы со Стасиком, как биндюжники, кидали тюки в грузовики, а проводник Жора ругался, потому что рассчитывал выпить водки, пока поезд не отправят на мойку. Мы ему говорили, утирая пот:
– Так пойди попей водки, Жора, пока мы разгружаем, чего ты…
– Не могу! Я тут не хуи пинаю, я отвечаю за вагон! – отвечал Жора. – Знал бы, яких пельменей на разгрузку пришлют, ни в жизнь бы не взял цэ барахло в свой вагон…
Пельмени – это было оскорбительно для нас как поэтов, но мы со Стасиком терпели унижения и продолжали работать.
Когда мы свалили все тюки в грузовики, Усиевич сказал мне:
– Имей в виду. Я сделал все это только ради Вознесенского.
Это была правда. Стасик сделал все это только ради Вознесенского. А Вознесенский в этот момент, скорее всего, ничего не знал о том, какие страшные вещи делаются ради него на кишиневском вокзале.
Когда моя мама увидела, сколько вещей мы заносим в дом, она отвела меня в сторону. Мы с ней секунду смотрели друг другу в глаза. Мы ведь были сообщники и соавторы всего того, что случилось.
Потом мама мне тихо сказала:
– Это пиздец.
Моя мама работала в мужском коллективе и умела называть вещи своими именами.
Нужно было где-то разместить все эти баулы. Все вещи, которые когда-либо принадлежали нам с мамой, были размещены в одной тумбочке. Все остальные шкафы, антресоли, кладовки и коробки были полностью забиты вещами Зямы. Ими же был туго набит балкон. Оставшееся было с силой запихано под кровати, положено на шкафы сверху, и все равно еще оставались два гигантских баула. Мы с мамой и Стасиком часто дышали, мы обессилели, но все равно не могли победить: эти два тюка некуда было деть, места больше не было – никакого, оставались только проходы, необходимые для жизни, дыхания и эвакуации на случай пожара.
Тогда Стасик вдруг сказал:
– А давайте хоть посмотрим, что там?
Зяма при этом не присутствовала, она попросила меня перевезти ее с ребенком в последний момент, когда все будет готово. Конечно, было неловко вскрывать тюки без Зямы. С другой стороны, Стасик сказал, что это необходимо, потому что вдруг в них запасы еды. В этом случае Стасик был готов на время забрать тюки к себе домой, у него дома было два холодильника. Стасик гарантировал сохранность еды до приезда Зямы. Я не очень верил в это, но, в конце концов, Стасик не смог бы быстро сожрать два таких тюка – сожрать их за раз не могла бы даже белая акула. Мы вскрыли тюки. В них оказались юбки. Их был миллион. Нам так показалось. Юбок было столько, как будто домой я перевозил не Зяму Гиппиус, а главную цыганку страны.
Моя мама спросила:
– Что это такое? У нее столько юбок?
– Да, – сказал я. – У нее такие красивые ноги…
Стасик Усиевич попал в расклад – он уже пообещал мне помощь, и ему пришлось взять к себе домой два громадных баула с юбками. Дома Стасика отругали, потому что подумали, что Стасик украл все эти юбки. Но я сказал маме Стасика, что эти юбки – мои. Тогда мама Стасика посмотрела на меня с большой тревогой. Я объяснил, что они не мои лично, а Зямы, которую я спас и привез домой. Мама Стасика сказала:
– В добрый час, ребята…
Мама Стасика была доброй женщиной.
А потом наступил волнительный миг привоза мной Зямы. Моя мама накрыла стол. Стол ломился. Стасик тоже ломился – к столу, но моя мама его не пускала. Так они и сидели голодные – ждали меня.
В тот день утром я встал и первым делом выпил бутылку вина. Это был такой день. Это был серебряный день. Я победил Игоря, я спас Зяму, и теперь мы с Зямой будем жить, как птицы. Так я думал. Да, я так думал.
К дому Зямы я приехал на машине, которую опять выделил Матвей Матвеич. Машина была роскошной черной «Волгой» с кагэбэшными номерами.
Когда я вошел в подъезд Зямы, я не сразу позвонил в дверь. Было бы глупо не растянуть последние минуты, а сразу взять Зяму и повезти домой, как мебель. Во внутреннем кармане пиджака у меня была вторая бутылка вина. В наружном кармане пиджака у меня был штопор. Я был подготовлен. Открыл бутылку. В тишине подъезда пробка вылетела с оглушительным «пок».
Это был салют.
Салютинки
Родители любят показывать детям салют. Это считается хорошим способом доставить ребенку радость. Когда я был маленький, дедушка с бабушкой меня выводили на улицу, в мае, и показывали рукой в сторону неба. Я смотрел в небо, и там был салют. Когда в небе взрывались разноцветные штучки, все дети кричали «ура», и взрослые тоже кричали «ура», потому что были синие. Это довольно характерный момент: взрослые способны кричать «ура», когда они синие, а дети могут кричать «ура» на чистяке, просто потому, что им радостно. Это интересно.
Надо заметить, взрослые могут кричать «ура» и когда, например, идут в атаку. Но, во-первых, это не совсем корректный пример, потому что из правдивых воспоминаний фронтовиков мы знаем, что в атаку не ходили на чистяке, перед атакой всегда принимали фронтовые. А во-вторых, почему все-таки взрослые кричат «ура», когда идут в атаку? Это тоже интересно. Люди идут в атаку с криком «ура», чтобы заглушить страх, этот страх такой сильный, что надо кричать. Людям панически страшно идти в атаку, вот они и кричат «ура». Героизм – это проявление паники. Умаляет ли это героизм? Да ни хуя не умаляет. Попробуй хоть раз, читатель, пойти в атаку, и я посмотрю на тебя.
Так вот, в детстве я смотрел на салют и кричал «ура», потому что все вокруг так кричали. Радость или паника легко передаются при контакте: если кто-то рядом кричит «ура» от радости, ты тоже кричишь, потому что глупо молчать, когда все кричат, и если все бегут в атаку, ты тоже бежишь, не потому, что ты такой герой, а потому, что не бежать – стыдно перед пацанами. Автор находит это важной приметой. Сильное геройское чувство заразно.
Хотя и не всегда. Иногда бывает так, и в правдивых записках фронтовиков есть и такие сведения, что один человек, например ранее контуженный, встает и начинает бежать в атаку с криком «ура», а другие не бегут, потому что им страшно, но не настолько, чтобы ими овладел героизм. И этот один герой бежит в атаку и кричит «ура». А немцы не знают, как к этому относиться. Убить его, конечно, можно было бы, но жалко как-то. Такой героизм даже у врага вызывает уважение. А что делать с таким героем – непонятно. Немцы советуются, как быть, с Генштабом, а герой тем временем бежит с криком «ура» и добегает до позиций немцев. Там его встречают с уважением, а потом с большими почестями прогоняют обратно, а один немец даже снимает со своей синюшной шеи и дарит смельчаку Железный крест, полученный за разорение Варшавы. А смельчак приходит к своим и показывает всем Железный крест врага и, бахвалясь, открывает им банку тушенки. Вот какие бывали бои.
Так вот, я смотрел на салют. Я помню. В небе был салют, я был маленький, ночь была майской. Потом много раз я пытался вернуть это чувство. Без помощи салюта. С помощью допингов. Иногда получалось, но наутро – физические муки. Иногда я даже пытался повторить это чувство буквально, то есть с помощью салюта. Потом салют стал продаваться повсюду, его производят китайцы, и я пробовал тоже производить – китайский салют в небо, и даже той же самой майской ночью. Но никогда потом я не кричал «ура». Не хотелось.
А иногда прямо на нашу улицу – тогда, давно – падали салютинки. Мы с друзьями их подбирали. Салютинки были такими круглыми, помятыми железными кружочками, и на них еще угадывался цвет, которым горела салютинка в небе, – желтый, красный, зеленый.
Герои этого романа, и я сам, мы – салютинки. Мы были в небе, мы светились разными цветами, нам кричали «ура», а потом мы упали на землю. А потом нас нашли дети. Ведь читатели – дети.
Рассмотри нас, читатель, и ты увидишь, какими цветами мы так светились.
Майор вихрь
В Зямином подъезде я выпил бутылку вина. И стал совсем синий. Я стоял в Зямином подъезде и думал: вот, в любой момент я могу позвонить в дверь Зямы и стать счастливым. Но я не торопился.
Теперь мне приходилось ждать, когда я немного протрезвею, потому что неудобно было ломиться к Зяме синим, как Олег Ефремов. Я боялся – вдруг Зяма подумает, что свою хрупкую жизнь и еще более хрупкую жизнь ребенка она вручает в ненадежные руки, и передумает быть со мной. И я стоял и ждал. Когда отпустит.
Так бы я стоял еще долго, но вскоре с улицы раздались гневные звуки типа «бип-бип-блять!» Это сигналил водитель, выделенный мне Матвеем Матвеичем, ему сразу же после моей свадебной операции нужно было успеть на еще одну операцию – то ли перевезти куда-то чей-то труп, то ли что-то такое, я не понял.
И я позвонил в дверь. Мне открыла Зяма. Она была еще выше, чем обычно. Ведь она была прыгуньей в высоту, а для того, чтобы прыгать в высоту, прыгунье требуется и собственный запас высоты – рост, и он у Зямы был. А тут Зяма еще надела туфли на высоком каблуке. И стала выше меня на полторы головы.
Я смотрел на ноги Зямы снизу вверх так долго, что чуть не уснул.
Лицо у Зямы было прекрасное. Оно было худым и длинным, нос у Зямы тоже был длинный и худой. На скулах Зямы были ямочки, о которых она любила говорить, что они французские. Глаза у моей любви были черные – ведь Зяма была декаденткой, а декадентке по дресс-коду полагается черный цвет. Да, и еще глаза у моей любви были всегда заплаканные. Нос у Зямы всегда был припудренный, потому что иначе он был бы всегда красный, как у снеговика, ведь нос краснеет во время плача, а Зяма очень часто плакала. Вот так выглядела Зяма.
Я сказал:
– Ну. Привет.
Зяма бросилась мне на шею. Это было здорово. Не получается забыть.
Затем Зяма вынесла ребенка. Он оказался сыном Максимкой. Его лицо, как сказала позже моя мама, не выражало ничего, кроме факта рождения. Я сказал:
– Привет, Максимка. А я Дима.
Мы пошли к машине. Я чувствовал себя очень серьезным, взрослым мужчиной, я представил, что у меня усы и хорошо оплачиваемая работа. От этого почему-то затошнило. Или затошнило оттого, что я выпил с утра две бутылки вина на голодный желудок.
Мы сели в машину. Водитель опаздывал, поэтому по городу «Волга» с кагэбэшными номерами летела с сиреной. Машины шарахались в сторону от нас, как от чумы. Зяма восхищенно смотрела на меня, а я сидел с каменным лицом. Я старался выглядеть невозмутимо, как будто я каждый день ездил на гэбэшной машине с сиреной. Эдакий майор Вихрь, блять.
Максимка на руках Зямы многократно дал смычку на Зяму, меня и салон. Водитель сначала ругался, а потом сказал, что все равно сегодня мыть весь салон, после всего, что в нем будет. Максимка блевал, водитель ругался, а я сидел и думал – почему оно такое, мое счастье?
Когда мы явились моей маме, заблеванные, но счастливые, она сказала:
– Добро пожаловать в наш дом, Земфира.
Покойница
Стали мы жить-поживать. Правда, добра мы не стали наживать. Так как добра и так уже было очень много, и все оно было нажито Зямой ранее.
Поначалу наша жизнь с Зямой происходила, как я и ожидал, романтично. Днем Зяма кормила Максимку сиськой, и он выпадал. А мы пили кофе и говорили о литературе. Зяма любила пить кофе и говорить о поэзии. Еще она любила играть в покойницу. Она надевала красивое черное платье, у нее было такое. Пудрила лицо, придавая ему нехорошую бледность. Потом подходила к зеркалу, складывала руки на груди и смотрела на себя. И плакала. Она представляла, как, молодая и прекрасная, лежит в гробу. Я должен был по сигналу Зямы подойти и поцеловать ее в холодные губы. Я так и делал. Только губы у Зямы были горячие. Поэтому я соглашался играть в эту больную игру.
Какаду
Так мы и жили. Сначала не тужили. Потом я стал тужить. Тужить я стал потому, что моя мама уехала в ответственную командировку, связанную с интересами нашей страны в Карибском бассейне. Когда мама уехала, сначала я было обрадовался, ведь в отсутствие мамы та часть квартиры, в которой мама проживала, перешла в наше с Зямой пользование, и я стал вонзать в Зяму свой нефритовый стержень на обширных территориях. Мы с Зямой даже иногда устраивали брачные игры. Или даже игрища. Например, Зяма говорила:
– Догони меня!
И бросалась наутек.
Я бросался вдогонку, так как знал по кинокартинам, что это романтично – догнать девушку и овладеть ею. И действительно, погоня как-то возбуждающе действовала на меня. Но Зяма была мастером спорта и бегала быстро, как газель Томсона. Некоторое время я бегал за Зямой, потом падал, схватившись за печень, и печально смотрел вдаль на уходящий в отрыв силуэт. Через полчаса возвращалась Зяма, запыхавшаяся, радостная. Конечно, квартира моей мамы была не настолько велика, чтобы по ней можно было бежать вперед полчаса, при Зяминых скоростных качествах квартирой должен был быть замок Дракулы, моего родственника по линии бабушки. Просто Зяма иногда выбегала в подъезд, затем на улицу, пробегала ряд кварталов и парков, бегала вокруг озера – ей было привычно, начав бегать, бежать пять-семь километров. Потом она вдруг вспоминала, что за ней должен гнаться я, тогда Зяма оборачивалась, но меня сзади не было, в лучшем случае она видела пристроившихся за ней велосипедистов. Тогда Зяма возвращалась домой. Вот такими они были, наши брачные игрища.
Зяме очень нравилась строка из Вертинского про «синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой». Зяма все время требовала, чтобы я душил ее, она даже специально сшила себе красивую бархатную черную горжеточку и просила, чтобы я ее душил, пока шейка у нее не станет синяя, как у Вертинского. В смысле, не как у самого Вертинского, а как в строке Вертинского. Ну, что делать, я душил Зяму; конечно, она была мазохистка и извращенка и при этом мастер спорта, но я любил Зяму и выполнял все ее прихоти. Поначалу я душил Зяму осторожно, но Зяма была недовольна халтурой и требовала, чтобы я душил ее сильнее. Однажды я разозлился и так затянул ее шейку горжеточкой, что не только шея, но и вся остальная Зяма стала синяя, глаза у нее закатились, и я проводил потом над ней реанимационные мероприятия. С трудом откачал Зяму, а горжеточку выбросил в мусоропровод.
Все эти извращения требовали больших физических затрат и, следовательно, калорий. Хотелось есть. Но Зяма совершенно не умела готовить. Она могла предложить мне только яблоки или бананы – так и должен питаться мастер спорта по прыжкам в высоту. Но мне накрытый таким образом стол казался слишком декадентским. Я стал голодать.
Когда мне начали сниться биточки, которые очень вкусно готовила моя мама, я прямо сказал Зяме:
– Почему я должен есть одни сухофрукты, я же не какаду! Я человек! Я мужчина! Я хочу мяса, блять!
Зяма страшно разрыдалась, убежала в несколько прыжков с места на кухню, там нашла в морозилке кусок мяса, бросила его на сковородку и кремировала. Замотав лицо мокрым полотенцем, я вынес из кухни Зяму на руках. Это было приятно – я представлял, что я молодой пожарный и выношу из огня девушку с длинными голыми ногами. Ноги у Зямы были действительно длинные и голые.
Но голод наступал, силы покидали меня, и даже при виде длинных голых ног Зямы мой дьявольский хобот уже не трубил с прежней отвагой. Тогда я пожаловался Стасику Усиевичу, он отвел меня к себе домой и там покормил украинским красным борщом. Мама Стасика смотрела на меня и тайком утирала слезу. У нее тоже было материнское сердце, и ей было тяжело смотреть, как я осунулся и опустился.
Затем моя мама вернулась из Карибского бассейна, и жизнь наладилась. Но ненадолго.
Тихий Дон
Скоро Зяма попросила меня взять на себя, временно, заботы по воспитанию Максимки. Потому что ей нужно было разобраться в себе. Я согласился, я знал, это важно – разобраться в себе.
Получив мое согласие, Зяма просто забила на Максимку хуй. Конечно, это довольно грубое выражение, но я применяю его, будучи слугой точности. Именно так и было. Зяма перестала подходить к кроватке Максимки. Максимка орал. Я пробовал беседовать с ним, увещевать. Потом моя мама сказала, что беседовать с ним не надо, а надо поменять пеленку, потому что он обосрался. Я стал менять пеленки Максимки. Малыш, видимо, сильно переживал, что Зяма к нему охладела, на нервной почве он стал какать, как енот, – без предупреждения и очень вонько. Пеленки Зяма отныне тоже не стирала. Я стирал, полоскал и развешивал их каждый день, с утра до ночи. Ко мне приходил Стасик Усиевич и издевался надо мной, говорил, что я похож на героиню «Тихого Дона», стирающую на берегу речки казацкие рубахи. Такие культурные аллюзии мне были обидны. Но я терпел, я ведь любил Зяму.
Потом Зяма перестала кормить Максимку, потому что ей стало казаться, что у нее портится форма груди. Кормить малыша стал я. Из бутылки. Мне это понравилось. Мне нравилось смотреть, как он жадно пьет, тянет из соски, и урчит от удовольствия, и сильно сжимает кулаком мою руку, чтобы я не вздумал забрать у него бутылочку с кайфом, а потом засыпает. Было в этом что-то животное, первобытное и прекрасное. Я понимал Максимку, я ведь тоже любил зажать в кулаке бутылочку винища и жадно пить и урчать, а потом засыпать – во дворе на качелях.
Потом Зяма перестала подходить к Максимке не только днем, но и ночью. Ночью к нему вставал я и нянчил его, когда он просыпался. Скоро я заметил, что орет он не только, когда обмочится или проголодается. Иногда он орал, будучи сухим и сытым. И я понял вдруг однажды, когда ночью встал к нему, что он орет от тоски. Я знал это чувство. И я вдруг проникся к этому червяку солидарностью и еще чем-то, что, конечно, не было отцовской любовью, но от чего хотелось взять его к себе под мышку.
Однажды я засиделся допоздна у Стасика Усиевича. Стасик требовал с меня новых стихов, а я говорил, что вот-вот они придут, а Стасик говорил, что мы подведем Вознесенского, потому что я все время стираю Максимкины какашки, и стихи ко мне не придут, потому что они такими вонючими поэтами брезгуют. В очередной раз запретив Усиевичу вмешиваться в мою непростую личную жизнь, я пошел домой.
Я услышал плач еще через входную дверь. Быстро вошел в квартиру. Максимка был уже весь от ора синий, как декадент. А рядом спала Зяма. Накрыв голову двумя подушками. Спала мирно. У кровати лежал мокрый от слез томик Гиппиус.
Я взял Максимку на руки. Помыл и переодел его. Когда я мыл его, я обнаружил, что он горячий. У него был жар.
Я не знал, что делать. Сначала я хотел разбудить Зяму и просто отпиздить ее, как делали казаки в «Тихом Доне». Но потом какая-то другая, тихая злость взяла меня. Я понес Максимку в другую комнату, прочь от Зямы.
Колыбельная демонов
Комната моей мамы была пуста, мама была в Мозамбике. Я лег на пол вместе с Максимкой. Положил его к себе на грудь и стал петь ему колыбельную. Это была самая первая колыбельная, которую я пел кому-либо. Я не знал слов ни одной колыбельной, поэтому я стал просто тихонько подвывать под придуманную мной тут же страшноватую мелодийку. В этот момент появились мои иерофанты. Я сначала испугался за Максимку и сказал иерофантам, чтобы они уходили. Но они сказали, что не сделают ничего плохого Максимке, что им жаль его так же, как мне. И иерофанты запели вместе со мной. Это была невиданная доселе, точнее, неслыханная колыбельная. Это была колыбельная демонов. Иерофанты, как оказалось, любят детей. Конечно, это не делает их менее страшными. Может быть, даже более.
Пел, вернее мычал, вместе со мной Этот-за-Спиной; как и я, петь он не умел, мог только мычать. И тихо подвывал мой Волчок, ему было трудно выть тихо, но он очень старался. И Винтокрылый тихонько гудел своими винтами. И Казбек пришел. Я о нем не рассказывал раньше. Это такой огромный белый мешок. Он умеет распадаться на 40 тысяч крошечных, размером с воробья, самбистов-дагестанцев. Все они небритые, в белых куртках-дзюдогах, шортах и красных кроссовках-самбовках. Это очень, очень страшно, читатель. Казбек тоже пришел, распался на 40 тысяч самбистов, и все они тихонько пели со мной колыбельную демонов.
Максимка вдруг стал весь мокрый. Он пропотел, потом прижался ко мне. И уснул. Жар у него спал. И он спал всю ночь у меня под мышкой, спал, как младенец, он ведь, бедолага, и был младенец.
А я не спал. Я думал про Зяму. Я думал страшные вещи.
Я думал: хуй с ней, что она не умеет готовить ничего, кроме бананов, в конце концов, у меня есть мама, которая приедет из Мозамбика и покормит меня биточками, или я могу убежать к Стасику Усиевичу, и там его мама покормит меня красным борщом. А Максимка – он ведь не может убежать к Усиевичу. Потому что он лежит весь спеленатый, как буйный параноик, и бегать не может. И мама его не покормит биточками, потому что его мама декадентка и может покормить его только бананами, а это гарантирует понос.
Мне было обидно и больно за Максимку. Да, это странно, но я, прирожденный садист, не знающий жалости ни к себе, ни к другим, чувствовал в те минуты жалость. К этому червячку. Но вместе с этим чувством жалости во мне пробуждалось другое чувство. Это чувство было у меня к Зяме, и это была не любовь.
Наутро после той ночи, когда я пел свою первую колыбельную, Зяма села делать себе маникюр и педикюр. И заговорила со мной о психологии. Она решила посвятить свою жизнь науке, которая позволяет духовным калекам, не способным построить свою жизнь, советовать другим, как это сделать – построить жизнь. Мне всегда казалось, что между нами много общего. Декадентство, школьные годы чудесные. А оказалось, нет. Оказалось, между нами есть разница. В ней все дело. Разница между нами заключалась в том, что Зяма в декадентстве представляла теорию, а я – практику.
Зяма представляла психологическую науку, а я – ее предмет.
На факультете психологии Зяму убедили, что разобраться в человеке не так уж трудно. Нужно просто хорошенько покопаться в его детстве. Там обязательно обнаружится сексуальное насилие. Зяму убедили в том, что каждая девочка в детстве была выебана папой, а мальчик – старшей сестрой или бабушкой. Конечно, любой человек, взрослый человек, сначала будет страдать, когда всковырнешь лопатой психоанализа его темное прошлое. Зато потом он станет счастлив – комплексы исчезнут. Потому что человеку мешают только его комплексы. Плюс настройки. Зяма рассказала, что в структуре личности у каждого из нас есть специальные настройки, как в FM-тюнере. Стоит их правильно настроить, и все будет хорошо. Отступят страхи, исчезнут комплексы, бросишь пагубные привычки – курение, алкоголизм, гашишизм, онанизм. Я не мог согласиться с этим. Потому что, во-первых, я не чувствовал в себе никаких комплексов, а счастливее себя от этого не чувствовал. Более того, окружающие мне часто намекали, как хорошо было бы, если бы у меня, наоборот, были бы хоть какие-то комплексы. Во-вторых, в детстве я не был жертвой сексуального насилия. Ничего такого я не помнил, и сколько Зяма меня ни просила вспомнить, я вспомнить не смог, потому что воспитывали меня бабушка-трансильванка и дед-винодел, они к сексуальному насилию по отношению к внуку точно не были склонны, они были людьми старой школы, без гнили. И в-третьих, сколько я ни пытался найти в своей личности эти ебаные настройки, которые могли бы сделать меня нормальным человеком, я так и не смог. Так что доверия у меня к психологии как науке не было никогда и никогда не будет. Психология – лженаука. Психологов всех следует вывести на чистую воду и заставить убирать снег с крыш. Будет хоть польза.
На том же факультете психологии Зяме сказали, что у нее сложный внутренний мир. Это одна из самых опасных хуйнь, которой может быть одержим человек. Зяма часто приглашала меня совершить путешествие в ее внутренний мир. Но с каждым днем я все чаще уклонялся от этого путешествия, потому что это был изнуряюще длинный маршрут, начисто лишенный достопримечательностей.
Теперь меня бесило в Зяме все. Сухофрукты, которые она ела целый день; я про себя нарек их «сука-фрукты». Маникюр и педикюр, который она делала очень красиво и подолгу любовалась сделанным. Бесили длинные голые ноги Зямы, бесила длинная голая шея.
Однажды Зяма уехала в Харьков на трехдневный слет психологов и педагогов-фашистов, а моя мама, напротив, вернулась из командировки в Кампучию и в одежном шкафу вдруг наткнулась на нечто. Мама тут же позвала меня. Глаза у нее были такие, как будто она увидела в одежном шкафу анаконду. Я осторожно подошел и заглянул внутрь. Там, среди множества декадентских одежек Зямы, был спрятан мешок.
Изюм
Внем был изюм. Я не сразу поверил. Я попробовал даже. Пожевал. Сомнений не было – это был изюм.
Слепой белый гнев овладел мной. Появился Велогонщик.
Это еще один мой иерофант, я, кажется, не рассказывал о нем прежде, так что теперь расскажу. Это один из самых лютых иерофантов. Он представляет собой девять велосипедистов, которые бешено крутят педали на девятиместном гоночном велосипеде в форме замкнутого круга. Когда велосипедисты крутят педали, велосипед начинает очень быстро ездить по кругу, сам в себе. Это страшно. Когда появляется Велогонщик, вместе с ним приходит слепой белый гнев. Это тот самый гнев, из-за которого человек может убить человека.
Я стал выбрасывать вещи Зямы из шкафов и антресолей. Везде обнаруживались тайники. На нас с мамой выпадали мешочки с изюмом, свертки с изюмом, пакеты с изюмом. Я кричал, вот так:
– А! Ы! А!
Хотелось ударить себя по голове топором, чтобы голова раскололась и страшные мысли внутри могли вылететь наружу.
Моя мама сказала:
– Не хочу вмешиваться в вашу жизнь. Но, по-моему, семья – это не только хамское отношение друг к другу…
Потом мама закурила и добавила:
– Это еще и громадное доверие.
Я сказал маме, что мне нужно выпить вина. Мама сказала:
– Да. Выпей.
Тогда я стал пить каберне и думать. Я думал:
«Блять! Блять!»
А еще я думал так:
«А как же моя любовь, как же моя любовь?»
Моя любовь умерла, ее убил изюм. Я бы понял, если бы мою любовь убил гнев богов, Всемирный потоп, термоядерный пиздец. Но изюм?
Я напился и пошел гулять к озеру. Сел у озера и стал смотреть в небо. Там печально кружил Винтокрылый. Он медленно рисовал в небе круги и смотрел на меня с высоты своими желтыми глазами.
Только грубый может быть нежным
Прежде в романе нигде не было сказано, и теперь самое время сказать, что все это время у меня была душа. Она была сурова, моя душа, но она была нежна. Мой друг и поэт-декадент Миша Иглин однажды сказал: «Только грубый может быть нежным». Мы долго с Мишей смеялись над этой фразой. Но мы зря смеялись. Так и есть. Только грубый может быть нежным.
А потом вдруг стало легко. Каждый, кто видел в жизни хоть одни похороны близкого, знает: наступает момент, когда хочется освободиться от всей этой скорби. Слишком много уже скорби. И когда видишь, как последний ком земли упал на могилу, становится легко. Вот почему, неся покойника на кладбище, люди плачут, а идя с кладбища обратно – смеются. Это естественный цикл вещей.
Вот и я шел с кладбища. Я закопал свою любовь. Но мне больше не было больно, и не было жаль.
Дальше я действовал быстро и неотвратимо, как нож дедушки Жени, палача и фотографа. Я позвонил Стасику Усиевичу. Стасик пришел. Я поставил перед Стасиком все это. Все содержимое тайников Зямы: изюм.
Стасик был приятно удивлен, но все же настороженно посмотрел на мою маму. Он боялся, что его заманивают в мышеловку. Но мама приветливо ему кивнула – мол, ешь, сколько влезет. Стасик ел долго. Изюм с хлебом, запивая каберне. Но не смог сожрать все. Я тоже хлестал винище стаканами и в ярости требовал, чтобы Стасик съел все, но в друга больше не лезло. Тогда я набил и боковые, и даже задние карманы синих спортивных штанов Стасика изюмом и отправил его домой. Стасик даже не смог со мной попрощаться и сказать «спасибо».
Этой же ночью к нашему дому прибыл военный грузовик. Это была моя последняя просьба к Матвею Матвеичу.
Я работал, как Спартак. Обнажился по пояс и таскал баулы в ночи, совершенно один. Водитель грузовика мне говорил:
– Ты бы передохнул немного, что ли, надорвешься же!
Но я не знал отдыха. Был ли я прекрасен? Хуй его знает. Наверное. Я погрузил в одиночку все вещи Зямы в грузовик. Не влезли только два огромных баула с юбками Зямы, которые хранились у Стасика.
Я вывалил их на землю, за домом, и попытался зажечь спичкой. Как назло, пошел дождь. Но я не мог отступить. Я зажег факел, который сделал из палки, тряпки и водки. Я был варвар, я был вандал. Мои иерофанты бешено скакали вокруг меня, с воем пикировал к самой земле, а потом снова улетал куда-то в облака Винтокрылый, выл Волчок – так, что холодела вода в лужах, а Этот-за-Спиной шептал мне сзади, в спину:
– Жги… Жги… Жги! Жги!
Я сжег юбки Зямы. Они горели синим пламенем.
Единственное, что я оставил в нашей квартире от Зямы, это был Максимка. Он мирно спал. Я сидел с ним рядом всю ночь и пил винище. Я гладил его круглую голову и просил прощения. За то, что скоро расстанусь с ним, расстанусь навсегда и никогда больше не буду сидеть с ним рядом всю ночь, и не буду мыть его, и не буду кормить его, и не буду класть его себе под мышку, и не буду помогать ему, и не увижу его взрослым.
Я говорил ему:
– Прости меня, пацан. Я виноват перед тобой.
Я плакал. Мне было жаль нас обоих.
Потом вернулась с трехдневного слета педагогов-фашистов Зяма. Когда она обнаружила акты вандализма, когда я сказал ей, что весь изюм съел Стасик, а все юбки сжег я, Зяма закричала. Она кричала, что она думала, что я лучше Игоря, а я – хуже. Я согласился с этим. Потом она кричала, что я негодяй. Я согласился и с этим. Потом – что я чудовище. С этим я вообще и не пытался никогда спорить.
Она очень злилась, что я не возражаю. А я просто не знал, что сказать. Я смотрел на нее и ничего не чувствовал. Мне самому было от этого неловко. Я даже не понимал, кто эта женщина и почему у нее ко мне столько разнообразных претензий.
Потом Зяма сказала:
– Значит, ты меня не понял.
Я сказал:
– Я тебя понял. И то, что я понял, я не люблю.
И тогда Зяма пошла на запрещенный прием. Она знала мое слабое место. Она заплакала. Ведь я никогда не мог смотреть, как она плачет. Я хотел обнять ее, и прижать ее к себе, и все забыть – ложь, психологию, тайные склады изюма. И я так бы и сделал, наверное. Не выдержал бы.
Но вдруг за моей спиной раздался голос. Это говорил иерофант, Этот-за-Спиной. Он мне сказал в самое ухо:
– Конечно, это не мое дело…
Советы демона всегда начинались с этих слов. Я всегда слушался советов Этого-за-Спиной. Ведь он всегда был у меня за спиной.
– Это не мое дело, – сказал Этот-за-Спиной. – Но не надо. Поверь мне. Я знаю. Жги мосты. Не оборачивайся.
Я развернулся и пошел. По улице. Прочь от Зямы. Она плакала и что-то еще кричала мне вслед, и даже, кажется, что-то кидала мне вслед. Я не оборачивался.
Потом я забыл Зяму. Сначала я забыл ее голос. Потом ее ноги, ее руки, ее шею. Процесс забывания обратен процессу любви и происходит так же, в обратной последовательности. Я забыл сначала свои любимые части Зямы, а потом и всю Зяму. Забыл всё.
Прощай, Максимка
Много лет спустя я ехал ночью в московском метро. Людей было мало. Хорошо. Весной. Я почти засыпал. И вдруг в вагон вошла компания молодых людей. Парни и девушки. Они смеялись и были синие. Они вместе учились, потому что обращались друг к другу по фамилии. Так делают однокашники. И только к одному из парней все обращались: Макс. И вдруг один раз назвали его фамилию. Это была фамилия Зямы. Девичья фамилия Зямы, школьная фамилия Земфиры. Сердце мое забилось, я сразу проснулся. Я стал подслушивать их разговор. Молодые люди учились в МГУ – это следовало из их разговора. Еще из их разговора следовало, что скоро сессия. И все в шутку просили Макса, чтобы его мама, Земфира Ивановна, доцент, поставила всем зачет-автомат по семейной психологии. Земфира Ивановна – это была Зяма Гиппиус. Передо мной был Максимка.
Я смотрел на него. Смотрел во все глаза. Он даже вопросительно посмотрел на меня в ответ. Он не понимал, почему этот небритый, нетрезвый, плохой человек так смотрит на него. Может быть, думал Максимка, он хочет попросить милостыню?
Но я просил не милостыню. Я просил у него прощения, как тогда, много лет назад, за то, что расстанусь с ним скоро и больше не смогу ему помочь. Теперь я смотрел на этого огромного парня и вспоминал, каким он был червячком, и как я его мыл, и кормил, и он сжимал своей ручкой бутылку, и урчал, а когда у него был жар, я взял его к себе, и он пропотел и успокоился, и уснул, и мы с иерофантами пели ему колыбельную демонов.
Я был рад видеть, что он вырос и больше ему не нужна моя помощь. Теперь я сам мог бы попросить у него помощи. Но я не попросил. Через три остановки они вышли. Я остался.
Вот тогда все и кончилось, окончательно. Больше эти герои в этом тексте не появятся никогда. Прощай, Максимка.
Что такое стихи
Однажды ко мне пришел Стасик Усиевич и спросил:
– Ну. И сколько ты написал за это время?
Урожай был убог. Предъявить Вознесенскому было нечего. Кроме того, написанные мной в последнее время стихи не были лирикой. Это были мрачные тексты, исполненные алкогольным делирием. Стасик сказал, что посылать Вознесенскому их не стоит, потому что мы уже засветились перед ним как лирики. Я задумался. Получалось, что я больше не поэт-лирик. Теперь я был поэт-делирик. Мне понравилось это определение. Именно к этому направлению относились и все последующие мои тексты в тот период.
Я сделал и еще одно, поразительное наблюдение: когда любовь ко мне пришла, приходили и стихи, а когда любовь ушла – ушли и стихи. То есть стихи не стали оставаться, когда любовь ушла. Значит, понял я, любовь и стихи ходят вместе и неуютно чувствуют себя по отдельности.
– Следовательно, – воскликнул я, и Стасик при этом даже подавился сыром. – Следовательно, я могу прямо сейчас дать совершенно точное определение поэзии! Поэзия есть любовь, излагаемая словесно.
В целом, довольно точное определение. По крайней мере, более точного я пока не встречал.
Трупы
Мы проебали помощь Вознесенского. Меня от лирики тошнило. У Стасика стихи тоже не шли в те дни. Вознесенский зря стоял, как солдатка, у калитки. От нас ему не было почты.
Я подал документы в военное училище. Это было училище имени Андропова. Там готовили людей, не знающих сомнений. Мне это понравилось. У меня был такой момент – мне хотелось не знать сомнений.
Мама мне сказала:
– В нашей семье продолжится династия. Твой дедушка работал в КГБ, я работаю в КГБ. Если ты тоже пойдешь в комитет, ты станешь третьим поколением чекистов. Ты станешь генералом.
Мне понравилась эта идея – стать генералом. Я представил, каким я будут генералом. Во-первых, молодым. Генерала я получу рано, за особые заслуги. Сразу после подполковника, минуя полковника. Или даже сразу после майора. За особые, вообще особые заслуги. Я представил, как в секретной спецшколе я, молодой генерал, буду входить в класс, где сидят курсанты и отбивают азбуку Морзе. А сам класс будет раскачиваться – есть такие классы-тренажеры. Чтобы радисты учились передавать срочное сообщение на корабле во время шторма или на самолете во время штопора. При моем появлении все вскакивают, как один, несмотря на сильную качку. И кричат, по-дурному, по-военному: «Здравь-жлаю-тарщ-генерал!» А я коротким жестом прошу их сесть и говорю спокойно так, отечески:
– Занимайтесь, занимайтесь.
И дальше иду. Твердой походкой. Несмотря на шторм.
У меня и раньше, когда мне было пять лет, был период, когда я хотел стать разведчиком. Но потом мама мне сказала, когда забирала меня из детского садика, что главное в разведчике – быть незаметным и уметь быстро раствориться в толпе. Тогда я расстроился и сказал:
– Нет, тогда меня не возьмут в разведчики…
– Почему? – удивилась мама.
– Я слишком красивый, – сказал я.
Когда я подавал документы в военное училище, мне понравилось сочетание слов, которое произнес военрук нашей школы, давая мне положительную характеристику для поступления. Он сказал:
– Поздравляю. Впереди тебя ждут тяготы и лишения военной службы!
Тяготы и лишения делают человека сильным. А еще тяготы и лишения иногда делают человека покойным. Но и то, и другое для героя – хорошо.
Военрук – в каждой школе был такой специально обученный человек. В школе тогда был такой предмет – НВП, начальная военная подготовка. НВП вел военрук, как правило, отставной офицер. Военрука в нашей школе звали Иван Давыдович. Он не особо жаловал меня, потому что уже в старших классах было понятно, что я – декадент. А декаденты – плохие солдаты. Моего друга Кису военрук тоже не жаловал, потому что Киса всегда опаздывал в школу и не умел вставать по команде «Подъем!» и собираться за 45 секунд. Киса не умел собираться даже за 45 минут. Но при этом хотел стать летчиком-испытателем.
Иван Давыдович ругал Кису:
– Ты не станешь летчиком! Ты станешь трупом!
Ивану Давыдовичу, как мальчику из фильма «Шестое чувство», везде мерещились трупы. Когда начинался урок НВП, он входил в класс, грозно всматривался в лица учеников и говорил:
– Здравия желаю, трупы!
Потом он по очереди подходил к каждому совсем близко и говорил тихо, заглядывая бедняге-школьнику прямо в глаза:
– Перед собой я вижу трупы! Обезображенные трупы!
Было страшно за него. И за себя. А военрук объяснял:
– Вы не умеете окапываться. Кто же вы будете на войне? Трупы! Обезображенные трупы!
В зависимости от того, о каком повороте в ходе третьей мировой войны военрук нам рассказывал, из его мозга выпрыгивали такие существа: обгоревшие трупы, обледеневшие трупы, облученные трупы и, наконец, невероятно страшная форма жизни, точнее смерти, – безответственные трупы.
Иногда Иван Давыдович вдруг закрывал глаза и некоторое время молчал. Он видел кошмары наяву, это было ясно. В такие секунды, когда он закрывал глаза, он видел ядерные грибы: они росли, как опята, по всей территории нашей страны, атакованной НАТО. И всюду были трупы. Это были мы. Его ученики.
Мы с сочувствием относились к нему. Мы знали его историю. Иван Давыдович служил в танковых войсках и однажды принял участие в учениях. Отрабатывали современный общевойсковой бой. Это очень мощная маза. Современный общевойсковой бой – это когда все новейшее и мощнейшее, что только создано силами зла, собирается в одном месте и ебошит друг друга. В рамках учений был произведен танковый десант. Ивана Давыдовича сбросили в танке с самолета. Парашют не раскрылся. Иван Давыдович просто летел вниз в танке. О чем он думал? Трудно сказать. О чем думал бы ты, читатель, если б падал с неба в танке?
Потом была встреча с землей. От удара отлетела башня у танка. А у Ивана Давыдовича вылетели все коронки из зубов, и невольно вырвалось: «Ох, ебана рот».
Когда через год больниц он начал различать лица людей, Иван Давыдович прямо заявил командованию, что не хочет уходить из армии, несмотря на все свои повреждения. И командование оставило его в армии. Но уже в качестве военрука в школе.
Иван Давыдович жил в школе. Личная жизнь у него не сложилась. Жена от него ушла после удара об землю. Предала. Дети, две дочки, также оказались подонками. Или подоншами, не знаю, как правильнее. Школа дала офицеру-инвалиду приют. Он жил в подсобке кабинета НВП. Это была очень маленькая каморка. Иван Давыдович обклеил ее всю плакатами гражданской обороны. Не в смысле группы Егора Летова, панка и дезертира. А в смысле, гражданской обороны – обязательного обучения населения действиям в случае начала термоядерной. Плакаты были прикольные. На одном, я помню, был нарисован мирный житель, мужчина в шляпе, он стоял посредине комнаты, за окном был куст сирени и отличный вид на ядерный гриб, а мужчина крепко прижимал к себе маленькую дочку, умело закрываясь ею от поражающих факторов. На другом плакате был нарисован пехотинец, который лежал ногами к взрыву. Ядерный боровик от него был, можно сказать, рукой подать – метрах в пяти. Но пехотинцу было по хуй. Он лежал себе спокойно.
Иван Давыдович нас обучал таким действиям. Иногда посредине урока он вдруг вскакивал и страшно кричал:
– Газы!
Первый раз услышав этот крик, мы подумали, что Иван Давыдович жалуется нам на здоровье, но потом он сказал, что мы трупы, потому что мы надышались газов, которые применил блок НАТО.
А иногда Иван Давыдович посредине урока вдруг падал на пол и кричал:
– Вспышка слева! – Или: – Вспышка справа!
По этой команде мы должны были тоже упасть на пол, ногами к взрыву, и не смотреть на гриб, подавлять в себе любопытство.
А иногда Иван Давыдович кричал:
– Альфа-бета-гамма излучение!
По этой команде мы принимались падать ногами в разные стороны, а Иван Давыдович нам кричал, что мы трупы, потому что альфа-, бета– и гамма-излучение проникает всюду, не имеет вкуса, цвета и запаха, так что не надо падать на пол, а надо быстро бежать к ближайшей свинцовой стене толщиной не менее метра.
А еще Иван Давыдович учил нас кидать гранату. Он вывел однажды весь наш класс на полянку у школы и стал учить нас окапываться и бросать из окопа гранату. Он дал моему другу Кисе, будущему летчику, в руки лопату и велел закопаться в землю, на время. Не в смысле временно закопаться, как делают зомби. А закопаться ровно за три минуты. Пока со стороны противника движутся танки.
Время пошло. Когда оно вышло, Киса сумел закопать только свои кеды. Иван Давыдович подошел к Кисе, заглянул ему в глаза, своими вспышками справа и слева, и сказал:
– Труп! Раздавленный танком труп! Смотрите все! Показываю!
И Иван Давыдович на наших глазах закопался в землю быстро, как крот. Это было удивительно. Только что вроде стоял на этом месте военрук, и вдруг нет его, а на его месте – окоп. Затем Иван Давыдович быстро выглянул из окопа и метнул гранату. Граната вылетела в небо, пролетела всю территорию школы и упала во двор отделения милиции, которое было рядом с нашей школой. Там гранату увидел молодой милиционер. Он подумал, что на отделение милиции совершено нападение, схватил гранату и стал думать, куда же ее кинуть. Рядом была школа, но туда бросать гранату молодой милиционер не мог. Там были дети. Тогда молодой милиционер бросился на гранату и закрыл ее собой. В это время из отделения милиции выходила красивая девушка, которую вызывали в милицию по делу о краже – у нее злоумышленник украл сережки в бассейне, есть же такие негодяи. Девушка увидела, что милиционер накрыл гранату собой, спасая детей, и полюбила его. Граната не взорвалась, потому что была учебная, а любовь девушки к молодому милиционеру взорвалась, потому что была настоящая. И они жили потом вместе много лет. Вот так бросил однажды гранату Иван Давыдович. Любовь подстерегает человека всюду, нужна лишь граната.
Когда я пришел к военруку за характеристикой, Иван Давыдович мне сказал:
– Я должен был бы написать в характеристике, что ты труп. Но с такой характеристикой тебя не примут. Поэтому даю тебе хорошую характеристику авансом. Не подведи меня.
И он дал мне очень хорошую характеристику. Она была лживой:
«Прилежен, собран, усидчив. Правильно понимает положение в мире. Большое внимание уделяет военной подготовке. Свободное время уделяет приемам владения оружием…»
С такой характеристикой сегодня меня с распростертыми руками взяли бы в любое бандформирование. А тогда – меня вызвали на экзамены в военное училище. Прощаясь с Иваном Давыдовичем, я ему сказал:
– Не подведу.
Пуговицы в ряд
Но уже на третий день пребывания в училище я понял, что военным мне не стать. Когда нас построили на плацу, поначалу мне все понравилось. Плац был чистый, хорошо подметенный. Да и само слово «плац» мне нравилось, оно было немецкое, с лязгом, от него веяло дисциплиной, оттянутым носком, холодным взглядом, мне такие вещи нравились. Светило солнце, небо над плацем было голубым и тоже чистым, как будто хорошо подметенным. Я представил, что сейчас к нам выйдет наш будущий командир, седой человек с израненным лицом, одной рукой и орденскими планками. Может быть, даже с одной ногой. Мы с пацанами, моими друзьями-курсантами, будем называть его Батя. Он будет нам за маму и папу все годы учебы. Батя будет есть с нами очень вкусную кашу, плечом к плечу, из одного котелка, а в походе, когда мы упадем после тягот и лишений и будем спать, мирно посапывая, как щенки, он будет укрывать нас одеялами. Батя будет помнить день рождения каждого. И всегда подбрасывать нам под подушки, в ночь перед днем рождения, подарки. Подарки будут скупые, мужские. Запасная обойма, банка повидла, телефон проститутки. На Новый год Батя будет одеваться Дедом Морозом и поздравлять нас, раздавая из мешка всем конфеты, и ни разу не перепутает, какая кому, потому что помнит, кто какие любит. А мы будем делать вид, что не узнаём его и в самом деле верим, что он – Дед Мороз. А когда мы закончим училище, мы соберемся у Бати уже без формальностей. У Бати в доме есть баня, мы будем там париться, пить пиво, есть рыбу и пороть проститутку – все вместе, по-доброму, по-хорошему, по-человечески.
А потом мы все разъедемся кто куда – кто в Никарагуа, кто в Гуантанамо. Защищать нашу родину. Бате писать будем строго – 23 февраля, 31 декабря и в день его рождения. Он у него тоже 23 февраля.
А потом Батя помрет. Как положено, в строю. С песней. Он будет шагать на одной своей ноге, взмахивая одной своей рукой, и петь. Про то, что любо, братцы, жить. А потом песня прервется. Но не прервется память. Мы все – его орлята, как он нас называл, – приедем на последний парад Бати, уже майоры, подполковники, я так и вовсе полный генерал, постоим у его могилки, сняв фуражки, и будем пить водку молча. А после залпа из стопок водки – залп из пестиков, как положено. Никто из нас не уронит слезы, Батя соплей не любил. Только проститутка будет плакать. Ей можно. Она тоже здесь. Та самая. Света. На могиле Бати мы дадим клятву. Что не забудем его никогда. На могиле Бати мы дадим даже две клятвы. Вторая клятва будет такая, что будем бить врага, как бил его Батя. До последнего патрона. Кончились патроны – штыком. Сломался штык – бей руками, ногами, да по хуй чем, главное – до конца. Как Батя.
Вот так это виделось все как-то. Но вместо Бати на плацу училища появился толстый офицер. У него на месте были и руки, и ноги. На лице у него не было шрамов от гусениц танка, как у Бати. Да и лица у него не было – вместо лица было еблище. Брюки были не глаженные. Мармон у него был такой, как будто внутри прятался еще один офицер, и я даже подумал, что этот жирный гад проглотил нашего Батю. Нос у монстра, сожравшего Батю, был курносый такой. Я сразу дал людоеду кличку Вепрь.
Вепрь сказал:
– Значит, хто, – он так говорил: не «кто», а «хто», – хто здесь мечтает о романтике военной службы?
Несколько романтиков, и я в том числе, гордо подняли руки. Вепрь велел нам выйти из строя и развернуться к строю лицом. Потом сказал:
– Значит, слушай мою команду. Засунуть себе романтику в жопу! Исполнять!
Весь строй начал над нами смеяться. Потом Вепрь приказал нам вернуться в строй. И скомандовал:
– Хто еще мечтает о романтике, поднять руку.
Поднял руку я один. Вепрь велел мне выйти из строя и сказал:
– Засунь себе романтику в свою маленькую жопу! Исполнять!
– Разрешите обратиться! – сказал я.
– Разрешаю, – ухмыльнулся Вепрь.
– Вы указали на маленький размер моей жопы, товарищ майор, – сказал я чеканно, – а романтика большая. Разрешите засунуть романтику в жопу подходящего размера!
Строй разразился хохотом. У меня был дар популиста. Вепрь принял защитную пятнистую окраску. Было видно, что он сейчас же убил бы меня. Просто сел бы на меня и раздавил, как КамАЗ – переходящего трассу ежонка. Но Вепрь не мог сесть на меня прямо тут, на плацу, плац бы запачкался моим содержимым, к тому же я пока еще был гражданским лицом. И Вепрь сказал:
– Я тебя запомню. Если поступишь – вешайся.
Я был юн и, как следует из этого рассказа, был долбоебом. То есть героем. Герой часто ведет себя как долбоеб. Но за это его помнят люди.
В тот же день Вепрь проводил занятие по строевой подготовке. Мы ходили строем и пели песню:
– У солдата выходной Пуговицы в ряд!
Потом Вепрь приказал мне одному встать перед строем и сказал:
– Пой!
Я встал перед строем. И вспомнил, как дома я пел. Иногда я ставил пластинку какого-нибудь певца, который мне нравился, и пел вместе с ним. Получалось хорошо. И я решил использовать этот опыт. Я стал думать, кто лучше подходит для исполнения песни про пуговицы в ряд, и не мог не вспомнить про Джима Моррисона. И я спел в манере Джима:
– У солдата… выходной…
Пуговицы в ряд, е, е…
Моррисон Вепрю сразу не понравился, он крикнул:
– Отставить! Это не строевая песня у тебя! Это молитва какая-то! Американская!
Я настороженно посмотрел на Вепря – не мог поверить, что он настолько продвинутый. А Вепрь сказал всему строю назидательно:
– Не скулить надо, а петь! Зычно и молодцевато!
Мне очень понравилось это. Я подумал, что и жить, и умирать герой должен стремиться именно так – зычно и молодцевато.
А Вепрь сам спел, подав всем пример зычного исполнения песни. У Вепря был бас, громовой, дурной, общевойсковой. Вепрь использовал свой огромный мармон для резонации, как это делают самцы лягушек во время брачных игр. Когда он пел, он выгибал грудь колесом, руки сжимал в кулаки, а рот открывал так широко, что в него могла бы залететь ласточка. Особенно мощно Вепрь выпевал фразу:
– Пуговицы в ряд!
Золотом горят!
У меня было развитое воображение. Я вдруг представил, что у меня на груди пуговицы в ряд и они золотом горят. Мне стало страшно.
Пел Вепрь так зычно, что многие парни в строю стали непроизвольно открывать рты – они еще не пели, но уже шевелили губами, как окуни. В какой-то момент я почувствовал, что тоже начинаю шевелить губами, и еще немного, тоже запою, подпрыгивая на каблуках, как делал Вепрь, выгибая позвоночник колесом:
– Пуговицы в ряд!
Золотом горят!
И я решил, что ухожу. Точнее – бегу отсюда. Я уже все понял про армию, я прошел уже самое страшное из всех тягот и лишений, которые мне могла предложить армия, – я видел, как на моей груди пуговицы в ряд золотом горят. Я написал заявление командованию, в котором говорилось, что я по ошибке приехал сюда и прошу отпустить меня домой, назад, к моим любимым пластинкам, книгам и друзьям.
Меня привели к начальнику училища имени Андропова.
Капитан немо
Явошел в кабинет и удивился. Я ожидал увидеть еще одного Вепря, только еще большего размера, который будет тоже петь и стрелять в меня из ракетницы. Но вместо этого увидел худого высокого человека, который стоял ко мне спиной. Он смотрел на аквариум. Аквариум в его кабинете был громадный, в нем мог бы спокойно плавать дельфин. Но вместо дельфина висели в прострации какие-то нелепые разноцветные рыбки.
Худой человек в генеральском кителе стоял так, спиной ко мне, с полминуты, пока я не сказал:
– Прибыл по вашему приказанию. Я написал рапорт, по поводу…
– Я знаю, – прозвучал голос худого.
Голос звучал отстраненно, совсем не зычно и вообще не молодцевато. Больной генерал, подумал я.
Потом он обернулся на меня. И я обомлел. Передо мной был капитан Немо в исполнении актера Дворжецкого. Тот же печальный взгляд, те же величественно скрещенные на груди длинные руки. Только вместо костюма капитана «Наутилуса» – форма генерала советской армии.
– Вы ведь из офицерской семьи? – спросил Немо.
– Да, – сказал я.
– Из такой семьи – и рапорт… Сбежать решил… Испугался… Глупо обижаться на одного идиота. Вы думаете, в армии служат одни идиоты?
– Мне… показалось… в основном, – сказал я.
– Вы прямодушны, – сказал Немо. – Вы могли бы стать хорошим офицером. Идиотов большинство? Да. Потому что если в армии большинство составляли бы такие, как вы, такая армия не стала бы воевать. Такие, как вы, признали бы войну кретинизмом. Ведь так?
– Так, – подтвердил я. – Война – это кретинизм.
– Да, да, – улыбнулся Немо. – Но войны нужны людям.
– Зачем? – спросил я.
– Вы поймете это позже, – сказал Немо. – Обязательно поймете, обещаю вам. И вот еще что я вам скажу. Да. Большинство – идиоты. Но если на тысячу идиотов не приходится хотя бы один романтик, который считает войну кретинизмом, – такая армия не сможет победить. Потому что у нее не будет штаба, не будет знамени, не будет цели. А если идти в атаку без знамени, это не атака и не армия. Это бандитизм и балаган! Так что… Жаль, что вы так… Вы могли бы стать хорошим военным… Но силой… Никого не держу.
Я был очень удивлен. И удивился еще больше, когда Немо, подписав мой рапорт, подошел ко мне и сказал:
– Держи. На память. От меня.
Он снял со своей руки часы и протянул мне. На часах было написано:
«От министра обороны, за особые заслуги».
Много лет потом эти часы были на моей руке, они показывали мне не сколько времени прошло, а сколько времени осталось. Так и должны делать часы героя.
А тогда я смотрел на часы и на Немо и не знал, что сказать.
– Кру-гом, – тихо скомандовал Немо. – Шагом марш.
Когда я уходил из училища, вдруг начался ливень. Я обернулся и посмотрел на окно кабинета, в котором остался наедине с рыбами капитан Немо. Мне было жаль оставлять его там одного, в большом кабинете, с рыбами и идиотами, но выбор был сделан, путь избран. Теперь надо было идти. И я пошел.
На выходе из училища меня ждал Вепрь. Он бы не выпустил меня, если бы мог, но он не мог, потому что капитан Немо подписал мой рапорт. Поэтому Вепрь, скривив свой пятак, сказал только:
– Я тебя запомнил.
Но мне не было страшно. И я запел, издевательски зычно и молодцевато:
– Пуговицы в ряд!
Пуговицы в ряд!
Золотом горят!
Золотом горят!
И я смеялся, зная, что Вепрь это слышит, смеялся громко, в голос, назло монстру, который меня запомнил.
Пластун
Яехал домой в поезде. Я пил вино в вагоне-ресторане в компании хмурых сосен, бегущих за окном куда-то прочь, туда, откуда я еду. Я отменил табу на синьку и больше не боялся плохой наследственности. Я думал. Обо всем.
Со мной такое случалось. Начнешь утром думать о том, что надо бы выйти из дому, дойти до базарчика у кладбища и выпить там винца, пару стаканов. И вот уже шнурую кеды у порога и думаю. Опять узел на шнурках. Откуда берутся на шнурках узлы? Мысль вроде бы несложная. Узлы на шнурках берутся от спешки. Спешить – присуще герою. Спешить жить.
Потом, когда иду уже к базарчику, думаю шире – о пути. Почему у меня такой путь, зачем я его выбрал и куда он меня приведет. И зачем идти по пути, если все равно финал пути известен: ведет он к базарчику у кладбища, в чем определенно есть символ, и наверняка не один.
А на базарчике винище продает дед с красной бородой, и я думаю, что борода у него красная, потому что он пьет красное вино, а у некоторых людей от красного вина становится красным лицо, у французов например, взять хоть Патрисию Каас.
Потом пью пару стаканов и начинаю думать, что такое жизнь. Вся жизнь предстает передо мной, я вижу всех: микробов и мотыльков, кальмаров и опоссумов, и глубоководных пузырей, живущих в кромешной тьме, и нас, людей. Живущих там же. Все открывается мне, во всем своем пестрящем, шевелящемся отряде. И почти что открывается мне главный закон, и даже не закон, а его младшая сестра, главная закономерность, которая соблюдается, да и то не всегда. Но ее открыть – это уже большое дело и бетонная Нобелевка. Но вскрыть главную закономерность с ходу не могу – очень уж крепкая, на совесть сделана, как для себя.
Возвращаюсь опять к базарчику, хотя шел уже домой. Опять покупаю три стакана вина, и тут открывается еще не сама закономерность, а только ее край как будто высовывается, край небольшой, но ухватить можно. Тут мне открывается, что все умирают, и опоссумы, и глубоководные пузыри, и я умру. Печально становится. И хочется попросить у кого-нибудь, чтобы я не умирал, и все, кого я люблю, тоже не умирали – мама, и друзья, и девочки, и опоссумы, и пузыри, придавленные тьмой, и друзья, придавленные тьмой, – и главная закономерность еще чуть-чуть высовывается, и уже хорошо, крепко вроде ее за край ухватил, теперь надо тянуть, ну, тут уже никак нельзя обойтись еще без пары стаканов. Сказано-сделано, еще пара стаканов выпита, и даже еще один, просто так уже как-то, в запале познания. Потом иду домой, весь уже сверкающий. За собой тащу закономерность, за край держу крепко, не отпускаю. Вот и все. Дома. Диван или пол. Падаю. И сразу ползу, чтобы занять удобную позицию, упереться двумя ногами, чтобы всей спиной тащить на себя вселенскую закономерность. Но она дальше того, на сколько высунулась сегодня утром, не высовывается. Приходится закрепиться на этой высоте. И ждать случая для следующей атаки. Каждую высоту вот так отбиваю у тьмы неведения, с боем. А сколько потерь. Но такова она, трудная и грязная, чисто мужская работа мыслителя-диверсанта. Я всегда искал не главные златые врата, а тайный лаз. По-пластунски переползал границу возможного, используя маскхалат, а иногда в качестве маскхалата используя свою одежду. Перекусывал ножницами колючую проволоку, которую натянул враг и пропустил через нее ток. А иногда ножниц не было – забыл, блять, в штабе, и приходилось перекусывать проволоку зубами и пропускать ток через себя – больно, блять! Обычно в такой справедливой войне герой погибает. И получает Героя, посмертно. Эта суровая в своей полной бесполезности награда котируется у нас, диверсантов добра, намного выше прижизненных цац, на которые сбегаются телочки, чтобы их примерить, а их за это ебут. Герои выше цац. Точнее, герои ниже. Потому что они ползут по-пластунски – ради жизни на земле.
Одиннадцатый автомат
Когда я ехал домой, я думал: как мне теперь показаться на глаза военруку Ивану Давыдовичу, которого я подвел. Я понял, что показаться на глаза ему не могу, и я скрывался. Потом я себе этого не простил. Этим герой, кстати, отличается от пидараса. Пидарасы легко забывают все плохое, что у них было. Именно поэтому пидарасы всегда веселые. Герои всегда хмурые. Потому что каждый герой помнит множество случаев, когда вел себя не до конца по-геройски, и помнит еще ряд случаев, когда вел себя вообще не по-геройски, то есть реально обосрался. Герой всю жизнь носит в себе, помнит и анализирует свои просёры, бичует себя, хлещет себя по щекам за такие вещи. А пидарас не хлещет себя по щекам, а хлещет текилу.
Дальнейшая судьба капитана Немо, генерала, начальника училища имени Андропова, мне не известна. Думаю, она была печальна и поучительна, как судьба самого Немо. Скорее всего, он затонул.
А вот дальнейшая судьба Ивана Давыдовича мне известна, и именно поэтому я никогда не прощу себя за то, что не показался ему на глаза. Вокруг начались перемены. Кубаноид хуев, упомянутый много выше, развалил страну и армию. Но Иван Давыдович был герой. Он вел свою личную непримиримую войну с блоком НАТО. А вести войну против НАТО очень нелегко, будучи учителем в школе маленького южного города. А он все равно вел. Кто же он после этого? Герой. И вдруг Ивану Давыдовичу по телевизору кубаноид хуев сказал, что война с НАТО окончена и героев просят разойтись по домам.
Для Ивана Давыдовича это означало: все, во что он верил, теперь можно засунуть себе в свою маленькую жопу, как сказал бы Вепрь. Но Иван Давыдович, как и я, был романтиком, а романтик, в отличие от пидараса, никогда не согласится засунуть себе романтику в жопу. И тогда Иван Давыдович взял автомат. У него было десять автоматов, которые он учил нас, своих учеников, разбирать и собирать. За одну минуту. Сам он делал это еще быстрее. Десять учебных автоматов не могли стрелять. Но у Ивана Давыдовича был одиннадцатый автомат. Боевой. Раньше он был тоже учебный. Но Иван Давыдович расточил его.
Ему помог учитель труда, Василий Петрович. Он тоже работал в нашей школе, и у него не было половины пальцев на руках, потому что он был учитель труда – это единственный учитель, не научивший меня ничему. Василий Петрович помог Ивану Давыдовичу расточить автомат. Конечно, Василий Петрович все понимал. Они вместе иногда выпивали в каморке Ивана Давыдовича и смотрели на грибы на плакатах гражданской обороны. Друзья – это люди, которые могут общаться без помощи слов. Василий Петрович посмотрел в глаза друга и сказал:
– Надо так надо. К пятнице сделаю.
Потом Иван Давыдович пошел в свою каморку и извлек из тайника фотографию, на которой был он, молодой офицер, и его семья, жена и две дочки. Иван Давыдович сжег фотографию. Чтобы никто потом ее руками не мацал, не хмыкал, не пожимал плечами, не приобщал к делу, не допытывался, кто на фото. Потом Иван Давыдович вышел из школы с одиннадцатым автоматом в руках. Никто в отделении милиции, которое было рядом со школой, не удивился тому, что поздним вечером военрук вышел из школы с автоматом в руках. Иван Давыдович пришел к Комсомольскому озеру.
Озеро слез
Озеро это искусственное. С ним связана легенда. Говорят, когда-то давно один влюбленный молдаванин-комсомолец добивался любви одной прекрасной комсомолки-молдаванки. Но она не решалась ему отдаться – она была гордая. Тогда комсомолец позвал ее кататься на лодке по озеру, утром. Комсомолка удивилась – ведь в городе не было озера. Но парень все же назначил свидание утром.
Всю ночь он рыл землю. Вырыл огромное озеро. Под утро закончил работу и оглядел котлован. Но как заполнить озеро водой? Ведь из-под земли вода прибывает слишком медленно… Отчаявшись, комсомолец, не желая, чтобы любимая утром увидела пустой котлован и его позор, вонзил себе лопату в голову. Утром любимая обнаружила мертвого парня. Горе овладело ею, слезы хлынули из глаз, их было столько, сколько было любви в ее сердце. Слезы наполнили озеро. Вот почему вода в Комсомольском озере соленая, как в море…
Вот такая легенда. Вот какая бывает любовь.
Комсомольское озеро окружал то ли лес, то ли парк. Для парка слишком запущенный, для леса слишком редкий. На холмах вокруг озера росли высокие белые тополя. А на самой высокой точке парка-леса, на холме, стояла парашютная вышка. Поставлена она была в давние времена, до Великой Отечественной. В те времена было модно прыгать с парашютом. Но прыгать с парашютом по-настоящему не все могли – для этого нужен был самолет и масса других условностей. А прыгать хотели все, поэтому была сделана парашютная вышка. Потом, после войны, вышку постепенно забросили. Она проржавела. И стала опасной для жизни. Ее оцепили забором с колючей проволокой и некоторое время строго охраняли. А потом она еще сильнее заржавела, и колючая проволока заржавела, и охрана тоже. Вышку собирались спилить, но так и не спилили. Находились у спильщиков вышек дела поважней.
Вот на эту вышку и залез с автоматом Иван Давыдович. Я знаю, как все это было с ним, хоть и не видел. Я часто могу рассказать о таких вещах, которые не видел, но знаю, откуда-то знаю. Он лез медленно, не спеша. Он обдумывал свою жизнь. Он думал, все ли он сделал так, как должен был. И понимал, что нет. Так может думать только герой. Только пидарас способен думать, что сделал в жизни все, что хотел, – всех наебал, всех пережил. А герой понимает, что можно было бы все сделать иначе. Лучше. Можно было…
Забравшись наверх, Иван Давыдович приставил руку к голове. На голове у него была фуражка. Он был в парадной форме. Иван Давыдович отдал честь. Трудно сказать, кому. Других военных рядом не было. И страны, которой присягал, тоже не было. Ничего не было. Была только ночь над холмами. И соленая вода Комсомольского озера. Отдав честь, Иван Давыдович приставил к своей груди автомат. Нажал на курок и сделал шаг вниз.
Так погиб Иван Давыдович, которого я подвел. Которого все мы подвели.
Я никогда не был на его могиле.
Страшная бумажка
Дома меня ждала маленькая страшная бумажка. Повестка в военкомат. Там было написано, что я должен как штык явиться к восьми часам утра в военкомат, для отдания священного долга родине, а если я не явлюсь как штык и не отдам родине священный долг по доброй воле, государство оставляет за собой право взыскать этот долг силой. Заинтригованный таким наездом, я отправился в военкомат.
Там меня спросили, как я отношусь к странам НАТО. Я сказал, что хуево отношусь. Ответ понравился. Меня направили на медицинскую комиссию.
Дома я спросил маму, почему родина хочет, чтобы я отдал ей долг, да еще священный – ведь ничего священного у родины я вроде бы не одалживал, если только по синьке, да, тогда я мог не помнить, но мне об этом обязательно рассказал бы Стасик Усиевич, который всегда запоминал, что творят синие друзья в бессознанке.
Мама сказала:
– Неужели родина тебе ничего не дала?
Я сказал:
– Ну, конечно, дала. Двор, друзья, каникулы – но я думал, все это родина мне подарила.
А мама сказала:
– Запомни, сынок. Родина никому ничего не дарит. Она дает в долг. Два года – не такие большие проценты.
Я стал думать, как мне сделать так, чтобы у меня пуговицы не стали в ряд. Сначала я вспомнил, что есть такая мощная маза, как членовредительство. Мне нравилось это слово – «членовредительство». Когда-то я даже думал, что заниматься членовредительством – это вредить своему члену. Много позже я так и поступал, но об этом позже, в главах, посвященных любви. Я помнил из книг о войне, что была еще такая тема, как самострел. Но это как-то не по-геройски – стрелять себе в ногу или ягодицу. Я признавал только такой самострел, как у Маяковского. С другой стороны, такой самострел, как у Маяковского, делать мне было глупо и рано – это избавило бы мои пуговицы от построения в ряд, но прервало бы мой геройский путь, а прерывать его, не исполнив свой долг, – стыдно.
Да, я считал, что у меня есть долг. Воевать. С пидарасами. Я был готов даже погибнуть, если надо. Как говорил учитель труда – надо так надо, к пятнице сделаю. Лучше, конечно, не погибнуть, а увидеть победу. Я был согласен на ранение, а лучше на контузию. У контуженых больше прав в конфликтных ситуациях. Я был согласен потерять даже ногу или руку, хуй с ними. Можно и на одной ноге быстро бегать, по синьке так многие делают. И можно и одной рукой писать буквы, мой долг – писать буквы, тексты, это оружие массового поражения пидарасов.
У нас в доме была очень приличная библиотека. Ее собрала моя мама, потому что думала, что, когда я вырасту, эти книги мне помогут. Я схватил медицинскую энциклопедию, с увлечением прочитал раздел «Психиатрия» и радостно отметил, что, с небольшими натяжками или вовсе без них, я соответствую клинической картине любого душевного недуга, исключая, разве что, имбецильность, чему помехой мои хорошие отметки в школе. Получалось, что мне и делать-то ничего не надо. То есть мне не нужно даже ничего симулировать, что было бы унизительно. Надо просто прийти на медкомиссию и быть собой. Я даже подумал, что хорошо бы не перестараться, потому что можно не только не попасть под мобилизацию, но и попасть под госпитализацию. Чего мне тоже не хотелось. И я решил – пойду, приколюсь, покажу врачам ровно половину всего, на что способен. Этого должно было с лихвой хватить, чтобы «откосить» от армии, как это тогда называлось.
Утром в день медицинской комиссии я надел белую рубашку. Потом надел брюки и кеды. Рубашка, брюки и кеды – посмотрев на себя, я остался доволен. Это было шизоидно, я был похож на юного Никиту Михалкова из фильма «Я шагаю по Москве». Я даже подумал, что можно было бы на комиссии спеть «Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь», и посредине песни, как Михалков в фильме, зачем-то подпрыгнуть. Но потом подумал, что это госпитализация.
Вместе с тем нужна была еще какая-то точная деталь. Чего-то не хватало. Я хотел положить в карман рубашки зубную щетку, но передумал – слишком прямое указание на срочную госпитализацию. Хотел положить в карман клещи, но они, во-первых, сильно оттягивали карман, а во-вторых, клещи – тоже железобетонная госпитализация. В конце концов я остановился на лаконичном решении. Я положил в карман простой карандаш.
И пошел.
Клятва психиатра
Спросите у первого встречного психиатра, и он вам скажет, что есть допуски. Если бы врачи признавали своими пациентами всех, кто этого заслуживает, что было бы? Хаос. Поэтому в психиатрии, прежде чем применить к человеку слово «больной», сначала рекомендуется употреблять очень красивое слово «наблюдаемый». Мне нравится это слово.
На приеме у невропатолога я начал с домашних заготовок. Когда он ударил меня молоточком по коленке, я дернул ногой. Но не той, по которой он ударил, а другой. Он посмотрел на меня с интересом и что-то записал. Потом попросил меня встать, закрыть глаза и дотронуться указательным пальцем до носа. Я дотронулся указательным пальцем до носа, но не закрыл глаза. Он похвалил меня за старательность и сказал, чтобы я закрыл глаза, такая у него ко мне просьба. Я наотрез отказался. Он спросил почему. Я сказал, что, когда закрываю глаза, вижу образы. Он обрадовался, снова что-то записал и попросил рассказать, какие именно. Я подробно ему рассказал про своих иерофантов.
Выше уже было рассказано, что вокруг меня, сколько себя помню, живут они, иерофанты. Их семнадцать, о некоторых из них я уже рассказывал выше, но врачу на комиссии я рассказал и про остальных – про Буратино с топором, про девочку со свистком, про женщину с говяжьими ногами, про всех. Невропатолог едва успевал за мной записывать. Все это ему понравилось очень. Потом он сказал мне доверительно:
– У меня тоже живут. Я называю их «квартиранты».
Оказывается, у невропатолога тоже были свои питомцы. Он называл их «квартирантами», потому что они снимали у него одну комнату и даже исправно платили, правда, иногда по ночам в своей комнате жгли костры.
Я спросил врача:
– Значит, вы освободите меня от армии?
– На каком основании? – удивился невропатолог. – Вы что думаете? Если у вас живут семнадцать демонов, этого достаточно, чтоб освободить вас от службы в армии?
– Конечно, думаю! – очень удивился я. – Конечно, достаточно! Неужели вам не страшно такому человеку доверять оружие?
– Да бросьте, – сказал доктор. – Что это за оружие. Один автомат, пара обойм. Сколько человек вы убьете, даже если слетите с катушек? Двадцать? Тридцать? И что? Я знаю того, кому доверяют ядерное оружие. Мой пациент. Генерал армии. Очень тяжелый. Тревожный. Звонит мне каждый день. Боится оставаться один, боится женщин, боится детей, боится смотреть телевизор. В ванной у него живет нимфа. Давно живет. Воду любит. Ест мало. Молоко в основном. Недавно звонит мне ночью. Говорит: «Мы тут подумали…» Я говорю: «Мы?» Он говорит: «Да, мы с нимфой подумали, а может, нажать на красную кнопку, я ведь могу, и термоядерными бомбами всех нас к такой-то матери!» Я ему говорю: «Не надо, Федор Васильевич». Я его удерживаю, как могу. Удерживаю, понимаете? Что я еще могу? А вы говорите – автомат. Да стреляйте сколько хотите, господи…
Я потрясенно молчал.
– Да, у вас есть отклонения, – сказал врач. – Но все в допуске. К моему профессору в мединституте, доктору Кацу, всю жизнь приходила баба Оля и делала у него уборку в квартире, а ведь он даже не знал, кто она, вот это страшно! Баба Оля! Я вам так скажу. Не тот опасен, кто думает про красную кнопку. Опасен тот, кто думает, что скоро отпуск, что жизнь полосатая, то черная, то белая. Мне один пациент так сказал: жизнь полосатая, но ничего, скоро отпуск. Конечно, я немедленно госпитализировал его. Знаете, как он сопротивлялся? Какие страдания… А таких, как вы, я оставляю на свободе. Стреляйте давайте, жмите на все кнопки, которые увидите, красные, черные… Все равно мир погибнет. Почему я должен продлевать эти мучения? Да, я врач. Я давал клятву. Две клятвы. Мы ведь, психиатры, даем две клятвы. Клятву Гиппократа: не навреди. А вторая – клятва психиатра. Не оттягивай Армагеддон!
Невропатолог быстро прошелся, почти пробежался по комнате, подбежал к умывальнику в углу, быстро и тщательно, как это делают врачи, вымыл руки, лицо и энергично вытерся полотенцем. Свежий и страшный, он вернулся за стол. И сказал:
– А знаете что, молодой человек. Я рекомендую направить вас на флот. Из вас получится прекрасный водолаз. Отслужите три годика, приходите ко мне.
– Зачем? – совсем сдал я.
– Я рекомендую вас для поступления в медицинский. Ректор московского Первого медицинского – мой друг. У него тоже, кстати, на даче, живут… Он называет их «практиканты». Я вам скажу, врач из вас получится очень и очень. У вас есть… Наблюдательность.
И доктор с улыбкой протянул мне рекомендацию в водолазы.
И тут я вдруг понял, что делать. И сказал:
– Я пишу стихи.
Как бы в доказательство, я вынул из кармана рубашки и показал психиатру простой карандаш. Он долго и пристально смотрел на карандаш. Потом сказал:
– Интересно, интересно… Прочитайте.
Я прочитал свои стихи, из последних. Врач слушал. Потом подошел ко мне. Внимательно изучил мое глазное дно. И сказал:
– Ну, милый мой. С этого надо было начинать.
И тут же выдал мне справку. В ней было написано:
«Нуждается в постоянном наблюдении. Тяжелый. Рекомендован стационар».
Так мои стихи спасли меня. Или наоборот – погубили.
Поэт-бульдозерист
Стасик Усиевич в это время ушел в армию и попал в стройбат. У Стасика было плоскостопие. В армии Стасику жилось плохо. Его били грузины-деды, потому что они контролировали часть, в которой Стасик служил. Усиевич был наполовину хохлом, наполовину евреем. Это было очень неудачным сочетанием, потому что еврейского землячества в стройбате не было, евреи вообще не ходили в армию – будучи виолончелистами и шахматистами, они получали освобождение. А хохлов в стройбате было достаточно, но они жестоко ебошили друг друга, потому что ебошить друг друга – важная национальная черта хохлов, раскрытая Гоголем в поэме «Тарас Бульба». Поэтому у Стасика постоянно была разбита в кровь вся бульба. Кроме того, Стасик был поэтом, но никакого землячества поэтов в стройбате не было и быть не могло. Таким образом, Стасика били все, а Стасик бить никого не мог, потому что был щеглом.
Я очень удивился, когда Стасик написал мне в письме, что он теперь щегол. Мне показалось это красивым. Я помнил по русской литературе такое выражение, как «щегольски». «Щегольски одет» в пушкинское время значило – одет в дольче-и-габбану. Герой часто в произведениях русских литераторов ходил либо щеголем, либо гоголем. Лично я, конечно, предпочитал бы ходить гоголем, а лучше – ходить Гоголем. Но и щеголем – это тоже неплохо. В этом есть дендизм.
Я написал Стасику, что мне нравится его дендизм, на что Стасик ответил мне гневно, что в стройбате дендизм невозможен и что мне не понять, через какие страдания и унижения он там проходит.
Но самое удивительное, что через страдания и унижения к Стасику вдруг стали приходить стихи. Стасик присылал мне стихи. Они были написаны как-то торопливо, на листках в клетку, поспешно вырванных из тетрадки. Стихи были хорошие. Я тут же написал Стасику, что поздравляю его и что армия сделала из него поэта. Стасик написал мне в ответ, что у него болят десны в тех местах, где раньше были зубы, и еще болит челюсть, ее сломали, зажила криво, теперь челюсти плохо смыкаются, и гречневая каша высыпается изо рта во время еды, а слюна капает на стихи иногда, когда Стасик пишет их на листках в клетку, и будь прокляты поэзия и я, который сбил его с толку и не дал ему стать актером, а подбил стать поэтом, которого все бьют и который работает бульдозеристом.
Мне показалось красивым это сочетание – поэт-бульдозерист. В этом была сила, мощь. Я хотел бы, чтобы потомки признали меня поэтом-бульдозеристом, который расчистил, освободил от ветхих строений пространство для новой поэзии. Но я не стал писать Стасику о том, что бульдозерист – это мощь, я понял: Стасику будет больно это услышать.
Поэт-дед
Потом Стасик перестал быть щеглом и перешел на следующий уровень. Служба в армии была для Стасика квестом. В котором Стасик научился подбирать оружие, патроны, здоровье, еду, сохраняться и постепенно проходить уровень за уровнем. Однажды Стасик прочитал офицерам стихотворение про Афган, и его назначили редактором стенгазеты – по сути, литератором стройбата. Это было очень теплое место. По воскресеньям Стасик должен был выступать перед солдатами – узбеками и таджиками. Их собирали в актовом зале офицеры, это было очень удобно для Стасика как поэта – ему не приходилось думать, кто является аудиторией его стихов, потому что аудитория сама шла к нему строем, а офицеры ее еще и подгоняли криками:
– Быстрее, блять, басмачество!
Думаю, любой поэт хотел бы так легко мобилизовать свою аудиторию.
Таджики и узбеки с нескрываемым любопытством слушали стихи Стасика о душманах – ведь это часто были их близкие родственники и соседи по аулу, и они надеялись из стихов Стасика узнать какие-нибудь новости.
Как официальному литератору части, Стасику были даны льготы. Ему разрешалось не работать бульдозеристом, а сидеть в библиотеке, Стасик сумел убедить командование, что стихи лучше писать не в бульдозере, а в библиотеке. Затем Стасик убедил всех, что ему нужно хорошо питаться, и выбил себе дополнительную порцию масла и каши. Правда, командование сначала спросило:
– А как же – «художник должен быть голодным»?
– Правильно. Художник должен быть голодным, – сказал Стасик. – А поэт – сытым.
На Стасика, правда, обиделся художник части.
Вскоре Стасик отъелся, челюсть зажила, Стасик стал дедом. Наступает в армии такой момент, когда щегол становится дедом. Конечно, с точки зрения эволюции видов такую мутацию трудно представить, но в советской армии все было именно так. Стасик стал поэтом-дедом.
А потом Стасик мне написал, что в их части появились новобранцы. Среди них был один поэт. Он был из Питера. Стасик позвал его в туалет. Поэт-новобранец доверчиво пошел. В туалете Стасик сразу же ударил поэта в челюсть и сломал ее. Поэт упал на пол и стал мычать, выражать недоумение. Я очень удивился, когда Стасик мне это рассказал в письме, и спросил Стасика, зачем же он так отделал поэта-новобранца, ведь он же помнит, как его самого били грузины-деды. Стасик ответил мне, что поэт должен страдать. Я согласился с этим. Я всегда так считал.
В это самое время у меня появились новые друзья. С ними было интересно, у них было чему научиться. Хотя, конечно, и не стоило.
Мои друзья
Вот и пришло время закончить первую часть этого романа-катастрофы, романа-скрипки, романа-трубы. Дорогие ребята, в первой части вы встретили и полюбили многих героев. Во второй части будет еще больше героев и всяких ужасных событий.
Больше некому. Если я не напишу про своих друзей, которые стали призраками, – кто сделает это вместо меня? Никто не сделает. И мои друзья, которых я любил, останутся не оплаканными и не осмеянными. Но они этого не заслужили.
Я помнил вас все это время, я помню вас и сейчас. Не обижайтесь, я расскажу о вас все. Так, как оно было.
Мои друзья…





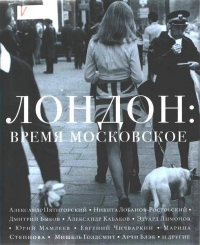


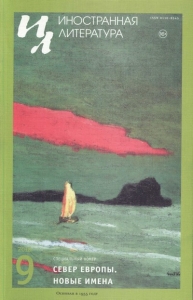




Комментарии к книге «Как прое*** всё», Дмитрий Владимирович Иванов
Всего 0 комментариев